Петр Стегний Хроники времен Екатерины II 1729–1796 гг.
Вместо предисловия
Мы живем в такое время, когда многое можно сметь.
Екатерина II«Представляю вам Фиву, сестру мою, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и поможите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому».
Послание к римлянам святого апостола Павла. 16, 1–2О Екатерине II и ее царствовании написано так много, что трудно сыскать даже потаенный уголок великой жизни, куда бы не заглянул пытливым взором отечественный или зарубежный историк.
И тем не менее интерес к личности Екатерины, еще при жизни названной Великой, не снижается. В чем здесь дело?
Прежде всего, думается, в том, что екатерининская эпоха, сыгравшая системообразующую роль в развитии русского общества, понимании им того, что уже в XVIII веке называли «рациональным государственным интересом», дает необычайно богатую пищу для размышлений о судьбе России и ее месте в мировой истории. При Екатерине Россия, по выражению одного из крупнейших западных специалистов по российскому XVIII веку И. де Мадриага, впервые стала «понятной Европе». И это не пустая фраза, особенно с учетом того, что в екатерининское время проявились не только позитивные стороны начатого Петром и продолженного Екатериной перенесения европейского опыта строительства гражданского общества на отечественную почву, но и их явные издержки, обычные при «революциях сверху». В екатерининскую эпоху сформировался и тот, оказавшийся удивительно устойчивым, алгоритм внешней политики России (расширение пределов империи, не сопровождавшееся адекватным обустройством страны, раскрытием ее внутреннего потенциала), что просуществовал, перевалив за рубеж 1917 года и мимикрировав идеологически, до распада Советского Союза.
Явные и скрытые парадоксы просвещенного екатерининского века, его внутренняя раздвоенность всегда интриговали русское общественное сознание. Вспомним хоть Пушкина. Екатерина для него, с одной стороны, — «Тартюф в юбке и короне», с другой — мудрая матушка-государыня «Капитанской дочки». Те же сомнения угадываются у Карамзина, хотя он, убежденный монархист, и старался подавить их, констатируя, что русский народ никогда не чувствовал себя так счастливо, как в годы царствования Екатерины.
Отсюда — и противоречивость политического осмысления наследия екатерининской эпохи. Герцен не мог простить Екатерине раздела Польши «между одной немкой и двумя немцами», а канцлер Горчаков, выдвинув после крымской катастрофы — промежуточного финиша екатерининского «греческого проекта» — принцип «сосредоточивания», пытался совместить либеральные реформы Александра II с возрождением опыта екатерининской дипломатии, который считал эталонным. В глазах Ключевского, наблюдавшего за деградацией российского самодержавия, как врач за развитием тяжелой болезни, правление Екатерины «закончилось почти банкротством — экономическим и нравственным»[1], а Тарле, один из самых глубоких и добросовестных историков советской эпохи, видел в экономическом и культурном подъеме русского общества во второй половине XVIII века «феномен всемирно-исторического значения».
Екатерина, кстати, будто предчувствуя, как непросто будет потомкам по достоинству оценить ее деяния, всю жизнь сама писала историю своего царствования, хотя и делала это в силу своего положения весьма своеобразно: порой поразительно откровенно, порой — полунамеками, а нередко и глубоко зашифровывая смысл того, что хотела передать — или внушить — потомкам.
«Мы живем в такое время, когда многое можно сметь», — сказала она как-то Безбородко. Мысль слегка корявая по стилю, но в ней — квинтэссенция мироощущения Екатерины и ее орлов, разгадка того феномена, который, используя терминологию Л. Н. Гумилева, можно было бы назвать екатерининской пассионарностью.
Впрочем, «разгадка» — это, кажется, сильно сказано. Комплексное осмысление екатерининской эпохи становится возможным только сейчас, когда тектонический сдвиг 1991 года отбросил — или, если угодно, вернул — Россию к границам времен Алексея Михайловича (за исключением незначительных и геополитически уязвимых анклавов на Юге и Севере — выходов в Каспийское и Черное моря и Балтику). Территориальные приобретения Петра и Екатерины, так долго питавшие нашу национальную гордость, почти полностью утрачены.
По этому поводу можно и, наверное, естественно сокрушаться. Можно понять и историков, продолжающих слагать героические оды в честь побед Румянцева, Суворова или Потемкина, у нас есть все основания для того, чтобы с гордостью оглядываться на свое прошлое. Но не греться в лучах былой славы. Пора уяснить: важнейшая геополитическая функция, которую выполняла Российская империя, а затем — на ином качественном и идеологическом уровне — Советский Союз, исчерпала себя. Новая эпоха несет с собой новые вызовы, и наша способность найти на них адекватные ответы становится — хотим мы этого или нет — единственным критерием подлинного патриотизма.
Распад Советского Союза, при всех привходящих факторах, завершил проходивший в течение трех с половиной веков (логичная точка отсчета здесь, на наш взгляд, — Вестфальский мир 1648 года) процесс создания устойчивых геополитических структур на Евразийском пространстве, включая Восточную Европу и Балканы, в котором Россия сыграла важную, временами — ключевую роль. Из двенадцати республик, входивших в состав СССР (кроме России и Балтии), большинство не знали собственной развитой государственности до присоединения к Российской империи. Другие (наиболее яркий пример — Литва) воссозданы в своих естественных этнических границах в результате событий, трагическую логику которых нам еще предстоит осмыслить, — но — это важно подчеркнуть — не вопреки, а благодаря России, сначала создавшей не имеющую прецедентов в истории общность наций и народов, а затем — сделавшей первый и решающий шаг к обеспечению их самоопределения.
Активно участвуя с петровских времен в поддержании баланса политических и военных сил в Европе, а в XX веке — в глобальном масштабе, Россия выполнила миссию всемирно-исторического масштаба. Однако диалектика истории противоречива. Она нередко реализуется вопреки расчетам и амбициям людей. Екатерину, разумеется, трудно заподозрить в том, что, присоединяя к России Крым или участвуя в разделах Польши, она предвидела, что закладывает основы суверенитета современной Украины и Белоруссии. Округляя границы, проводя многовекторную территориальную экспансию, она строила империю, руководствуясь политическими и нравственными понятиями своего времени.
Строила хорошо, добротно. Запаса духовной прочности, созданного ею и Петром, хватило на века. Хватит и на наше поколение, и на детей наших и внуков.
Но при условии, что мы сможем «без гнева и пристрастия» разобраться в своей истории и на этой основе осознать государственные интересы России применительно к ее новым границам, новой геополитической ответственности в быстро и радикально меняющемся, информационно перенасыщенном мире.
Впрочем, мы, кажется, увлеклись.
Пора переходить к сути дела. Хотя это и не просто, поскольку, будем откровенны, вопрос о том, в каком жанре написана эта книга, встал перед автором только после того, как она была закончена.
То, что получилось, правильно, наверное, назвать историко-документальным исследованием. «Хроники» — плод пятнадцатилетнего изучения екатерининской эпохи, включая работу в архивах России, Франции, Англии, в меньшей степени — Германии. Цель — если не прояснить, то высказать (по возможности, документированно) свою точку зрения на ряд ключевых проблем царствования Екатерины II, остающихся предметом дискуссий, и тем самым попытаться реконструировать внутреннюю логику одного из самых значительных периодов в русской истории.
В форме «Хроник», сочетающей нарратив с текстами архивных источников, есть, очевидно, элемент некоего навеянного нашим непростым временем протеста против усредненности, наукообразности, за которой так часто — пустота. Есть и другое. Дело в том, что еще в студенческой юности всем нам чудилось нечто нехорошее в расчленении истории с использованием, скажем, тематически-хронологического метода, когда оказывалось, к примеру, что об «освобождении Западной Украины и Белоруссии» и «добровольном вхождении» Прибалтики в состав Советского Союза в правильно написанных учебниках говорилось в одном месте, а о начале Второй мировой — страниц эдак через сто пятьдесят и без видимой связи с предыдущим.
Это смущало и, скажем прямо, продолжает смущать. История представляется автору живым потоком живой жизни, поскольку делают ее люди, одержимые страстями, вздорными идеями, честолюбием, заставляющим их маскировать мотивы своих поступков даже тогда, когда им кажется, что они клонятся к добру. В результате история, даже современная, превращается порой в головоломку, предлагающую несколько верных ответов на один вопрос. Примеров достаточно — убийства Столыпина, Кирова, Кеннеди, полет Гесса, наконец, тайна, в который рождаются войны, — чем больше проходит времени после их окончания, тем непонятнее, кто их начал.
Утешает одно: логика людей — творцов истории поддается, как нам кажется, анализу не только на уровне оценки их отдельных поступков, но и их совокупности.
Исходя из этой подсмотренной где-то идеи, автор избрал в качестве темы для своих наблюдений психологию власти, конкретнее — особенности формирования и принятия политических решений в России. Личность Екатерины и ее эпоха, напомним, системообразующая, дают для этого уникальный материал. Из тридцатичетырехлетней хроники великого царствования избраны четыре, как представляется, знаковых эпизода. При этом ракурс намеренно смещен в сторону его второй, менее изученной, но — хочется верить — более поучительной половины.
Форма изложения обусловлена убежденностью автора в том, что история — занятие увлекательное, но исключительно ответственное. Все упоминаемые в хронике лица — разумеется, подлинные, факты, события, речь в диалогах, хронология событий реконструированы по документам и богатейшему эпистолярному наследию XVIII века. Нарастить нарративную плоть на скелет фактов автор позволял себе только в тех случаях, когда чувствовал необходимость заполнить смысловые и фактологические лакуны, вызванные нехваткой документов или противоречиями в них.
Сноски в тексте делаются только на впервые обнаруженные или ранее не публиковавшиеся документы российских и зарубежных архивов. Наиболее значимые из них публикуются в Приложениях.
В качестве иллюстраций (или, скорее, вместо них) использован альбом великого князя Николая Михайловича, в который он вклеивал гравюры, репродукции картин и скульптур екатерининской эпохи, имея в виду, очевидно, использовать их в готовившейся им монографии о царствовании Екатерины II. Историческая ценность этого альбома, подписей и маргиналий, сделанных рукой Николая Михайловича, не нуждается, как нам кажется, в комментариях. Альбом публикуется как единый документ, в том виде, в котором он хранится в личном фонде Николая Михайловича в ГАРФ.
И последнее.
К появлению этой книги на свет причастны многие люди, причем некоторые из них об этом не подозревают. Автор с признательностью вспоминает рассказы о Павловске и Царском Селе покойного хранителя Павловского дворца-музея А. М. Кучумова, встречи и беседы в родовом замке Белей принца Шарля-Жозефа де Линя в Бельгии, французском Монбельяре — на родине Марии Федоровны, Цербсте в Германии, где в уцелевшем после англо-американских бомбардировок времен Второй мировой войны крыле замка принцев Ангальт-Цербстских устроен небольшой музей Екатерины II. И, конечно же, — прогулки по парку Сан-Суси в Потсдаме с профессором Мёллером, знающем о его великом обитателе — Фридрихе II больше, чем знали его современники.
Особая благодарность — коллегам-архивистам. Директору Государственного архива Российской Федерации Сергею Владимировичу Мироненко, Игорю Сергеевичу Тихонову, заведующему отделом личных фондов ГАРФ, Александру Ростиславовичу Соколову, директору Российского Государственного исторического архива в Петербурге, удивительному знатоку русского XVIII века Светлане Романовне Долговой, заведующей отделом Российского Государственного архива древних актов, доктору исторических наук Вячеславу Сергеевичу Лопатину, высказавшему целый ряд ценных замечаний по первой части этой книги, в связи с которыми она была серьезно переработана. Зарубежным коллегам — заместителю заведующего Департамента истории и архивов МИД Франции мадам Моник де Номази, главному историку департамента истории и архивов МИД Великобритании миссис Джилл Беннет, заведующему отделом Тайного архива Пруссии в Берлине доктору Стефану Хартманну — за советы и помощь в поиске архивных документов.
Отдельное спасибо — сотрудницам Архива внешней политики российской Федерации МИД России, без высокопрофессиональной помощи которых этой книге не суждено было бы появиться на свет — Ольге Алексеевне Глушковой, Ольге Юрьевне Волковой, Светлане Леонидовне Туриловой, Ольге Ивановне Святецкой и, конечно же, Наталье Владимировне Бородиной.
Гнилой год (сентябрь 1773 — март 1776 гг.)
Действо первое
Rien n’est plus vrai. Je suis a Petersbourg[2]
Из письма Д. Дидро Е. Р. Дашковой, октябрь 1773 г.1
Осень 1773 года в Петербурге выдалась необычно холодной. Уже в середине сентября легким морозцем прихватило лужи, но тут же промозглый ветер с залива, наполнивший улицы вязким туманом, превратил хрупкий первый ледок в чавкающую под ногами прохожих и под колесами экипажей жижу.
28 сентября, после полудня, со стороны Ревельской заставы в столицу въехала забрызганная грязью карета-дормез, запряженная четверкой лошадей. В дормезе сидели двое: дородный пожилой мужчина в суконном плаще и человек в черном платье зябко кутавшийся в меховой полог. Орлиный, с горбинкой нос на худом изможденном лице придавал ему сходство с хищной птицей. На заставе карета не задержалась. В первом из пассажиров дежурный унтер-офицер тотчас признал известного всему Петербургу обер-егермейстера Семена Кирилловича Нарышкина. Господин в черном платье, походивший на иностранца, караульным был незнаком.
Поскрипывая английскими рессорами, карета продолжила свой путь по погружавшимся в вечерние сумерки улицам Петербурга. На подъезде к Мойке ход ее замедлился: кучер, чертыхаясь, то и дело тянул на себя вожжи, объезжая бесчисленные колдобины вечно ремонтировавшихся мостовых. Дормез остановился на Исаакиевской площади у трехэтажного особняка, украшенного портиком и коринфскими колоннами. Выскочивший из парадного лакей в нарышкинской ливрее и с фонариком в руке распахнул дверцу и опустил приступку. Выйдя из кареты, Семен Кириллович еще долго стоял у распахнутой дверцы, в чем-то убеждая своего попутчика. Тот, однако, нервно жестикулируя, стоял на своем. Недоуменно пожав плечами, Нарышкин приподнял шляпу и вошел в дом.
Спустя некоторое время карета с нарышкинским гербом на дверце подъехала к дому скульптора Фальконе, седьмой год трудившегося в северной столице над конным памятником Петру Великому. В мастерской скульптора человек в черном пробыл недолго. Когда через несколько минут он вышел на улицу, вид у него был растерянный.
По уже знакомому маршруту дормез вернулся на Исаакиевскую площадь. В приемной нарышкинского особняка незнакомец сбросил на руки швейцару черный плащ.
— Как прикажете доложить? — осведомился дворецкий по-французски.
— Дени Дидро, — ответил человек в черном платье.
Как ни курьезно это звучит, но знаменитый издатель Энциклопедии, приехавший в Петербург по приглашению императрицы Екатерины Алексеевны, в свой первый вечер в российской столице с трудом нашел место для ночлега.
2
Необычные обстоятельства появления Дидро в России отметил в конце прошлого века знаменитый историк Бильбасов. Дело в том, что в Петербурге Дидро ждали.
Еще в июле 1762 года, через несколько дней после восшествия на престол, Екатерина впервые пригласила Дидро приехать «для ее наставления». Позже такие приглашения последовали Вольтеру, Д’Аламберу, Руссо. Дидро, однако, стал первым. Зная о финансовых затруднениях великого энциклопедиста, его бесконечных тяжбах с издателями, а также о препятствиях, которые чинили ему Ватикан и Версаль, императрица предложила Дидро продолжить издание Энциклопедии в России, обещая, как он сам впоследствии признавался, все: свободу, свое покровительство, почести, деньги. Иван Иванович Шувалов, находясь в дружеских отношениях с Вольтером, просил того убедить Дидро принять предложение Екатерины. Однако Дидро ответил вежливым, но твердым отказом. Он считал делом принципа завершить главный труд своей жизни на родине.
Все началось в 1745 году, когда книготорговец Ле Бретон подписал с Дидро контракт на перевод двухтомной энциклопедии Эфраима Чамберса, изданной в 1727 году в Лондоне. Труд Чамберса был не лучше, но и не хуже других энциклопедических лексиконов, появлявшихся с XVII века в Италии, Германии, Англии, Польше. Дидро, перебивавшийся в то время переводами с английского и другой литературной поденщиной, взялся за перевод без колебаний — четыре года назад он женился, и его жене, Антуанетте Шампьон, приходилось экономить на еде, чтобы дать мужу пару сантимов на чашку кофе в кафе де Режанс, где он любил наблюдать за игрой знаменитых шахматистов. Однако принявшись за работу, Дидро быстро обнаружил, что лексикон Чамберса безнадежно устарел. За двадцать лет, прошедших со времени его публикации, философы, натуралисты, биологи, математики высказали целый ряд новых идей, которые невозможно было игнорировать. Дидро предложил Ле Бретону совершенно новое издание, в котором хотел объединить все человеческие знания в единую энциклопедическую форму таким образом, чтобы каждый отдельный предмет трактовался с точки зрения новейших достижений философии.
Ле Бретон, проявив завидную дальновидность, согласился. И не прогадал. Благодаря своему неистощимому энтузиазму, Дидро сумел привлечь к работе над Энциклопедией лучшие умы Франции и всей Европы. Успел оставить набросок статьи «О вкусе» Монтескье, скончавшийся в самом начале этого грандиозного предприятия, Д’Аламбер взял на себя разделы математики и физики. Тюрго писал на экономические и финансовые темы, Руссо — о теории музыки, знаменитый натуралист Бюффон — о естественных науках, Гольбах — о химии и минералогии, Галлер — о физиологии, Мармонтель — о театре. Вольтер, проходивший в те годы лукавую школу придворной науки в Потсдаме, горячо поддержал энциклопедистов. Он, как и Дидро, ясно видел их практическую цель — вывести общество из того безнравственного и беспомощного состояния, в которое его повергли гнет церковных догматов и произвол абсолютизма.
Первые два тома Энциклопедии вышли в 1751 и 1752 годах и имели огромный успех. Они жарко обсуждались в парижских салонах, немецких университетах и женевских кафе. Разумеется, прозвучало и мнение, утверждавшее, что цель Энциклопедии — уничтожение монархии и религии. Однако ни Версаль, ни католическая церковь уже не могли остановить прогресс человеческой мысли. Декрет Людовика XV об уничтожении вышедших томов Энциклопедии лишь добавил популярности запрещенному изданию.
Когда в 1757 году вышел седьмой том и друзья, и противники Дидро осознали истинные масштабы начатого им предприятия. Число подписчиков достигло рекордной для того времени цифры — четырех тысяч человек. Энциклопедией зачитывались не только философы, но художники и студенты, модные портные и журналисты — в ней можно было найти ответ на любой вопрос. Версальские модницы узнавали, сколько сурьмы содержат их румяна, придворные щеголи — как делаются шелковые чулки, военные получали сведения о различных составах пороха. И дело было не только в удивительном многообразии точных сведений из самых разных областей человеческой деятельности. Начиналась революция духа, уже прозвучал грозный сигнал неизбежной гибели старого порядка.
В 1759 году королевским декретом издание Энциклопедии было вновь запрещено. На этот раз запрет вызвал мощный политический скандал, докатившийся до Берлина и Петербурга.
В течение семи лет — с 1758 по 1765 годы — Дидро редактировал Энциклопедию в одиночку. Д’Аламбер, напуганный травлей, которую начала против него католическая церковь, прекратил сотрудничество с ним, Руссо поссорился с Дидро по личным причинам. Только фанатическая убежденность в своей правоте и гигантская работоспособность помогли Дидро преодолеть и политическое давление, и интриги книгоиздателей, опутавших его долговыми обязательствами. В 1765 году в Париже почти одновременно вышли последние десять томов Энциклопедии. В 1772 году были опубликованы еще одиннадцать томов гравюр. Однако место издания был уже не Париж, а Невшатель, и подписчики получали тома тайком.
Подвижнический труд был завершен. Радость Дидро омрачало только то, что в корректурах последних томов Ле Бретон без согласования с ним вычеркнул немало того, что, по мнению издателя, могло бы вызвать недовольство правительства. До конца жизни Дидро так и не простил Ле Бретону его поступок, считая свой труд непоправимо испорченным.
Энциклопедия имела громадный успех в Европе. Не стала исключением и Россия. К 1773 году в Петербурге и Москве вышло несколько сборников на русском языке, содержавших статьи Энциклопедии. Переводившие их Херасков, Томашевский, Рубан препятствий со стороны цензуры не встречали: московское и петербургское начальство знало, что каждый вышедший в свет том Энциклопедии немедленно доставлялся в Зимний дворец.
«Я не могу оторваться от этой книги, — писала Екатерина Фальконе в 1772 году, — это неисчерпаемый источник превосходных вещей».
Для Екатерины с ее страстью к самообразованию Энциклопедия была просто находкой. Еще будучи великой княгиней она внимательно проштудировала все шестнадцать томов Энциклопедического лексикона Бейля. Однако, читая Бейля, Екатерина открывала для себя значение неизвестных ей понятий, Дидро же и его друзья-энциклопедисты помогли ей почувствовать дух эпохи.
Разумеется, в России, как и во Франции, было немало влиятельных противников Энциклопедии.
Скепсис московских и петербургских ворчунов нисколько не охлаждал энтузиазм императрицы. Благодаря обостренной интуиции и здравому смыслу — а, может быть, это одно и то же? — Екатерина прекрасно понимала, когда можно идти против течения, а когда нет.
В 1765 году, узнав от посланника в Париже Дмитрия Алексеевича Голицына о финансовых затруднениях Дидро, она немедленно предложила ему помощь. Дидро в тот момент подумывал о замужестве своей дочери, на приданое для которой у него не было средств. Оказавшись по вине недобросовестных издателей на грани разорения, он решился продать свою библиотеку, которую собирал всю жизнь. Ее хотел купить парижский нотариус, но Голицын устроил так, что Екатерина приобрела библиотеку Дидро за пятнадцать тысяч франков, деньги по тому времени немалые. Для сравнения скажем, что литературным трудом Дидро зарабатывал не более трех тысяч франков в год. Однако на этом дело не кончилось. Библиотека была оставлена в пожизненное пользование Дидро и ему как библиотекарю российской императрицы было положено жалование в тысячу франков. Впрочем, и это еще не все. Жалование, назначенное Дидро, намеренно забывали платить в течение двух лет, а затем, чтобы искупить «забывчивость», прислали сразу пятьдесят тысяч франков — сумму, причитающуюся за полвека вперед.
Великодушный жест Екатерины, да еще сделанный с таким тактом, вызвал раздражение Людовика XV и его министра иностранных дел герцога Шуазеля, усмотревших в покровительстве русской императрицы опальному французскому философу политическую интригу. В Версале обсуждались меры противодействия. Людовик подумывал даже поехать к Вольтеру в Ферней, но так и не собрался.
Прусский король, напротив, аплодировал из Потсдама щедрости русской императрицы. Фридрих и сам, несмотря на крайнюю стесненность в средствах, выплачивал субсидии д’Аламберу и Гримму. Густав III, только что вступивший на шведский престол, Иосиф II, соправитель Марии-Терезии, — словом все просвещенные монархи Европы — соревновались в комплиментах в адрес Екатерины.
Об общественном мнении и говорить нечего. Вольтер и его друзья не скрывали восторга.
«Вся литературная Европа, — писал Екатерине д’Аламбер, — рукоплескала, государыня, отличному выражению уважения и милости, оказанным Вашим императорским величеством господину Дидро».
Одним словом, жатва, собранная Екатериной, оказалась обильной. Один за другим философы возлагали венки на алтарь Северной Семирамиды.
Дидро, преисполненный самой искренней благодарности к русской императрице, стал, по выражению П. А. Вяземского, ее полномочным представителем в энциклопедической республике[3]. Он выполнял самые разные поручения Екатерины: рекомендовал ей художников и музыкантов, заботился о приобретении картин и гравюр для Эрмитажа. На парижских аукционах Дидро скупал по поручению Екатерины картины Мурильо, Доу, Ван Лоо, Маши, Вьена, других художников. Знаменитая галерея барона Тьера, в которой хранились произведения кисти Рафаэля, Ван Дейка, Рембрандта, Пуссена — всего до 500 картин, — была приобретена им за четыреста шестьдесят тысяч франков.
«Ах, мой друг, как мы изменились! — писал Дидро Фальконе. — Среди полного мира мы продаем наши картины и статуи, а Екатерина скупает их в разгар войны. Науки и искусство, вкус, мудрость восходят к северу, а варварство со своим кортежем опускается на юг».
Стоит ли удивляться, что закончив издание Энциклопедии, Дидро счел своим долгом отправиться в Петербург? О цели своего путешествия он говорил вполне определенно: принести личную благодарность русской императрице.
3
В кругу своих друзей Дидро слыл домоседом. И действительно, кроме нескольких поездок в родной Лангр, он не выезжал дальше Шевретт, загородной резиденции подруги Гримма госпожи д’Эпинэ, и замка Гранваль, принадлежавшего Гольбаху. Путешествие в Петербург, сопряженное в то время со многими неудобствами и даже опасностями, его пугало. Сказывался и возраст — в пути Дидро исполнилось шестьдесят лет. Поэтому на письма Фальконе из Петербурга, напоминавшего ему о желании Екатерины видеть его в российской столице, Дидро долго отвечал неопределенно.
Однако, к весне 1773 года тянуть далее с поездкой в Россию стало невозможно.
«Завтра, да, завтра, — писал он Фальконе в начале мая 1773 года, — я выезжаю в Гаагу и пробуду дней пятнадцать у князя Голицына[4]. А потом — кто знает, что может случиться? Малейшего толчка с его стороны будет достаточно для того, чтобы перенести меня в вашу студию. Помните ли камергера Нарышкина? Он теперь на водах в Аахене. В конце июня он едет домой и уверяет, что ему было бы приятно прокатиться вместе со мной. Я начинаю верить, что этот проект сбудется. Жена же моя так твердо уверена в этом, что уже целый месяц собирает меня в дальнюю дорогу и делает это охотно. Ей не хочется, чтобы я умер неблагодарным».
Уговаривал Дидро отправиться в поездку и энергичный Мельхиор Гримм. Он выехал в конце марта из Парижа в Дармштадт, чтобы проводить до Петербурга сына ланд-графини Гессен-Дармштадтской Каролины, дочь которой выходила замуж за великого князя Павла Петровича. Гримм условился с Дидро встретиться в Берлине.
Наконец, 21 мая 1773 года Дидро покинул Париж. Жена провожала его, как Колумба в Америку. Судьба, однако, хранила философа. В Брюсселе она послала ему попутчика — голландского виноторговца ван Келлена, немножко говорившего по-французски, и тот охотно взялся опекать Дидро, беспомощного перед лицом житейских трудностей.
Голицыны давно уже звали Дидро в Гаагу. С князем Дмитрием Алексеевичем Дидро подружился еще в начале 60-х годов, когда тот служил в российском посольстве в Париже. Несмотря на разницу в возрасте — Голицын был моложе Дидро на двадцать лет, — они близко сошлись. Собственно говоря, их сдружила Энциклопедия, изданию которой Дмитрий Алексеевич горячо сочувствовал. Кроме Дидро он тесно общался с Вольтером и Д’Аламбером, посещал собрания физиократов у Мирабо.
Разумеется, общение с людьми, справедливо почитавшимися лучшими умами своего времени, не могло не сказаться самым благоприятным образом на круге интересов Голицына. Он увлекся собиранием старинных рукописей, составил коллекцию минералов, пользовавшуюся европейской известностью. Статьи и книги, публиковавшиеся им по вопросам экономики и минералогии, находили сочувственные отзывы у энциклопедистов.
Созвучны духу времени были и политические взгляды князя Дмитрия Алексеевича. Еще будучи в Париже, он пристально следил за работой Уложенной комиссии, в переписке с вице-канцлером Александром Михайловичем Голицыным, приходившимся ему дальним родственником, строил планы освобождения крестьян. Впрочем, своих крестьян у Голицына было немного, поэтому реформаторские идеи его развивались в плоскости, скорее, теоретической. К тому же давно подмечено, что в чужих краях, русский человек как бы прозревает. Короче, уже в конце 1767 года Дмитрий Алексеевич в письмах в Коллегию иностранных дел оправдывался в неординарности суждений и поступков.
Тем не менее, в следующем, 1768 году по служебной необходимости Париж пришлось сменить на Гаагу. Место, что и говорить, завидное, но уж очень спокойное, сонное. Голландия ни при Екатерине, ни позже в орбиту активных дипломатических интересов России не входила, политические бури, сотрясавшие Европу, обходили ее стороной. Едва ли не главной задачей российского посланника в Гааге было своевременное получение займов от местных банкиров, да выполнение при случае поручений второстепенной важности, вроде содействия отзыву Папой своего нунция из Варшавы или установления прямых дипломатических отношений с Португалией.
Впрочем, и в этой тихой заводи Дмитрий Алексеевич, многочисленные и разносторонние увлечения которого порой мешали ему сосредоточиться на делах служебных, позволял себе совершать оплошности, заглаживать последствия которых его доброжелатели в Петербурге (а к их числу принадлежал не только вице-канцлер Голицын, но и руководитель российской внешней политики Никита Иванович Панин) заглаживали с большим трудом. Последняя из неприятностей подобного рода, преследовавших Голицына будто по воле злого рока, случилась за пять месяцев до приезда Дидро, в самом конце 1772 года.
В канун Рождества, когда жизнь в Голландии замирает, пришлось Дмитрию Алексеевичу отлучиться в Амстердам, привлекавший его своими антикварными лавками. Уезжая, он поручил советнику посольства Дубровскому позаботиться о дипломатической почте, следовавшей через Гаагу из Парижа в Петербург. Дубровский же, позже оправдываясь тем, что был болен, сам заняться почтой не удосужился, а поручил это дело некоему Поггенполю, должность которого сам Дмитрий Алексеевич в переписке с Петербургом определял коротко — valet de chambre[5]. На беду в почте оказалась секретная депеша поверенного в делах в Париже Хотинского, адресованная императрице. Поггенполь, которому не впервые, видно было пользоваться секретнейшими кодами, расшифровал письмо Хотинского и направил его прямехонько почтмейстеру Экку. Надо ли говорить, что Екатерина, получив от директора почт вскрытое и переведенное слугой секретное, не подлежащее огласке письмо от своего посланника в Париже, пришла в ярость[6]. Только благодаря хлопотам своих друзей в Петербурге Дмитрий Алексеевич остался в Гааге. Впрочем, к чести его надо сказать, что провинившегося Дубровского он не только не преследовал, но и пытался по мере возможности помочь своему сотруднику в служебных делах.
Приезд Дидро, надо полагать, помог Голицыну отвлечься от служебных неприятностей. И он, и жена его, урожденная Амалия Шмиттау, приняли философа как родного.
«С князем и его женой я живу, как добрый брат, сижу дома и много работаю. Если и выхожу, так только на берег моря, которое настраивает меня на мечтательный лад», — писал Дидро в Париж своей приятельнице Воллан.
В Гааге Дидро чувствовал себя счастливым. Его привлекали республиканский дух голландцев, их тяга к гражданской свободе. Старого философа видели в городской ратуше, и в рыбацких деревушках, он интересовался устройством ветряных мельниц, много и легко работал.
В долгих прогулках по песчаным пляжам Шееннингена Дидро сопровождала жена Голицына. Дочь прусского генерала Амалия Шмиттау отличалась живым умом. Дмитрий Алексеевич познакомился с ней на водах в Аахене, куда Амалия в качестве придворной дамы сопровождала принцессу Фредерику Прусскую. Дидро был в восторге от ее обширных познаний в самых различных областях, умения легко и непринужденно вести беседу на нескольких европейских языках, музыкального образования. Новую немецкую литературу она, по его мнению, знала и ценила глубже и вернее, чем Фридрих II, состояла в переписке с Гете и Якоби.
«Мадам Голицына дискутирует, как львенок, — говорил Дидро. И добавлял задумчиво, — Впрочем, она, кажется, слишком чувствительна, чтобы быть счастливой».
Гете высказался на этот счет более определенно: «Амалия — одна из тех индивидуальностей, понять которые невозможно вне контекста эпохи, в которой они живут».
Надо ли говорить, что семейные дела Голицыных были нехороши? Супруга Дмитрия Алексеевича, чтобы не пропустить лекцию в университете, могла уйти с придворного обеда, дети были заброшены, казенных средств на обустройство дома на широкую ногу, как того требовало положение мужа, не хватало — денежный оклад посланника в Гааге много проигрывал содержанию его коллег в Париже, Лондоне и Мадриде, а собственное состояние Дмитрия Алексеевича было незначительным.
В результате после пяти лет брака, Голицыны жили фактически врозь — Амалия с детьми в деревне по дороге из Гааги в Швеннинген, Дмитрий Алексеевич — в городском доме. С 1775 г. Амалия переселилась в вестфальский город Мюнстер, где князь навещал ее раз в год.
Впрочем, Голицын придавал мало значения житейским трудностям. По вечерам в его доме собирались литераторы и ученые, почтительно внимавшие жарким дискуссиям, которые вел российский посланник с заезжей парижской знаменитостью. Вмешаться в них не было никакой возможности не только по причине необыкновенного красноречия Дидро, способного часами увлекательно рассуждать на самые разнообразные темы. Редких смельчаков, желавших принять участие в разговоре, повелительным жестом останавливал сам князь Дмитрий Алексеевич. А поскольку по каждому из обсуждавшихся вопросов Голицын имел свое мнение, судил строго и Плиния, и Цицерона, то споры его с Дидро порой продолжались до рассвета, заканчиваясь уже после того, как последний гость покидал гостеприимный дом российского посланника.
Утренние часы Дидро по многолетней привычке проводил за письменным столом — голландский издатель Марк-Мишель Рей, свой человек в доме Голицына, уговаривал его издать полное собрание сочинений. Дело в том, что Дидро, начисто лишенный авторского самолюбия, часто не подписывал свои многочисленные статьи, опубликованные в разных европейских изданиях. Рей, издавший за несколько лет до их встречи избранные произведения Дидро, невольно включил в них немало апокрифов. Вдвоем с Голицыным издатель уговаривал Дидро собрать и самому отредактировать свои многочисленные статьи, романы, пьесы. Слух об этом быстро достиг литературного Парижа, наделав много шума.
Из затеи этой, однако, ничего не вышло. Встречи с издателями, даже случайные, редко приносили Дидро удачу.
4
Князь Дмитрий Алексеевич был большим поклонником Гельвеция.
— Juger c’est sentir[8], — говаривал он со значением.
Мадам Голицына, приходившая в необыкновенное возбуждение каждый раз, когда ее муж цитировал излюбленную сентенцию Гельвеция, принималась спорить, доказывая превосходство сердечных чувств над голосом разума.
— Счастья нет ни в удовольствиях любви, ни в удовлетворении честолюбия, ни, тем более, в богатстве, — отвечал ей нравоучительно Дмитрий Алексеевич. — Счастье подлинное — только в любви к науке и искусствам.
Дидро с обычной своей доброжелательностью относившийся и к Гельвецию, и к Голицыным, и к чайкам, гортанно кричавшим на пляжах Шееннингена, деликатно помалкивал, предпочитая не ввязываться в семейные диспуты. Впрочем, сохранять молчание в споре о Гельвеции его побуждали и другие, более веские причины.
Сразу же после приезда Дидро князь Дмитрий Алексеевич посвятил его в тайное предприятие, над которым упорно трудился последние полтора года. Речь шла об издании рукописи Гельвеция «De l’homme, ses facultés intellectuelles et son éducation»[9], оставшейся неопубликованной после его смерти в 1771 году.
Дело это, на первый взгляд вполне ординарное, вызвало впоследствии громкий политический скандал, затронувший и Голицына, и Дидро. Поэтому мы вынуждены прервать ненадолго наше повествование и обратиться к истории издания Гельвеция российским послом в Гааге.
Рукопись эта, которую автор не успел опубликовать при жизни, попала в руки князя Дмитрия Алексеевича путями неведомыми. Естественно предположить, что она была получена от родственников и наследников Гельвеция, с которыми Голицын был дружен. Однако переписка князя с вице-канцлером Голицыным по этому вопросу отмечена непонятной и поэтому настораживающей таинственностью. Приказывая списать рукопись для императрицы, вице-канцлер советовал «действовать с величайшими предосторожностями», особо следя за тем, чтобы переписчик не сообщил на сторону о том, что подлинная рукопись хранится у российского посла в Гааге. Не менее загадочно выглядят и ответы Дмитрия Алексеевича. С одной стороны, он пояснял, что никакой опасности ни наследники, ни друзья Гельвеция в случае публикации не подвергнутся, с другой — оговаривался: «лишь бы мы отклонили подозрения от того лица, которое передало рукопись и не разгласили способа, которым она была приобретена».
Возможно, что причины, побуждавшие посланника действовать подобным образом, были отчасти связаны с содержанием рукописи. Во всяком случае, оно казалось необычным даже Вольтеру, находившему, что «систематический ум» заставил Гельвеция «увлечься за пределы разума». И действительно — утверждение Гельвеция о том, что люди от природы одинаково способны к восприятию науки и только воспитание позволяет или не позволяет им реализовать свои способности, выглядело более, чем сомнительным. А для собратьев Гельвеция по философскому цеху — и обидным.
Но, все же не это было главным. Для издания рукописи потребны были деньги, а финансовые дела князя Дмитрия Алексеевича, как мы уже констатировали, к меценатству не располагали.
Стесненность в средствах обычно поощряет изобретательность. В данном случае, впрочем, особых усилий фантазии не требовалось. Зная действовавший порядок, Голицын отписал в Петербург, предлагая предпослать сочинению Гельвеция посвящение российской императрице. Екатерина, однако, пожелала прежде ознакомиться с рукописью. И тут вдруг началась непонятная канитель. Более года Голицын тянул с отправкой копии рукописи в Петербург, ссылаясь то на отсутствие опытного переписчика, то на другие благовидные причины. Кончилось тем, что на очередном письме его Екатерина, потеряв, очевидно, терпение, начертала: «Ожидаю заказанные мною копии; запрещаю посвящение; и нет мне дела ни до печатания, ни до подлинной рукописи».
Дальнейшая история с публикацией Гельвеция покрыта тайной. Достоверно известно лишь, что к приезду Дидро рукопись была все же отредактирована и набрана в издательстве все того же Марка-Мишеля Рея.
Кто оплачивал издание — неизвестно. В архивах, впрочем, сохранилось направленное в Гаагу поручение вице-канцлера Голицына, датированное 22 февраля 1773 года, осуществить какую-то публикацию с принятием всех расходов на счет российского двора[10].
В конце лета 1773 года книга поступила в продажу с посвящением императрице. В предисловии к ней, написанном весьма эмоционально, оказалась следующая тирада: «Унизившая себя французская нация заслужила презрение всей Европы. Никакой переворот не в состоянии сделать ее свободной. Она умирает от собственной чахлости. Завоевание иностранцами — единственное средство спасти ее, да и оно зависит от случая и обстоятельств».
Предисловие было анонимным, книгу редактировал аббат Лярош, однако из-за затянувшегося сидения Дидро в Гааге и его близких отношений с Голицыным подозрение пало на него. Французский посол в Голландии маркиз де Ноайль с негодованием сообщал руководителю французской внешней политики герцогу д’Эгильону, что в издании, вышедшем под покровительством российского посла и посвященном Екатерине, допущены выпады, оскорбительные для Франции и ее короля, причем причастность к этому делу Дидро более, чем вероятна.
Забегая вперед, скажем, что осенью 1773 года руководителю российской внешней политики Никите Ивановичу Панину не раз пришлось объясняться по этому поводу с французским посланником в Петербурге Дюраном де Дистроффом. Впрочем, особо серьезных последствий для отношений между Петербургом и Парижем история с публикацией рукописи Гельвеция не имела — они к тому времени были так отягощены десятью годами взаимного недоверия, что появление в них лишней проблемы не имело принципиального значения.
Другое дело — Дидро. Он пытался оправдаться, но его особо не слушали.
Энтузиасты — бесценный материал для политиков и интриганов. В этом Дидро предстояло убедиться в Петербурге.
5
Лишь 22 августа, проведя в Голландии три месяца, Дидро в сопровождении прибывшего, наконец, Нарышкина тронулся в дальнейший путь. К досаде Фридриха II, чрезвычайно желавшего видеть Дидро в Берлине, ехать решили через Дрезден, Литву и Курляндию. Голицын и Нарышкин имели на этот счет строжайшие наставления из Петербурга.
Путешествовали с комфортом. Нарышкин, один из богатейших людей России, заказывал кареты в Англии. К тому же он оказался великолепным собеседником.
Впрочем, этому вряд ли приходилось удивляться. Жизнь Семена Кирилловича по насыщенности событиями напоминала авантюрный роман. Отпрыск древнего рода, родня Романовых, Нарышкин начал придворную службу камер-юнкером в царствование Анны Иоанновны. После ее смерти, опасаясь преследований со стороны Брауншвейгской фамилии, вынужден был бежать за границу и скрывался в Париже под именем Темкина. Там он, кстати, и познакомился с Дидро. Елизавета Петровна направила было Нарышкина послом в Лондон, однако пробыл он там недолго. По возвращении в Петербург его назначили гофмаршалом ко двору великого князя Петра Федоровича в чине генерал-лейтенанта.
Должность непростая. Елизавета Петровна зорко следила за малыми и большими интригами, случавшимися при малом дворе. К чести Семена Кирилловича, однако, надо сказать, что держал он себя достойно, в борьбе придворных партий без нужды не участвовал, с великокняжеской четой вел себя строго, но ровно, держал дистанцию.
Дальнейшее решил случай. Нарышкин оказался первым, с кем Екатерина познакомилась по приезде в Россию. В 1744 году он был назначен состоять в свите, встречавшей принцессу Ангальт-Цербстскую и ее дочь, избранную в невесты наследнику русского престола. Став императрицей, Екатерина сделала Нарышкина обер-егермейстером и действительным камергером. Впрочем, для того чтобы войти в ее ближний круг, Семен Кириллович был слишком независим. Огромное состояние хранило его от придворной суеты. Екатерина, однако, ценила его ум и характер, бывая в Москве, посещала его знаменитый домашний театр.
Нарышкинский оркестр роговой музыки, изобретенный его капельмейстером Иоганном Марешем, чехом по национальности, пользовался еще со времен Елизаветы Петровны европейской славой. Дидро, со своей обычной восприимчивостью ко всему новому, с жадным любопытством слушал рассказы Нарышкина о том, как его капельмейстер добивался слаженного звучания десятков инструментов, каждый из которых мог издавать только одну ноту. Он удивлялся, всплескивал руками, засыпал своего попутчика десятками вопросов. Нарышкин охотно отвечал, проявляя осведомленность в мельчайших деталях. Однако любознательность философа была неистощима. Откидываясь на покойные подушки, он пытался представить себе звучание этого удивительного оркестра, в котором музыкант, низведенный до отупляющего автоматизма, рождал, однако, в совокупности с другими поразительную гармонию. Особенно поражало его, что музыканты в нарышкинский оркестр набирались из дворовых и крепостных людей.
Дидро прикрывал глаза — и величественные звуки начинали звучать в его возбужденном воображении.
— Крепостной орган, — шептал он едва слышно. — Удивительная страна.
Надо ли говорить, что карета с Нарышкиным и Дидро тянулась по дорогам Европы неспешно? Ухоженные пейзажи Германии сменялись бедностью польских, а затем курляндских деревень. Дидро плохо переносил дорогу, в пути он дважды болел — в Дуйсбурге и в Нарве. Оба раза врачи нашли у него расстройство желудка.
«Невозможный человек! — писал в эти дни Гримм своему другу, советнику российского посольства в Берлине Нессельроде[11], — он пропустил все лето, потому что смотрел на путешествие в Петербург как на переезд с одной улицы на другую.
Екатерина пребывала в неведении относительно маршрута и сроков приезда Дидро. После задержки в Дуйсбурге в Петербурге прошел слух, что Дидро умер. Екатерина страшно расстроилась. Вскоре, однако, выяснилось, что философ жив, хотя и не совсем здоров.
Масла в огонь подливал и Фальконе, которого императрица забрасывала вопросами о том, когда приедет его друг.
— Он не пишет в Гаагу, не пишет мне, — сетовал скульптор. — Все его разговоры о приезде — не больше, чем фантазии, химеры, ни повод, ни причина которых мне не известны.
Тем не менее 27 сентября Дидро, полумертвый от усталости, все же прибыл в российскую столицу.
Мой отец, — вспоминала впоследствии дочь Дидро, — не хотел злоупотреблять гостеприимством и дружбой Нарышкина и задумал остановиться у Фальконе, куда прибыл с сильными спазмами в желудке, вызванными непривычной водой и климатом. Однако Фальконе принял его очень холодно и сказал, что не может отвести для отца никакого помещения в своем доме, так как единственная свободная комната занята неожиданно приехавшим из Лондона его сыном… О приеме, оказанном ему Фальконе, отец сообщил нам в самых душераздирающих выражениях. Впрочем, впоследствии, пока отец был в Петербурге, они часто виделись, хотя душа философа была ранена навсегда».
Остановиться в гостинице Дидро не решился, не зная ни нравов, ни обычаев России. Так он вновь появился на пороге нарышкинского дома. Семен Кириллович радушно встретил философа и предоставил в его полное распоряжение лучшую из гостевых комнат. В ней Дидро и прожил все время своего пребывания в российской столице.
6
На следующий после приезда день, в воскресенье 29 сентября, Дидро был разбужен колокольным звоном и пушечной пальбой. Подойдя к окну, выходившему на Исаакиевскую площадь, он увидел своего спутника и благодетеля, садящегося в парадную карету. Нарышкин был в напудренном парике, при шпаге, в раззолоченном, сверкавшем бриллиантами длиннополом кафтане. Заметив в окне бельэтажа фигуру в халате и ночном колпаке, Семен Кириллович улыбнулся и сделал Дидро дружеский жест рукой. Два гайдука в богатых ливреях вскочили на запятки кареты, и она медленно влилась в поток экипажей, направлявшихся вдоль забора, окружавшего перестраивавшийся собор, в сторону Луговой-Миллионной.
Все пространство от набережной Невы, где в будние дни рабочие отесывали Гром-камень, не принявший еще своего царственного всадника, до земляных валов, окружавших Адмиралтейство, было запружено народом. День выдался погожим, и солнечные лучи переливались в золоте адмиралтейской иглы. Вдали, над приземистыми фортами Петропавловской крепости поднимались синеватые облачка дыма. Воздух вздрагивал от пушечных выстрелов. В столице начинались празднества по случаю бракосочетания великого князя Павла Петровича с Гессен-Дармштадтской принцессой Вильгельминой, нареченной при крещении Натальей Алексеевной.
Главные события происходили, впрочем, там, куда не достигали взоры ни Дидро, ни тысяч любопытствующих обывателей, столпившихся на площадях и улицах столицы. Торжественную литургию служили в домашней церкви дворца, примыкавшей к Эрмитажу. По окончании ее придворные и дипломаты, съехавшиеся во дворец, выстроились для торжественного следования в Казанский собор. Первым под звук труб и литавр на крыльце главного подъезда появился церемониймейстер барон фон Остен-Сакен с позолоченным жезлом в руках. За ним строго по церемониалу следовали камер-юнкеры, камергеры, члены Совета и дипломаты. От средних ворот Зимнего дворца по Невской перспективе и вокруг Казанского собора, тогда еще деревянного, были поставлены в две шеренги войска под командованием подполковника лейб-гвардии Семеновского полка Федора Ивановича Вадковского.
Когда под звуки полковой музыки из распахнутых настежь дверей появилась императрица в платье русского покроя из алого атласа, вышитого жемчугами, поверх которого была накинута мантия, опушенная горностаем, с окрестных церквей ударили в колокола. В многочисленной свите особенно выделялись своей удивительной красотой две дамы — графиня Прасковья Брюс и ее мать Мария Румянцева, жена фельдмаршала Александра Петровича.
Неделю назад Екатерина отметила одиннадцатую годовщину коронации. В свои сорок четыре года она выглядела зрелой, уверенной в себе женщиной. Каштановые волосы были гладко зачесаны назад. Когда-то тонкая талия несколько располнела, но движения не утратили былой грациозности и легкости. Лицо императрицы оживляло выражение приветливости, каре-голубые глаза смотрели открыто и дружелюбно. Благожелательная улыбка, не покидавшая ее лица, обнажала крепкие здоровые зубы.
Вслед за императрицей на крыльце появилась великокняжеская чета. При небольшом росте Павел Петрович был безукоризненно сложен. Ускользающая улыбка, выдававшая натуру робкую и неуверенную в себе, скрашивала неправильные черты его лица. Невеста в платье из серебряной парчи, осыпанном бриллиантами опиралась на руку жениха, кланяясь в обе стороны с тем заученным и повелительным выражением, которое редко покидало ее на людях. Чуть одутловатые щеки Натальи Алексеевны были тщательно припудрены. Длинный шлейф свадебного платья торжественно несли камер-юнкеры граф Шереметев и князь Юсупов. За ними пестрой толпой двигались многочисленные родственники невесты из Гессен-Дармштадта.
7
Брак великого князя был событием политическим. Девять дней назад, 20 сентября, Павлу Петровичу исполнилось девятнадцать лет. Наступило его «русское» совершеннолетие, «немецкое» же отметили год назад[12]. Выбором невесты для наследника престола с 1768 года занимался барон Ахац Фердинанд Ассебург, бывший датский посланник при петербургском дворе, перешедший в 1771 году на русскую службу и ставший представителем России на собрании германских князей в Регенсбурге. Барон долго вояжировал по германским княжествам, бывшим традиционной ярмаркой невест для царствующих домов Европы. Из немецких принцесс, подходивших по возрасту великому князю, внимание Екатерины привлекла было Луиза Саксен-Кобургская, однако та отказалась переменить вероисповедание с лютеранского на православное. Принцесса Вюртембергская София-Доротея, особенно нравившаяся Екатерине, была еще ребенком — ей едва исполнилось тринадцать лет. Так, очередь дошла до дочерей ланд-графа Гессен-Дармштадтского Людвига. Сам ланд-граф был человеком ограниченным, военным до мозга костей, но жена его, Каролина, особа честолюбивая, умная и расчетливая, прекрасно поняла выгоды русского брака. Брачного союза между Дармштадтом и Петербургом желал и прусский король Фридрих II, поручивший своему брату принцу Генриху убедить Екатерину в его целесообразности. Их племянник наследный принц Пруссии Фридрих-Вильгельм был женат на старшей дочери ланд-графа Фредерике, названной, кстати, в честь прусского короля. Интересам Пруссии как нельзя лучше отвечала бы ситуация, при которой наследники российского и прусского престолов были бы женаты на родных сестрах.
Из трех принцесс дармштадских — Амалии, Вильгельмины и Луизы — Ассебургу наиболее подходящей казалась средняя, Вильгельмина. Екатерину, однако, смущали слухи о ее гордом и неуживчивом характере. Барон, которому приказали внимательно присмотреться к кандидатке в русские великие княгини, проявил похвальную осторожность.
«Мать отличает ее, — доносил он Екатерине, — наставники хвалят способности ее ума и обходительность нрава; она не выказывает капризов, холодна, но одинаково со всеми. Ни один из ее поступков не опроверг еще моего мнения, что сердце ее чисто, сдержанно и добродетельно, однако ее поработило честолюбие…»
Впрочем, Ассебург, дипломат опытный, друг не только Панина, но и прусского короля, нашел в характере принцессы «éspirit de corps»[13] предположив, что ее нрав и манеры «смягчатся, сделаются приятнее и ласковее, когда она будет жить с людьми, которые особенно привлекут ее сердце».
В конце апреля Екатерина, имевшая свои причины торопиться с браком сына, написала ланд-графине — и уже в начале июня та с дочерьми и скромной свитой на борту русского корабля, посланного за ней в Любек прибыла в Ревель. Все издержки по путешествию в размере восемьдесят тысяч гульденов были приняты на счет русской казны. Приезду ланд-графа Екатерина деликатно, но твердо воспротивилась, откровенно объяснив Румянцеву, что боится, как бы тот какой-нибудь неловкостью не настроил петербургское общество против немецкого брака.
Каролина, еще при жизни заслужившая в Германии репутацию Великой ланд-графини, сразу же нашла верный тон в общении с Екатериной. «Ma démarche vous preuve, Madame, que s’il est question de chosir de vous plaire, de vous obéir ou de suivre les prejugées qui rendent le public un juge sevère et redoutable, je ne sais pas balancer»[14], — писала она ей из Потсдама. Екатерина, понимавшая, какими трудностями сопровождался приезд Каролины с тремя дочерьми на смотрины в Петербург, одобрила ее действия.
Между тем, предстоящая женитьба великого князя привела в действие тайные пружины интриг, в которых при екатерининском дворе никогда не было недостатка. В мае перехватили и перлюстрировали шифрованную депешу Фридриха II прусскому послу в Петербурге графу Сольму, в которой король поручал ему пустить слух о том, что «le Grand Duc a déjà fait son choix et les sœurs de la promise ne l’accompagnent que parce que leur mère n’a pas voulu les laisser seules à la maison»[15]. Затем в руки Екатерины попало и адресованное Н. И. Панину письмо Ассебурга, в котором тот уверял воспитателя великого князя, что ланд-графиня «est si bien trainée; qu’elle ne suivre aucun conseil que celui du Comte Pani»[16].
«Tout le monde veut mener cette femme»[17], — возмущалась Екатерина в письме барону Черкасову, отправленному навстречу ланд-графине в Ревель. Эту деликатную миссию доверили Черкасову, потому что он был другом Орлова и, следовательно, врагом Панина, место которого во главе Коллегии иностранных дел одно время пытался занять.
Черкасову было строго-настрого предписано, что ланд-графиня «должна слушаться только саму себя» и стараться о том, чтобы «loin de diviser les ésprits elle les réunisse»[18].
Черкасов выполнил порученную ему миссию с блеском. «Elles n’ont pas un extérieur frappant»[19], — с легкой развязностью сообщал он Екатерине первые впечатления от гостей из далекого Гессен-Дармштадта. И далее: «Pr. Amélie est jolie a un beau teint et de belles couleurs, les cheveux bruns, grande comme sa mère, bien faite, fort polie, fort douce. La pr. W. est plus petite, pas si bien faite, des yeux à fleur de tête, le visage saillant, n’est pas si jolie que l’aîneé, plus blonde qu’elle, un teint échauffé peut-être par le voyage, a un faux air de Pr. Prozorovski, lieutenant-general, d’ailleur fort polie, mais fort resevée, très attachée à sa mère. La Pr. Louise sera fort jolie, si je ne me trompe pas»[20]. И наконец: «Le dirai’je, Madame? Par le visage elle ressemble un peu Mons. le Grand Duc»[21]. Забегая вперед, скажем, что Черкасову в то время, кстати, президенту Медицинской коллегии, удалось проникнуть в самую суть непростого характера будущей супруги наследника российского престола. Благодаря ему, знаем мы и то, что в жены сыну Екатерина выбрала самую некрасивую из гессен-дармштадтских принцесс.
Впрочем, мы, кажется, отвлеклись.
Павел ожидал приезда невесты в сильнейшем волнении. Он почему-то был убежден в том, что не понравится гостьям из Германии. Всё, однако, обошлось как нельзя лучше. 15 июня князь Григорий Орлов встретил ланд-графиню и ее дочерей на подъезде к Гатчине, где их уже ждала Екатерина, пожелавшая таким образом избежать неловкостей официального приема. В окрестностях Царского Села, куда приехавшие направились из Гатчины, их ожидал великий князь со своим воспитателем Никитой Ивановичем Паниным.
С первого взгляда молодые люди понравились друг другу, и три дня спустя, 18 июня, Екатерина просила у ланд-графини от имени Павла Петровича руки принцессы Вильгельмины. Согласие было дано незамедлительно. 15 августа, после миропомазания принцессы, принявшей в православии имя Натальи Алексеевны, было торжественно отпраздновано обручение.
Важная деталь. Обязательное условие русского двора о перемене религии немецкими принцессами, выходившими замуж за русских великих князей, никогда не казалось Европе делом бесспорным и безупречным в нравственном отношении. Вольтер в переписке с Екатериной — случай редкий, едва ли не единственный — не удержался от соблазна съязвить насчет «натализации» дармштадтской принцессы (из Вильгельмины в Наталью). Отповедь, последовавшая из Петербурга, по тону была резкой, по существу двусмысленной (глубокая внутренняя связь между лютеранством и православием). Впрочем, для Екатерины, в свое время также сменившей веру, тема эта оставалась, надо полагать, непростой.
Ассебург, кстати, при переговорах в Дармштадте, по-видимому, не совсем четко разъяснил требования Екатерины относительно смены религии избранницей Павла. Во всяком случае ланд-граф Людвиг включил в состав свиты своей жены президента дармштадтских земельных коллегий Карла фон Мозера, поручив ему договориться в Петербурге, чтобы дочь его осталась лютеранкой. Однако попытки Мозера выполнить данное ему поручение успеха не имели. Он с горя заболел, бормоча о «ненужности своей поездки с самого начала».
Каролина, не желавшая осложнять отношения с Екатериной вмешательством в столь щекотливый вопрос, послала в утешение мужу, считавшемуся лучшим барабанщиком Германии, барабан российского императорского кавалергардского полка.
Екатерина успокоила волновавшегося Мозера другим способом. Приняв и обласкав его, она сказала между прочим, что принадлежит к числу немногих монархов, читавших его книгу «господин и его слуга» (в 1766 году изданную в России на русском языке с посвящением Екатерине). Стоит ли говорить, что и Мозер, и второй известный немецкий писатель Иоганн Генрих Мерк, также сопровождавший ланд-графиню в поездке, после возвращения на родину влились в толпу поклонников Екатерины? Мерк знакомил читателей немецких журналов с новинками русской литературы, а Мозер, рассказывая о своих впечатлениях от поездки, говорил, что Россия, управляемая «философом на троне», стала «отечеством для гениев и умных голов со всего мира».
И еще одно. В многотысячных толпах, которые собирали в эти дни торжественные выходы Екатерины, было немало заурядных иностранцев, имевших, однако, похвальную привычку писать письма, сохраняя таким образом живое восприятие событий, свидетелями которых им довелось стать. Вот письмо некоего француза по фамилии Марбо, адресованное в Париж парламентскому адвокату де Сервалю:
«Весь блеск двора и местной знати можно было наблюдать во время торжественной процессии в честь Св. Александра Невского, день которого праздновался сегодня[22]. Императрица принимала в ней участие, следуя пешком, как и Великий князь, будущая Великая княгиня и императорская свита, состоявшая из всех выдающихся и заслуженных вельмож государства. Их величества и высочества со всем этим блестящим кортежем вышли из Казанского собора и проследовали пешком до Александро-Невской лавры, находящейся на расстоянии около одного французского лье за городом. Выстрел из пушки, подействовавший на мои барабанные перепонки, известил о их возвращении с этого паломничества, длившегося три часа. Я не буду рассказывать вам о священнослужителях, которые шли перед процессией. Вы сами легко представьте себе их длинные одеяния и бороды, лысые головы и круглые высокие шапки, придающие им сходство то ли с еврейскими раввинами, то ли с древними патриархами. Вам, однако, вряд ли удастся представить себе их физиономии, одновременно постные, тупые и злобные. Не буду описывать также бесчисленные экипажи, роскошные мундиры и платья, ливреи, шитые золотом, — все это легко представить тому, кто видел праздники в Версале»[23].
Пасквиль, конечно, но вспомнился Гете — «Бог — в деталях».
Впрочем, мы, кажется, снова отвлеклись. При выходе молодых из дворца Екатерина выглядела вполне довольной. Только очень опытный и внимательный наблюдатель мог бы уловить затаенную тревогу в ласковом взгляде, обращенном на сына и невестку, устроившихся напротив нее в парадной карете, направлявшейся к Казанскому собору.
По бокам кареты, запряженной восьмеркой лошадей цугом, верхами ехали обер-шталмейстер Лев Нарышкин и петербургский губернатор граф Яков. Брюс. За ними выступали кавалергарды с обнаженными палашами. Впереди на белом норовистом коне — шеф кавалергардского корпуса князь Григорий Орлов в серебряной кирасе и шлеме с пышным черным пером. В замке кавалергардов ехал младший брат Григория, Алексей, прибывший в Петербург из Ливорно, где он командовал действиями русского флота на Средиземном море. Могучие фигуры братьев Орловых привлекали всеобщее внимание. Григорий, всего лишь год назад бывший всесильным фаворитом императрицы, был, видимо, рад вновь оказаться в центре внимания. Суровое лицо Алексея — Алехана, как называли его братья, — обезображенное шрамом, пересекавшим щеку, хранило непроницаемость.
При приближении к Казанскому собору императорский кортеж встретил благовест; камергеры и камер-юнкеры, спешившись, встали шпалерами.
Внутри собора, справа от императорского места, под зеленым балдахином, для великого князя и его невесты были поставлены кресла покрытые красным сукном с золотым позументом. У северного входа собрались иностранные дипломаты, облаченные в цветные камзолы с орденскими лентами через плечо.
Екатерина, взяв Павла за правую, а Наталью Алексеевну за левую руку, под стройное пение церковного хора отвела их на место для новобрачных.
По свершении брачного таинства архиепископ Псковский Иннокентий произнес проповедь.
Ланд-графиня Каролина, слушая обращенные к ее дочери проникновенные, но непонятные ей наставления, поминутно прикладывала к глазам кружевной платочек. Сын ее, граф Людвиг Гессенский, прибывший накануне свадьбы, чтобы проводить сестру под венец, внимательно следил за незнакомым ему церковным обрядом. Время от времени он чуть поворачивал голову к стоявшему подле него прилично одетому человеку лет пятидесяти в прусском парике с буклями. Сосед графа, не размыкая тонких губ, кончики которых были приподняты в вежливой полуулыбке, что-то шептал ему на ухо, не отрывая взгляда от происходившего у алтаря священнодействия.
Стоит ли пояснять, что этого человека звали Фридрих Мельхиор Гримм?
8
Гримм прибыл в Петербург за две недели до Дидро. В отличие от последнего проблем с ночлегом в русской столице у него не возникло. Гримм жил в Летнем дворце, где остановилась ланд-графиня Каролина со своими детьми и свитой.
Литературный критик, журналист, теоретик музыки — Гримм обладал многочисленными талантами, главным из которых был талант устраивать собственные дела. С Дидро, д’Аламбером, Гольбахом он близко сошелся еще в конце 40-х годов, когда впервые появился в Париже в качестве наставника детей графа Шенберга. Выпускника Лейпцигского университета и начинающего литератора одинаково радушно приняли и в кругу философов, и в аристократических салонах. Впрочем, в доме Шенберга Гримм оставался недолго. Он стал чтецом принца Саксен-Готского, а затем секретарем графа фон Фризена, племянника маршала Морица Саксонского.
Известность в Париже, а впоследствии и во всей Европе, принесла Гримму его «Литературная корреспонденция». Этот рукописный журнал, сообщавший о последних новостях художественной и литературной жизни Парижа, по просьбе просвещенной герцогини Луизы-Доротеи Саксен-Готской начал издавать аббат Рейналь в 1747 году. Гримм, приглашенный Рейналем для сотрудничества в 1753 году, быстро поставил дело на широкую ногу. За 300 франков в год владетельные государи многочисленных немецких княжеств могли дважды в месяц получать обстоятельные описания луврских Салонов и вернисажей, спектаклей в «Комеди франсез». С 1763 года к подписчикам «Литературной корреспонденции» присоединился Фридрих II, а с 1766 года — Екатерина. С этих пор имя Гримма приобрело европейскую известность.
Ближайшим сотрудником Гримма по «Литературной корреспонденции» был Дидро, из-под пера которого почти два десятилетия выходили самые блестящие статьи этого уникального издания. Случалось, что пока Гримм отсутствовал в имении мадам д’Эпине, проводя время в беседах с политиками и финансистами, Дидро ночь напролет писал о картинах Вьена, Греза и Ван Лоо, скульптурах Гудона и Фальконе для очередного выпуска «Литературной корреспонденции». Без особой натяжки можно сказать, что слава Гримма покоилась на труде Дидро.
Как ни странно, такое положение удовлетворяло обоих. В отношениях с собратьями по философскому кружку Дидро был наивен, как ребенок или, вернее, как гений. Он не знал чувства зависти. На перешептывания (и при жизни Гримма, и после его смерти) об умении его друга извлекать пользу из чужого труда или о сомнительных услугах, оказываемых им многим европейским дворам, Дидро отвечал ясной улыбкой человека, неколебимо верящего в добро.
Когда Гримм по своему обыкновению бочком, как человек светский, но проводящий много времени за письменным столом, вошел в гостиную Нарышкина, радости Дидро не было предела. Забыв о своих недомоганиях, он вскочил с дивана и заключил друга в объятия. Гримм, терпеливо снес бурное проявление чувств своего экспансивного товарища, бережно отстранил его со словами:
— Ты несносен, Дени. Можно ли так вести себя? Вот уже три месяца, как я не получаю от тебя никаких известий. Подумай сам: выезжаешь из Парижа весной, а приезжаешь сюда только осенью. Ты пропустил весь belle saison[24]. По-французски Гримм выражался не совсем правильно, как бы с некотором усилием, но недостаток этот вполне компенсировал приятный бархатистый тембр его голоса и несколько небрежная, но располагавшая к себе манера держаться.
Дидро, усадив своего товарища в удобное кресло, стоявшее возле изразцовой печи, принялся рассказывать о своих дорожных приключениях. Гримм внимательно следил за оживленной жестикуляцией, которой сопровождал свои слова сидевший напротив него взъерошенный человек с профилем хищной птицы. Привычно доброжелательное выражение его лица отражало радость узнавания чудачеств старого друга. Так умудренный опытом отец смотрит на озорного, увлекающегося, но достойного одобрения сына.
Давайте же оставим ненадолго двух друзей, — после полугодовой разлуки им есть, что сказать друг другу — и присмотримся повнимательнее к двум философам, появившимся в Петербурге осенью 1773 года. Это поможет нам лучше понять смысл и логику дальнейших событий.
Дидро и Гримм, как Кастор и Полидевк, перенесенные в век Просвещения, были едины в своей противоположности. Оба принадлежали к среднему сословию. Отец Гримма был лютеранским пастором в Регенсбурге, ставшим впоследствии суперинтендантом. Дидро родился в семье ножовщика, впрочем, вполне почтенной. Представители ее два века занимались этим ремеслом в родном Лангре.
Дидро не находил ничего зазорного в своем низком происхождении. До конца жизни он сохранил любовь к жителям Лангра, все время открывая в них какие-то особенно привлекательные черты характера. Он говорил, что из-за сильных ветров, нередких в тех местах, обитатели Лангра стали похожи на флюгеры, устойчивые к переменам судьбы и восприимчивые к новым веяниям. Сам Дидро также, подобно флюгеру из Лангра, чутко улавливал флюиды эпохи.
Гримм не любил вспоминать о своей жизни до приезда в Париж. Франция стала его духовной родиной. И по образу жизни, и по складу ума он был скорее французом, чем немцем.
Ученик и воспитанник иезуитов, Дидро яростно выступал против католической церкви. Он был убежден в том, что человеческая природа совершенна, мир Божий прекрасен и зло лежит вне его. Оно есть следствие дурного образования и дурных учреждений. Во времена, когда француз, не проявивший должного почтения к религиозной процессии, рисковал быть ошельмованным и даже казненным, такая позиция была серьезным протестом против ханжества в религиозно-нравственных вопросах феодального абсолютизма, формализма в искусстве и обскурантизма в мышлении.
В апреле 1771 года Дидро писал своей русской знакомой, княгине Екатерине Дашковой:
«Каждый век имеет свое особое направление, которое его характеризует. Направление нашего века заключается, по-видимому, в свободе. Первая атака против суеверия была очень сильна, сильна не в меру. Однако раз люди осмелились атаковать предрассудки теологические, самые устойчивые и наиболее уважаемые, им невозможно уже остановиться. От них они рано или поздно обратят свои взоры и на предрассудки земные».
Дидро, возможно, самый глубокий мыслитель века Просвещения, был одним из тех, кто произвел революцию в умах.
Гримм был личностью совершенно другого масштаба. Талант его заключался в: необыкновенном умении понимать характеры людей и мотивы их поведения, проникать умственным взором в суть сложных взаимосцеплений политических конъюнктур своего века. Кроме того, Гримм был литературным критиком, с живым и быстрым умом и чрезвычайно тонким вкусом.
В каком-то смысле Гримм был более цельной натурой, чем Дидро. Космические масштабы мышления француза, его гигантская эрудиция имели свои недостатки. Эстетика Дидро противоречива — он одинаково любил сурового бытописателя Шардена и сентиментально красивого Греза, шаловливых амуров Фальконе и классически совершенные бюсты Гудона. Дидро творил легко, был нетерпелив и неусидчив — и в то же время три десятилетия кропотливо трудился над изданием Энциклопедии.
Энциклопедия стала прижизненным и посмертным памятником Дидро, увековечившим его имя. После Гримма остались «Литературная корреспонденция», многочисленные статьи да пара модных в свое время памфлетов. Самый известный из них — «Маленький пророк из Богемишброде», в котором Гримм, выступив арбитром между приверженцами старинной музыки и новой (ее вождем и символом был Глюк, вывезенный из Вены Марией-Антуанеттой), решительно встал на сторону последней.
И еще одно. Дидро был добр по натуре. Он, если так можно выразиться, был энтузиастом добра.
«На меня, — говорил он, — производят более сильные впечатления прелести добродетелей, нежели безобразия порока. Я тихонько отворачиваюсь от плохого человека и бросаюсь в объятия хорошего. Если в каком-нибудь произведении, картине, статуе есть хоть что-нибудь хорошее, мои глаза останавливаются именно на этом. Я ничего не вижу, кроме хорошего, и ничего другого не удерживаю в памяти».
Гримм с его талантом распознавания людских характеров не мог не ценить этого. Ну, разумеется, и пользоваться в своих целях.
Вот и теперь он больше слушал своего словоохотливого друга, чем говорил сам.
— Однако, я, кажется, заговорил тебя, — спохватился наконец Дидро. — Как ты нашел Петербург?
— С’est un vrai tourbillon, mon cher, un vrai tourbillon[25], — произнес Гримм. Каждый день — молебны, балы, обеды. Эти праздники меня доконают.
— А что императрица, видел ли ты ее?
— Я был представлен ей вместе с графом Людвигом и, надо признаться, принят ею чрезвычайно милостиво.
— Какой ты ее нашел? — Дидро, не отпускавший во время беседы руку своего друга, порывисто потянулся к нему.
— Это великая женщина, — просто ответил Гримм. — Она величественна и проста. Скажу тебе по правде, Дени, из европейских монархов я мог бы сравнить ее только с Фридрихом. Тот же масштаб, та же порода — и эта удивительная естественность…
Дидро, не любивший прусского короля, поморщился.
— Но вот незадача, мой друг, — продолжал между тем Гримм, — генерал Бауэр, он служит здесь при дворе, объявил мне от имени императрицы, что Ее величеству угодно принять меня в свою службу.
— Поздравляю, — воскликнул Дидро, — ты будешь прекрасным воспитателем великого князя.
— Ты забываешь, мой друг, что великий князь достиг совершеннолетия и не далее как третьего дня женился, — отвечал Гримм со спокойной усмешкой. — Впрочем, он представился мне, и я нашел его вполне достойным молодым человеком.
— Так в чем же должны состоять твои обязанности?
— Генерал не уточнил, — сказал Гримм. — Впрочем, это не имеет значения, я решил отказаться.
— Но почему? — воскликнул Дидро.
— Думаю, что по той же причине, что и ты, мой друг, столько медлил с приездом. Екатерина — великая государыня, но она правит странной страной. Впрочем, это еще и не страна, так, набросок, мираж. Карикатура на Европу, написанная рукой турка.
— Однако ты зол сегодня, — проговорил Дидро.
— Ничуть, — спокойно отвечал Гримм. — Не скрою, я растерян, потому что не знаю, как отказаться. Что же касается России, о, ты сам все увидишь.
Гримм помедлил, остро глянул на своего друга и добавил:
— Если захочешь, конечно.
Только спустя несколько дней, под конец свадебных торжеств, Гримм нашел случай объясниться с императрицей. Вот как он сам описывал впоследствии состоявшийся между ними разговор:
«Войдя в комнату, я увидел государыню с тем величавым выражением достоинства, которое в ней было так естественно и не имело ничего строгого, а между тем меня смутило.
— Ну что же, — сказала она, — вы желали переговорить со мною. Что имеете вы сказать?
— Если Ваше величество, — отвечал я, — сохранит этот взгляд, то я должен буду удалиться, потому что чувствую, что голова моя не будет свободна и что, следовательно, напрасно было бы злоупотреблять минутами, которыми Вам угодно мне пожертвовать.
Улыбка просияла на ее лице.
— Садитесь, — сказала она, — и потолкуем о наших делах.
Успокоенный таким милостивым обхождением настолько же, насколько я был скован перед этим, я высказал, что если бы я безусловно тотчас согласился бы принять сделанное мне предложение, то доказал бы этим лишь готовность во что бы то ни стало воспользоваться счастием, что подобного рода людей у государыни найдется вдоволь под рукой; что предложение это вскружило бы голову и покрепче моей; что, тем не менее, оно заставило меня задуматься; что как бы я ни был счастлив посвятить ее службе остаток дней своих, тем не менее даже ее всемогущество не может изменить того, что я две трети своего существования провел вдали от нее; что мне было уже за 50 лет и что я не в праве надеяться изучить русский язык; что по моему убеждению нельзя быть полезным деятелем, не зная языка того края, которому служишь»[26].
Гримм упомянул и об интригах и происках, так часто встречающихся при дворе, высказал опасение насчет неизбежной зависти, которая заставит его делать промахи. Екатерина, улыбаясь, отвечала, что не понимает таких тонкостей.
Не сказал Гримм Екатерине в тот раз лишь одного. Главного, в чем он признался лишь спустя много лет:
«Не лета мои, не невозможность изучить русский язык, не двор, с окружающими его опасностями, не страх ошибок удерживали меня от исполнения столь лестной и счастливой для меня воли государыни, меня удерживало опасение, что столь блестящая перемена в службе моей не может быть продолжительной. Я предпочитал полное лишение предлагаемого неверной возможности его потерять».
Признание любопытное, и к тому же доказывающее, что Гримм, был если и не искренним, то, во всяком случае, чрезвычайно умным человеком. А это, согласитесь, немало.
9
Точная дата представления Дидро Екатерине достоверно не известна. С уверенностью можно сказать только то, что первая встреча императрицы и философа произошла не позже 5 октября, то есть через пять-шесть дней после приезда Дидро в российскую столицу.
По признанию самого Дидро, он был настолько взволнован во время этой встречи, что решительно не помнил, о чем говорил. Должно быть, однако, слова его доставили удовольствие Екатерине, во всяком случае, тронули ее своей искренностью.
После часовой беседы она сказала ему:
— Господин Дидро, видите дверь, в которую вы вошли? Она будет открыта для вас всякий день с трех до пяти часов пополудни.
Кабинет императрицы Дидро покидал в состоянии сильнейшей ажитации. В письме дочери, он признавался, что, собираясь в Петербург и подумать не мог, что будет беседовать с русской императрицей один на один каждый день. Небольшая аудиенция после месячного ожидания и возможность проститься — вот все, на что он рассчитывал.
Вышло, однако, по-другому. За пять месяцев, проведенных в Петербурге, Дидро беседовал с Екатериной не менее шестидесяти раз. Разговор длился обычно от полутора до двух часов, хотя Дидро, никогда не знавший точно, который час, часто опаздывал и приходил во дворец, когда наступало время приема других лиц. Екатерина порой не знала, как распрощаться с увлекшимся философом.
Были и другие сложности. Дидро, не признававший условностей ни в одежде, ни в поведении, в Париже в кругу своих друзей-философов слыл большим оригиналом. В Петербурге же, при пышном екатерининском дворе, да еще во время праздников, он выглядел странно.
«Он никогда даже не думал о том, что во дворец нельзя являться в том же костюме, в котором ходят в чулан; он отправлялся к императрице весь в черном», — вспоминала дочь Дидро.
По приказу Екатерины Дидро прислали придворный костюм.
Это, однако, мало что изменило. В кабинете Екатерины философ чувствовал себя совершенно свободно.
«Дидро берет руку императрицы, трясет ее, бьет кулаком по столу; он обходится с ней совершенно так же, как с вами», — писал Гримм в Берлин графу Нессельроде.
К счастью, непосредственность француза забавляла Екатерину. Она лишь улыбалась, когда он, увлекшись, обращался к ней «ma bonne dame»[27] вместо положенного «madame»[28], снимал парик, чтобы доказать сходство со своим бюстом, который был сделан по памяти помощницей Фальконе Анной-Мари Колло. Небрежно повязанный галстук, обнажавший морщинистую шею, манера целовать руки дамам по поводу и без повода вызывали у Екатерины только усмешку. Она находила, что естественность поведения Дидро придавала особую прелесть их беседам и видела в ней признак высокого энтузиазма, присущего только великим людям.
«Ваш Дидро, — писала она своей парижской корреспондентке мадам Жоффрен, — человек совсем необыкновенный: после каждой беседы у меня бедра всегда помяты и в синяках. Уж я была вынуждена поставить между ним и мною стол, чтобы защитить себя от его жестикуляций».
Дидро был в восторге от своей собеседницы.
«Это душа Брута, соединенная с чарами Клеопатры, — писал он Екатерине Дашковой. — Если она как государыня велика на троне, то ее прелести как женщины способны вскружить головы тысячам смертных. Никто лучше ее не владеет искусством располагать в свою пользу».
Об отношении Екатерины к Дидро и тогда, и после говорили всякое. Фридрих II, к примеру, писал Д’Аламберу:
«Говорят, что в Петербурге смотрят на Дидро как на скучного резонера, болтающего все одно и то же. Будучи завзятым читателем, я все-таки не могу выносить его сочинений. В них царствует такое самодовольство и высокомерие, что это стесняет мою свободу».
Российская императрица, однако, придерживалась другого мнения.
10
В одной из первых бесед Дидро спросил Екатерину, кто были ее учителя.
— L’ennui et sollitude[29], — ответила она.
В течение долгих восемнадцати лет, с тех пор как она стала супругой великого князя Петра Федоровича и до вступления на престол 28 июня 1762 года, единственными ее друзьями были книги. Шведский граф Гюлленборг, посетивший Петербург в 1745 году, назвал ее философкой. Екатерине в то время было пятнадцать лет и она уже познакомилась с произведениями Плутарха, Цицерона, Монтескье. После отъезда Гюлленборга, кстати сказать, фигуры весьма загадочной (он неизменно появлялся возле Екатерины в переломные моменты ее жизни), она обратилась к Вольтеру, Руссо, Дидро. Горизонты мира раздвинулись для нее. В душе великой княгини разгорелся огонь, который не погас до конца ее дней.
«Свобода — душа всего на свете. Без тебя все мертво. Желаю, чтобы повиновались законам, но не рабски; стремлюсь к общей цели — сделать всех счастливыми», — писала она в те годы.
Личность великой государыни Екатерины формировалась под влиянием новейшей философии с ее проповедью свободы и самоценности человеческой личности, и абсолютной, переданной с генами немецкими предками уверенностью в монархическом строе, как наилучшем гаранте общественного порядка, которую подкрепила еще российская реальность. Проявление этой внутренней раздвоенности часто принимали за неискренность и лицемерие. Вряд ли это было так. Екатерина — дочь века, прошедшего под знаком сомнений. Излом эпохи оставил след и в ее душе.
— «Всюду человек свободен — и всюду он в оковах», — первые слова «Общественного договора» Руссо пугали ее своей правотой.
Раньше и глубже многих Екатерина почувствовала разрушительную силу призывов к всеобщему равенству. Поэтому, очевидно, из философских сочинений только книги Руссо удостоились редкой чести быть запрещенными в России. Впрочем, в 1765 году, когда вынужденного покинуть родину Руссо отказались принять англичане, Екатерина через Григория Орлова пригласила будущего швейцарского отшельника поселиться в России. Он отказался, как отказались от подобного приглашения Вольтер, Д’Аламбер, аббат Гальяни. Это, тем не менее не изменило отношения Екатерины к аристократам духа: вслед за библиотекой Дидро в Петербурге оказались книги Вольтера, собрание манускриптов и литографий Гальяни.
Впоследствии у историков екатерининского царствования вошло в обычай сожалеть, что книги эти в России было некому читать. Упрек столь же предвзятый, сколько и бессмысленный. В эпоху, когда во дворах католических монастырей полыхали костры, истреблявшие крамолу, Петербург был не худшим местом сохранения интеллектуальных богатств Европы для потомков.
Рукописи, к сожалению, горят, не горят идеи, и Екатерина если и не сознавала, то, наверное, чувствовала это. Интуицией она обладала поразительной.
Долгие годы ее кумиром был Вольтер. Она открыто, порой демонстративно восхищалась его едким сарказмом, неожиданными парадоксами, смелым разоблачением ханжества и грубых предрассудков. Это было необычно, но не ново — культ Вольтера в русском образованном обществе возник еще во времена Елизаветы Петровны. Вольтерьянство тогда воспринималось как антипод суеверия — и только. Не стоит забывать, что позже, уже в грибоедовские времена, слово «вольтерьянец» стало синонимом злодея — фармазона, повинного во всех эксцессах Великой революции. Для Екатерины же Вольтер, камер-юнкер двора Фридриха Великого, был тем, кем он сам стремился быть — учителем и наставником просвещенного монарха, призывавшим «écraser l’infâme»[30] В этом смысле Екатерина была вольтерьянкой.
В своих отношениях с философами Екатерина оставалась женщиной в высшей степени практической. Ее письма Вольтеру, редактировались тщательнее, чем политические декларации, адресованные герцогу Шуазелю и Людовику XV, кстати сказать, преследовавших энциклопедистов с беспомощным остервенением духовных банкротов. Тем поразительнее выглядят содержащиеся в них откровения о порядках в России («У нас нет мужика, который не имел бы курицы на обед, хотя с некоторых пор многие предпочитают курам индеек»). Что это: ханжество, безнравственный обман?
Ведь нельзя же предположить, что Екатерина не знала, чем действительно питается русский крестьянин в Костроме или Поволжье.
Думается все же, что ни то, ни другое. С точки зрения политика, с оппонентом надо говорить на его языке, врагу — платить его же монетой. Екатерина же была прирожденным политиком, прекрасно понимавшим к тому же новое для ее века значение общественного мнения. Ее письма Вольтеру — достойный ответ длинной веренице недоброжелателей России от Шуазеля до аббата Шаппа д’Отероша, для которых было дурно все, что непохоже на Европу. Ответ столь же лицемерный, как и их упреки — и потому профессиональный.
Еще в юные годы, будучи великой княгиней, Екатерина, следя за перипетиями политической карьеры Вольтера при дворе Фридриха II, поняла, какие выгоды может принести великому политику дружба с великим философом. Подражая, скорее всего бессознательно, Фридриху, которого она уважала и ненавидела, но которому всегда не доверяла, она начала свою игру с Вольтером. Эта игра дала поразительные результаты. Вольтер, отчаянный и одновременно предельно осмотрительный, изгой и богач, сумевший еще в молодости сделать состояние на военных спекуляциях, оказался достойным партнером русской императрицы. Ее письма к Вольтеру, подозрительно часто попадавшие на страницы европейских газет и обсуждавшиеся в парижских салонах, утвердили его в высоком звании патриарха философской партии. В ответ Вольтер провозгласил Семирамиду Севера апостолом веротерпимости. Он призывал ее изгнать турок из Европы и уничтожить само понятие «мусульманин»; польских конфедератов, преследуемых войсками Бибикова и Репнина, он называл канальями. Заветная мечта Вольтера, как, впрочем, век спустя и Достоевского, — видеть Константинополь под русским скипетром.
Конечно, подобная сублимация абсурда — это уже не фарисейство, это политика. Недаром после опалы, посетившей Шуазеля в конце 1770 года, Екатерина, не скрывая своего удовольствия, вспоминала как «мы вместе с Вольтером валили» самого могущественного врага России.
Партия, разыгранная Екатериной с Вольтером, просчитана мастерски. Не удивительно ли, что даже в польских делах философы держали сторону русской императрицы?
Вольтер говорил: «Un polonais — charmeur, deux polonais — une bagarre, trois polonais — eh bien, c’est une question polonaise[31]».
Из всех философов, пожалуй, один Дидро не произносил афоризмов на злобу дня. Дидро не то чтобы не интересовался политикой, он был выше ее. Сложные конъюнктуры европейской политики, перипетии русско-турецкой войны трансформировались в его сознании в абсолютные категории. Победы русских войск в Молдавии он приветствовал потому, что они приближали мир. Он твердо знал, что любой мир лучше войны и говорил об этом в письмах к Екатерине. Голова его была устроена так, что реальная жизнь в ее самых различных проявлениях была для него только иллюстрацией к тем идеальным принципам, которые сформировались в его воображении.
Не эту ли сторону личности Дидро имела в виду Екатерина, когда называла его человеком, во всем отличным от других? Похоже, что так, хотя ее отношения с Дидро, как и все, что она делала, были тоньше и сложнее реальных или мнимых утилитарных расчетов.
Едва ли не самой яркой идеей века Просвещения была идея рационализма. И прорыв к ней, а через нее — к освобождению человеческой мысли — связан с Дидро. Еще в 1767 году Екатерина впервые прочитала его знаменитое сочинение «Письмо о слепых в назидание зрячим». Исследуя, одинакова ли вера слепца в существование божественной воли с верою зрячего, созерцающего чудеса природы, Дидро касался вопроса не столько о сущности религиозной веры, сколько о практике как критерии истины.
«Зачем вы, — говорит слепой, — рассказываете мне о великолепных зрелищах, которые существуют не для меня? Я осужден проводить свою жизнь во мраке, а вы ссылаетесь на такие чудные картины, которые мне непонятны и которые могут служить доказательством только для вас и для тех, кто видит то же, что и вы. Если вы хотите, чтобы я уверовал в Бога, вы должны сделать так, чтобы я осязал его..».
Гладстон как-то назвал Фридриха II практическим гением. Сказано как будто о Екатерине. Ее главный талант заключался в удивительной способности находить практические решение самых запутанных политических и жизненных ситуаций. Этот талант — талант здравого смысла и сделал ее великой.
Нужно ли после этого говорить, почему мысли Дидро так волновали русскую императрицу?
«По прочтении «Писем о слепых» зрение мое укрепилось», — писала Екатерина Фальконе в феврале 1768 года.
11
О чем же беседовали между собой императрица и философ? К счастью, сюжеты их шестидесяти бесед известны с большой степенью достоверности. В конце прошлого века французский исследователь творчества Дидро Морис Турне получил возможность поработать в частной библиотеке Александра III. Ее хранитель, которого по странному совпадению звали Александр Гримм, показал ему небольшую, in quarto[32], тетрадь, переплетенную в красный сафьян с золотым двуглавым орлом на обложке, золотым обрезом и синей сатиновой подкладкой. На первой страничке значилось: «Mélanges philosophiques, historiques etc. Anno 1773, depuis le 5 Octobre jusqu’au 3 Decembre, même annéе[33].
К внутренней стороне переплета приклеен экслибрис с надписью «Из библиотеки Авраама Норова». Пониже рукою Норова, бывшего министра народного просвещения, историка, путешественника, героя Отечественной войны 1812 года, написано по-французски: «Эта книжка, сплошь писанная рукой Дидро, содержит в себе все мемуары, представленные им Е.В. Императрице Екатерине II, во время пребывания его в Петербурге»[34].
Тетрадь представляет собой конволют записок, в которых Дидро развивал мысли, обсуждавшиеся им с императрицей. Судя по тому, что императрица не упоминает о них даже в переписке с Гриммом, они предназначались только для нее.
Приходилось и нам держать в руках эту тетрадь красного сафьяна, более того, читать внимательно feuillets[35], исписанные мелким разборчивым почерком великого энтузиаста добра. И чудилось нам, когда вынимали мы ее бережно из кожаного ковчега того же цвета, что и переплет, что нисходит с этих тронутых временем гладких листов некая благодать — будто прикасаешься к вечности.
Происходило это ранней весной предъюбилейного года с тремя нулями в заваленном архивными делами (не дай Бог обмолвиться и написать — папками. Для архивиста это все равно, что для моряка камбуз корабельный назвать кухней) кабинетике Игоря Сергеевича Тихонова, в чьем ведении находится знаменитая рукописная коллекция библиотеки Зимнего дворца, а в ней — сохраненная промыслом неисповедимым тетрадь собственноручных записок Дидро[36]. Игорь Сергеевич то писал что-то насупившись (размышляя, надо думать, о Багратионе), то чаек налаживал с архивными сухариками, не забывая каждый раз поворотом рубильника обесточивать помещение, — и тогда в нашей комнатке гас свет и веяло в наползавших ранних сумерках из полуоткрытой форточки то ли гарью автомобильной с Пироговки, то ли дымком весенних костров с Новодевичьего.
Так вот, листал я с благоговением свою тетрадку под благожелательным, но зорким взглядом Игоря Сергеевича (и, надо сказать, разный народец посещал временами его кабинетик — тут и пастор из Дании, составляющий жизнеописание принцессы Дагмары — императрицы Марии Федоровны, и гостьи заезжие из царскосельских музеев, и архивные дамы возрастов и темпераментов самых разнообразных) — листал и думалось мне, как же хорошо, что не добрался до нее почтенный Владимир Александрович Бильбасов, автор монографии о приезде Дидро в Петербург — а то и писать, глядишь, было бы не о чем.
Каюсь, думал я об этом не без некоторого свойственного мне ехидства, вспоминая попутно, что упустил, а то и перепутал маститый историк. Впрочем, сейчас, когда тетрадка Дидро изучена вдоль и поперек и русскими, и французскими литературоведами, вольно нам рассуждать об ошибках Бильбасова.
И все же, все же… Скажем, опережая, по своему обыкновению, события, что последовательность записок Дидро, в которой они сшиты в конволюте, помогает уточнить не только тематику, но и внутреннюю логику бесед философа с императрицей.
Вот один из примеров. Всего в оглавлении записок Дидро числятся 63 темы. Пагинация двойная — по листам (169) и страницам (соответственно 398). Листок, озаглавленный самим Дидро как последний, — начинается на стр. 175 (339), до него — «предпоследний», единственный, кстати, писаный не черными, а красноватыми чернилами. Затем — после feuillet о немецких колониях в Саратове (стр. 176–341) — еще четыре записи, заканчивающиеся многозначительно: «Au premier papier politique qui lui tombera entre les mains, elle le jettera loin d’elle»[37]. Смысл этих слов мы поймем, когда, придет время говорить подробнее о неудачных дипломатических экзерсисах великого философа в Петербурге.
Из содержимого тетради в сафьяновом переплете видно, что сюжеты бесед Дидро с императрицей были чрезвычайно разнообразны. Они касались новостей литературной и художественной жизни Парижа, состояния земледелия и скотоводства в России, тянувшейся вот уже четвертый год войны России с Турцией, польских дел. Екатерина и Дидро говорили о петербургских художниках и скульпторах, герцоге д’Эгильоне, руководителе французской внешней политики, репертуаре парижских театров, конной статуе Петра Великого — и многом другом. В своих записках Дидро рассуждает о роскоши, терпимости, браке, дает вдруг чисто технические советы относительно устройства кузниц и выплавки железа. Иногда он предается воспоминаниям о том, с какими опасностями было сопряжено издание Энциклопедии, а потом вдруг, видимо, отвечая на вопрос Екатерины, подробнейшим образом описывает ей, что нужно делать, чтобы развить в себе гениальность. Он то говорит об отвращении к Академии, то предается апологии деспотизма, всегда, впрочем, оставаясь верным себе и выражая свои мысли совершенно свободно.
«Я философ, — говорит Дидро в конце своей рукописи, — такой же, как и другие, то есть ребенок, болтающий о важных вопросах. В этом наше извинение. Все мы хотим добра и поэтому говорим иногда весьма зло. И добавляет: «Тиран при этом хмурит брови, а Генрих IV и Ваше Величество улыбаются».
Действо второе
То чтитель промысла, то скептик, то безбожник,
Садился Дидерот на шаткий свой треножник;
Бросал парик, глаза в восторге закрывал
И проповедовал. И скромно ты внимал
За чашей медленно афею иль деисту,
Как любопытный скиф афинскому софисту.
А. С. Пушкин. «К вельможе» (князю Н. Б. Юсупову)1
С первой же встречи Дидро, один из самых блестящих говорунов того времени, увлек Екатерину своим необыкновенным красноречием. Мармонтель был прав, когда говорил, что тот, кто знал Дидро только по книгам, не знал его совсем. Речь Дидро искрилась фейерверком парадоксов. Бесконечное разнообразие идей, поразительные знания в самых различных областях — от математики до элоквенции — оживляли очаровательный сумбур мыслей и образов, излагавшихся им со сверкающими глазами и естественным благородством. Лоб крупной лепки, достоинство и энергия речи придавали Дидро сходство с Аристотелем или Платоном.
Впрочем, когда Дидро слишком увлекался, Екатерина останавливала его, поднимая голову от рукоделия.
— Я слишком долго ждала вас, господин Дидро, чтобы тратить время на комплименты. Есть слишком много вещей, о которых я хотела бы знать ваше мнение и надеюсь, что ответы ваши будут так же прямы и искренни, как те статьи в Энциклопедии, которые я так люблю.
В послеобеденные часы, когда обычно проходили ее беседы с философами, на императрице было ее излюбленное «молдаванское» платье из серого шелка без единой драгоценности, которые указывали бы на ее высокий сан. Свободный покрой и широкие двойные рукава скрывали намечавшуюся полноту.
Карие, с голубоватым отливом глаза Екатерины выражали вежливую благожелательность. Густые каштановые с отливом волосы, зачесанные наверх ее куафером Козловым, венчал небольшой креповый чепец, открывая высокий лоб. Небольшая голова, хорошо поставленная на высокой шее, темные брови, греческий нос с чуть заметной горбинкой, пухлые чувственные губы, в приподнятых уголках которых таилась полуулыбка, придавали облику Екатерины необыкновенное обаяние, соединенное с величавой гордостью, выработанной привычкой постоянно бывать на людях. Строгую гармонию лица императрицы несколько портил лишь тяжеловатый, слегка выступавший вперед подбородок.
— Могу уверить Вас, — отвечал Дидро, — что ложь не войдет в кабинет Вашего императорского величества, когда там бывает философ.
Обещание свое Дидро сдержал. Тетрадь в малиновом переплете, сохраненная Авраамом Норовым, доказывает, что он говорил с императрицей с тяжелой, порой неуместной прямотой древнего стоика. Впрочем, в выборе сюжетов философ (помня, надо полагать, о петербургских злоключениях своего друга де ля Ривьера) на первых порах проявил похвальное благоразумие. Записи Дидро начинаются с изложения его взглядов на проблемы законодательства.
Как и полагается философу, начал он ab ovo[38] — со времен древней Галлии и Рима. Подробно остановившись на саллическом праве, сложившемся во времена Хлодвига, он похвалил Карла Великого, обновившего саллический закон и спасшего его от забвения.
«Шарлемань[39] был великим человеком! — восклицал Дидро, постепенно увлекаясь. — Он собрал декреты тех, кто правил Францией до него и добавил к ним свои капитуляции. А что такое эти капитуляции? Это квинтэссенция воли народа, нужды которого он пожелал узнать».
Надо полагать, что при этих словах в выражении лица Екатерины, погруженной в рукоделие, промелькнуло нечто такое, что побудило Дидро сделать маленький реверанс.
— Если Ваше величество мало ценит Карла Французского или Альфреда Английского, то это потому, что великая монархиня имеет особое право проявлять разборчивость во взглядах на других великих монархов.
Екатерина действительно была небольшой поклонницей Каролингов.
— Проблема, однако, заключается в том, — продолжал Дидро, — что законы, кодифицированные Карлом Великим, уже во втором поколении вновь потеряли свою силу. В течение веков недостаток позабытых законов восполняли обычаи. Затем появилось римское право, но оно не смогло смягчить жестокость феодального строя. И для монархов, и для народа римское право осталось книгой за семью печатями. Если феодальные государи и читали что-либо, то, пожалуй, лишь раз в 400 или 500 лет. Принципы римского права были доступны только юристам, но юристы не представляют нации.
Покончив с Каролингами, Дидро перешел к Капетингам, не забыв Людовика Толстого и Людовика Святого, Филиппа-Августа и Людовика XI.
— Во времена Капетингов, — говорил он, — во Франции сложилась новая юрисдикция, чисто фискальная по своему происхождению. Этим был окончательно ниспровергнут порядок, заведенный Карлом Великим, от которого сохранились только пэры Франции. Создали один суд, потом завели другой, не уничтожив первого, и не заметили, что это неминуемо повлекло за собой столкновение тысячи различных юридических инстанций.
Произнеся это, Дидро взялся было за парик, явно намереваясь сдернуть его, но вовремя одумался и сделал вид, что поправляет букли.
— Когда в стране слишком много судов, слишком много парламентов, слишком много законов, которые к тому же не согласуются друг с другом — в ней начинается анархия! — воскликнул он. — Реформы Мопу, пытающегося возродить Генеральные штаты, обречены на неудачу, поскольку они запоздали. Франция стоит на краю пропасти, и никакой, даже самый гениальный администратор не сможет остановить разрушение французской государственности — этой кучи песка, собранной случайными обстоятельствами. Я нарисовал перед Вашим величеством картину величественную, но пагубную. Пусть, однако, Ваше сердце будет тронуто, но не обескуражено. Понадобились века для того, чтобы подготовить наше падение, но это падение могло бы быть замедлено мудрыми законами и учреждениями, если бы они у нас были.
— В чем же существо этих учреждений?
— Главное заключается в том, что сама нация должна быть вековечной хранительницей законов. Поэтому законы должны быть просты, а свод их — доступен каждому с раннего детства.
— Где же существуют такие законы?
— В Англии, Ваше величество, в Англии, — с жаром отвечал Дидро.
— Вы были в Англии?
— Сам я не был, но слышал об английских законах от Гольбаха и Гельвеция, которые долго жили в Лондоне.
Дидро, казалось, не чувствовал двусмысленности ситуации.
— Я выучил английский язык только для того, чтобы читать в подлиннике Локка и Гибона. Мне кажется, что Англия и, возможно, Голландия — наиболее разумно устроенные государства в Европе.
Чувствуя интерес Екатерины, Дидро продолжал:
— Чтобы обеспечить устойчивость и процветание государства монарху в высшей степени важно уступить обществу часть своей власти, однако только такую часть, которую он никогда не потребует назад. Нужно также ясно обозначить границы уступаемого. В Англии это не только сделано, но и стало одним из основных законов государства. Именно поэтому государство процветает, а народ считает себя свободным.
Помедлив, Дидро произнес задумчиво:
— Вообще же говоря, нарушение соглашения между монархом и народом — всегда первый шаг к деспотизму. Уничтожение же его — последний и роковой шаг, за которым неминуемо следует распад нации, особенно, если изменение порядка происходит без кровопролития. Это значит, что в стране не осталось нервов — все расшатано, все уничтожено. Впрочем, Ваше величество понимает, что сейчас я говорю уже о моей несчастной родине, а не об Англии, которой такая судьба не грозит.
Тон, которым произносились эти слова, был столь трагичен, что Том Андерсон, глава знаменитой династии левреток, любимец императрицы, обычно спокойно возлежавший на канапе рядом с Екатериной, поднял голову и внимательно посмотрел на сидевшего перед его хозяйкой странного человека.
— Как счастлив народ, который не успел еще устроиться! — продолжал между тем Дидро. — Дурные, а главное старые учреждения — непреодолимое препятствие для появления новых и хороших.
По мере того как пафос Дидро нарастал, выражение выпуклых влажных глаз Тома Андерсона становилось все более тревожным.
— В высшей степени гуманно, смело и величественно со стороны монарха самому воздвигнуть плотину против автократизма. Поручив Вашим подданным составление нового Уложения вы, Ваше величество положили в его основание первый камень. Превратите созванную вами комиссию депутатов в постоянное учреждение и, главное, оставьте за провинциями право назначать и смещать своих представителей. Этим вы устроите дела в вашем государстве на гранитном основании, а не на куче песка. Ваши дела не умрут, если будут закончены, а вы их закончите. Вся Европа с нетерпением ожидает результатов ваших начинаний.
В этот момент вдохновенная речь Дидро была прервана Томом Андерсеном, который вдруг глухо зарычал, показав мелкие острые зубы. Екатерина рассмеялась и потрепала пса по загривку.
— Не обижайтесь, господин Дидро, сказала она, — у господина Тома, — она называла собаку на французский манер, — не философский характер. Он в отличие от меня не любит энтузиастов. — И помедлив, добавила: — Что касается меня, то я с удовольствием выслушала вашу лекцию, господин философ.
— Это вовсе не лекция, — отвечал Дидро, несколько смешавшись. — Я излагаю не правила, а факты.
— Но, помнится, кто-то из ваших друзей сказал, что знание правил освобождает от необходимости знать факты.
Как показали дальнейшие события, Дидро не оценил серьезность этого первого дружеского предупреждения.
2
В одно из первых свиданий с Дидро Екатерина завела речь о деле, беспокоившем ее куда больше саллических законов. Причиной этого беспокойства был, как ни странно, сам Дидро, сообщивший императрице в начале 1768 года (через своего друга Фальконе), что в литературных кругах Парижа получила широкое хождение рукопись бывшего секретаря французского посольства в Петербурге Клода де Рюльера, названная им «История и анекдоты о революции 1762 года в России».
Дидро, получивший записи Рюльера из рук самого автора, посоветовал уничтожить рукопись.
— Опасно говорить о государях, к тому же невозможно говорить всю правду, — пояснил он. — В отношении же государыни, составляющей удивление Европы и радость собственной нации, необходимы особая осторожность, уважение и осмотрительность.
Рюльер недоумевал:
— Что могло вам не понравиться в моих записках? Там приведены только факты, которые я имел возможность наблюдать своими глазами.
— Вы же не будете спорить, — отвечал Дидро, — что взгляд иностранца на события в чужой стране может сильно отличаться от того, как их понимают в России. К тому же ваши более, чем прозрачные намеки на истинную причину смерти несчастного Петра III, детали частной жизни императрицы, хотя и относящиеся ко времени, когда она еще была великой княгиней, к примеру, ее связь с Понятовским, нынешним королем польским…
— Но правда не может быть обидна государыне столь просвещенной, — отвечал Рюльер. — Своими записками я лишь хотел удовлетворить любопытство нескольких друзей, прежде всего, графини Эгмонт, не раз просившей меня об этом. Поверьте, я и не помышлял, что на них можно смотреть как на политический памфлет.
На эти слова Дидро лишь пожал плечами. В письме Фальконе он, однако сообщил, что Рюльер хотел бы быть назначенным на место Россиньоля, бывшего в то время французским поверенным в делах в России.
Принять Рюльера Екатерина категорически отказалась. Тем не менее, российскому поверенному в Париже Хотинскому было направлено указание попытаться приобрести рукопись Рюльера и тем предотвратить ее публикацию.
Первой же встречей с Рюльером Хотинский доказал справедливость того, что прямолинейность в дипломатии хуже глупости. Будучи едва знаком с Рюльером, он не нашел ничего лучшего, как предложить ему тридцать тысяч рублей за опасную рукопись. Тот оскорбился и принял меры предосторожности. С рукописи были сняты три копии, одну из которых передали на хранение в канцелярию министерства иностранных дел, другую — супруге маршала де Граммон, третью — архиепископу Парижскому.
Екатерине не оставалось ничего иного, как прямо обратиться к Дидро. Тот, сопровождая Хотинского на вторую его встречу Рюльером, постарался исправить дурное впечатление от первого визита, обратив все в шутку. Это ему вполне удалось. Рюльер поручился честным словом, что рукопись не появится в печати при жизни Екатерины. Забегая вперед, скажем, что французский дипломат сдержал свое слово.
Впрочем, в 1773 году еще невозможно было предугадать, как развернутся события далее.
Стоит ли удивляться, что при первой возможности Екатерина попросила Дидро откровенно высказать свое мнение о рукописи Рюльера?
— Это прекрасно написанное произведение, — сказал Дидро. — Автор перемешал побасенки с истиной, но то и другое так ловко переплетено и согласовано, что составляет нечто совершенно цельное. Если это и не историческое сочинение, то весьма правдоподобный и очень хороший роман. Впрочем, лет через двести на него могут посмотреть как на занимательную страничку истории.
— Можно ли верить дипломатам? — не без раздражения воскликнула Екатерина. — Я каждый день вижу, как они, скорее, готовы солгать, чем признаться в своем неведении тем, кто им платит. Рюльер не мог знать всех подробностей дела. Предстояло или погибнуть вместе с полоумным, или спасти себя вместе с народом, стремившимся избавиться от него.
Дидро помедлил, почувствовав по тону, которым были произнесены эти слова, что в них заключается нечто чрезвычайно важное. Об июньском перевороте 1762 года и много говорилось, и писалось еще при жизни Екатерины. Но если одни, в том числе и сама императрица, объясняли смену власти недовольством народа прежним правлением и удачным стечением обстоятельств, то французский дипломат в своих записках с убийственно достоверными деталями доказывал, что руководителем переворота, державшим в своих руках все нити заговора, свергнувшего с престола ее мужа, была сама Екатерина.
О том, что Дидро понимал подоплеку обостренного интереса императрицы к сочинению отставного дипломата, свидетельствует его ответ:
— Что касается вас, то если вы обращаете большое внимание на приличие и целомудрие — эти поношенные отрепья вашего пола, — то это произведение есть сатира на вас. Но если вас интересуют более великие цели, мужественные и патриотические, то автор изображает вас великой государыней. Вообще же этим произведением автор делает вам более чести, чем зла.
— Вы еще более возбуждаете во мне желание прочесть это произведение, — сказала Екатерина.
Дидро поразмыслил — и известил французского посла в Петербурге Дюрана де Дистроффа о желании Екатерины познакомиться с сочинением Рюльера. Шаг, прямо скажем, рискованный. Но, с другой стороны, мог ли знать Дидро, что в голове французского дипломата уже бродили идеи, по использованию ежедневных встреч философа с императрицей для укрепления незначительного в то время французского влияния в Петербурге? Дюран немедленно отправил срочную депешу руководителю французской внешней политики герцогу д’ Эгильону.
Спустя месяц д’Эгильон отвечал Дюрану:
«Милостивый государь, «История революции в России» составляет собственность ее автора и король не имеет никакого права на это произведение. Как мне говорили, многие уже торговались с ее автором, желая по поручению императрицы купить его произведение. Я полагаю, что это единственное средство, каким императрица может добыть эту книгу. Употребите все ваше старание, чтобы избежать любой попытки впутать в это дело короля».
Впрочем, дальнейших попыток завладеть рукописью Рюльера Екатерина не предпринимала. Говорят, она умерла, так и не прочитав ее.
Зато ее прочитал, и с большим интересом, наследник французского престола, будущий король Людовик XVI. На полях рукописи он оставил свои заметки, вполне убедительно доказывающие, что изучение чужой истории — хороший повод поразмыслить о собственных проблемах.
«Несомненно, что великие преступления были совершены в этом веке при русском дворе, — писал будущий король. — Допустим, кто-то хочет описать их. Превосходно. Но этому описанию пытаются придать интерес, обвиняя во всех преступлениях лишь коронованных особ, тогда как революция, о которой говорится, представляет собой цепь обстоятельств и событий, связанных, скорее, неумолимой внутренней логикой, чем волей и предвидением суверена.
Петр III совершил ошибку, предоставив свою супругу самой себе, он недостаточно внимательно следил за партией честолюбцев, которая сформировалась вокруг нее. Императрица также была не права, проявляя слишком мало сочувствия по отношению к своему супругу. Оба они в ситуации, когда один имел основания упрекать другого, действовали по воле своих фаворитов и придворных. В результате супруг оказался в самом крайнем положении, как и Екатерина, которая не могла уже избежать опасностей, которым подвергалась. Тот и другой стали жертвами ужасных событий. Но катастрофа, в которую они были ввергнуты, является делом рук фаворитов и придворных, которых следует признать основными творцами совершенных преступлений».
И последнее. Чтобы поставить точку в этом эпизоде нашей правдивой истории, напомним, что осенью 1772 года, в день «прусского совершеннолетия» Павла Петровича, Екатерина начала первый вариант своих знаменитых воспоминаний. Всего таких вариантов будет семь, и все они будут иметь единственную цель — оправдать в глазах сына и потомков легитимность своего царствования.
3
Покончив с вопросами законодательства, Дидро перешел к изложению своих взглядов на экономические проблемы России. Прикрепление крестьян к земле — нерационально, потому что убыточно; благосостояние нации может основываться только на свободном труде — для Дидро и его друзей это была аксиома.
Еще в 1770 году, беседуя с княгиней Екатериной Дашковой, посетившей его в Париже, Дидро горячо проповедовал необходимость освобождения русских крестьян. В отличие от Вольтера и Руссо, взгляды которых на крестьянский вопрос, вернее, на способы его разрешения, были более умеренными, Дидро считал отмену крепостного права sine qua non[40] любой реформы в России. Однако слова Дашковой, которую он справедливо почитал как одну из самых выдающихся женщин Европы, озадачили и его.
— Богатство наших крестьян составляет наше благополучие и увеличивает доход, — лаконично и оттого еще более весомо произнесла Екатерина Романовна, говоря как бы от имени всех российских помещиков. — Только сумасшедший может желать, чтобы иссяк источник нашего собственного обогащения.
Дидро, вряд ли догадывающийся о том, что крестьяне в имении Дашковой были обложены огромным оброком — Екатерина Романовна была скуповата — на мгновенье опешил. Между тем княгиня продолжала:
— Если монарх, разрывая некоторые звенья в цепи, которая связывает крестьян с благородным сословием, разорвал бы и те из них, которые привязывают дворян к воле их самовластных суверенов, я подписала бы такой документ кровью моего сердца, а не чернилами.
Мы не знаем, как реагировал Дидро на этот, мягко говоря, не вполне корректный аргумент своей собеседницы, хотя двусмысленность ответа Дашковой должна была быть ему ясна. Не мог же он не слышать, что еще по указу Петра III от 18 февраля 1761 г. дворянство российское было освобождено от обязательной государственной службы.
Достоверно известно, что он весьма высоко ценил будущего президента двух российских академий, пытался даже примирить ее с императрицей. По совету Дидро, Дашкова, которую встречали в Париже с затаенной надеждой разузнать интриговавшие Европу подробности переворота 1762 года, уклонилась от визитов не только Рюльера, которого знала по Петербургу, но и знаменитой мадам Жоффрен, сгоравшей от любопытства познакомиться с опальной героиней заговора, стоившего престола, а позднее и жизни Петру III.
Важно и другое. Еще до приезда в Петербург Дидро лично и обстоятельно беседовал с Дашковой о России.
«Метко и справедливо раскрывает она пороки новых учреждений, — вспоминал он впоследствии». Легко представить, как отозвалась обиженная Дашкова о порядках на родине.
Помимо Дашковой еще в Париже Дидро беседовал с Иваном Ивановичем Шуваловым и Дмитрием Алексеевичем Голицыным. Долгие разговоры с Семеном Кирилловичем Нарышкиным по пути из Гааги в Петербург тоже, надо думать, обогатили представления Дидро и о непростых реалиях русской жизни, и о состоянии умов образованных людей, в коих идеи свободолюбивого осьмнадцатого века находили отклик пылкий, но несколько отвлеченный. Во всяком случае, как ясно дала понять Дидро Екатерина Романовна, на их собственных крестьян эти идеи не распространялись.
Зная это, нетрудно понять, почему в беседах с российской императрицей Дидро больше спрашивал, чем наставлял.
— Каковы условия между господином и рабом относительно возделывания земли?
— Существует закон Петра Великого, — отвечала Екатерина, — воспрещающий называть рабами крепостных людей дворянства. В древнее время все обитатели России были свободны. По своему происхождению они состояли из двух родов: происходившие из пастушеских племен и от взятые в плен во время войны этими племенами. По смерти царя Иоанна Васильевича сын его, Федор Иоаннович, особым распоряжением привязал или прикрепил всякого крестьянина к той земле, которую он возделывал и которой владел другой. Не существует никаких условий между земледельцами и подчиненными им людьми; но всякий помещик, имеющий здравый смысл, не требует слишком много, бережет корову, чтобы доить ее по своему желанию, не изнуряя ее. Когда что-либо не предусмотрено законом, тотчас же его заменяет закон естественный, и часто от этого дела идут не хуже, потому что они, по крайней мере, устраиваются совершенно естественно, сообразно существу дела.
Будь на месте Дидро человек практического склада ума, скажем, Гримм, после такого ответа он тут же и понял бы бесполезность дальнейшего обсуждения крестьянского вопроса в России. Дидро, однако, продолжал с обезоруживающей наивностью человека ученого:
— Не влияет ли рабство земледельцев на культуру земли? Отсутствие собственности у крестьян не ведет ли к дурным последствиям?
Екатерина отвечала с ясной улыбкой:
— Не знаю, есть ли другая страна, где земледелец любил бы более свою землю, свой домашний очаг, чем в России. Наши свободные провинции вовсе не имеют более хлеба, чем провинции несвободные. Каждое состояние имеет свои недостатки, свои пороки и свои неудобства.
Недоумение, отразившееся на лице Дидро, надо думать, порадовало и императрицу, и Тома Андерсона. Мягко улыбнувшись, Екатерина коснулась рукава философа:
— Вас губит логика, господин Дидро. Между тем отвлеченная логика ни в России, да, я думаю, и ни в каком другом государстве не работает. Все решает знание не правил, а обстоятельств.
— Но без перемены в положении крестьян никакие другие реформы невозможны, — пытался возразить Дидро. — Одно вытекает из другого…
— Россия, — перебила его императрица, — страна, в которой далеко не всегда одно вытекает из другого.
4
Когда дверь за Дидро закрылась и Том Андерсон, придирчиво обнюхав освободившееся кресло, вернулся на канапе, Екатерина отложила рукоделие.
— Экий странный человек, право, — произнесла она задумчиво, как бы про себя, — рассуждает то как столетний мудрец, то как десятилетний ребенок.
Услышав голос хозяйки, пес успокоился, лег вытянувшись во всю длину, и замер, положив морду на передние лапы. Влажный взгляд его полуприкрытых веками выпуклых глаз был устремлен на кресло, с которого только что поднялся Дидро.
Тома Андерсона подарил Екатерине шотландский доктор Димсдэйл, прививший ей оспу в 1768 году. Императрица шагу не ступала без своей любимой левретки, она сопровождала ее и на прогулках, и на заседаниях Государственного совета.
С осени прошлого года, когда закрутилась вся эта канитель с условиями отставки Григория Орлова, Екатерина начала разговаривать с псом. Том оказался благодарным слушателем. Он не льстил и не спорил. После общения с ним на душе у императрицы становилось спокойнее.
Потребность в собеседнике была одной из главных причин, объяснявших настойчивость, с которой Екатерина приглашала Дидро в Россию.
Тем большим было ее разочарование.
Не в Дидро, разумеется. В тонком искусстве интеллектуальной беседы ему не было равных, темперамент и увлеченность его импонировали императрице.
Неожиданным оказалось другое: у Дидро не было ответов на заботившие ее вопросы. Все, что он говорил, было умно и правильно.
Но все это она уже знала.
«Противно христианской вере и справедливости делать невольниками людей (они все рождаются свободными), — писала она в 1765 году, делая наброски первых глав Наказа. — Один собор освободил всех крестьян (прежних крепостных) в Германии, Франции, Испании и пр. Осуществлением такой меры нельзя будет, конечно, заслужить любовь землевладельцев, исполненных упрямства и предрассудков. Но вот удобный способ: постановить, что отныне при продаже имения с той минуты, когда новый владелец приобретает его, все крепостные этого имения объявляются свободными. Таким образом, в сто лет все или, по крайней мере, большая часть имений переменит господ и вот народ освобожден».
И в другом месте:
«Если крепостного нельзя признать персоной, следовательно он не человек; тогда извольте признать его скотом, что к немалой славе и человеколюбию нам послужит».
Екатерина встала с канапе и подошла к письменному столу. Взгляд ее упал на томик «Наказа комиссии по составлению проекта нового Уложения», изданный Академией наук в 1779 году. Она открыла переплетенную в малиновый бархат книгу. На каждом листе в четыре столбца был напечатан текст на русском, немецком, французском и латыни.
Невольно вспомнились полтора года каторжного труда. Сколько часов провела она за письменным столом? Счастливое время — она была в гармонии с миром и собой. Чем выше становилась стопка листов, исписанных крупным спотыкающимся почерком, тем меньше оставалось закладок в «Духе законов» Монтескье и знаменитом труде аббата Беккария «О преступлениях и наказаниях». Из 526 параграфов, вошедших в окончательный текст Наказа, около половины было заимствовано у Монтескье, чуть меньше у Беккария. Многое, впрочем, бралось и из статей Энциклопедии.
Откуда взялась эта страсть к законотворчеству, охватившая ее на третьем году правления?
Конечно, перед глазами был пример Фридриха II, собственноручно написавшего прусский свод законов. Но Россия — не Пруссия. Фридрих лишь оформил, регламентировал порядок, складывавшийся в его владениях веками. В основе его — уважение к законам и собственности, врожденная дисциплина, без которых в Бранденбурге немыслимо не только благоденствие, но и само выживание нации.
В России же, огромной медвежьей шкурой накрывшей треть карты мира, от Тихого океана до Балтики, законы писать мудрено. Сам Петр Великий не раз пытался привести Соборное Уложение Алексея Михайловича в соответствие со шведским законодательным кодексом — не получилось. Да и какие законы, если гонец с царским указом из Петербурга на Камчатку два с половиной месяца скачет, а обратно и того дольше. Если, конечно, повезет.
На дворе, однако, стоял восемнадцатый задорный век. Молодым энтузиастам показалось, что еще чуть-чуть — и разум победит человеческую природу, в мире наконец-то все устроится рационально, к всеобщему удовольствию и гармонии.
Екатерина была натурой сложной, в которой неизменная прагматичность в делах государственных сочеталась с высоким энтузиазмом. Иллюзии эпохи вдохновляли ее, питали страсть к действию. Знаменитый аббат Фенелон, автор запрещенной и оттого еще более читаемой книги «Приключения Телемаха», разбудил воображение, сравнив придуманное им идеальное общество с розой без шипов — образ из Мильтоновского «Потерянного рая». Монтескье открыл механизм разделения властей, в котором видел основу социальной стабильности. Вольтер — кумир Европы, подтвердил ее собственную веру в то, что историю делают великие личности, умеющие обратить к своей пользе благоприятные и неблагоприятные обстоятельства, в которых им приходится действовать.
Так начался путь Екатерины к Наказу. Итогом его стала книга, потрясшая Европу. Первые две тысячи экземпляров, переведенные на французский язык конфисковали по приказу Людовика XV. При его жизни во Францию не было разрешено ввозить ни одно из 24-х изданий Наказа на иностранных языках.
Впрочем, осуждать короля Франции за это не стоит — собственного мнения о труде российской императрицы он не имел и иметь не мог, поскольку, как единодушно подтверждают современники, ни Наказа, ни Энциклопедии не читал. Если бы случилось невероятное и Людовик нашел время познакомиться с сочинением, объявленным им крамольным, то он понял бы, что написано оно аристократкой, более того, аристократкой, из принципа не только не ставившей под сомнение благотворность абсолютной монархии как наилучшей формы правления, но и отвергавшей любую возможность ее ограничения.
Идеал государства — как он изложен в Наказе — «роза без шипов» или самодержавие, ограниченное здравым смыслом. Главная функция монархической власти — гарантия порядка в государстве и благоденствия подданных путем строгого соблюдения законов. Дворянство — главная опора просвещенного монарха и законности.
Нетрудно убедиться в том, что идеи эти весьма далеки от конституционных убеждений Монтескье, если не противоположны им. И, тем не менее, «Дух законов», ставший основным источником Наказа, Екатерина называла своим молитвенником. Что это — лицемерие или, выражаясь современным языком, популизм? Скорее всего, ни то ни другое. Мышлению Екатерины была свойственна некая естественная парадоксальность. Убежденная в своем высоком назначении, она легко заимствовала из произведений философов то, что соответствовало ее взглядам, отсекая ненужное без малейших нравственных колебаний. «Обобрав президента Монтескье на пользу России», как она выражалась, Екатерина просто проигнорировала его весьма скептическое отношение к России, которую он считал обреченной на тираническую форму правления из-за гигантских размеров территории и азиатско-византийского наследия в политике.
Императрица перелистнула страницу лежавшей перед ней книги. Параграф шестой Наказа гласил: «Россия есть европейская держава».
В том, что будущее России зависело от того, насколько быстро и разумно будет перенят европейский опыт, Екатерина, привыкшая смотреть на себя как на продолжательницу дела Петра Великого, считала само собой разумеющимся.
Не все, однако, обстояло так просто. Любимый ею Монтескье был не одинок в своем пессимизме относительно судьбы российской государственности. Не любимый императрицей Руссо в своем «Общественном договоре» высказывался на этот счет еще более определенно:
«Les Russes ne seront jamais vraiement policés, — мрачно пророчествовал он, — parce qu’ils l’ont été trop tôt. Pierre avait le genie imitatif, il n’avait pas le vrai genie, celui qui cree et fait tout de rien… Il a d’abord voulu faire des Allemands, des Anglais, quand il fallait faire des Russes, il a empeche ses sujets de jamais devenir ce qu’ils pourraient être…»[41]
И завершал совсем уж зловеще:
«L’Empire des Russes voudra subjuger l’Europe et sera subjuguée elle-même. Les Tartars, ses sujets et ses voisins, deviendront ses maitres et ees nôtres; cette revolution me parait infaillible».[42]
Вольтер высмеял эти мрачные пророчества в своем «Философском словаре». Аргументы его, однако, звучат своеобразно. Залог великого будущего России он видел, главным образом, в ее территориальной экспансии на Восток и на Запад. Даже начатая Петром милитаризация страны казалась ему процессом благотворным, поскольку давала, по его мнению, дополнительный рычаг воздействия на косных помещиков, препятствовавших освобождению крестьян. Ну что же, энтузиасты, а Вольтер, как и Дидро, были из их числа, — плохие пророки.
Энтузиазм Екатерины совсем другого рода. Его питали масштабы России и ее государственная ответственность. Императрице казалось, что огромная, богатая природными ресурсами и людьми страна просто не может не иметь великого будущего. К прошлому России и ее завтрашнему дню она не могла относиться равнодушно. В таком приподнятом состоянии духа трудно, однако, различить детали. К тому же Екатерине, по ее собственному признанию, всегда был чужд педантизм. Отсюда — упрощенная ею схема русской истории, в которой все темное исчезло бесследно, и остались только светлые стороны.
В знаменитом «Антидоте», появившемся в начале 1772 года, она писала, что с 1561 года до смерти Иоанна Грозного в 1596 году «Россия управлялась, имела приблизительно те же нравы, шла тем же путем и находилась почти на одном уровне, как и все государства Европы». Правлением своих князей и царей Россия всегда была довольна, «росла в могуществе и силе, все это время подданные не жаловались на форму правления».
Заявление удивительное, даже если принять во внимание те немногие источники по русской истории, имевшиеся в ее распоряжении, — древнюю российскую «вивлиофику» Николай Иванович Новиков начал печатать только через год, в 1773 году. И все же — ни слова о татаро-монголах, византийских интригах, которыми собирались русские земли вокруг Москвы, и главное, как бы и не было отчаянного замечания автора «Начальной летописи» о том, что «земля наша велика и обильна, наряда в ней лишь нет».
Некоторые «примеры строгости», впрочем, признавались Екатериной в отношении, скажем, правления Ионна Грозного. «Но, — возражала она сама себе, — имеется ли такое государство, в котором не производились бы, по крайней мере, в то же время ужасные истязания?» И сама же отвечала: «Если бы нам не было противно останавливаться далее на таком предмете, мы доказали бы, что как розги и кнут перешли к нам от римлян, то так и все подобные ужасы, к несчастью, заимствованы нами у других народов».
Идеализация патриархальных российских нравов у Екатерины была естественна и потому поэтична. «В семьях царствовало согласие, — писала она, — разводы были почти неизвестны, дети имели большое уважение к своим отцам и матерям, но что лучше всего изображает нравы того времени, это оговорка, которую вставляли во все договоры; вот эта заключительная оговорка от слова до слова: «Если же мне случится отказаться от моего слова или не сдержать его, то да будет мне стыдно».
«Итак, — заключала Екатерина, — стыд был тогда наисильнейшей сдержкой, которую налагали на себя как non plus ultra, полагая, что нет страны, которая могла бы представить в пользу своих нравов свидетельство столь же красноречивое, как эта формула».
Чистота нравов, по мнению Екатерины, пострадала в эпоху смуты, но явился Петр и просветил свой народ. Правда, и после Петра случались нехорошие времена (Анны Иоанновны и Бирона), но, возражала Екатерина, «как бы ни было строго царствование, мы уверены, что правление хваленого кардинала Ришелье вынесет с ним сравнение». Затем — два десятилетия благополучного царствования Елизаветы, которую, к несчастью, сменил Петр III, мало способный к управлению государством и окруживший себя не теми людьми. Однако на престол взошла Екатерина и своим мудрым законодательством снова принесла стране процветание.
Знание Дидро русской истории ограничивалось сочинением французского врача Левека и панегириком Вольтера, пропетым Петру Великому. Однако даже если бы он лучше знал предмет, вряд ли взялся бы спорить на эту тему с императрицей всероссийской.
Дидро был фанатиком идеи просвещенного абсолютизма, и незнание русской истории лишь еще более разжигало его энтузиазм. Он мог и не знать о существовании Соборного уложения Алексея Михайловича — ему это было не нужно. В эпоху, когда разум побеждал веру, старые порядки только мешали. Россия представлялась Дидро благодатным полем для утверждения разума и силы новых законов, основывающихся на естественном праве. В этом смысле Наказ, представлявший собой конспект идей Монтескье и Беккариа, казался ему программой действий, уточнить в которой предстояло лишь некоторые детали, а Екатерина — разумной и активной правительницей, способной осуществить грандиозный эксперимент, о котором мечтали философы.
Различие между Екатериной и Дидро заключалось в малом. Дидро приехал в Петербург, чтобы побудить Екатерину действовать, а она считала, что все необходимое уже сделано. В «Антидоте» она призывала народы мира последовать «нашему примеру, если они разумны, и преобразовать свой уголовный суд на основании главы X Наказа».
Основа внутренней стабильности, по представлениям Екатерины — в соблюдении баланса интересов различных групп общества. Когда этот баланс присутствует, опасно что-либо менять. Иллюзии, что в России все спокойно, императрица сохраняла до осени 1773 года, когда разразилось восстание Пугачева.
Взгляд Екатерины скользнул дальше по страницам Наказа.
«Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная с его особой власть не может действовать сходно с пространством столь великого государства… Всякое другое правление не только было бы для России вредно, но и вконец разорительно… Другая причина та, что лучше повиноваться законам под одним господином, нежели угождать многим».
И вот, наконец, главное — параграф тринадцатый.
«Какой предлог самодержавного правления? Не тот, чтобы у людей отнять естественную вольность, но чтобы действия их направить к получению самого большего от всех добра».
Императрица подняла голову. Вспомнилось, какие ожесточенные споры вызвали эти утверждения, казавшиеся ей самой неоспоримыми в декабре 1767 года, накануне созыва Большой комиссии, когда она решилась, наконец, показать Наказ людям, чье мнение уважала. Отзывы их, однако, оказались весьма различными. Лишь Григорий Орлов, наиболее близкий к ней в то время, одобрил труд Екатерины, прибавив, впрочем, по своему обыкновению, что лучше бы спросить людей более сведущих. Никита Панин, его давний оппонент, назвал Наказ собранием «axiomes á renverser les murailles»[43]. Драматург Сумароков, выражаясь, в отличие от Панина, без обиняков, заявил, что рассыпанные в тексте Наказа призывы освободить крепостных, привели его в ужас. Прикрепление крестьян казалось ему частью извечного порядка, существовавшего на русской земле. Тронь его — и начнется ужасное несогласие между помещиками и крестьянами, междоусобная брань.
Ведь — подумать страшно! — «скудные люди ни кучера, ни повара, ни лакея иметь не будут», а между тем «примечено, что помещики крестьян, а крестьяне помещиков очень любят, а наш низкий народ никаких благородных чувств еще не имеет».
Большинство из тех, кому был показан проект Наказа, рассуждали, как Сумароков. «Я думаю, что не было и двадцати человек, которые по этому предмету мыслили бы гуманно и как люди», — признавала впоследствии Екатерина. В результате едва ли не половину из написанного за полтора года пришлось вымарать.
Впрочем, Екатерина и не рассчитывала, что ее поймут те, кто опасается лишиться и кучера, и повара, и лакея. Глаза на истинное настроение общества во многом открыла ей давняя история с объявлением в 1765 году Вольным экономическим обществом конкурса на тему: «Нужно ли крестьянину для общенародной пользы иметь земельную собственность или только одну движимую?» Конкурс удался, из России и из Европы было прислано 160 сочинений. Лучшим единогласно признали труд профессора Дижонской академии Беарде де л’Аббе.
Ход рассуждений дижонского профессора показался членам Общества, в основном, людям ученым, почитывавшим и гамбургские газеты, и Локка с Монтескье, неоспоримым:
«Люди равны и от природы, и перед Богом, следовательно, государство обязано вернуть крестьянам то, что у них противозаконно отнято, — утверждал он. — Не может быть благополучным общество, пока те, кто создают его богатства, бедны сами. Лучший способ поощрить крестьянина — дать ему свободу и землю, потому что две тысячи подневольных не сделают за год того, что за то же время сотня свободных».
Хвалить дижонского профессора сделалось модным, тем более, что, по его мнению, спешить с осуществлением высказанных им идей не следовало. Надо было твердо обещать российскому народу вольность и землю, а тем временем энергично работать над его образованием, чтобы он стал достоин свободы и мог пользоваться ею на благо общества.
Вот она — «роза без шипов».
Екатерина наугад перелистнула Наказ и с удивлением обнаружила, что томик как бы сам собой открылся на параграфе 260.
«Не должно вдруг и через узаконение общее делать великого числа освобожденных», — прочитала она.
Это все, что осталось от пространной статьи, которую она писала особенно истово, по нескольку раз исправляя написанное.
Впрочем, и этого, наверное, было бы немало, если бы после начала турецкой войны Сенат не приказал держать Наказ «под замком», разослав его только в высшие учреждения, где его читали не без опаски — как читают запрещенную книгу.
«Наказ есть не исторический, а патологический момент в истории нашего законодательства», — язвительно констатировал спустя полтора века В. О. Ключевский.
5
Порой казалось, что сигналы, посылаемые императрицей, производили свое действие. Дидро оставлял на время высокие материи и обращался к вещам практическим.
Устраиваясь за столиком напротив Екатерины, он раскладывал перед собой бумаги с заготовленными вопросами о земледелии в России, количестве зернового хлеба, состоянии виноделия, производстве шерсти и шелка. Екатерина, однако, в отличие от Фридриха II, который, не задумываясь, по памяти мог назвать имя старосты деревушки Шварцвальд в Богемии и количество лошадей в любой из областей Пруссии, затруднялась с ответами на столь конкретные вопросы и предложила представлять их письменно.
Дидро сформулировал 88 вопросов, касающихся населения, землевладения, земледелия, производства и торговли зерновым хлебом, вином и водкой, маслом, коноплей, табаком, лесом, смолой, дегтем, варом, ревенем, рогатым скотом, лошадьми, шерстью, шелком, медом и воском, мехами и кожами.
Императрица обиделась.
Дидро спрашивал, к примеру:
— Какими пошлинами обложено вино, сделанное из русского винограда?
Екатерина отвечала:
— Даже аббат Феррайль затруднился бы обложить пошлинами вещь несуществующую.
Дидро спрашивал:
— Имеются ли в России ветеринарные школы?
— Бог хранит нас от них, — отвечала Екатерина.
Впрочем, на 28 вопросов императрица не смогла ответить. Пожав плечами, она просто сказала: «Je n’en sais rien»[44] и рекомендовала Дидро обратиться за сведениями к графу Миниху, который «по должности этим занимается».
Миних, занимал пост главы таможенного ведомства и по должности, и по складу характера был человеком подозрительным. Он не спешил удовлетворить любознательность Дидро, хотя тот не скрывал, что статистические сведения о российском хозяйстве нужны ему для написания им большой статьи о России в новом издании Энциклопедии. В том, что статья эта так и не была написана, отчасти повинен Миних.
Впрочем, Дидро не оставлял надежды найти тему, обсуждение которой вызовет энтузиазм императрицы.
Выбор его пал на вопрос о народном представительстве, конкретнее — о созванной Екатериной летом 1767 года Комиссии для составления проекта нового Уложения. Идея состояла в том, чтобы придать Комиссии статус постоянного представительного учреждения.
— В противоположность нашему парламенту, послушно регистрирующему волю монарха, необходимо, чтобы у вас монарх утверждал предложения, исходящие от Комиссии, — убеждал Дидро. — Наши парламентарии говорят: «Мы хотим того же, что хочет король», Ваше же величество и Ваши преемники скажут: «Мы соглашаемся на то, чего желает нация, высказываясь устами своих представителей». Это большая разница. — И продолжал с нараставшим воодушевлением, — однако, не менее, а, возможно, неизмеримо более важно то, что благодаря этому в вашей стране постепенно образуются те три сословия, которые Ваше величество желает создать по примеру Европы. Даже если эта постоянная комиссия законодателей будет на первых порах бестолкова и беспокойна, это хорошо повлияет на дух нации. Народ должен быть свободен или хотя бы должен верить, что он свободен; такая вера всегда дает хорошие результаты. Так создайте же, Ваше величество, эту великую действительность или этот великий фантом свободы. Убежден, что именно такой совет дал бы вам Монтескье.
Замечание Екатерины о том, что депутаты сами ходатайствовали о роспуске Большой комиссии, лишь еще больше распалило Дидро.
— Если члены Комиссии оказались недостойны оказанной им чести, то нельзя ли помочь делу, уменьшив число депутатов? Признаюсь, что размышляя об этом, я прихожу к мысли, что избрать достойнейших можно лишь путем равных для всех выборов, а также предоставлением провинциям права отзывать недостойных. Сделайте это — и вы обеспечите будущее России.
6
Вот тогда-то, как мы полагаем, Екатерина и произнесла те знаменитые слова, которые приводит в своих воспоминаниях французский посол в Петербурге Луи Филипп де Сегюр:
— Господин Дидро, я с большим удовольствием слушала все, что внушил вам ваш блестящий ум. Из ваших великих принципов, которые я очень хорошо понимаю, можно составить хорошие книги и лишь дурное управление страной. Во всех своих преобразовательных планах вы забываете различие наших положений. Вы трудитесь только над бумагой, которая все стерпит, она гладка, покорна, не доставляет препятствий ни вашему воображению, ни перу. Между тем как я, бедная императрица, работаю на человеческой шкуре, которая, напротив, раздражительна и щекотлива.
Эти слова (разумеется, если они были произнесены, а не пришли в голову Екатерине задним числом — она беседовала с Сегюром о Дидро через несколько лет после отъезда философа из Петербурга) приобретают особый подтекст, если вспомнить, что ко времени разговора императрицы с французским послом основной политической новостью, обсуждавшейся в Европе и России, был роспуск Людовиком XVI Генеральных штатов.
Внимательно наблюдая за событиями во Франции накануне революции, Екатерина невольно сравнивала действия короля со своими собственными. Непоследовательность французской политики приводила ее в сильнейшее разочарование. Власть остается властью, пока сохраняет способность подчинять обстоятельства своей воле.
Вряд ли кто-то понимал это лучше, чем сама Екатерина, когда 30 июля 1767 года в аудиенц-зале Московского Кремля она принимала депутатов Комиссии по составлению нового Уложения. Она пристально вглядывалась в лица представляемых ей генерал-прокурором Вяземским дворян, купцов, крестьян-однодворцев, инородцев, ставших первыми в России депутатами.
В Грановитой палате были рядами поставлены длинные скамьи, как в английском парламенте. Пятьсот шестьдесят четыре депутата, представлявшие все провинции и сословия России, занимали места не по старобоярскому принципу местничества, а в зависимости от времени приезда в Москву. От крепостных крестьян и духовенства был лишь один представитель Синода.
Чтение Наказа депутаты слушали с увлажненными глазами, некоторые рыдали. В порыве чувств решили было воздвигнуть памятник Екатерине и добавить к ее титулу слов «Великая, Премудрая Матерь Отечества».
Депутатам, поднесшим императрице новый титул, было сказано:
— О званиях, кои вы желаете, чтобы я от вас приняла, ответствую: 1) на Великая — о моих делах оставляю времени и потомкам беспристрастно судить; 2) Премудрая — никак себя таковою назвать не могу, ибо один Бог премудр и 3) Матери Отечества — любить Богом врученных мне подданных я за долг звания моего почитаю; быть любимою от них есть мое желание.
Ответ этот был дословно занесен в дневную книгу заседания комиссии, которую вел отставной гвардии поручик Николай Иванович Новиков. На следующий день запись эту читали публично.
«Иные ее переписывали, а иные переводили на разные языки», — было отмечено в очередной записке.
В целом, однако, первый опыт русского парламентаризма был не лучше и не хуже, чем последующие. Пока речь шла о вещах отвлеченных, в зале царило редкое единодушие.
«Мы — люди и подвластные нам крестьяне суть подобные нам. Разность в случае возвела нас в степень властителей над ними; однако мы не должны забывать, что и они — суть равные нам создания».
Эти речи князя Михаила Щербатова, предводителя родового дворянства встречались неизменным одобрением, хотя многие из депутатов еще помнили времена, когда услышавшему такие слова впору было кричать «Слово и дело!» Теперь же недовольные, а их в Грановитой палате было немало, предпочитали помалкивать. Щербатов говорил, в соответствии с духом Наказа, и тем самым как бы заодно с императрицей.
Просматривая ежедневно протоколы заседаний, Екатерина и сама удивлялась тому, как быстро ее Наказ стал мерилом истины и справедливости.
Представитель козловского дворянства поручик артиллерии Коробьин представил записку о мерах пресечения жестокого обращения помещиков с крестьянами.
«Есть помещики, кои промотав свои пожитки и набрав много долга, продают за него своих людей, отлучая их от земледелия, — говорилось в ней между прочим. — Есть и такие, что проматывая получаемые от крестьян доходы, прихотям своим предела не ставят, разлучают семейства единственно из своей корысти, но, что всего хуже, это то, что являются между ними и такие, кои, увидев своего крестьянина, стяжавшим трудами рук своих малый достаток, лишают вдруг его всех плодов стараний».
Обличения Коробьина, запальчивые, но справедливые, вызвали бурю возмущения, причем не только со стороны дворян, составлявших треть членов Комиссии, но и купцов и государственных крестьян. На бедного поручика обрушился град насмешек и упреков в молодости и неопытности. Примечательно, однако, что попытки Коробьина найти подтверждение своим мыслям в Наказе были единодушно осуждены, как заключающие в себе «ошибочные толкования мыслей императрицы».
И, тем не менее, Коробьин сделался общим любимцем. Во время выборов в различные комиссии он удостаивался значительного числа голосов. Впрочем, выволочки, устроенной ему, не забыл: говорил осмотрительно, выбирал выражения. Понял, надо думать, что рассуждать о естественном равенстве всех людей перед законом — это одно, а хулить вековые порядки, на которых стояла и стоит русская земля, — совсем другое.
Подавляющая часть депутатов твердо стояла на том, чтобы подтвердить «в ныне сочиняемом проекте нового Уложения» исконную «власть помещиков над их людьми и крестьянами».
Екатерина особо не удивлялась. Гораздо более беспокоило ее то, что основное дело, ради которого была собрана Комиссия, — сочинение законов — продвигалось из рук вон плохо. Пыталась, и не раз, ввести регламент ведения заседаний, надеялась обратить энергию депутатов в русло государственных интересов, но все усилия оказались напрасны. Свежие идеи тонули в сословных дрязгах и пререканиях. Дворянство ополчалось на купцов, требуя расширения собственных прав в области торговли и промышленности, купечество отбивалось, как могло, пользуясь тем, что среди самих дворян грызни и склок хватало. Родовитые депутаты, кичась древними привилегиями, вели себя высокомерно. Представители служилого дворянства напирали на права, предоставленные им Петром Великим. Их поддерживали представители военного сословия. Лишь крестьяне, наученные вековым опытом, что синица в руках лучше журавля в небе, ходатайствовали больше о вещах сугубо практических. Их мнения походили на челобитные. Просили, к примеру, снизить плату за пользование общественными банями в деревнях.
Надо ли говорить, что за полтора года работы Комиссия так и не приняла ни одного закона. Начавшаяся осенью 1768 года война с турками стала удобным поводом для роспуска депутатов. И тем не менее Екатерина не только никогда не сожалела о созыве Комиссии, но и гордилась недолговременной работой первого русского парламента.
На это у нее были свои причины.
— Комиссия Уложения… подала мне свет и сведения о всей империи, с кем дело имею и о ком пещись должно, — говорила она.
7
Хронологию записок Дидро восстановить сложно. Специалисты, изучавшие его заметки, высказывают на этот счет различные точки зрения[45]. Ясно, однако, что темы, которые философ обсуждал с императрицей, не могли не быть так или иначе связаны с событиями, происходившими при екатерининском дворе. Отсюда вывод: к концу октября беседы приобрели исключительно острый характер.
— Человек, осмеливающийся беседовать с гениальной женщиной и такой матерью, как Ваше величество, о воспитании сына, должен быть нахалом, если не дураком, — так начал Дидро одну из своих октябрьских бесед с Екатериной. — Я это знаю и приму любой из эпитетов, который Вам угодно будет мне назначить. Пожалуй, и оба, лишь бы только искренняя преданность Вашего величества послужила мне извинением и спасла от презрения.
Не в правилах Екатерины было прерывать начатый разговор, хотя и на чрезвычайно болезненную для нее тему. Дидро продолжал:
— Великий князь молод, и все имевшие честь входить с ним в сношения, хвалят, сколько я знаю, его проницательность, блестящие способности, доброту его сердца, возвышенность чувств. Теперь он влюблен в свою супругу и это вполне основательно. Однако он уже закончил свое образование и можно опасаться, что он перейдет к жизни рассеянной и ленивой. Последствия ее были бы печальны как для его семейного счастья, так и для счастья империи.
Закончив преамбулу, философ перешел к главному:
— Поэтому я хотел бы предложить Вашему величеству следующее: пусть он присутствует при рассмотрении дел в различных административных учреждениях; пусть он там будет простым слушателем в течение 2–3 лет, то есть до тех пор, пока хорошенько не познакомится с государственными делами. Вот настоящая школа для будущего монарха в его годы! По выходе из заседаний пусть он отдает Вам отчет обо всем, что там происходило, со своим заключением, которое Вы исправите, если оно окажется несправедливо. Только таким образом он сможет познакомиться с духом и характером нации, манерой думать, чувствовать, со степенью просвещенности и талантами лиц, которых впоследствии захочет к себе приблизить.
Что тут можно сказать? Пожалуй, только одно. Трудно и, наверное, даже невозможно было найти тему более неблагодарную и, скажем прямо, опасную.
Отношения с сыном — самая темная и таинственная страница царствования Екатерины.
В этом смысле заметки Дидро в высшей степени любопытны. Во всяком случае, в них сохранились пассажи удивительные:
«Может ли царствующий монарх возлагать корону по своему произволу на любого из своих детей? Какой повод к семейным ссорам! Какой повод к революциям в государстве! Какой повод к двоедушию и низкому услужничеству! Какой повод к волнениям в народе, выбор которого весьма часто останавливается не на том, кого выбрал монарх! Какой удобный мотив для восстания!»
Самым надежным залогом обеспечения стабильности государства Дидро представлялось установление правильного наследования трона.
«Я недалек, пожалуй, и от мысли Вашего величества сделать корону выборной между детьми монарха с тем, однако, условием, чтобы выбор не был производим отцом».
Слова поразительные, хотя бы потому, что из них ясно следует: Екатерина обсуждала с ним то, о чем не говорила ни с кем и никогда — вопрос о престолонаследии.
Конечно, советы Дидро, считавшего, что монарха должен выбирать народ через своих представителей, могли вызвать у его собеседницы лишь недоумение. Важно, однако, другое. Как одинока была российская императрица осенью 1773 года, какую непреодолимую потребность в общении она испытывала…
Что же касается Дидро, то нет сомнений в том, что он вторгался в столь деликатные сферы, движимый наилучшими побуждениями.
— Начальство над конвоем великого князя я поручил бы одному из Орловых, — говорил он Екатерине. — Все они готовы отдать последнюю каплю крови за Ваше императорское величество. И по основательным причинам. Как приятно быть обязанным людям верным, прямодушным, честным и твердым, каковы, как мне кажется, пять братьев Орловых. Позвольте мне, Ваше величество, воспользоваться этим случаем и поздравить Вас с прекрасным выбором, сделанным в такое время, когда приходится брать первого попавшегося, готового пожертвовать собой. Да сохранит же Небо их надолго для Вашего величества и Ваше величество для них. Это Ваши верные стражи!
Впрочем, дальнейшие рассуждения Дидро звучат явным отголоском его личных наблюдений:
— За исключением Орловых, мне кажется, я во всех замечаю какое-то взаимное недоверие, какую-то осторожность, противоположную прямоте и откровенности, которые свойственны высоко настроенной, свободной и уверенной в себе душе. Но что еще более удивительно, ни один из моих русских собеседников не сознавал подлинной ценности заведенных Вами учреждений. Ни один из них не выслушал меня без удивления. Ни один не понимал мудрости монархини и выгод, имеющих произойти от нее в будущем. Всех мне приходилось просвещать и наводить на путь истинный, за исключением, может быть, только моего товарища по путешествию, господина Нарышкина.
И далее:
— В душах Ваших подданных есть какой-то оттенок панического страха — должно быть, следствие длинного ряда переворотов и продолжительного господства деспотизма. Они будто постоянно ждут землетрясения и не верят, что земля под ними не качается, совершенно как жители Лиссабона или Макао, с той только разницей, что те боятся землетрясений материальных. Колебания в умах заметны и очевидны. Неясно только, происходят ли они от нарушения личных интересов, совершенного Вашими мудрыми и справедливыми деяниями, или от перемен в общественном строе.
И концовка — логичная и неотвратимая, как в фугах любимого Дидро Иоганна-Себастьяна Баха:
— Кто производит революции? — вопрошает он. И сам же отвечает: — Люди, которым нечего терять при перемене общественного порядка; люди, которые могут при этом выиграть.
Лицо Екатерины хранило задумчивое выражение.
— Как к этому относиться? — продолжал Дидро. — Во-первых, следует обогащать или своевременно удалять лиц могущественных, но недовольных. Во-вторых, заботиться о просвещении народа. Нации просвещенные не возмущаются, а терпят.
В этот момент Екатерина, наверное, улыбалась. Слова Дидро как нельзя лучше совпадали с ее собственными мыслями. Впрочем, хватит предположений, сколь заманчивых, столь и неверных. Не будем излишне строги к великому философу. Кто другой на его месте мог подумать, что сидящая напротив него женщина, со спокойной улыбкой выслушивающая его взволнованные филиппики, переживает в эти дни один из самых опасных кризисов своего царствования?
Действо третье
Если у Императрицы есть слабость, то она состоит в желании достигать посредством интриг и таинственным образом целей, которые были бы доступны ей при помощи более простых и естественных путей.
Из донесения английского посланника в Петербурге Р. Гуннинга от 22 ноября 1773 г.1
Странные совпадения случаются в жизни.
Державин в своих «Записках» вспоминает, что в день бракосочетания великого князя в Петербург пришло первое известие о том, что на Урале, в окрестностях Оренбурга, появился беглый донской казак Пугачев, всклепавший на себя имя покойного императора Петра III. Рапорт оренбургского губернатора, сообщавшего, что лже-Петр собирается идти на Петербург, чтобы «обнять возлюбленного сына своего, великого князя Павла Петровича», не особенно встревожил Екатерину. В первые десятилетия ее царствования в России, да и за границей объявлялось не менее дюжины самозванцев, выдававших себя за покойного Петра Федоровича. С ними быстро и без огласки справлялись.
Тем не менее, тревожные вести, поступившие с Урала, императрица распорядилась сохранить в строжайшей тайне — тень покойного супруга, явившаяся с берегов далекого Яика, грозила омрачить свадебное торжество. О мерах по пресечению «уральской фарсы» она посоветовалась лишь с самыми доверенными людьми — Никитой Ивановичем Паниным и вице-президентом Военной коллегии Захаром Чернышевым. Захар Григорьевич, кстати, о Пугачеве отзывался пренебрежительно, говорил, что бунт в Заволжских степях лишь искра по сравнению с восстанием атамана Ефремова на Дону, случившимся в 1772 году.
Что и говорить, и на Дону, и в Зауралье всегда было неспокойно. А особенно в первое десятилетие екатерининского царствования. Чересчур «скоропостижная», по выражению Дашковой, смерть Петра Федоровича, трагическая гибель Иоанна Антоновича, узника Шлиссельбургской крепости, вызывали неблагоприятные для императрицы толки и в провинции, и в столицах. Даже в гвардии, приведшей ее к власти, заговоры следовали один за другим: Хрущев, Гурьевы, Хитрово, Мирович… Одни завидовали быстрому возвышению Орловых, считали себя недостаточно вознагражденными за участие в перевороте, другие связывали надежды на свое обогащение и возвышение с восстановлением на престоле законного императора Иоанна Антоновича, несчастного отпрыска Брауншвейгской фамилии.
Самое опасное, однако, заключалось в том, что многие из заговорщиков пытались действовать именем великого князя Павла Петровича, на которого смотрели как на законного наследника российского престола. Как раз в те дни, когда Екатерина шепталась с Чернышевым и Паниным, русский поверенный в делах в Париже Хотинский занимался отправкой на родину раскаявшихся сторонников известного Бениовского, ссыльного поляка, бежавшего с Камчатки на захваченном им корабле. Бениовский выдавал себя в Европе, куда все-таки добрался, за друга и соратника великого князя, грозя собрать войско и явиться в Петербург, чтобы помочь Павлу Петровичу восстановить свои попранные права. Во французских газетах Екатерину открыто называли узурпаторшей престола.
Заговорщики исчезали в Сибири, но слухи о них будоражили европейские столицы.
«Что касается до важного известия о намерении свергнуть с престола императрицу, то я узнал, что оно основано на недовольстве народа, которое, как полагают, достигло крайних размеров», — так инструктировал в июле 1772 года британский министр иностранных дел герцог Суффолк своего посланника в Петербурге Гуннинга.
«Что бы ни говорили в доказательство противного, императрица здесь далеко не популярна и даже не стремится к этому, — писал в ответ Гуннинг. — Она нисколько не любит своего народа и не приобрела его любви. Чувство, которое у нее пополняет недостаток этих побуждений, есть безграничное желание славы, а что достижение этой славы служит для нее целью гораздо более высокой, чем благосостояние страны, ею управляемой, это, по моему мнению, можно основательно заключить из того состояния, в котором при беспристрастном рассмотрении оказываются дела этой страны».
Оценки Гуннинга, кстати сказать, человека основательного, лишний раз показывают, как трудно иностранцам разобраться в русских делах. Впрочем, если соотнести депешу посла с событиями, свидетелями которых он стал в Петербурге, следует признать, что для его пессимизма имелись определенные резоны.
Продолжавшаяся четвертый год война с Турцией давалась России ценой крайнего напряжения сил. Дефицит бюджета, не превышавший в начале войны одного миллиарда рублей, увеличился в 1773 году в восемь раз. Однако ненасытный молох войны требовал не только денег, но и людей.
Всего лишь месяц назад, 15 августа 1773 года, при обсуждении в Совете вопроса о новом рекрутском наборе у императрицы вырвалось красноречивое признание:
— Вы требуете от меня рекрутов для укомплектования армии? С 1768 года сей набор будет, насколько мне память служит, шестой. Во всех наборах более трехсот тысяч рекрутов собрано со всей империи. Согласна, что оборона государства того требует, но со сжиманием сердца по человеколюбию набор такой всякий раз подписываю, видя наипаче, что оные для пресечения войны по сю пору бесплодны были.
Смертность среди рекрутов, плохо обученных, вынужденных воевать в непривычном климате, была ужасающей. Дезертирство из армии приобрело столь массовый характер, что осенью 1773 г. правительство оказалось вынуждено объявить всеобщую амнистию беглецам, скрывавшимся на Дону и в Зауралье.
Однако и в родных местах крестьянину жилось не легче. Дворяне, по знаменитому указу Петра III освободившиеся от веками довлевшей над ними обязанности нести государеву службу, все больше оседали в деревне. Лучшие из них, становились рачительными хозяевами. Они посылали своих управляющих в Англию изучать агрономическую науку и строили прочные и удобные жилища для своих крестьян. Но были и такие кто, получив полную власть над крепостными, превращались в грозных и сумасбродных помещиков. Как известно, самый страшный тиран — это раб, ставший хозяином над другими рабами. Притеснения, истязания и насилие над крепостными переходили все границы дозволенного.
Крестьяне в ответ поджигали дома своих мучителей и убивали их. Особенно беспокойно было среди монастырских и церковных крестьян, ставших государственными в силу другого указа, принятого в недолгое царствование Петра III. Глядя на них, крестьяне помещичьи, заводские и все те, кто нес на себе крепостное ярмо в различных его формах, решили, что близится и их освобождение. Такую надежду давала им объявленная вольность дворянству. Если с помещиков снималась обязанность нести государственную службу, то естественно с крестьян должна будет снята повинность служить помещикам. Участились случаи массового неповиновения, как, например, на петровских олонецких заводах летом 1770 года. На дорогах появились шайки разбойников. Особенно тревожно было на Волге, Каме и Белой, где грабили даже хорошо охраняемые караваны Демидовых и Твердышева. Беспокойно было в Воронежской губернии, Уфимской и Галицкой провинциях. Местные власти, ослабленные отправкой войск на театр военных действий в Молдавию, оказались бессильны восстановить порядок.
И вот, наконец, случилось то, что неминуемо должно было случиться. В конце мая 1773 года в Казани из-под стражи бежал казак станицы Зимовейской Емельян Пугачев. Он прошел Семилетнюю войну, служил в Польше, во время русско-турецкой войны в армии Петра Ивановича Панина брал Бендеры. На исходе лета 1773 года он пришел к яицким казакам и объявил себя императором Петром III. В разосланном им воззвании говорилось, что император принял царствование, и кто будет ему служить, тех он жалует «крестом и брадою, и рекою, и землею, травами и морями, и денежным жалованием, и провиантом, и свинцом, и порохом, и личною вольностью».
17 сентября Пугачев осадил Оренбург. Гарнизоны южного Приуралья не могли противостоять самозванцу, повстанческое войско быстро пополнялось добровольцами. Под знамена Пугачева собирались казаки, беглые крестьяне, инородцы и староверы. В середине октября он имел уже до трех тысяч пехоты и конницы, более двадцать пушек, взял семь крепостей.
Только 15 октября, после окончания свадебных торжеств, имя Пугачева впервые громко прозвучало в Государственном совете. Чернышев в присутствии императрицы, зачитал «полученные вчерась» рапорты Оренбургского и Казанского губернаторов. Меры, предложенные Военной коллегией для пресечения возмущения яицких казаков, были одобрены без особых обсуждений. Командовать войсками в Приволжье назначили мало кому известного генерал-майора Василия Кара, переведенного из Польши, где он служил под началом Николая Васильевича Репнина. Указ о назначении Кара был подписан Екатериной еще 11 октября, сам он отбыл к месту назначения накануне вечером. По пути следования, в Новгороде, ему предписывалось взять роту солдат с тремя пушками. Кроме того, главнокомандующий в Москве князь Волконский, проявив похвальную предусмотрительность, уже направил под Оренбург триста солдат с одной пушкой. Эти меры были признаны достаточными для восстановления порядка.
«Рассуждаемо было, что это возмущение не может иметь последствий, кроме как расстроить рекрутский набор и умножить число ослушников и разбойников», — значится в протоколе заседания Совета за 15 октября.
И далее:
«Генерал-прокурор предлагал, чтобы тамошним архиереям велено было увещевать народ от возмущения в церквах. На сие Ее Императорское Величество изволила отозваться, что лучше обнародовать там манифест. После того положено: подтвердить — по причине рассеянных в той стране от самозванца воззваний — указами от сената, чтобы никто письменным обнародованиям не верил».
Засим члены Совета разошлись, а генерал-майор Кар отправился с двумя ротами солдат и тремя пушками усмирять самозванца.
2
История парадоксальна.
Отечественная история парадоксальна вдвойне. Революции свершаются у нас будто по недосмотру, удручающе похожие одна на другую.
Забегая вперед, скажем, что пугачевский бунт, потрясший империю до основания, отнесен был на счет малодушия уже известного нам генерал-майора Василия Кара и нераспорядительности Военной коллегии. Слова Александра Ильича Бибикова, назначенного осенью 1773 года главным начальником в охваченных восстанием губерниях, о том, что не Пугачев страшен, а страшно всеобщее возмущение, в Петербурге еще долго не были услышаны.
И все же коллективное затмение, нашедшее на императрицу и членов Государственного совета достопамятным днем 15 октября, имеет свои объяснения.
1773 год стал критическим в долгом екатерининском царствовании. Затянувшаяся турецкая война грозила империи финансовым крахом, последствия раздела Польши, свершившегося годом ранее, Россия ощущала в течение двух веков. Вдобавок к этому — сложнейшие внутренние обстоятельства, связанные с совершеннолетием наследника престола, конец «случая» Григория Орлова, полуопала Панина. Всего этого было более чем достаточно для того, чтобы приглушить голос здравого смысла.
Впрочем, начнем по порядку.
Панин и Орловы были главными действующими лицами первых десяти лет екатерининского царствования.
С Паниным Екатерина близко сошлась в июне 1760 года. Он только что вернулся из Стокгольма и впервые появился во дворце в голубом с желтыми обшлагами мундире обер-гофмейстера[46]. Панину уже было чуть за сорок, Екатерине шел тридцать второй год, но они подружились, разумеется, в той мере, в которой это было возможно при елизаветинском дворе. Екатерина не могла не оценить трезвый ум, широкую образованность Панина. Никита Иванович родился в Данциге, воспитывался в остзейских провинциях, провел двенадцать лет на посольских должностях в Дании и Швеции и был вполне европейским человеком, интересовавшимся самыми разнообразными вопросами государственных знаний, классическими произведениями философской литературы, говорил и писал на нескольких языках.
Императрица медленно умирала, и перспектива воцарения Петра Федоровича пугала многих. Великий князь ни умом, ни характером, ни воспитанием не подходил на роль наследника российского престола. В ближнем кругу императрицы — Шуваловы и Разумовские — не то чтобы обсуждалась, а как-то витала в воздухе мысль: не разумней ли для пользы государства и династии отдать бразды правления, минуя оболтуса племянника, подраставшему Павлу Петровичу.
Другие планы вынашивал клан Воронцовых, питавших надежду узаконить давнюю связь с великим князем Елизаветы — племянницы Михаила Илларионовича Воронцова, занявшего после опалы Бестужева его место в Коллегии иностранных дел.
Панин, с его холодным и методичным умом, занимал как бы промежуточное положение между этими двумя лагерями. При случае он твердо и убедительно высказывался за то, чтобы все в государстве и, в первую очередь, вопросы престолонаследия, решалось в законном порядке. Положение воспитателя Павла Петровича придавало его словам особый вес.
Сто восемьдесят шесть дней сумбурного царствования Петра III еще более сблизили Панина и Екатерину.
В планы заговорщиков Панина посвятила его племянница Екатерина Дашкова. Мысль об отстранении Петра Федоровича от престола нашла у него полное сочувствие, хотя предпочтительным исходом заговора он считал провозглашение императором малолетнего Павла Петровича при регентстве Екатерины до его совершеннолетия. Великая княгиня, казалось, была согласна с доводами Никиты Ивановича, однако все произошло совсем не так, как он того ожидал.
28 июня 1762 года гвардейские полки провозгласили Екатерину самодержицей всероссийской.
Главными исполнителями заговора стали трое из пяти братьев Орловых — Григорий, Алексей и Федор. Григорий, вступивший с Екатериной в тайную связь когда она еще была великой княгиней, заведовал артиллерийской казной. Алексей служил в Преображенском, Федор — в Семеновском полку. Веселые, удачливые братья были кумирами гвардейской молодежи.
— Орловы сделали все, — говорил Фридрих II. И добавлял, вспоминая своего любимого Лафонтена, — Дашкова была лишь хвастливой мухой, пахавшей, сидя на рогах быка.
Переворот свершился, как это всегда бывает в России, при полном одобрении народа. Петр Федорович, повел себя, как вспоминал впоследствии прусский король, как ребенок, которого отправляют спать. Собственноручно написав отречение от престола, он стал жаловаться, капризничать, просил разрешения уехать в Голштинию со своим любимым арапом Нарциссом, скрипкой, мопсом и Елизаветой Воронцовой. Однако уже через девять дней после переворота бывший император, как было объявлено в правительственном манифесте кончил свою жизнь в Ропше «от приступа геморроидальных колик».
«Все решилось на основе ненависти к иноземцам», — так сама Екатерина оценивала побудительные мотивы переворота, приведшего ее к власти.
Но она сама была природной немкой, вполне, впрочем, обрусевшей и подчеркивавшей уважение к канонам православной веры не в пример своему покойному супругу. Ни в брачном контракте, ни в манифесте о воцарении Петра III о Екатерине как его возможной преемнице упомянуто не было. К тому же — и это, пожалуй, самое серьезное — Петр III не успел короноваться, считая по примеру своего кумира Фридриха II эту процедуру пустой формальностью.
Отсюда — обещание «узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного нашего отечества в своей силе и принадлежащих границах течение свое имело», данное в манифесте о восшествии от 6 июля.
В августе 1762 года Панин представил Екатерине проект учреждения Государственного совета, идея которого у него созрела еще тогда, когда он был посланником в Стокгольме. В Швеции действовала конституционная форма правления, при которой права короля ограничивались парламентом.
Панин почему-то не замечал изъянов шведского государственного устройства, превративших страну в арену открытого противоборства враждующих партий, которые содержались на деньги иностранных государств, и предлагаемые им реформы только на первый взгляд выглядели вполне умеренными. Критикуя господствующий произвол, «прихоти и собственные виды» фаворитов и «случайных людей», Никита Иванович ратовал за учреждение Совета из шести-восьми министров, которые имели бы право едва ли не решающего голоса при принятии важнейших государственных решений.
Тем не менее 28 декабря 1762 года, поколебавшись четыре с лишним месяца, императрица подписала было Манифест об учреждении Государственного совета и реформе Сената[47], но в тот же день «надорвала» его, поступив, как Анна Иоанновна с манифестом верховников. Остановили ее, как говорят, возвратившиеся из ссылки бывший канцлер Бестужев и фельдцейхмейстер Вильбоа. Они усмотрели в панинском проекте покушение на самодержавную и попытку установления аристократического правления.
Неудача с учреждением Государственного совета крайне раздосадовала Панина.
«Сапожник никогда не мешает подмастерье с работником, но нанимает каждого по своему званию, а мне же, напротив, случалось слышать у престола государева, от людей его окружающих, — была бы милость, всякого на все станет», — говорил он, неприязненно косясь в сторону Григория Орлова.
Между тем фаворит старался не злоупотреблять своим положением. По словам желчного летописца нравов екатерининского времени князя Михаила Щербатова, он умел «подчеркнуть и утвердить в сердце своем некоторые полезные для государства правила: никому не мстить, отгонять льстецов, не льстить государю, выискивать людей достойных». Характером и обликом Орлов был русский человек — прямой, открытый, доверчивый до абсурда. Привычки его были самые патриархальные, а всем развлечениям он предпочитал охоту, бега и кулачные бои.
Надо ли говорить, как важно было для Екатерины, остро сознававшей на первых порах всю непрочность своего положения, иметь возможность опереться на крепкое плечо Григория Орлова? Когда он был рядом, императрице дышалось свободнее.
— J’avais les plus grandes obligations à ces gens-la[48] — говорила она впоследствии.
Весной 1763 года при дворе даже начали поговаривать о свадьбе императрицы с Орловым. Бестужев принялся было собирать подписи под прошением дворянства государыне о вступлении в брак, однако Никита Иванович, опиравшийся на всех недовольных Орловыми, решительно воспротивился.
— Императрица всероссийская может делать все, что ей угодно, но госпожа Орлова не может быть императрицей, — говорил он, не стесняясь того, что слова его слышали многие.
Брак не состоялся, но Орлов остался самым близким Екатерине человеком. Перед ним открывались головокружительные возможности. Перечень его официальных должностей был обширен: генерал-фельдцехмейстер и генерал-директор над фортификациями, директор канцелярии опекунства иностранных дел, член комиссии о правах дворянства, депутат комиссии о составлении нового уложения, председатель Вольного экономического общества и пр.
Однако для того, чтобы соответствовать требованиям, которые предъявляло его положение первого вельможи империи, Орлов не имел ни достаточного воспитания, ни природного такта. Ему были отведены покои во дворце, но жить он предпочитал в доме, приобретенном у банкира Штегельмана, или на мызах в Гатчине или Ропше, подаренных ему императрицей. Государственным делам, скучнейшим канцелярским занятиям Орлов предпочитал радости заячьей или медвежьей охоты. Он ухитрялся не являться даже на собрания учрежденного Екатериной Вольного экономического общества, назначавшиеся в его собственном доме.
«Способности Орлова были велики, но ему недоставало последовательности к предметам, которые в его глазах не стоили заботы. Природа избаловала его, и он был ленив ко всему, что не сразу приходило к нему в голову», — сожалела Екатерина.
Инертность Григория приводила в отчаяние Алехана — амбициозного и предприимчивого младшего брата — истинного вдохновителя «орловской партии».
«Doux comme un mouton, il avait le coeur d’une poule[49]», — печально вторила неистовому Алехану Екатерина.
Впрочем, так высказываться императрица стала много позже. Во времена, о которых мы ведем речь, дело обстояло совсем иначе.
«Это был мой Блэкстон, — говорила Екатерина своему секретарю Козицкому. — Sa tête etait naturelle et suivait son train, et la mienne la suivait[50]».
Иногда, правда, императрица делалась вдруг более откровенной:
«Панин и Орлов были моими советниками. Эти два лица постоянно противных мнений вовсе не любили друг друга. Вода и огонь менее различны, чем они. Долгие годы я прожила с этими советниками, нашептывавшими мне на ухо каждый свое, однако дела шли и шли блистательно. Но часто приходилось поступать, как Александр с Гордиевым узлом, — и тогда происходило соглашение мнений. Смелый ум одного, умеренная осторожность другого — и ваша покорная слуга с ее курц-галопом между ними придавали изящество и мягкость самым важным делам».
3
В первые полтора года царствования Екатерины Панин формально не играл главной роли в государственных делах. С ним советовались по вопросам внутренней и внешней политики, он принимал иностранных послов, однако канцлером оставался Михаил Илларионович Воронцов, спокойно и с достоинством принявший наступившие перемены.
Основной заботой Никиты Ивановича оставалось воспитание великого князя.
«Сначала мне не было воли, а после по политическим соображениям не брала его от Панина, — признавалась Екатерина в начале 80-х годов тому же Храповицкому. — Все думали, что если не у Панина, так он пропал».
Решение императрицы поставить воспитателя сына у руля российской внешней политики, последовавшее 27 октября 1763 года, удивило тех, кто знал о сложной подоплеке их взаимоотношений. Всю жизнь вращаясь в придворных кругах, Никита Иванович, тем не менее, так и не стал «ласкателем», как выражались в веке осьмнадцатом, галантном. Нередко бывал он резок, капризен и неудобен. Случалось, что Екатерина не общалась с ним месяцами, потом, однако, отношения налаживались.
Конечно, своей образованностью, отточенным интеллектом, развитым в гостиных Стокгольма и Копенгагена, Панин выделялся в блестящей, но безликой толпе придворных, доставшейся Екатерине от предыдущего царствования. Воронцов был болен, вице-канцлер Александр Михайлович Голицын годился только для целей представительских, Бестужев стал стар и суетлив. Глядя на них, даже недоброжелатели Панина признавали его порядочность и неподкупность, качества, столь же редкие в те далекие времена, как и ныне.
И, тем не менее, достоинства Панина отягощались недостатками, причем немалыми. С прискорбием надо признать, что Никита Иванович был медлителен до чрезвычайности, если не сказать ленив. Просыпался он к полудню, завтракал неспешно, с удовольствием — повар его считался лучшим в столице. Затем — манеж, Панин был большим любителем и знатоком лошадей. Обед с переменой блюд эдак в шестнадцать и прогулка в карете по городу. По вечерам Никиту Ивановича можно было видеть либо в приемных залах императрицы, либо в петербургских гостиных. Роста он был гренадерского, комплекции апоплексической, но при всем том сохранял вальяжность, благоухал парижской парфюмерией, поблескивал голландскими бриллиантами, из-под желтых обшлагов его голубого обер-гофмейстерского кафтана струилась белая пена брюссельских кружев.
Был Панин по обычаям своего века и тонким ценителем женской красоты. Неделями, бывало, не могли попасть к нему на прием иностранные послы — Никита Иванович проводил дни напролет у прекрасной, но ветреной графини Строгановой, первой красавицы Петербурга. Строганову сменила Наталья Шереметева, самая богатая невеста северной столицы, на которой он собрался жениться, но та скоропостижно скончалась в мае 1768 года, как говорили, от оспы.
Приходится только удивляться, как при таком образе жизни Никиты Ивановича продвигались иностранные дела. Они, однако, продвигались совсем неплохо. В ответственный момент Панин без видимых неудобств сбрасывал с себя панцирь сибарита. Он обладал замечательной способностью схватывать самую суть в цепи дипломатических силлогизмов, и его собеседники чувствовали, что всесокрушающая логика этого человека делает его достойным соперником и герцога Шуазеля, и самого прусского короля.
Случалось, что министры иностранные, вернувшись после приятной беседы с Никитой Ивановичем, только в кабинете своем понимали, что сказанное Паниным не совсем, мягко говоря, могло понравиться их государям. Задумывался посол — и перед его мысленным взором вставало доброжелательное, неизменно улыбающееся лицо Никиты Ивановича, ясный взгляд его серых глаз. Однако, как ни старался, ни в чем не мог упрекнуть он русского дипломата. Достоинства Панина плавно переходили в недостатки, а недостатки — в достоинства.
4
Внешняя политика России в XVIII веке определялась формулой краткой: Турция, Польша, Швеция.
Со Швецией дела обстояли относительно просто. Борьбу за выход России на берега Балтики выиграл Петр I под Полтавой. Мечты о реванше владели, однако, умами многих шведских политиков, вследствие чего главной задачей русской дипломатии было препятствовать всеми возможными средствами восстановлению в Швеции самодержавной власти короля, ограниченной парламентом. Панин, который долгие годы провел в Стокгольме, знал об этом не понаслышке.
На южном, турецком направлении Екатерина унаследовала важнейшую задачу окончательного выхода России к Черному морю, присоединения Крыма и Южного Приднестровья, необходимых для развития торговли с Левантом и странами Средиземноморья. За свободу мореплавания в Черном море воевал Голицын при Софье, Петр ходил в Азовские и Прутский походы, Миних сражался при Анне Иоанновне. Ради этого же полководцам Екатерины предстояло вести две кровопролитные войны с Османской империей, а послам — противостоять в баталиях дипломатических.
Политика России в Польше определялась необходимостью обеспечения безопасности западных границ Империи и грузом накопившихся проблем: взаимными территориальными претензиями, стремлением России облегчить участь православного населения польской Украины и Белоруссии, подвергавшегося религиозному гнету католиков и униатов, массовым бегством в Речь Посполитую крепостных крестьян и староверов.
В царствование Екатерины польский вопрос приобрел едва ли не главенствующее значение для русской внешней политики. Произошло это в силу обстоятельств печальных, но объективных.
В конце сентября в Дрездене скончался польский король Август III. С его смертью пресеклась саксонская династия, занимавшая польский престол с 1697 года С древних времен Польша держалась беспорядком. Еще при исконно польской династии Пястов, правившей до 1370 года, шляхта и католическая церковь получили привилегии, подкосившие королевскую власть. В XIV–XVI веках, при польско-литовской династии Ягеллонов Польша окончательно превратилась в шляхетскую республику. Польский трон стал добычей авантюристов королевских кровей из разных стран Европы. В 1572 году, после смерти последнего Ягеллона — Сигизмунда Августа, кто только ни претендовал на этот престол: герцог Эрнест, внук австрийского императора Максимилиана II; принц Генрих Валуа, брат французского короля Карла IX; предпоследний из Рюриковичей — Иоанн Васильевич Грозный; были также партии шведского короля, семиградского воеводы Стефана Батория, польская партия, требовавшая Пяста. Сейм выбрал самого податливого из претендентов — Генриха Валуа. Но через год он тайно бежал из Кракова, променяв польский престол на вожделенный французский.
Впоследствии на троне древних Пястов сидели отпрыски шведской династии Ваза, саксонские курфюрсты, ставленник Швеции и Франции Станислав Лещинский. Славные имена Батория и Собесского теряются в толпе коронованных проходимцев, пытавшихся править Польшей из Дрездена, Вены, Парижа и Стокгольма.
Узнав о смерти Августа III (точно известно, что произошло это 6 октября 1763 года, в седьмом часу утра), Екатерина от неожиданности подпрыгнула на стуле. Фридрих II, получив аналогичное известие, вскочил из-за стола. Впоследствии Екатерина любила вспоминать об этих монаршьих подскакиваниях и находила их весьма многозначительными.
В тот же день при дворе состоялась чрезвычайная конференция, в конце которой по приказанию Екатерины был вскрыт пакет. На его лицевой стороне рукой императрицы было написано: «Секретный план, поднесенный от графа Чернышева». Написанные дальше четыре загадочные буквы «СККП» расшифровывались просто «На случай кончины короля польского».
Содержание пакета чрезвычайно важно для понимания последующих событий. Захар Чернышев, вице-президент Военной коллегии, предлагал воспользоваться наступившим в Польше междуцарствием для «округления» западных границ путем присоединения к России польской Лифляндии, воеводств Полоцкого и Витебского и части Мстиславского, находившегося по левую сторону Днепра. Главная идея Чернышева состояла в перенесении русско-польской границы на рубеж рек Западная Двина — Друть — Днепр.
План этот держался в строжайшей тайне. Циркуляром от 11 ноября 1763 года дипломатическим представителям России за границей предписывалось опровергать слухи о том, что «якобы мы намерены с Е.В. Королем Прусским отнять от Республики Польской некоторые провинции и оные между собой разделить».
Однако в секретнейшей инструкции послу в Варшаве Кейзерлингу, отправленной в тот же день, говорилось совершенно обратное. Посол должен был сообщить польскому королю, что Россия не сложит оружия до тех пор, пока «не присоединит оным к Империи всю Польскую Лифляндию». Особенно патетически звучит начало этого любопытного документа: «Опорожненный польский престол и избрание на него нового короля есть случай наиважнейший существительного интереса нашей Империи в рассуждении как безопасности ея границ, так и наипаче еще ее особливых выгод для знатного участия в политической системе всей Европы и в ея генеральных делах».
Указание стараться устроить польские дела соответственно российским видам полетели в главные европейские столицы. В Берлин же, к королю, кроме того были направлены и астраханские арбузы — первый знак внимания за год переписки.
Ответ пришел незамедлительно.
«Огромно расстояние между астраханскими арбузами и польским избирательным сеймом, — писал Фридрих. — Но Вы умеете соединить все в сфере Вашей деятельности: та же рука, которая рассылает арбузы, раздает короны и сохраняет мир в Европе!»
Яснее не скажешь: Пруссия была готова действовать в польских делах сообща с Россией. Впрочем, Екатерина уже знала об этом из частной переписки, которую она поддерживала с Фридрихом II.
В России, однако, далеко не все были готовы к сближению с Пруссией. Вполне откровенно высказывался на этот счет Бестужев. Не скрывали своих сомнений и Орловы.
Екатерина оказалась в затруднительном положении. Дело осложнялось еще и тем, что в силу своего происхождения и обстоятельств воцарения она вынуждена была весьма щепетильно относиться ко всему, что давало повод заподозрить ее в симпатиях к Фридриху. В переписке с Вольтером она не упускала случая поиздеваться над прусским королем, называя его «мой плосконосый сосед». На официальных церемониях Екатерина никогда не говорила по-немецки. Уже в августе 1762 года австрийского посла Мерси д’Аржанто накануне аудиенции у императрицы предупредили, что если он заговорит по-немецки, Екатерина ответит по-русски. Если же посол предпочтет французский, то беседа будет вестись на этом языке, которым, кстати сказать, императрица владела в совершенстве.
Тут и пробил час Никиты Ивановича Панина.
На чрезвычайной конференции по польским делам он твердо высказался за то, чтобы продвинуть в короли Станислава Понятовского, бывшего фаворита Екатерины. Если учесть, что Екатерина еще 2 августа 1762 года, через месяц после переворота, известила Понятовского о том, что она «незамедлительно направляет послом в Польшу графа Кейзерлинга с тем, чтобы он сделал Вас королем», то становится понятным, почему через три недели Панина назначили первоприсутствующим в Коллегии иностранных дел.
В мае 1764 года был заключен прусско-русский союз, а 29 сентября Сейм в Варшаве под присмотром русских войск и на русские деньги единогласно избрал Понятовского новым королем Польши.
«Никита Иванович, — писала Екатерина Панину, — поздравляю Вас с королем, которого Вы сделали. Сей случай наивяще умножает к Вам мою доверенность, понеже я верю, сколь безошибочны были все взятые Вами меры».
5
В веке осьмнадцатом, просвещенном, искусство дипломатии состояло в создании союзов, называемых системами.
Система Панина называлась «Северным аккордом». Главная идея «Северного аккорда» состояла в создании союза государств севера Европы, объединяющего Россию, Пруссию, Англию, Швецию, Данию, Саксонию и Польшу против Франции, Австрии и Испании — владений Бурбонов и Габсбургов. При этом мыслилось, как наставлял сам Никита Иванович посла в Копенгагене барона Корфа, «поставить Россию способом общего Северного союза на такую ступень, чтобы она как в общих делах знатную часть руководства имела, так особливо в Севере тишину и покой ненарушенный сохранять могла».
Польшу Панин видел естественным членом Союза северных государств.
«Польша, если бы торговля ея и учреждения были благоустроеннее, могла бы заменить для союзников Австрию, не делаясь для них опасной», — подобные высказывания послы Пруссии и Англии слышали от Панина не раз.
Скажем больше. Польша в глазах Панина была своеобразным полигоном, на котором он рассчитывал опробовать взаимодействие активных членов «Северного аккорда», к которым относил Россию, Пруссию и Англию. К сожалению, расчеты эти оказались доктринерскими. Уже в апреле 1767 года Фридрих передал посланцу Панина Каспару фон Сальдерну, что вступать в союз с Англией, Саксонией и, тем более, Польшей не входит в его планы.
Зыбкость почвы, на которой строились планы Панина, показала и грянувшая осенью 1768 г. война с Турцией, долго ожидаемая и одновременно неожиданная, как все войны. Противники Никиты Ивановича открыто ставили ему в вину то, что Россия вступала в войну с Османской империей один на один, без союзников. Оборонительные договоры имелись лишь с Пруссией и Данией. С Англией с 1763 года тянулись переговоры о возобновлении союзного трактата. То обстоятельство, что главные противники России в польских и турецких делах — Франция и Австрия — были ослаблены и переживали внутренние неурядицы, служило плохим утешением.
Ход войны, казалось бы, внушал оптимизм. Воевала русская армия успешно, гром ее побед в Молдавии и Валахии прокатывался по всей Европе. Однако победы куются на полях сражений, мир же подписывается за столом переговоров. Задолго до того, как победные залпы пушек фельдмаршала Петра Александровича Румянцева под Ларгой и Кагулом и взрывы тонущих турецких кораблей в Чесменской бухте возвестили Европе о рождении новой военной державы, в дипломатических гостиных Вены, Парижа, Берлина, Лондона, развернулись сражения, не уступавшие по драматизму военным баталиям.
В сражениях этих дипломатам порой приходилось труднее, чем генералам, ведь им не так легко определить, кто друг, а кто враг. Случается и так, что противник и союзник предстают в одном лице.
Русско-турецкая война с самого начала рассматривалась в Берлине как долгожданный и удобный повод для новой (после захвата Силезии) территориальной экспансии.
«Война между Россией и Турциею перемешала всю политическую систему Европы, открылось новое поле для деятельности; надо было вовсе не иметь никакой ловкости или находиться в бессмысленном оцепенении, чтобы не воспользоваться таким выгодным случаем», — признавался впоследствии Фридрих в своих мемуарах.
Еще в 1731 году во время своего «кюстринского сидения» он разработал так называемую «систему поступательного увеличения государства», обосновав в ней закономерность объединения прусских земель, разорванных «польским коридором». Принцип «округления территорий», признававшийся монархическим правом XVIII века, служил ему оправданием.
В своем втором так называемом политическом завещании, написанном в 1768 году, но остававшимся секретом даже для его ближайших сотрудников, Фридрих II вполне определенно поставил задачу использовать политическую ситуацию русско-турецкой войны для приобретения Польской Пруссии и установления контроля над Данцигом. Для этого, однако, нужно было основательно укрепить русско-прусский союз. Посол Фридриха II в Петербурге Виктор-Фридрих Сольмс зачастил к Панину.
Никита Иванович выслушивал рассуждения посла благосклонно, но действовать не торопился: в Петербурге с началом войны все громче раздавались голоса сторонников союза с Австрией.
— «При австрийском союзе войны с Турцией не было бы вовсе, ибо турецкие силы оказались бы отвлечены австрийскими войсками», — утверждал Григорий Орлов в Государственном совете, созданном в начале 1769 года.
Вплоть до кампании 1770 года, ознаменовавшейся громкими победами русского оружия, в Петербурге не исключали возможности вступления в войну Австрии на стороне Турции.
В такой ситуации Фридрих чувствовал себя, как рыба в воде. В начале 1769 года Сольмс, сославшись на проект якобы составленный отставным дипломатом Линаром[51], обмолвился, что Австрия и Пруссия могли бы поддержать Россию в войне с Турцией в случае, если бы в Петербурге изъявили готовность компенсировать их военные издержки за счет польских земель.
«Стоит ли труда трем великим европейским державам соединиться только для того, чтобы отбросить турок за Днестр? — говорил Панин. — Уж если и затевать дело, то чтобы изгнать их из Европы и значительной части Азии, что нетрудно исполнить.
— А что же возьмет себе Россия? — спрашивал Сольмс.
— У России и без того столько земель, что трудно справляться; ей нужно лишь несколько пограничных областей», — отвечал Никита Иванович.
В планы Фридриха, однако, не входило помочь России изгнать турок из Европы — иными словами, овладеть Константинополем. Взоры прусского короля обратились к Вене. В сближении с недавней соперницей он увидел возможность новых выгодных политических комбинаций.
И действительно, в Вене с не меньшим беспокойством, чем в Берлине следили за успехами Румянцева в Молдавии и Валахии. Императрица Мария-Терезия, ее сын-соправитель Иосиф II и канцлер Кауниц, знаменитый «кучер Европы», не могли не понимать, что в Дунайские княжества, виды на которые в Вене не скрывали, русская армия входила как освободительница. Очевидцы из Кишинева сообщали, что во время церемонии приведения молдаван к присяге России они «кучами к целованию креста и Евангелия метались, так что нужно было определить людей для наведения порядка».
Однако относительно способа противодействия русским успехам мнения высказывались различные. Мария-Терезия, впавшая на склоне лет в религиозный мистицизм, и слышать не хотела о войне с Россией в союзе с мусульманской Турцией. Молодой и честолюбивый Иосиф II, напротив, был сторонником самых решительных мер для восстановления австрийского влияния в Молдавии и Валахии. Сдерживать его удавалось лишь Кауницу, в голове которого родился совершенно фантастический план тройственного союза Австрии, Пруссии и Турции, направленного против России.
В августе 1769 года в силезском городе Нейсе состоялась первая после Семилетней войны встреча Фридриха II и Иосифа II. Переговоры, если верить австрийскому императору, продолжались три дня по шестнадцать часов в сутки. Пугая друг друга растущим могуществом России, недавние соперники смогли успокоить друг друга относительно собственной политики. Хотя по условиям союзного договора с Россией, продленного в 1769 году, Фридрих II не мог заключить с Австрией соглашения о нейтралитете, оба монарха торжественно обязались ни при каких обстоятельствах не нарушать границ друг друга. Эта договоренность была скреплена обменом письмами.
Фридрих так стремился сохранить достигнутое соглашение в тайне, что, принимая письмо Иосифа II, сделал вид, будто нюхает табак. При этом он ловко накрыл переданный ему маленький конвертик, опечатанный сургучной печатью, носовым платком и незаметно положил его в карман.
Настроения умов в Берлине и Вене, не говоря уже о Париже, не составляли секрета для Петербурга. Екатерине было прекрасно известно, что руководитель французской внешней политики герцог Шуазель не стеснялся заявлять, что «если бы состоялся Северный союз, руководимый Россией и Пруссией и оплачиваемый Англией, то Австрия и Франция должны были бы начать значительную сухопутную войну».
«Мудрая Европа одобрит мои планы только в случае их удачи», — писала Екатерина Вольтеру.
А планы эти с 1770 года были связаны со скорейшим заключением выгодного мира. Осуществить их проще всего было путем посредничества нейтральных стран, тем более, что в начале сентября 1770 года Турция, напуганная поражениями под Кагулом и Чесмой, согласилась на посредничество Австрии и Пруссии в мирных переговорах.
Россия, однако, уже имела горький опыт, когда посредники сводили к нулю все ее военные успехи. Да и не в характере Панина, видевшего Россию державой первостепенной, было соглашаться на посредничество. В итоге потребовалось еще полтора года упорных дипломатических конверсаций, включая второе свидание прусского короля с Иосифом II, на этот раз в Нейштадте (Моравия), и скандальную историю с «субсидным договором»[52], заключенным с турками австрийским послом в Константинополе Тугутом, прежде чем Фридрих и Кауниц согласились участвовать в русско-турецких мирных переговорах в более скромной роли. Речь на этот раз шла лишь о добрых услугах с их стороны.
Мирный конгресс решено было проводить в Фокшанах, небольшом городке на границе Молдавии и Валахии. Переговоры с турками поручили вести генерал-фельдцейхмейстеру, действительному камергеру и кавалеру графу Григорию Григорьевичу Орлову.
Сборы Орлова к отъезду поразили всех невиданным великолепием. Свита, назначенная сопровождать Орлова в Фокшаны, составила целый двор: тут были и маршалы, и камергеры, и пажи. Одних придворных лакеев, разодетых в парадные ливреи, насчитывалось двадцать четыре человека. Обоз посла составляли роскошно сформированные кухни, винные погреба, великолепные придворные экипажи, в его гардеробе был кафтан, осыпанный бриллиантами, которые стоил, как говорили, миллион рублей.
25 апреля 1772 года пышное посольство выехало из Царского Села, а в июле Екатерина писала своей старинной гамбургской приятельнице, госпоже Бьельке:
«Мои ангелы мира, думаю, находятся теперь лицом к лицу с этими дрянными турецкими бородачами. Граф Орлов, который, без преувеличения, — самый красивый человек своего времени, должен действительно казаться ангелом перед этим мужичьем; у него свита блестящая, отборная и мой посол не презирает великолепия и блеска».
Вряд ли кто-то даже из самых близких к Екатерине лиц, кому довелось присутствовать при ее трогательном расставании с Орловым, мог предположить, что уже к осени и Царскосельский и Зимний дворцы будут для него закрыты.
6
Мирный конгресс в Фокшанах не оправдал надежд, которые связывали с ним в Петербурге. В провале переговоров Панин прямо обвинил Орлова, «бешенство и колобродство» которого, «испортили все дело». И действительно, тактику, избранную Орловым в Фокшанах, трудно признать удачной. Вопреки канонам дипломатического искусства он начал конверсации с турецкими уполномоченными с самого трудного: требования признания Турцией независимости Крыма. Турки уперлись — и уже 1 сентября в Совете была прочитана депеша о прекращении Фокшанского конгресса. Через два дня, 3 сентября, в Фокшаны полетел рескрипт, в котором Екатерина оставляла на волю Орлова «если он еще в армии находится, продолжить вверенную ему негоциацию по ее возобновлении и употребить себя между тем по его званию в армии под предводительством генерал-фельдмаршала Румянцева».
Впрочем, Орлов и сам, не дожидаясь отъезда турецких послов, направился в Яссы, штаб-квартиру главнокомандующего русской армией, Петра Александровича Румянцева. А всего лишь через день после прибытия в Яссы он уже мчался, загоняя почтовых лошадей, в Петербург. На подъезде к столице, однако, его встретил петербургский генерал-полицмейстер, вежливо, но твердо препроводивший недавно еще всесильного фаворита в Гатчину.
Что же произошло в столице в отсутствие Орлова? На этот счет сохранились любопытные, хотя и вряд ли объективные документы. Прусский посланник в Петербурге граф Сольмс писал Фридриху II 3 августа 1772 года:
«Отсутствие графа Орлова обнаружило весьма естественное, но, тем не менее, неожиданное обстоятельство: Ее Величество нашли возможным обойтись без него, изменить свои чувства к нему и перенести свое расположение на другой предмет. Конногвардейский поручик Васильчиков, случайно отправленный в Царское Село для командования небольшим отрядом, содержавшим караул во время пребывания там двора, привлек внимание своей государыни.
Частые посещения Васильчиковым Петергофа, заботливость, с которою она спешила отличить его от других, более спокойное и веселое расположение ее духа со времени удаления Орлова, неудовольствие родных и друзей последнего, наконец, тысячи других мелких обстоятельств уже открыли глаза царедворцам. Хотя до сих пор все держится в тайне, но никто из приближенных не сомневается, что Васильчиков уже находится в полной милости у императрицы… Охлаждение к Орлову началось мало-помалу со времени отъезда его на конгресс.
Некоторая холодность Орлова к императрице за последние годы, поспешность, с которой он последний раз уехал от нее, не только оскорбившая ее лично, но и долженствовавшая иметь влияние на политику, подавая туркам повод усматривать важность для России предстоящего мира, наконец, обнаружение многих измен — все это, вместе взятое, привело императрицу к тому, чтобы смотреть на Орлова как на недостойного ее милости. Граф Панин, которому императрица, может быть, поверила свои мысли и чувства, не счел нужным разуверять ее, и это дело уладилось само собой, без всякого с чьей-либо стороны приготовления…
Наиболее выигрывает от этой перемены граф Панин. Он избавляется от опасного соперника, хотя, впрочем, и при Орлове он пользовался очень большим влиянием, но теперь он приобретает большую свободу действий как в делах внешних, так и внутренних».
Наблюдательный дипломат сумел подметить главное: конец «случая» Орлова серьезно изменил расстановку сил при дворе. Однако комментарии, которыми он снабдил добросовестно изложенные факты, мягко говоря, сомнительны.
Впрочем, надо сказать, что многие из иностранных послов при русском дворе мнили себя знатоками тайных пружин русской политики. Отвлечемся ненадолго от истории с Орловым и вспомним конфуз, который приключился с британским послом в Петербурге лордом Кэткартом, тем более, что он имеет самое непосредственное отношение к предмету нашего рассказа.
Летом 1771 года перед британским послом была поставлена нелегкая задача: ускорить заключение союзного договора между Россией и Англией. Действовать Кэткарт начал немедленно. В Петербурге он жил третий год и все это время с ревностью наблюдал за интригами прусского и австрийского послов, стремившихся обратить к своей выгоде соперничество Орловых и Панина, честолюбие Чернышева, малороссийскую с хитрецой индифферентность Разумовского. Кэткарт был по натуре человеком восторженным. Его преклонение перед Семирамидой Севера доходило до того, что свои первые впечатления от общения с ней он излагал в дипломатических депешах стихами Вергилия. К задуманному делу он также решил приступить не совсем обычным образом.
«Когда граф Панин и граф Орлов сходятся во мнении, то дело идет очень легко, — отписывал он в Лондон. — Но когда графу Орлову можно внушить другие цели, то выдвигается граф Чернышев и его друзья Голицыны, особенно первый[53], и это обстоятельство, кроме всех других неудобств, как следствие несогласия, проволакивает время, пока императрица не помирит обоих графов».
Короче говоря, лорд Кэткарт решил утвердить английское влияние в Петербурге, примирив двух самых влиятельных лиц при русском дворе. Первые шаги посла внушали надежду. Орлов благосклонно принял похвалы Кэткарта в адрес Панина, но выразил сожаление, что близко не знаком с Никитой Ивановичем. Ведь у них разница в летах, занятиях, удовольствиях, они редко встречаются — пожалуй, только на совещаниях по особым делам, где обыкновенно Орлов, по живости своего характера, прерывает методичное изложение Панина, как скоро ему покажется, что тот не к тому клонит речь. В ответ Панин обычно хмурился, а Орлов умолкал — и таким образом дело останавливалось и мешало ходу других. Отдавая должное знаниям и способностям Панина, Орлов всю вину за случившиеся между ними разногласия, принимал на себя, сетуя на собственную нетерпеливость, недостаток методы и уверял посла, что весьма желал бы встречаться с Паниным по-дружески, без определенного повода. Кэткарт передал Панину свой разговор с Орловым. Никита Иванович очень обрадовался этим речам, благодарил Кэткарта за сделанное им доброе дело.
Казалось, Кэткарт был на верном пути. При встречах Орлов и Панин кланялись ему подчеркнуто уважительно, да и отношения между соперниками, по наблюдениям посла, о которых он не замедлил донести в Лондон, стали ровнее. Граф Рошфор, руководивший английской внешней политикой, предписал послу добиваться посредничества Англии в мирных переговорах с Турцией взамен добрых услуг Пруссии и Австрии.
Между тем, время шло, весна сменила зиму, наступило лето 1772 года, а дело с заключением русско-английского договора не продвинулось дальше неопределенных обещаний и туманных намеков. В депешах Кэткарта зазвучали нотки озабоченности. Судя по его донесениям, примирение Орлова с Паниным не удавалось то из-за того, что императрица жила на даче, а граф Орлов в городе, то из-за хитрых людей (подразумевался Захар Чернышев), убедивших Орлова взять на себя ведение турецких и польских дел. В свою очередь, это привело к сильному столкновению между Орловым и Паниным, вследствие чего последний стал просить императрицу отстранить его от управления иностранными делами. Екатерина, разумеется, удержала его от этого шага.
Так дело тянулось до сентября 1772 года, когда Панин пригласил всех аккредитованных в Петербурге послов и объявил им о том, что полтора месяца назад, 25 июля 1772 года, Пруссия, Австрия и Россия подписали двусторонние конвенции о разделе Польши.
Дипломатическая карьера Кэткарта закончилась. Всего за полгода до соглашения, решившего судьбу Речи Посполитой, он доносил в Лондон (со ссылкой на заверения Панина), что императрице «ничего не известно о намерениях короля прусского разделить Польшу, и такое намерение не может ей быть приятно»[54]. Вскоре его сменил менее склонный к декламации Вергилия Роберт Гуннинг. Однако и у Кэткарта есть заслуги перед историей. Благодаря ему мы представляем, какой тайной была окутана продолжавшаяся не менее года ожесточенная борьба вокруг Польши.
7
Историки до сих пор спорят, кто первый высказал идею раздела Польши. Наиболее авторитетные признания на этот счет разноречивы. Фридрих указывал на Екатерину, вспоминая при этом приезд принца Генриха в Петербург осенью 1770 года. Генрих, уставший, очевидно, оставаться в тени своего великого брата, открыто говорил, что истинным автором идеи раздела является он. Панин пенял Австрии, занявшей в июле 1770 года польские области Ципса и Новиторга и подавшей тем самым пример другим. Мария-Терезия винила сына и Кауница, упрекая их в том, что они «хотели действовать по-прусски и в то же время удерживать вид честности». Екатерина никого не обвиняла, но и не опускалась до оправданий. Для нее вопросы этики вполне естественно отступали на второй план, когда речь шла о государственном интересе.
Необходимость и закономерность восстановления естественных этнических границ Русского государства никогда не вызывали сомнения у людей беспристрастных. Однако средства, с помощью которых эта цель была осуществлена, возбуждали острую и справедливую критику. Приходится с сожалением констатировать, что после избрания Понятовского королем, российская дипломатия допустила в Польше ряд принципиальных просчетов. Основные усилия были направлены на консервацию анахронического государственного устройства Речи Посполитой, в сохранении которого Петербург видел гарантию своего преимущественного влияния. Как ни странно, но в качестве орудия подобной политики избрали тех лиц в окружении польского короля — Чарторыйских, — которые наиболее последовательно выступали за модернизацию польских государственных порядков. Неизбежным следствием этого стало ослабление королевской власти и русского влияния.
Центральное место в русской политике в Польше занял крайне болезненный для поляков диссидентский вопрос. Добившись уравнения православного и протестантского меньшинств не только в религиозных, но и в сословных правах с католиками, русский посол в Варшаве князь Николай Васильевич Репнин, племянник Панина, по существу, спровоцировал социальный взрыв в Польше, направленный против России и действовавшей в тесном союзе с ней Пруссии.
29 февраля 1768 года в небольшом польском городке Бар была сформирована конфедерация, объявившая «крестовый поход» в защиту католической веры. Лидеры Барской конфедерации получили поддержку Австрии, Франции и Турции. В стране началась, по существу, гражданская война. На юге Польши, в пограничных с Османской империей областях, вспыхнуло стихийное восстание украинских крестьян — гайдаматчина, давшая повод (инцидент в Галте) к началу русско-турецкой войны в октябре 1768 года.
Основная ответственность за такое развитие событий традиционно возлагается на Панина, которому в силу его должности действительно приходилось вести главные переговоры с пруссаками и австрийцами. Между тем, позиция Панина в польских делах была далеко не однозначной. Как мы помним, еще в конце 1769 года, когда Фридрих впервые выдвинул идею раздела Польши, Никита Иванович твердо высказался против. Еще во время пребывания в декабре 1770 года принца Генриха в Петербурге Сольмс, весьма точно передававший все, что слышал, писал Фридриху:
«Говорил я также с Паниным о территории, занятой австрийцами в Польше. Он очень смеялся над призрачностью этого факта, будучи того мнения, что если Венский двор и позволяет себе подобные выходки, то Вашему величеству и России скорее должно помешать ему, чем следовать его примеру; что касается его, то он никогда не даст своей государыне совета завладеть имуществом, ей не принадлежащим. Наконец, он меня просил не говорить в этом тоне во всеуслышание и не поощрять в России идею приобретения на основании того, что поступать так удобно».
При чтении этой и некоторых других депеш Сольмса на ум невольно приходят приводимые П. А. Вяземским слова Дениса Фонвизина, служившего у Панина секретарем: «Дружество, больше на ненависть похожее». Это о чувствах, которые Никита Иванович, называемый во многих исторических сочинениях пруссофилом, питал к прусскому королю.
Через некоторое время жизнь заставила Панина изменить тон в беседах с послом Фридриха II. В конце февраля 1771 года он уже говорил Сольмсу, что, если в Совете станет вопрос о присоединении некоторых частей Польши к России, то он будет возражать, хотя, в конце концов, ему, вероятно, придется согласиться, поскольку значительное большинство членов Совета выступало за присоединение.
Дальнейшее известно. Уже к середине мая 1771 года тон высказываний Никиты Ивановича по польским делам заметно изменился.
«Заинтересовав сим образом венский и берлинский дворы, скорее можно будет заключить предполагаемый ныне мир с турками и успокоить польские замешательства», — заявлял он в эти дни в Совете.
На участие России в разделе Панин смотрел как на вынужденный шаг, понимая, что без содействия Пруссии и Австрии закончить войну с турками почетным и выгодным миром невозможно. По должности своей он лучше других знал, какими тяжелыми последствиями могло обернуться продолжение военных действий — силы России были на пределе. В этом смысле раздел Польши представлялся ему единственным в сложившейся в Европе конъюнктуре способом создать благоприятные предпосылки для окончания войны.
Иной точки зрения придерживался Григорий Орлов. Пока Панин противодействовал разделу, он хранил молчание. Когда же Никита Иванович, отчаявшись отыскать иные средства к началу мирных переговоров, переменил взгляды, Орлов принялся открыто осуждать сторонников раздела. Он был твердо убежден в том, что почетный мир России принесут не дипломатические заигрывания с Пруссией и Австрией, а решающие военные победы. Зная это, вряд ли можно считать случайным то обстоятельство, что когда русско-прусские контакты по польским делам вступили в решительную фазу, Орлов оказался в Москве, где занимался усмирением Чумного бунта в сентябре, конце ноября 1771 года.
Вернувшись в Петербург он снова принялся за свое:
«Желание императрицы состоит в том, чтобы окончательно решить, не следует ли ускорить заключение мира на выгодных для России основаниях прямым военным походом на Константинополь», — заявил он в Совете 23 января 1772 года.
На следующий день Совет собрался специально для обсуждения предложения Орлова. Захар Чернышев прочел по бумажке «мнение», сводившиеся к тому, что «предпринять посылку войска в Константинополь раньше июня месяца нельзя».
«Хотя от Дуная до Константинополя всего триста пятьдесят верст, — говорил он, — однако поход не кончится раньше трех месяцев, потому что надобно будет везти с собой пропитание и все нужное».
Панин высказался против предложения Орлова, настаивая на немедленном начале мирных переговоров. Орлов же упорно твердил о необходимости нанести двойной — сухопутными и морскими силами — удар по турецкой столице, предлагая привлечь к этому и запорожских казаков. Панин сомневался, что последние найдут достаточное количество судов.
Остальные члены Совета хранили молчание, подозревая, и не без основания, что за широкой спиной Орлова незримо маячила тень императрицы, которой хотелось окончить войну с блеском.
«Что касается взятия Константинополя, то я не считаю его самым близким; однако, в этом мире не нужно отчаиваться ни в чем», — писала она Вольтеру.
Однако амбициозные замыслы разбились о суровую реальность. Фельдмаршал Румянцев, которому план Орлова был сообщен еще в декабре 1771 года, отнесся к нему скептически.
«Для осуществления столь дерзкого проекта, — писал он Екатерине, — нужно, по крайней мере, удвоить дунайскую армию».
Между тем, подкрепления взять было неоткуда: война с неумолимой методичностью поглощала казавшиеся еще вчера неисчерпаемыми ресурсы огромной империи.
Предварительное соглашение между Пруссией и Россией по польским делам было достигнуто уже в начале 1772 года. В феврале Панин и Голицын с российской стороны и Сольмс — с прусской, подписали секретную конвенцию относительно раздела Польши с приложением, определявшим количество и условия содержания своих войск. Согласие России на раздел увязывалось в этих документах с помощью Пруссии и Австрии в быстрейшем окончании русско-турецкой войны.
Датирована русско-прусская конвенция была 4 января — на месяц раньше ее фактического подписания. Смысл этой маленькой хитрости состоял в том, чтобы ускорить согласие Австрии на участие в разделе. Оно последовало 21 января, а 8 февраля 1772 года в Петербурге и Вене Иосифом II, Марией-Терезией и Екатериной II, был подписан Акт, утвердивший принципы раздела Речи Посполитой. Одновременно были подписаны полномочия Панину с Голицыным и австрийскому послу в Петербурге князю Лобковичу подготовить текст окончательной конвенции.
В основу переговоров, растянувшихся на полгода, лег принцип «l’égalité la plus parfaite» — полного равенства присоединяемых территорий. Несмотря на элегантность формулировок, торговались яростно, рвали Польшу на куски. Фридрих II, называвший раздел «политической нивелировкой», примерялся к Данцингу и Торну. Кауниц, Иосиф II и Мария-Терезия, состязаясь друг с другом в лицемерии, требовали добавить к своей доле то Краков, то Львов, то соляные копи в Величке, дававшие треть доходов в польскую казну.
Самым употребительным в дипломатической переписке стало слово «mince» — «тощий, худой». Крылатой сделалась фраза Марии-Терезии о том, что не стоит терять репутацию ради худой выгоды — «pour un profit mince».
Справедливости ради надо признать, что в этом постыдном торге Екатерина и, особенно, Панин пытались умерить разыгравшиеся территориальные аппетиты Австрии и Пруссии. Никита Иванович твердо стоял за то, чтобы Польша и после раздела сохранила свою политическую независимость, став буфером между тремя державами — участницами раздела. В переданном австрийцам мемуаре, озаглавленном «Observations, fondées sur l’amitié et bonne foi»[55], он настаивал на том, чтобы оставить Польше «une force et une consistence intrinsèque, analogues à une telle destination»[56]. Предложенный им комплексный подход к оценке равенства долей позволил доказать несоразмерность австрийских претензий на Краков и прусских — на Данцинг и Торн.
К 25 июля 1772 года все детали были, наконец, согласованы. В этот день в Петербурге состоялось подписание двух секретных конвенций: одной между Россией и Пруссией, другой между Россией и Австрией. К трем державам отошло около трети территории и сорока процентов населения Речи Посополитой.
Самыми впечатляющими были приобретения Пруссии, решившей задачу исторической важности — воссоединение Восточной и Западной Пруссии. К Пруссии были присоединены княжество Вармия, воеводство Поморское (без Данцига), Мальборгское, Хельминское (без Торуня), часть Иновроцлавского, Гнезнинского и Познаньского — всего тридцать шесть тысяч квадратных километров с населением пятьсот восемьдесят тысяч человек. Фридрих II, именовавшийся до раздела «королем в Пруссии» принял титул «короля Пруссии».
На радостях он хотел наградить Панина прусским орденом Черного орла, однако тот отказался под предлогом, что ранее уже не принял шведский орден Серафимов.
Наиболее обширными оказались австрийские приобретения — Восточная Галиция с Львовом и Перемышлем, но без Кракова — всего восемьдесят три тысячи квадратных километров с населением два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч человек.
К России отошли Восточная Белоруссия и часть Ливонии — девяносто три тысячи квадратных километров с населением один миллион триста тысяч человек.
Станислав-Август обратился за поддержкой в Париж и Лондон, но ответом ему было молчание. 19 апреля 1773 года конфедерационный сейм, созванный под давлением трех держав, признал факт раздела.
Подписание петербургских конвенций по странной, но многозначительной случайности совпало с открытием мирного конгресса в Фокшанах. Узнав о том, что раздел состоялся, Орлов, в решающий момент вновь оказавшийся вне Петербурга, впал в сильнейшую ярость и открыто заявлял, что составители раздельного договора заслуживают смертной казни.
Самое неприятное заключалось в том, что Орлов был не одинок. Еще до раздела посол в Лондоне А. И. Мусин-Пушкин в депеше от 6 (17) марта 1772 года сообщал, что в английском министерстве «сомневаются, чтоб прусский Король при настоящих обстоятельствах не присвоил себе более, нежели справедливо ему принадлежать могло. Опасение сие иногда распространяется не только на всю Польскую Пруссию вместе с Гданьском, но и на раздробление Польши». Подобную позицию по любым меркам нельзя не оценить как проявление гражданского мужества, тем более что далее в той же депеше, посол, уже от своего имени, говорит, что «большое Короля Прусского усиление могло бы знатно уменьшить российскую инфлюенцию в генеральных делах европейских»[57].
Происшедшее в результате раздела усиление Австрии и, особенно, Пруссии казалось слишком высокой ценой за полученные преимущества не одному Мусину-Пушкину. Федор Голицын, племянник и воспитанник Ивана Шувалова, писал в своих «Записках»: «Россия, почти всегда господствовавшая в Польше, усилив соседей, себе выгоды ни малейшей не приобрела». Семен Романович Воронцов, будущий посол в Лондоне, и вовсе называл раздел братского славянского государства с немцами актом неприкрытого и ничем не оправданного коварства. Прямым следствием раздела Польши выглядел и неблагоприятный для России переворот, случившийся в 1772 году в Швеции. Осенью на русско-шведской границе возникла реальная опасность военного конфликта.
Логично предположить, что в подобной, прямо скажем, непростой обстановке вызывающее поведение Орлова в Фокшанах стало последней каплей, переполнившей терпение Екатерины. Не дремал и Никита Иванович, прямо связывавший срыв Фокшанского конгресса с орловской оппозицией политике раздела. Мысль о том, что уступки, сделанные в польском вопросе прусскому и австрийскому союзникам, ни на шаг не приблизили Россию к желанной цели — заключению мира с Турцией, — приводила императрицу в отчаяние.
Это, как мы полагаем, во многом предопределило дальнейший ход событий. Десятилетний союз Екатерины с Орловым был в немалой степени союзом политическим. Как только затянувшаяся связь стала помехой в государственных делах, императрица разорвала ее.
Бушевавшему в Гатчине Орлову, который долго не мог смириться с мыслью о том, что «случай» его миновал, были жалованы пенсия в полтораста тысяч рублей, сто тысяч на устройство хозяйства и десять тысяч крепостных крестьян, не считая знаменитого Мраморного дворца в Петербурге, сервизов, мебели и прочих мелочей.
Среди условий увольнения от двора, которые императрица передала в сентябре 1772 года опальному фавориту со старшим из братьев Орловых, Иваном Григорьевичем, пунктом первым и, очевидно, главным был следующий: «Все прошедшее я предаю совершенному забвению».
Зная характер Екатерины, трудно предположить, что речь шла только об интимных подробностях разрыва. Если наше предположение верно и главную причину удаления Орлова следует искать в сфере политики, то этой причиной могло быть лишь отношение Орлова к польским делам.
8
Последовавшее 4 сентября назначение дотоле никому не известного кавалергарда Васильчикова камергером привело двор в состояние сильнейшего возбуждения. Слишком долго могущество Орлова казалось беспредельным. Многие ожидали, что со дня на день он явится из Гатчины и восстановит status quo. Особенно надеялись на это придворные лакеи и горничные, любившие Орлова за простое обращение и пользовавшиеся его благосклонностью и покровительством.
Да и сам Васильчиков, казалось, считал себя во дворце временным постояльцем. Молодой человек двадцати восьми лет, среднего роста, приятной наружности был чрезвычайно вежлив со всеми, имел кроткий вид и отличался застенчивостью. Новое положение его, видимо, смущало.
Тайным посредником его сближения с императрицей считали князя Федора Барятинского, входившего в ближний круг Екатерины. Известно было также, что Васильчиков приходился двоюродным племянником Кириллу Разумовскому. Когда же молодого камергера стали часто видеть в обществе Панина, приемная его наполнилась посетителями.
Торг с Орловым относительно условий его отставки продолжался почти месяц. Только 28 сентября было объявлено о том, что прежний любимец отправлен в отпуск сроком на один год. Екатерина распорядилась, чтобы Орлову и в Гатчине оказывали знаки внимания, к которым он привык в Петербурге. Ему предоставили придворных поваров, лакеев. Императрица лично выбирала для него постельное белье, скатерти, сервизы. Ее поведение свидетельствовало об опасениях быть обвиненной в непостоянстве своих сердечных привязанностей.
Жизнь, однако, шла своим чередом. По сведениям, проникавшим из внутренних покоев, императрица переживала с Васильчиковым вторую молодость.
Во всей этой суете никто и не заметил, как наступило 20 сентября. А между тем, это был знаменательный день — Павлу исполнилось восемнадцать лет. С совершеннолетием великого князя его сторонники связывали большие надежды. Помня об обстоятельствах прихода Екатерины к власти, Панин ожидал, что великий князь отныне примет более деятельное участие в государственных делах. Однако этот день прошел тихо, по-семейному. К праздничному столу, кроме Павла, Екатерина пригласила только Панина и Сальдерна. Никаких наград и назначений не последовало. Вопреки ожиданиям, достигшего совершеннолетия наследника престола даже не пригласили участвовать в заседаниях Совета.
Сам великий князь не казался особенно огорченным этим обстоятельством. Впрочем, Гуннинг доносил в Лондон в эти дни:
«Думаю, что великому князю небезызвестно то положение, в котором он находится; беспечность, необдуманность, как кажется, не составляют его недостатков. Однако критические обстоятельства, которые его окружают, до того развили в нем природную скрытность, что он делает вид, что ничем не интересуется и не обращает внимание ни на что, кроме пустых забав».
Надо отдать должное проницательности английского посла. Тогда полагали, что летом-осенью 1772 года существовало несколько заговоров, направленных на то, чтобы возвести на престол Павла. Даже Екатерина в ту пору как-то обмолвилась, что новые послы Франции и Испании ехали в Петербург с надеждой на возможность революции в пользу великого князя.
Еще в июле 1772 года Фридрих, внимательно следивший за обстановкой в России, рекомендовал Екатерине вывести из Петербурга гвардию. Совет был услышан. 11 августа Сольмс писал в Берлин:
«Меры предосторожности, предпринимаемые к гвардейцам, заключаются в том, что их почти не пополняют набором, так что в каждом из полков не достает одной трети против определенного положения. Затем тайно и без шума удаляют лиц, подозреваемых в стремлении к возмущению, переводя их в армейские полки. Наконец, во всех этих полках имеются майоры и несколько офицеров, доверенных немцев и лифляндцев, зорко наблюдающих за поступками солдат, дабы иметь возможность погасить искру возмущения. Вследствие этого весьма трудно составить заговор без того, чтобы не дошло до сведения тех лиц, которые могли бы предупредить его».
Впрочем, не все действия Екатерины удостаивались одобрения прусского посла.
«Как согласить с ее здравым и просвещенным умом и замечательной проницательностью свободу, с которой императрица допускает множество злоупотреблений и чрезмерную снисходительность, оказываемую ею всем, столь дерзко нарушающим свои обязанности?» — сокрушался Сольмс.
Читая ее депеши, Фридрих только усмехался. Ирод — так называла Екатерина прусского короля в переписке с Гриммом — прекрасно понимал, что положение, в котором оказалась императрица осенью 1772 года, требовало действий неординарных.
Ропот в гвардии был, однако, лишь частью тревожной, можно сказать критической ситуации, в которой Екатерина встречала десятилетие своего царствования — 22 сентября, через два дня после совершеннолетия Павла, была отмечена годовщина ее коронации.
Гораздо неприятнее было то, что с удалением Орлова произошел опасный крен в балансе придворных партий, поддерживаемом ее знаменитым курц-галопом. Никита Иванович почувствовав, что входит в силу, принялся громко высказывать недовольство ложным положением, в котором оказался Павел после совершеннолетия. Панин намекал даже, что если такое положение сохранится, то он вынужден будет удалиться от службы.
Брат Панина, Петр Иванович, живший после выхода в отставку в своем подмосковном селе Михалкове, не стеснялся в выражениях. Екатерина называла его не иначе, как своим «первым врагом и персональным оскорбителем». Петр Панин характером был горяч, на язык несдержан, и императрице быстро стало известно, что он крайне неуважительно отзывается как о нравах ее двора, так и об отношении к великому князю. Московскому главнокомандующему князю Михаилу Никитичу Волконскому было поручено установить негласное наблюдение за отставным генералом. Волконский расстарался.
«Все и всех критикует», — доносил он в Петербург. Даже чумной бунт, случившийся в Москве летом 1770 года, он, по показаниям какой-то унтер-офицерской вдовы, связывал с кознями Петра Панина.
Отголоски крамольных речей и поступков Панина доносились до северной столицы вплоть до осени следующего, 1773 года.
«Что касается до известного Вам болтуна, — наставляла Екатерина Волконского 25 сентября 1773 года, — то я здесь кое-кому внушила, чтобы до него дошло, что если он не уймется, то я буду принуждена унимать его, наконец. Но как богатством я брата его осыпала выше его заслуг на сих днях, то я чаю, что и он его уймет же, а дом мой очистится от каверзы».
Обратим внимание на эти слова. Они ясно указывают на главную цель и заботу Екатерины: очистить свой дом от каверзы.
В этом, надо полагать, и заключается скрытый смысл дальнейших событий.
9
Вечером 23 декабря 1772 года Орлов неожиданно явился в Петербург и остановился у брата, графа Ивана. На другой день он был принят Екатериной в присутствии Елагина и Бецкого. От императрицы Орлов прошел вместе с Паниным в кабинет Павла Петровича и оставался с ним некоторое время один на один. Отобедав затем у брата, Григорий вернулся во дворец и, как ни в чем не бывало, присутствовал на всенощной по случаю наступающего Рождества. Иностранные послы сделали на всякий случай Орлову визиты, который поспешил нанести им ответные в тот же день.
Относительно причин возвращения отставного фаворита двор терялся в догадках. Между Екатериной и Васильчиковым, казалось, царила полная гармония. Орлов при встречах с Васильчиковым вежливо раскланивался. Сольмс, наблюдавший за ним, отправил в Берлин сообщение, что Григорий Орлов вел себя, как всегда, открыто и дружелюбно. Разница состояла лишь в том, что «императрица как будто старалась не замечать его».
Панин, для которого появление Орлова в Петербурге стало неприятной неожиданностью, устроил императрице сцену. Явно не без влияния своего воспитателя Павел также позволил себе морщиться при появлении «дурачины», как он назвал Орлова. И в довершение всего камергеры Протасов и Талызин, обязанные своим счастьем покровительству Орлова, но сумевшие своевременно переметнуться на сторону нового любимца, разносили по петербургским гостиным всякие гадости о том, что происходило во внутренних покоях Зимнего дворца.
Дошло до того, что Екатерина вынуждена была обратиться к Панину с просьбой не отличать этих людей или, по крайней мере, не относиться к ним как к своим друзьям. Панин, однако, холодно заявил, что Екатерина не должна стеснять его в выборе знакомств. Кстати, жену Талызина, считали его любовницей, и он держал себя так, чтобы этому верили. Екатерину все это страшно злило, но по укоренившейся привычке она высказывала свое недовольство не Панину, а другим, подавая этим повод к новым сплетням и пересудам.
В первых числах января 1773 года Орлов отбыл в Ревель, где рассчитывал остаться до лета. Однако уже в марте вновь удивил всех своим появлением в Петербурге. Люди проницательные связали это с прекращением мирных переговоров в Бухаресте, после которых многочисленные недоброжелатели Панина принялись утверждать, что в провале предыдущего, Фокшанского конгресса виноват вовсе не Орлов, а сам Никита Иванович.
Для Панина наступили тяжелые времена. Орлов вел себя так, будто наслаждался обретенной свободой, появляясь на всех балах и во дворце, и в городе. Казалось, он даже не думал мстить своим врагам — играл в шахматы с Никитой Ивановичем, хотя знал, что тот настойчивее других хлопотал о его удалении от двора.
21 мая 1773 года неожиданно последовал высочайший указ о возвращении Орлова на занимаемые им должностям «ввиду поправки здоровья». Это стало сильным ударом по панинской партии. Никита Иванович оказался в глупейшем положении. Всем, в том числе и Екатерине, было прекрасно известно, что в случае возвращения Орлова к делам он грозился немедленно уйти в отставку.
Панин так растерялся, что повел себя не лучшим образом.
«Поведение графа, — замечал Гуннинг, — совершенно противоположно поведению князя Орлова, ибо он, имея ввиду оклеветать князя, вступил в интриги, не достойные ни его звания, ни характера. Рассчитывая слишком много на власть, которую это ему доставит, и не обладая достаточной твердостью при исполнении высказанного им намерения отказаться от должности в случае возвращения Орлова, он в настоящее время находится в сильном унынии».
Летом 1773 года после приезда в Петербург ланд-графини Гессен-Дармштадтской, Панин распустил слух о намерении Григория Орлова жениться на младшей из дармштадтских принцесс и тем самым сравняться в положении с великим князем. Сольмс, неосторожно сообщивший об этом в Берлин, уже в конце июля был вынужден оправдываться:
«Граф Панин, опасаясь постоянных козней со стороны князя Орлова, видит зачастую вещи в ненастоящем их виде; вражда к старому любимцу создает в его воображении такие планы, которых у Орлова никогда и не бывало».
10
Даже спустя месяц после своей отставки Панин не мог разобраться в вызвавшем ее причудливом взаимосцеплении причин и обстоятельств. Чем глубже он погружался в размышления, тем сильнее ему казалось, что истинные причины ускользают от него.
Ровно за неделю до бракосочетания Павла Петровича с дармштадской принцессой, 22 сентября 1773 года, в годовщину коронации Екатерины, которая всегда праздновалась с особой пышностью, Никите Ивановичу пришлось освободить покои, которые он более десяти лет занимал в Зимнем дворце. Его комнаты были в спешном порядке переоборудованы для супруги Павла Петровича. Обои — розовые с золотыми разводами — и мебель в спальню великой княгини выбирала сама императрица.
Причина переезда состояла в том, что Панин был отставлен от должности обер-гофмейстера, которую исполнял без малого пятнадцать лет. За труды по воспитанию наследника престола ему пожаловали «звание первого класса в ранге фельдмаршала»[58] с жалованием и столовыми деньгами по чину канцлера, четыре тысячи пятьсот двенадцать душ в Смоленской губернии и три тысячи девятьсот душ в Псковской; сто тысяч рублей на обзаведение домом; ежегодный пенсион в двадцать пять тысяч рублей. Для Панина было повелено купить дом в Петербурге, который он сам выберет, и обставить его, а также приобрести серебряный сервиз в пятьдесят тысяч рублей, провизии и вина на целый год. Экипаж и лошади выделялись Никите Ивановичу из дворцовой конюшни, а его слуги получали право носить придворные ливреи.
Награда, что и говорить, достойная. И, тем не менее, послы иностранные предрекали скорое окончательное падение Панина. В подтверждение этого они ссылались на письмо, собственноручно написанное Екатериной, в котором среди прочего содержался и следующий пассаж: «Пусть дни старости нашей увенчаны будут благословением Божьим и благополучием всеобщим после бесчисленных трудов и попечений». При известной способности дипломатов читать между строк эти слова толковались как намек на желательность полного самоустранения Панина от дел.
Это, однако, не входило в планы Никиты Ивановича.
«Je resterai exprès pour la faire enrager»[59]», — так передавал Штакельберг Понятовскому слова, якобы сказанные ему Паниным.
Впрочем, формально Панину не на что было жаловаться. Наследник престола достиг совершеннолетия, женился — странно и смешно выглядел бы при нем воспитатель. Не должно было задевать его и то, что вместо него к великокняжескому двору назначили Николая Ивановича Салтыкова. Одно дело быть наставником наследника престола и совсем другое — приглядывать, и не только в смысле церемониальном, за молодым двором.
Кроме того, Панин не только сохранил, но и упрочил свое положение руководителя российской внешней политики. С начала октября 1773 года в протоколах Государственного совета он именовался министром иностранных дел. Пожалуй, если и было ему на что обижаться в смысле служебном, так только на то, что, получив первый, фельдмаршальский класс согласно Табели о рангах, он не был официально назначен канцлером, чего ожидал и к чему тайно стремился.
Оставаясь наедине с самим собой в гулком одиночестве нового дома, Никита Иванович не мог не признать, что резоны, и весьма веские, поступить так с ним у императрицы были. Дело, конечно, не в том, что и по прусским, и по польским, да и по турецким делам они все чаще не сходились во мнениях. Никиту Ивановича устраивало уже то, что ему дозволялось высказывать свои взгляды. Случалось ведь, и нередко, что с ним соглашались, хотя, как вскоре выяснялось, в основном по вопросам второстепенным.
Дело было в другом. Он часто задумывался, почему именно ему доверила императрица воспитание сына. Никогда, ни в июньские дни 1762 года, ни позже не скрывал он своего убеждения в законности прав Павла на царствование. Не раз заводил разговор о желательности привлечь великого князя к участию в государственных делах, чтобы заблаговременно подготовить его к высоким обязанностям. Екатерина слушала внимательно, но советы его оставляла без последствий. А между тем, чем старше становился Павел, тем более угнетало его вынужденное бездействие. Учиться стал заметно хуже, преподаватели жаловались. Природная живость характера превращалась во вспыльчивость, делавшую его похожим на покойного родителя.
Сейчас уже, после дела, Никита Иванович не мог не признать, что в перемене нрава и поведения великого князя была и его доля вины. Разговоры, происходившие между ними один на один, бывали порой весьма откровенными. Однако, обсуждая с великим князем недостатки в отправлении государственных дел, Панин в силу возраста и опыта считал достоинства екатерининского правления как бы самими собой разумеющимися. Великий князь же с самоуверенностью и максимализмом юности делал свои выводы. Отношение его к правлению матери становилось все более критическим.
Екатерина, конечно же, знала многое из того, что обсуждали между собой великий князь и его старый наставник. И, тем не менее, Панина не трогали.
Почему?
Не находя ответа, Никита Иванович встал из-за обеденного стола, резким движением отбросил салфетку и принялся мерить шагами роскошно убранную столовую. Замерший у дверей дворецкий смотрел в никуда старческими стеклянными глазами.
«Сальдерн, — пронзило вдруг мозг Никиты Ивановича. — Вот оно, вот то самое звено, которое потянуло за собой всю цепь. Вот та решающая ошибка, которую ему при его опытности в обращении при дворе совершать не следовало».
11
Каспар фон Сальдерн[60] был голштинским чиновником и сыном голштинского чиновника. Отец его, Фридрих Сальдерн, был немцем из Ноймюнстера, мать, Анна-Мария Кампфёвенер, — из зажиточной семьи торговцев датского городишки Апенраде. Диплом доктора права, полученный, по семейной традиции, в университете Христиана-Альбрехта в Киле, открыл ему дорогу для службы в канцелярии Голштейн-Готторпского княжеского дома. Начав со скромной должности асессора, к началу 1750 годов Сальдерн был уже бюджетным советником. Служба по таможенной части принесла ему скромный, но устойчивый достаток и испорченную репутацию. В конце 1751 года Сальдерн, желая поправить свои дела, на собственный страх и риск, презрев существующие запреты, отправился в Петербург, где сумел получить аудиенцию у великого князя Петра Федоровича, управлявшего своим наследственным владением из Петербурга. В Киль, столицу Голштинии, он вернулся в чине статского советника и вскоре сделался членом Тайного совета — высшего административного органа герцогства.
Во второй раз Сальдерн оказался в Петербурге в июле 1761 года под именем купца Фридрихсена. Он был послан кильским купечеством, опасавшимся воинственных планов будущего императора Петра III в отношении Дании. Кроме того, к поездке его был причастен и датский первый министр Бернсдорф, ставший впоследствии одним из главных действующих лиц в обмене Голштинии на Ольдербург и Дальменхерст. В российской столице Сальдерну помогал купец из Эккернфиорда Отте, поставлявший ко двору свежие фрукты — лимоны, апельсины, — и дичь.
К этому времени Сальдерн был уже одним из самых влиятельных членов голштинского Тайного совета. Именно его вместе с послом в Копенгагене бароном Корфом Петр III отрядил для участия в Берлинской конференции, которая должна была разобраться в его тяжбе с Данией из-за Шлезвига. Конференция, впрочем, закончилась, едва успев открыться, — 29 июня 1762 года Петр III вынужден был отречься от российского престола.
В самом начале царствования Екатерины Сальдерн был вновь вызван в Россию, где стал советником Панина по голштинским делам. Пользуясь близостью к Никите Ивановичу, он сделался своим человеком в окружении великого князя, причем, по свидетельству современников, более походил на воспитателя, чем сам Панин, так как в отношениях с Павлом Петровичем был строг и педантичен.
Поводом для призвания Сальдерна в Петербург стал неприятный инцидент с датским королем Фредериком V, объявившим себя сразу же после смерти Петра III опекуном великого князя Павла Петровича как малолетнего герцога Голштинского.
Екатерина была крайне возмущена таким оборотом дела.
«Я императрица России, — заявила она датскому послу, — и худо оправдала бы надежды народа, если бы имела низость вручить опеку над моим сыном, наследником русского престола, иностранному государству, которое оскорбило меня и Россию своим необыкновенным поведением».
Решительный тон екатерининских дипломатов быстро возымел действие. Уже в конце октября 1762 года датчане принесли свои извинения, сообщив, что все распоряжения, вызвавшие недовольство в России, отменены. Павел Петрович вступил во владение своим голштинским наследством де-факто.
Только после кончины Фредерика V в 1766 году Екатерина решила возобновить переговоры об урегулировании голштинского дела, начатые еще при Елизавете Петровне и едва не приведшие к войне с Данией во время царствования Петра III. Их вели в Копенгагене Сальдерн и русский посол М. М. Философов. Осенью 1767 года был подписан предварительный трактат (датированный 11 апреля), который должен был быть утвержден Павлом по совершеннолетии. Голштинские владения уступались Дании в обмен на герцогство Ольденбургское и графство Дельменгорстское. До последнего момента датчане не верили, что Екатерина так легко расстанется с Голштинией и, особенно, ее столицей Килем — прекрасным портом, позволявшим контролировать выход из Балтийского моря. На радостях датское правительство приняло на себя уплату довольно крупных долгов, лежавших на Голштинском герцогстве, и предоставило некоторые льготы русским купеческим судам в датских водах.
Вернувшись в Петербург, Сальдерн начал играть видную роль в придворных кругах. Успех в Дании не только создал ему репутацию человека способного и дельного, но и обеспечил доверие императрицы, признательной за быстрое урегулирование деликатного семейного дела.
Сальдерн перешел на русскую службу, и в 1771–1772 годах был послом в Варшаве. Поступавшие от него донесения были толковы и обстоятельны, однако своим крутым нравом и диктаторскими замашками он снискал в польской столице всеобщую ненависть. Накануне публичного объявления о разделе Польши он был отозван в Петербург.
Незадолго до отъезда из Варшавы, в январе 1772 года, Сальдерн предложил Екатерине написать историю управления Голштинским герцогством во время ее опекунства. В плане этого сочинения, по неясным причинам так и не изданного, на нескольких листках перечислялись благодеяния, излитые Екатериной на головы голштинских жителей. Реформы в области административного устройства, финансов, поощрение просвещения, наук и искусств, перечисленные в плане, выглядели впечатляюще[61].
Подобное усердие, конечно же, не могло не импонировать Екатерине. Получив свободный доступ в кабинет императрицы, Сальдерн развил бурную деятельность. Казалось, ни одна из крупных и мелких интриг, происходивших при петербургском дворе, не обошлась без его участия. Сальдерн занимался вместе с Ассебургом и выбором невесты для великого князя, однако после того, как выяснились особые симпатии матери невесты к Панину, начал выступать против этого брака. Ему же, как считали, принадлежала идея передать в наследственное владение Ольденбург и Дельменгорст епископу любекскому Фридриху-Августу, осуществленная летом 1773 года, накануне свадьбы великого князя.
Решение это, кстати сказать, небезупречное с юридической точки зрения, вызвало дипломатические осложнения, улаживать которые Екатерина поручила тому же Сальдерну. Передачу Ольденбурга и Дельменгорста представителю младшей ветви Голштинского дома шведский король Густав III, принадлежавший к старшей ветви того же дома и к тому же титуловавшийся герцогом Ольденбургским и Дельменгорстским, воспринял как личное оскорбление. Панину пришлось немало потрудиться, чтобы уладить дело в Вене (Голштиния, как и Ольденбург, были имперскими владениями) и смягчить недовольство, вызванное нарушением монархического права.
Между тем, после возвращения из Варшавы Сальдерн встал в оппозицию Панину. Поговаривали, что их былому приятельству подошел конец после того, как в руки Панина попали письма Сальдерна из Варшавы Григорию Орлову, в которых тот критически отзывался о составителях раздельного договора, утверждая, в частности, что многих недоразумений с Австрией и Пруссией удалось бы избежать, если бы текст его было поручено подготовить ему, Сальдерну.
Результатом происшедшего объяснения явилось то, что к лету 1773 года Сальдерн ко всеобщему удивлению открыто сблизился с Орловыми и Чернышевыми. Хотя он и уверял, что не намерен вредить графу Панину, взаимное недоверие между ними усилилось. Великий князь, находившийся под влиянием Панина, также переменил свое отношение к Сальдерну и демонстрировал ему холодность, которая того огорчала.
В июле 1773 года, Панин в разговоре с Сольмсом, перечисляя лиц, стремившихся удалить его от великого князя, называл уже не только Орлова и Чернышева, но и Сальдерна. Свою размолвку с ним он объяснял тем, что тот не мог простить ему, что за время его посольства Панин изменил всю систему отношений с Польшей и не одобрял крутых мер Сальдерна в Варшаве.
Только много позже посол узнал, что Никита Иванович слукавил. Отношения его с Сальдерном испортились не только из-за польских дел. Еще осенью 1772 года, накануне совершеннолетия великого князя, Сальдерн сделал Никите Ивановичу предложение, состоявшее в том, чтобы по объявлении великого князя совершеннолетним провозгласить его императором и соправителем Екатерины.
Панин попытался образумить Сальдерна, но куда там. Не найдя у него ожидаемого сочувствия, тот обратился к великому князю. Впоследствии, уже после того, как эта история завершилась, Павел рассказывал, что Сальдерн говорил такие непристойности о его матери, с такой ненавистью отзывался о русских вообще и о графе Панине в частности, что великий князь не знал, что ему ответить. Вконец растерявшись, Павел побоялся сразу рассказать Панину о гнусном поведении Сальдерна, а затем момент был упущен.
Семена, посеянные Сальдерном, дали, однако, свои всходы. Недоверие Павла к Панину возрастало. Попытки графа доискаться причин изменения в поведении великого князя долгое время успеха не имели. Наконец, они объяснились. Поняв опасность предприятия, в которое его пытался вовлечь Сальдерн, Павел перестал видеться с ним.
Поняв, что разоблачен, Сальдерн вместе с Захаром Чернышевым принял деятельное участие в интригах, имевших целью возвращение Григория Орлова. Екатерина почему-то питала доверие к голштинскому проходимцу. Она благосклонно выслушивала наветы в адрес Панина, которые Сальдерн высказывал при всяком удобном случае. Каждое неодобрительное слово, сказанное Никитой Ивановичем в адрес графа Орлова, немедленно становилось известным императрице.
К чести Орлова надо сказать, что он оставался в стороне от возни, устроенной Сальдерном. Однако само его поведение и добродушие, которое он демонстрировал по отношению к Панину, еще более настраивали Екатерину против Никиты Ивановича.
В разговорах с Павлом Панин шепотом разражался филиппиками в адрес Сальдерна, называя его человеком самого гнусного характера, фальшивым изменником, готовым на самые дурные дела, продажным злодеем, способным на все для удовлетворения своего честолюбия. Однако раскрыть истинное лицо Сальдерна Панин по каким-то причинам не торопился. Павлу он говорил, что не рискует сделать этого, опасаясь скомпрометировать великого князя, Сольмсу — что намерен дождаться отъезда Сальдерна в Копенгаген, куда тот был назначен для размена Голштинии на Ольденбург.
На самом же деле для объяснения нерешительности Никиты Ивановича должны были существовать более веские причины. Поговаривали, что Сальдерн нашел способ получить от великого князя бумагу за его подписью, в которой тот обещал слушаться во всем его советов. Документом этим он хотел воспользоваться для составления заговора, но встретил серьезное противодействие Панина. И Никита Иванович предпочитал до времени сохранять тайну, оберегая и своего воспитанника, и Екатерину от неприятных объяснений.
Перед отъездом в Копенгаген Сальдерн поселил во дворце и в канцелярии Панина всеобщее недоверие. Долго еще пришлось Никите Ивановичу разбираться с ложными известиями и фальшивыми признаниями, которые он распространял. Позже уже, много позже стало понятно, что попав в критическую ситуацию, голштинский интриган решил перессорить всех, чтобы никто не докопался до истинных причин его дурных поступков.
Свои излюбленные мистификации Сальдерн продолжил и в Дании. Он издалека показывал желающим письма Екатерины, якобы написанные ему, демонстрировал табакерку с ее портретом, говоря, что она была прислана ему в подарок. Впоследствии выяснилось, что письма были старые, еще польских времен, а табакерку он попросту украл из предназначенного полякам подарочного фонда посольства в Варшаве.
Трудно сказать, почему Панин все лето и осень 1773 года терпел вовсе не невинные проделки Сальдерна. А тот, пользуясь непонятной безнаказанностью, подделывал печати и подписи, вмешивался в распределение пенсий при дворе голштинского герцога. Не обходил он вниманием и самого Никиту Ивановича. Зная о безупречной репутации Панина, Сальдерн решил опорочить его в глазах датского двора, передав (разумеется, под большим секретом) просьбу о переводе Никите Ивановичу двенадцать тысяч рублей, в которых, якобы нуждалась его племянница Екатерина Дашкова. Сальдерн сам взялся доставить их графу, обещав одну тысячу из этой суммы директору канцелярии голштинского посольства Крогу и еще одну — секретарю Панина Денису Фонвизину. В Копенгагене были весьма удивлены, но, учитывая официальное положение Сальдерна, деньги выдали. Разумеется, они оказались в кармане Сальдерна.
Когда в конце октября эта гнусная история стала известна Никите Ивановичу, он понял, что медлить больше нельзя. К тому времени, однако, и он сам, и великий князь по уши увязли в интригах хитроумного голштинца. Разоблачить Сальдерна не составляло труда, для этого имелись все необходимые документы. Однако время было упущено. Панин отдавал себе отчет в том, что прямой разговор с Екатериной на эту тему может скомпрометировать великого князя. Сальдерн, тут же предал бы огласке свои крамольные беседы с Павлом. Да и самому Панину будет трудно объяснить свое преступное бездействие.
К тому же императрица, по всей видимости, не подозревавшая о кознях Сальдерна, и после его отъезда в Копенгаген продолжала делиться с ним семейными новостями[62]. 6 октября, через неделю после свадьбы великого князя, она писала мадам Бьельке в Гамбург:
«Скажите Сальдерну, когда его увидите, что мой дом очищен или почти совсем очищен, что все кривляния происходили, как я и предвидела, но что, однако же, воля Господня свершилась, как я тоже предсказывала».
Что предпринять? Об этом и размышлял Панин, мерно расхаживая по наборному паркету своей столовой. Взгляд его упал на каменное лицо дворецкого, застывшего, как истукан, у прикрытых дверей.
«А ничего и делать не надо, — подумалось вдруг Никите Ивановичу. — Вот ведь стоит человек, как изваяние мраморное в Летнем саду. Знает, что если пошевелится — не миновать ему нагоняя, а то и розог».
Панин остановился, глянул в сторону дворецкого и сказал:
— Кофе подашь в гостиную.
Взгляд старого слуги приобрел осмысленное выражение. Согнувшись в поклоне, он привычным движением распахнул обе створки двери.
Действо четвертое
Картина, представляемая в настоящее время этой Империей, без сомнения, не заключает в себе ничего приятного; не более утешительны и виды на будущее. Тем не менее, механизм управления страной может продолжать действовать по той же самой причине, почему он действовал до настоящего времени. Обстоятельство это нельзя не приписать сверхъестественной силе, если принять в соображение неспособность лиц, в чьих руках предполагается управление ходом дел.
Р. Гуннинг графу Суффолку 5 января 1773 г.1
Зима 1773 года долго норовила обойти Петербург стороной. Погоды стояли ветреные, слякотные, многие из приехавших в северную столицу на свадьбу великого князя заболели. Простудилась мать невесты княгиня Каролина, долго болел Гримм, да и сама Екатерина перемогалась только потому, что нужно же было кому-то присутствовать на свадебных торжествах. В начале ноября слег и Дидро. От невской воды, как он полагал, у него сделались сильнейшие колики. Приглашение сопровождать Екатерину в Царское Село, куда она отправилась 5 ноября, пришлось с извинениями отклонить.
Впрочем, насколько серьезна была болезнь философа, теперь судить трудно. Дидро, ссылаясь на болезнь, отказывался от посещения друзей и даже визита к вице-канцлеру Александру Михайловичу Голицыну, устроившему в своем доме праздник по случаю дня рождения Екатерины. Однако время от времени он выбирался из дома, чтобы проведать старого приятеля Этьена Фальконе.
По складу характера Дидро не мог долго обижаться. Нелюбезный, мягко говоря, прием, который он встретил в доме Фальконе, задел его. Но, поразмыслив, Дидро решил, что причины отказать ему в приюте у Фальконе имелись основательные. В квартире его было всего три спальни, одну из которых занимал он сам, другую — двадцатипятилетняя воспитанница Анна-Мария Колло, а в третьей разместился сын, художник, прибывший из Лондона в середине августа. В двадцатых числах сентября он писал портрет Екатерины, наблюдая за ней из галереи, поэтому его комната, надо полагать, была занята мольбертом, эскизами, да и мало ли чем другим.
К тому же неуживчивый характер Фальконе был давно известен Дидро. Желчный, легко раздражающийся, можно даже сказать озлобленный на все, что не имело отношения к его искусству, скульптор при прямоте своего характера легко впадал в крайности. Это, кстати сказать, во многом объясняло его житейские неудачи. На лице Фальконе, в котором сам он находил сходство с Сократом, даже в сокровенные минуты творчества сохранялось усталое, презрительное выражение. Казалось, он наперед знал, что судьба преподнесет ему ту же горькую чашу цикуты, которую пришлось выпить греческому философу.
Дидро не мог не быть снисходительным к Фальконе и потому, что хорошо знал необычные обстоятельства его жизни. Тот никогда не смог бы добиться успеха, не обладая твердым характером. Родивший в бедной семье, Фальконе с детства мог рассчитывать только на самого себя. Начальное образование его ограничилось тем, что его научили читать и писать. Он стал учеником резчика, занимавшегося изготовлением болванок под парики. Однако тяга к прекрасному превращала деревянные болванки под воздействием еще неумелого резца Фальконе в лица античных героев, которые он копировал со старинных гравюр, купленных на последние деньги у букинистов.
Только однажды фортуна улыбнулась Фальконе и он своего шанса не упустил. Знаменитый в то время парижский скульптор Лемуан согласился взять упорного юношу к себе в ученики и обучил основам мастерства. Лемуан не ошибся. Через десять лет каторжного труда, в 1745 году Фальконе приняли в члены Королевской академии живописи и скульптуры за композицию «Милон Кротонский, разрывающий льва». Он стал постоянным участником Салонов. В 1755 году по заказу всемогущей маркизы Помпадур он изваял статую грозящего Амура — и был приглашен заведовать скульптурной частью на Севрской фарфоровой мануфактуре.
К этому времени и относится знакомство Фальконе с Дидро который не раз писал о нем в «Литературной корреспонденции». Работы Фальконе, выполненные в классическом стиле, приводили Дидро в восторг. Он также ценил основательность познаний скульптора в области теории и истории искусства. К сорока годам Фальконе, всю жизнь пополнявший свое образование, уже писал трактаты о скульптуре и переводил Плиния с комментариями.
Знакомство быстро переросло в дружбу, и когда российский посол Дмитрий Голицын просил Дидро порекомендовать ему скульптора, способного выполнить задуманную Екатериной грандиозную статую Петра I в Петербурге, тот не колебался. 10 сентября 1766 года Фальконе выехал из Парижа в Россию в сопровождении мадмуазель Колло, своей талантливой ученицы. Из двадцати пяти ящиков, отправленных им морем в Петербург, только один содержал его личные вещи, остальные были наполнены книгами, гравюрами, мрамором, слепками и рисунками.
Встретивший Фальконе по приезде президент Академии художеств и заведующий Канцелярией строений генерал-аншеф Бецкий был лаконичен. Памятник Петру должен стать самым величественным из существующих. Иными словами, Фальконе заказали шедевр. И он немедля принялся за работу.
Дидро ликовал.
«Энтузиазм — это то, что отличает гения от посредственности», — любил повторять он.
Энтузиазм Фальконе подогревался пониманием важности поставленной перед ним задачи. Идея композиции памятника возникла почти сразу. Царь-преобразователь представлялся скульптуру верхом на вздыбленном коне, замершем на краю пропасти. С деталями было труднее. Каждое утро к мастерской Фальконе из расположенного неподалеку кавалергардского манежа приводили красавца-коня по имени Бриллиант. Кавалергардский офицер князь Юсупов, искусный наездник, поднимал его перед скульптором на дыбы. Фальконе делал сотни эскизов. Под его стремительным карандашом возникали резкий, на изломе, поворот головы, бешеный взгляд, оскаленные зубы, сильные мышцы породистого животного, напрягавшиеся под тонкой кожей, Потом до позднего вечера он мял глину в мастерской, вглядываясь в рисунки конных памятников различных времен и стран, присланные из Рима и Парижа.
Фигуру Петра Фальконе облек в простую римскую тогу, на голову водрузил венец героя, но лицо царя ему долго не давалось. Чуждый мелочного тщеславия, он поручил вылепить его своей ученице и первый признал, что работа Колло оказалась значительно удачнее его собственной.
Однако очень скоро Фальконе понял, что его представления о прекрасном отличаются от понятий петербургского общества. От природы человек мнительный и подозрительный, он чувствовал себя в Петербурге одиноко.
Дидро, называвший Фальконе «Жан-Жаком скульптуры», писал из Парижа:
«Вы легко видите во всем дурное, ваша впечатлительность показывает его вам в преувеличенном виде; один злой язык может поссорить вас с целой столицей».
Фальконе в ответ сообщил приятелю, что «стал еще нелюдимей».
«Простите, друг мой, это невозможно», — отвечал Дидро.
Летом 1769 года гипсовая модель памятника была готова, а весной 1770 года он был выставлен на публичное обозрение. Первых зрителей, как и следовало ожидать, статуя озадачила. Петербургу еще предстояло понять Медного всадника, который стал его символом. Обер-прокурор Синода, увидев православного царя в римской тоге, затрясся от негодования.
Самолюбие Фальконе было уязвлено. Пожалуй, лишь один человек во всем Петербурге понял и поддержал его в эту минуту.
«Смейтесь над невеждами и глупцами и продолжайте идти своим путем», — эти слова Екатерины скульптор повторял с восторгом и признательностью.
Впрочем, ко времени приезда Дидро энтузиазм, с которым Екатерина относилась к идее сооружения памятника своему великому предшественнику, улетучился. Погрузившись в сложные дела турецкой войны и внутренние неурядицы, императрица мало-помалу теряла интерес и к самому Фальконе. Раздражала ее, надо полагать, и затянувшаяся на долгие годы канитель с отливкой. Мастеров, способных на это трудное дело, в России не оказалось, из-за границы выписывать было дорого, да и затруднительно. Сам Фальконе, после длительных препирательств с Бецким, взявшийся, в конце концов за отливку, также не спешил, дотошно изучая сложные технические детали.
Природный ум и такт долго не позволяли императрице высказать собственные суждения о творении Фальконе. Она произносила осторожные комплименты, говорила, что доверяет ему, но в душе ее медленно вызревали сомнения. Мнилось, что скульптор не вполне сумел воплотить неясный образ, создавшийся в ее мечтах. Величественный всадник, облаченный в тогу римского императора на великолепном вздыбленном коне, с шкурой пантеры вместо седла, несомненно, был, выдающимся произведением искусства. Не надо было обладать развитой художественной интуицией, чтобы ощутить гармонию композиции, исходившие от нее мощь и силу.
Однако таким ли хотелось ей видеть царя-преобразователя, царя-плотника, до основания перевернувшего патриархальную Московию и прорубившего окно в Европу? Даже древний Гром-камень, обтесанный по настоянию Фальконе едва ли не вполовину, казался ей иногда слишком маленьким и незначительным для высившегося над ним великана. Екатерина смутно чувствовала, что не следовало отесывать, полировать камень, снимать с него слой векового мха и придавать ему правильную форму. Она мечтала о всаднике, как бы парящим над городом, а видела перед собой большой камень, придавленный лошадью, слишком громоздкой, как ей иногда казалось, для такого пьедестала и все же едва позволявшей всаднику подняться взглядом выше первых этажей ближайших зданий.
Словом, судьба Медного всадника осенью 1773 года была еще неясной. Екатерину одолевали сомнения — не их ли улавливал чутким ухом и многократно усиливал своим хрипловатым басом Иван Иванович Бецкий, генерал от архитектуры?
2
О всех этих перипетиях Дидро узнал, решившись, наконец, заглянуть по пути из Зимнего дворца в мастерскую Фальконе. Встреча старых приятелей была сердечной. Фальконе обнял Дидро, пряча от него глаза, в которых поблескивали слезы раскаяния.
Подойдя к модели, Дидро на мгновение замер, затем медленно обошел вокруг статуи. Фальконе наблюдал за ним с нараставшим раздражением. Однако, когда Дидро наконец повернулся к нему, лицо скульптора прояснилось.
— Вы — гений, мой друг, вы — гений, — повторял Дидро. Глаза его сияли от удовольствия. — Бушардон, перед именем которого вы скромно преклоняетесь, в сравнении с вами не более, чем подмастерье. Да, он прекрасный знаток лошадей, красивых лошадей. Он внимательно изучил их и превосходно изваял, но это обычные лошади, те, что вы можете видеть в обычном манеже. Бушардон никогда не входил, как вы, друг мой, в конюшни Диомеда или Ахиллеса. Он не видел того коня, которого вы представили так, как только древний поэт умел показывать его. Ваш конь отличается от коней Бушардона тем, что он не есть снимок с красивейшего из существующих, точно так же как Аполлон Бельведерский не есть повторение красивейшего из людей: и тот, и другой суть произведение творца и художника. Сохранив всю чистоту и истину природы, вы придали ему блеск изумительной поэзии. Ваш конь колоссален, но он легок, он мощен, но и грациозен; его голова полна ума и жизни.
Дидро на мгновение замолчал, будто захлебнувшись, затем вновь обернулся к памятнику и, обняв Фальконе за плечи, продолжал:
— Зная о моем отношении к вам, вы понимаете, как я волновался, входя в вашу мастерскую. Я всегда понимал, что воплотить в жизнь этот замысел под силу только гению, и счастлив, что ваше творение вполне отвечает благородству и возвышенности мысли той, которая задумала этот памятник. Все сделано широко, прекрасно переданные детали не вредят общему впечатлению. Ни напряжения, ни труда не чувствуешь нигде. Можно подумать, что это работа одного дня.
По мере того, как Дидро говорил, Фальконе передавалось его воодушевление. Он ловил каждое слово, произносимое его великим другом.
Между тем, Дидро остановился и, посмотрев прямо в глаза Фальконе цепким взглядом хищной птицы, сказал на этот раз уже без улыбки:
— Позвольте, однако, мой друг, высказать вам одну жестокую истину.
Фальконе машинально наклонил голову. На лице его застыла полуулыбка.
А Дидро продолжал тоном значительным и серьезным:
— Я знал вас как человека весьма талантливого, очень искусного. — Он сделал паузу, как бы подыскивая слова. Углы рта его поползли вниз. — Никогда, никогда не предполагал я, что в вашей голове может родиться нечто подобное. Да и возможно ли было предположить, что этот поразительный, величественный образ может возникнуть рядом с изящным изображением Пигмалиона?
Фальконе опустил глаза.
— Оба эти ваши творения — редкого совершенства, но именно поэтому-то они, казалось, должны исключать друг друга. Вы гений, мой друг, вы гений. Вы сумели создать с равным искусством и прелестную идиллию, и отрывок великой эпической поэмы.
С этими словами Дидро, наконец-то, обнял Фальконе. Скульптор уже вполне владел собой и воспринимал похвалы Дидро как должное. Обернувшись к мадемуазель Колло, незаметно присоединившейся к ним, он поманил ее рукой и сказал:
— Вы много говорили о коне, но ничего не сказали о всаднике. А между тем мадмуазель Виктуар[63] это не может быть безразлично. Лицо Петра исполнено ею.
— Вся фигура Петра великолепна, — отвечал Дидро. — И в осанке, и в жесте есть величие, умение повелевать. Что же касается лица, то мне еще в Париже говорили, что оно очень похоже на его портреты. Теперь же я и сам вижу, что мадмуазель Виктуар нас не разочаровала.
С этими словами Дидро обнял и расцеловал девицу.
— Вы слишком добры ко мне, мэтр, — отвечала она, посматривая в сторону Фальконе, — Этьену пришлось так много поправлять в моей работе.
— Посадка Петра очень хороша, — продолжал между тем Дидро, — уверенная, властная. Герой и конь сливаются в прекрасного кентавра, человеческая, мыслящая часть которого по своему спокойствию составляет чудный контраст с вздыбленной стихией животного. Одеяние просто и исполнено в высоком стиле, приличествующем герою.
Дидро еще раз обошел вокруг памятника, вглядываясь в детали.
— Вы создали истинно прекрасное произведение, друг мой, — заключил он на этот раз спокойнее. — Оно чрезвычайно соразмерно. Смотришь с разных сторон, ищешь невыгодный ракурс — и не находишь его. Вглядываясь с левой стороны, предугадывая через гипс, мрамор или бронзу правую сторону статуи, содрогаешься от удовольствия, видя с какой поразительной точностью обе стороны сходятся. Прекрасная, прекрасная работа. Уверен, что мне захочется увидеть ее и во второй, и в третий, и в четвертый раз. И каждый раз я буду делать это с одинаковым удовольствием.
Потом уже, ужиная в маленькой гостиной Фальконе, сплошь заставленной гипсовыми слепками лошадиных голов и античных торсов, Дидро спросит у своего друга:
— Так что же, мэтр, вы и сейчас, прикоснувшись к вечности, не изменили своего мнения о суде потомков?
Несмотря на умиротворение, придававшее спокойствие и даже некоторую кротость аскетическим чертам лица скульптора, суждения его не утратили своей категоричности.
— Ничуть, мой друг, ничуть. Ваше мнение для меня по-прежнему более ценно, чем брань или похвалы тех, кто будет жить через сто лет после нас. Признание и успех хороши при жизни. До того, что будет после меня, мне нет дела.
— Да неужели же вам в самом деле безразлично, что скажут о вас будущие ценители искусства? — изумился Дидро.
— Абсолютно все равно, — равнодушно подтвердил Фальконе. — Да и, согласитесь, кто может поручиться, что наши потомки будут разбираться в скульптуре лучше, чем, к примеру, Винкельман. Читая его «Историю искусств», я был убежден, что конная статуя Марка Аврелия в Риме — образец совершенства. Я заказал и получил слепок этой статуи. И что же? Этот хваленый конь сделан с нарушениями правил не только оптики, но и физики. Голова его холодна и невыразительна, а судя по размерам и движениям ног, если бы он ожил, то мог бы скакать, двигая лишь задними ногами, но не передними. Тысячи глупцов, однако, повторяют вслед за Винкельманом глупейшие суждения о предмете, в котором ничего не понимают.
— Кстати, Дени, — продолжил Фальконе, — тот же вопрос, что и вы задала мне недавно наша великая женщина.
— Императрица? — поднял брови Дидро.
— И я ответил, что готов не подписывать под этой статуей своего имени.
— И что же она?
— В этом вся суть, мой друг, в этом вся суть. Ее ответ был прелестен. «Как вы можете полагаться на мой суд, — писала мне она, — когда я и рисовать не умею. Ваша статуя будет, быть может, первой хорошей, виденной мной. Всякий школьник больше моего смыслит в вашем искусстве».
— Какая женщина, какая удивительная женщина, — воскликнул Дидро. — Она совершенно права, давая приблизиться к себе: чем ближе ее узнаешь, тем более она от этого выигрывает.
— Да, — согласился Фальконе, — такой ответ сделал бы честь и Марку Аврелию. К сожалению, окружают ее невежды и остолопы.
— А где иначе? — живо возразил Дидро. — Со времен Рима у трона императора толпятся не философы, а подлецы. Да вспомните хоть наш Версаль, любой европейский двор, ну, может быть, кроме берлинского…
— И все же такие дремучие дураки, как в России, для Европы редкость, — упрямо продолжал Фальконе. — Возьмите хоть нашего здешнего наставника, Бецкого. Можете себе представить, что этот Сфинкс, как она его называет, вполне серьезно давал мне совет поставить памятник Петру Великому таким образом, чтобы тот одним глазом смотрел на здание Сената, а другим — на Адмиралтейство, находящееся в противоположной стороне?
— Вы шутите? — вскричал Дидро, заливаясь от смеха.
— А сколько крови он испортил мне со змеей, ползущей под ногами коня? — продолжал Фальконе, все более воспламеняясь. — Сколько ни объяснял я ему, что это аллегория зависти, обычного спутника великих людей, как ни доказывал необходимость дать тяжеловесной скульптуре третью точку опоры, как ни показывал сделанные мною вычисления — он требовал, да и до сих пор требует ее уничтожения. Лишь сознание важности доверенного мне дела и поддержка нашей августейшей покровительницы дает мне силы бороться с этим чудовищем.
— Ecraser l’infâme — раздавить гадину, — еле выговорил Дидро, продолжая хохотать, — мне кажется я где-то уже это слышал.
— Теперь вот эта история с отливкой, подумать только: потрачены сотни тысяч и, клянусь, не меньше половины разворовано или пущено на ветер, а выписать знающего литейщика из Европы считается делом чересчур дорогостоящим. Боже, где взять силы?!
— Что же императрица? — поинтересовался Дидро.
— Если бы я делал памятник ей, — в сердцах воскликнул Фальконе, — то змее непременно придал бы физиономию Бецкого. Но зависть и невежество, друг мой, победить нельзя. Императрица не отвечает на мои письма уже три недели.
— Я постараюсь увидеть ее, — сказал Дидро спокойно.
В конце августа 1775 года уже после отъезда Дидро из Петербурга, Фальконе приступил, наконец, к отливке. Она, однако, не удалась. Из-за небрежности помощника Фальконе Поммеля, не уследившего за рабочими, голову всадника и верхнюю часть коня пришлось отливать заново. Только летом 1778 года памятник был вполне готов. Резец скульптора сгладил шероховатые следы спайки.
В сентябре 1778 года, после двенадцати лет упорного труда, Фальконе покинул Петербург, а еще через четыре года, 7 августа 1782 году, в столетнюю годовщину вступления Петра на престол, состоялось торжественное открытие Медного всадника. Когда полотняные щиты, укрывавшие его от взглядов бесчисленной толпы, были убраны, на хмуром петербургском небе просияло солнце. Гвардейские полки в числе двадцати пяти тысяч человек выстроились в каре вокруг памятника великому преобразователю России. С Петропавловской крепости и подошедших к берегу военных судов грянули пушки. Екатерина наблюдала за торжественным действом с балкона Сената. Когда звуки военной музыки, оружейная и пушечная пальба прекратились, Бецкий поднес государыне изготовленную по этому случаю медаль. На одной стороне ее был представлен памятник, на другой изображена сама государыня.
На следующий день после открытия памятника Екатерина писала Гримму:
«Петр I, почувствовав себя под открытым небом, имел, как нам показалось, столь же бодрый, сколь и величественный вид. Можно было думать, что он доволен своим созданием. Долго я была не в силах смотреть на него, я была растрогана и когда оглянулась кругом, то увидела, что у всех на глазах слезы. Его лицо было повернуто в сторону, противоположную Черному морю, но его поворот головы говорил, что он охватывает сразу весь горизонт. Он находился слишком далеко от меня, чтобы я могла с ним говорить, но мне казалось, что он испытывал удовлетворение, которое передалось и мне и придало мне желание работать в будущем еще лучше, если это в силах моих».
Что касается Фальконе, то ни в этот день, ни в последующие дни Екатерина, да и никто другой в Петербурге про него не вспоминали.
3
С первого дня своего появления в Петербурге Дидро оказался в центре политических интриг, замешанными в которых были персоны значительные — послы Франции и Пруссии при петербургском дворе.
Фридрих II ревниво следил за поездкой Дидро. Он не хуже Екатерины понимал, что тот, на чьей стороне были симпатии философов, заручался поддержкой общественного мнения всей Европы. Кроме того, он опасался и, как мы вскоре увидим, не без основания, что французская дипломатия не преминет использовать поездку Дидро во вред Пруссии. В Берлине принялись распускать слухи о том, что в Версале крайне неблагоприятно отнеслись к паломничеству Дидро ко двору Северной Семирамиды.
Между тем, перед отъездом Дидро был принят руководителем французской внешней политики герцогом д’Эгильоном. Заинтересованный, чтобы не сказать больше, прием встретил философ и у французского полномочного министра в Петербурге Франсуа Мишеля Дюрана де Дистроффа.
А теперь несколько слов о Дюране. Поверьте, человек этот заслуживает нашего внимания.
Дюран появился при дворе Екатерины осенью 1772 года, накануне совершеннолетия великого князя. В Версале, как впрочем и при других европейских дворах, ожидали в связи с этим важных перемен в российских государственных делах, которые надеялись использовать для улучшения отношений между Францией и Россией.
Отношения эти в первые годы царствования Екатерины оставались натянутыми, чтобы не сказать неприязненными. В Петербурге это связывали с кознями герцога Шуазеля, остававшегося до конца 1770 года государственным секретарем Людовика XV по иностранным делам. Екатерина считала Шуазеля своим первым врагом в Европе. Действительно, ненависть герцога к российской императрице граничила с патологией. В инструкциях французским послам, отбывавшим к месту службы, Екатерине давались самые нелестные характеристики, причем, как ни странно, Шуазель, питавший, несмотря на малый рост и огненно-рыжую шевелюру, склонность к прекрасному полу и державшийся при дворе Людовика XV благодаря расположению всесильной маркизы Помпадур, особенно сокрушался по поводу падения нравов в Петербурге.
А между тем, всего десять лет назад, накануне воцарения Екатерины, Россия и Франция, казалось, стояли на пороге новой эры в своих отношениях. Помня о роли, которую сыграл маркиз де ля Шетарди в восшествии на престол Елизаветы Петровны, Екатерина поручила весной 1762 года своему секретарю Одару обратиться к французскому послу с просьбой о тайной финансовой субсидии. Деньги нужны были для агитации в гвардии.
Послом Франции в Петербурге был в то время барон Луи Огюст де Бретейль. Коллеги по службе характеризовали его следующим образом: «Тщеславный и грубый, хотя и беспардонный и безнравственный». Впрочем, Людовик XV и руководитель его тайной дипломатии, так называемого Секрета короля, граф Шарль де Брольи относились к Бретейлю более снисходительно. Он был посвящен в Секрет и поддерживал прямую переписку с королем, игнорируя приказы Шуазеля, если они вступали в противоречие с предписаниями Людовика XV (это, кстати говоря, случалось нередко). Король и его министр иностранных дел сходились лишь в одном: крайней антипатии к России. В инструкциях, данных Людовиком Бретейлю, об этом было сказано без обиняков:
— Vouz savez déjà et je repeterai ici bien clairement, que l’objet de ma politique avec la Russie est de l’éloigner autant qu’il sera possible des affaires de l’Europe[64].
Как ни странно, но подобные заявления делались в Версале в разгар Семилетней войны, в которой Россия и Франция выступали союзниками. Стоит ли после этого особенно удивляться тому, что денег Бретейль Екатерине не дал?
Впрочем, отказ в деньгах сам по себе был бы небольшой бедой, поскольку субсидировавший переворот английский посол Вильямс также не извлек особых политических выгод из своей щедрости — после воцарения Екатерина аккуратно вернула англичанам долг (Вильямс к тому времени умер), тепло поблагодарила — и только. Хуже было другое. Опасаясь быть обвиненным в причастности к подготовке переворота, Бретейль за две недели до воцарения Екатерины демонстративно отбыл в отпуск. Его вернули с полдороги, но дела посла при екатерининском дворе явно не заладились, хотя сама Екатерина зла, казалось, не помнила, беседовала с Бретейлем доброжелательно и даже первое время отправляла через него письма Понятовскому, после переворота рвавшемуся из Варшавы в Петербург. Возникли, однако, протокольные сложности. Франция медлила с признанием императорского титула Екатерины. Бретейль был единственным из аккредитованных в Петербурге дипломатов, не присутствовавшим при коронации Екатерины.
Екатерина в споре о титуле заняла более жесткую позицию, чем Елизавета Петровна и Петр III, давшие французским послам затребованный ими реверсаль — документ, предусматривающий, что признание императорского титула не будет означать изменения действовавшего протокола, обеспечивавшего preséance[65] французских дипломатов перед русскими. Давать реверсаль Екатерина отказалась категорически — терять достоинство перед Людовиком XV, которого оценивала чрезвычайно низко, никак не входило в ее планы.
Исправлять ошибки и оплошности, допущенные Бретейлем и его преемниками (сменившему его поверенному в делах Беранже было и вовсе запрещено появляться при дворе), предстояло новому полномочному министру Франции в Петербурге. Энергией и опытом Дюран превосходил своих предшественников. На дипломатической службе он, выходец из семьи депутата парламента от округа Мец, находился более четверти века. Еще на Аахенском конгрессе, завершившем борьбу за австрийское наследство, Дюран показал себя дипломатом умным, мужественным и скромным. Граф Шарль де Брольи, глава Секрета короля, в полной мере оценил его профессиональные качества. В 1754 году Дюран оказался на посту полномочного министра в Варшаве, совмещая представительские функции с работой агента тайной дипломатии. После того, как была перехвачена его секретная переписка с де Брольи, он попал в опалу, длившуюся вплоть до отставки Шуазеля в 1770 году.
В 1771 году в Лондоне вспыхнул скандал с шевалье д’Эоном, присвоившим секретный архив французского посольства в Англии — и Дюран снова при деле. Направленный в Лондон графом де Брольи, он смог получить у д’Эона самый опасный документ архива — письмо о проведении разведки английского побережья для возможной высадки морского десанта с собственноручной подписью Людовика XV. Лондонский успех принес Дюрану пост полномочного министра в Вене. Здесь, однако, его постигла та же неудача, что Кэткарта в Петербурге. Канцлер Кауниц был так скрытен, что в Версале узнали о разделе Польши только спустя несколько месяцев после подписания первых соглашений между Россией, Австрией и Пруссией. (Кстати, известный Сабатье де Кабр, предшественник Дюрана в Петербурге, весной 1772 года также не верил, что раздел Польши уже фактически совершился.) Избежать неприятностей Дюрану удалось лишь благодаря протекции Брольи, который рекомендовал его сменившему Шуазеля герцогу д’ Эгильону.
Пост посланника в Петербурге оказался последней услугой, которую успел оказать де Брольи своему протеже. Времена изменились. Людовик XV, который и в лучшие годы с гордостью говорил о себе: «Je suis un homme inéxprimable»[66], с начала 1772 года, за два года до своей кончины, перестал интересоваться чем-либо кроме охоты. Влияние бесцветного д’Эгильона, благодаря благосклонности последней фаворитки короля мадам Дюбарри, сделалось неограниченным. К счастью, Дюран был известен д’Эгильону — он помогал ему составить мемуар, обосновывающий необходимость для Франции заключения союза с малыми государствами Бурбонского дома — в противовес Северной системе Панина. Д’Эгильон, успевший к тому времени сделать то, что не успел Шуазель, — отправить в отставку де Брольи, — нашел, что Дюран, несмотря на близость к опальному руководителю Секрета короля, — дельный человек. Герцог решил дать ему шанс взять реванш за неудачу в Вене.
Дюран появился в русской столице в июне 1772 года. С первой задачей, поставленной перед ним королем, он справился быстро. Спор о титуле был окончен компромиссом, устроившим обе стороны. От требования реверсаля французы отказались, настояв взамен, чтобы Екатерина в письмах к Людовику XV называла его не просто «Votre majesté»[67], но «Votre majesté très chretienne»[68]. Кроме того, поскольку по-французски новая формула королевского титула звучала не вполне благозвучно, официальную переписку было решено вести на латыни.
Это была маленькая дипломатическая победа Екатерины. «Die armen Leute»[69], как она называла французов, подразумевая, прежде всего, Версаль, после провалов своей политики в Польше и Швеции, вынуждены были вести себя скромнее. Герцог д’Эгильон в беседах с русским поверенным в делах в Париже Хотинским открыто винил Шуазеля в недальновидности, признавая фактическую изоляцию Франции в Европе.
Однако союз России, Пруссии и Австрии, действовать против которого предписывалось Дюрану, оказался неожиданно прочным. Главную причину этого французский дипломат видел в пруссофильской политике Панина. Противодействовать ей, по мнению посла, можно было, только поддерживая влияние при дворе Орловых. Дюран с головой погрузился в интриги, паутиной опутавшие петербургский двор весной-осенью 1773 года. Григорий Орлов стал частым гостем в его доме. Дюран, однако, с удивлением обнаружил, что отставной фаворит по натуре незлобив и, поругивая под настроение Панина, вовсе не собирался мстить ни ему, ни сменившему его в будуаре императрицы Васильчикову.
Никита Иванович же, напротив, узнав о намечающемся приятельстве Дюрана с Орловым, принял меры. Прошло совсем немного времени — и француз почувствовал, что вокруг него образовался вакуум. Словоохотливый прежде Панин стал при встречах неожиданно лаконичен, приглашения присутствовать на Эрмитажных собраниях поступали через раз. Даже во взгляде Орлова Дюрану чудилось некое сожаление. Такими печальными оказались дела французского посла к моменту приезда Дидро.
4
«Peu fréquentez notre Ambassadeur. On est disposé à regarder comme des espions ceux qui sont assidus chez lui[70]», — так наставлял Фальконе своего друга, когда тот начал осваиваться в Петербурге.
Совет благоразумный. Однако Дидро ему не последовал. Он не только не раз встречался с Дюраном, но и попытался, по его просьбе, исправить представления Екатерины о Франции и французской политике.
«Уничтожьте, если это окажется возможным, предубеждение императрицы против нас. Дайте ей почувствовать, насколько ее слава могла бы приобрести блеска тесным союзом с нацией, более чем всякая другая способной оценить выдающиеся способности императрицы и придерживаться относительно нее благородного образа действий».
Эта не лишенная вдохновения импровизация посла, прозвучавшая на одной из его встреч с Дидро, ясно показывает, как верно понял он, что в беседах с философом следует обращаться не столько к его разуму, сколько к чувствам.
Мотивы, которые побудили Дидро взяться за выполнение этого поручения, не вполне ясны. Конечно, он сам не раз называл себя добрым французом и давал понять, что за границей его патриотизм возрождается. Похоже, однако, что было еще кое-что. Возможно, аукнулась история с предисловием к рукописи Гельвеция, так возмутившим Версаль.
Дидро принялся за дело основательно.
— Если Ваше величество позволит, — говорил он, устраиваясь октябрьским вечером в кресле напротив императрицы, — я бы хотел сегодня помечтать вслух. Предметы наших бесед были настолько серьезны, что, право, надо же когда-то и пофантазировать.
— И о чем же вы собираетесь мечтать, господин философ?
— О Франции и России, — живо отвечал Дидро, — о союзе и согласии этих двух великих держав.
— Вы решили заняться дипломатией? — подняла брови Екатерина.
— Что вы, Ваше величество, дипломат и философ — антиподы. Послы направляются в чужие страны, чтобы лгать на пользу своему государству. Философ же обязан всегда говорить правду.
— В таком случае не думаю, чтобы вы могли бы сказать что-то в оправдание политики вашего кабинета по отношению к России, разве что это действительно будут мечты наяву.
— Возможно, Ваше величество, — отвечал Дидро, — но это будут мечты человека честного из принципа. Для того, чтобы быть патриотом и гражданином, необходимо быть правдивым даже в мечтах.
На лице Екатерины появилась слабая улыбка, как бы приглашавшая Дидро продолжать.
— Я не дипломат, — Дидро говорил все быстрее, что являлось верным признаком овладевавшего им энтузиазма. — И поэтому я действительно ничего или почти ничего не могу сказать в оправдание той политической системы, которой Франция придерживалась совсем недавно. Однако герцог Шуазель скоро уже два года находится в изгнании, а политика нынешнего министерства состоит в том, чтобы разрушить всю работу предыдущего. Может быть, это делается бессознательно, но сути дела не меняет. Важно другое. К удалению господина Шуазеля двор отнесся со своим обычным равнодушием. В обществе же это событие вызвало совсем другие чувства, и эти чувства очень походят на ожидание перемен.
— Говоря об обществе, вы имеете в виду ваших друзей философов?
— Есть вопросы, в которых мы все сходимся. Думаю, для Вас не секрет, что во Франции не любят прусского короля; в этом и двор и философы придерживаются единого мнения, только мотивы у нас разные. Философы ненавидят его потому что видят в нем самолюбивого, беспринципного политика, для которого нет ничего святого, вечную угрозу для Европы. Двор же ненавидит прусского короля за то, что он великий человек и за то, что он может помешать нашей теперешней политике.
Горячность Дидро, казалось, начинала нравиться Екатерине.
— Вы, кажется, не любите этого государя? — спросила она тоном, в котором вовсе не чувствовалось неудовольствия.
— Он великий человек, но плохой король и при том фальшивомонетчик.
— Но и ко мне попала часть его монет, — заметила императрица, улыбаясь.
— Что вы, ваше величество, — вскричал Дидро, — во Франции все ясно видят разницу между Вами и прусским королем! В Париже нет ни одного честного, просвещенного и доброго человека, который не обожал бы ваше величество. За вас все академики, философы, писатели, и они этого не скрывают. Ваши добродетели, ваш гений, ваши поступки и в войне и в мире прославляются на тысячу ладов, и двор, по-моему, не особенно доволен, что у прусского короля появилась такая соперница.
— Вам не кажется, что вы противоречите сами себе, господин Дидро?
— Отнюдь, я же не говорю, что наш двор или какой-то другой способен простить вам ваше величие. Однако то, что в Версале чувствуют в данную минуту все выгоды хороших отношений с державой, теперь уже весьма могущественной и большими шагами идущей к еще большему могуществу, — в этом я не сомневаюсь.
Эти слова Дидро сопроводил эффектным взмахом руки. Екатерина невольно отпрянула назад, но увлекшийся философ не заметил этого.
— Франции нет никакого резона мешать вам занять место среди могущественных государств Европы в то время, как два ваших соседа сделают все, чтобы Россия оставалась государством второстепенным. Несмотря на Парижский трактат, наш естественный противник — Австрия, а ваш — Пруссия. Именно поэтому Франция охотно вступит в союз с вами. Мы все убеждены, что могущество России прочно и непоколебимо. Успехи же Пруссии временные, кто знает, кто будет править этим экипажем, когда постаревший в войнах кучер, держащий сейчас вожжи, свалится с облучка?
— Да, теперь я вижу, что в своем стремлении говорить правду вы не знаете границ, — задумчиво сказала Екатерина. — Но если вы правдивы из принципа, то не знаете ли вы людей дурных из принципа?
Дидро был слишком возбужден, чтобы почувствовать предупреждение, таившееся в этих словах.
— И даже из самого высшего круга! — воскликнул он. — Прежде всего, я назову короля прусского.
— А я вас на этом остановлю, — холодно сказала императрица. — Ваши мечты слишком конкретны, мне начинает казаться, что они не плод вашего воображения, а нечто напоминающее политический мемуар, написанный во французском посольстве.
Дидро не смутил такой поворот разговора.
— Не скрою, ваше величество, — продолжал он, — часть из того, что я имел честь только что изложить, навеяно беседой с нашим здешним представителем, господином Дюраном. Впрочем, я думаю, что он поступил весьма основательно, предпочтя сделать это через меня, — человека, говорящего правду из принципа. Господин Дюран достаточно умен и образован, чтобы понимать: то, что может позволить себе философ, далеко не всегда может позволить себе посол.
— А что он за птица, этот Дюран? — спросила Екатерина. — Он уже год, как здесь, а я все не пойму, что у него на уме.
— Я нахожу его, может быть, излишне острым на язык, но честным и здравомыслящим. Кроме того, его остроты не оскорбительны. На родине, где трудно избежать клеветы и пересудов, он пользуется репутацией человека весьма достойного. Что же касается его политических идей, то он много говорил мне о важности равновесия между четырьмя главными державами, от которых зависят судьбы Европы — России, Франции, Австрии и Пруссии. Он убежден, что без участия вашего императорского величества установить такое равновесие невозможно, это его подлинное выражение.
Дидро немного помедлил:
— Конечно, Дюран — представитель нашего правительства и вынужден действовать в его интересах. Однако не думаю, чтобы он с такой настойчивостью добивался того, что не отвечало бы выгодам вашего императорского величества.
К сожалению, ни в архивах, ни в бумагах Дидро не сохранилось достоверных указаний на то, как реагировала Екатерина на его дипломатические экзерсисы. Дюран оценивал их оптимистически. Во всяком случае, в депешах герцогу д’Эгильону он сообщал, что Екатерина в беседе с Дидро упрекала себя за раздел Польши, предавалась мрачным рассуждениям о том, что скажет о ней потомство и печалилась, что Россия во всем этом деле играла роль слуги Пруссии.
Стоит ли удивляться, что Дидро, проинструктированный Дюраном, поспешил заверить Екатерину, что в Версале смотрят на раздел Польши, как на дело решенное. Однако, сделал он это весьма своеобразно. Вряд ли Дидро подозревал, как он был прав, говоря, что слишком правдив для того, чтобы быть дипломатом.
— Нет сомнений, что дележка барана, — втолковывал он Екатерине, имея в виду Польшу, — станет когда-нибудь причиной ссоры, и продолжительной ссоры, между тремя волками — Россией, Австрией и Пруссией. Я думаю, что это зрелище нас весьма позабавит, тем более, если Австрии при этом хорошо достанется. Франция — четвертый волк, и вот как она рассуждает: «Если когда-нибудь мой сосед, австрийский волк, вздумает показать мне зубы, то для меня было бы выгодно, если бы в это время русский или прусский волки начали кусать его за ляжки».
— Это взаимное опасение, возможно, будет сдерживать всех четырех, — заключил Дидро и посмотрел на Екатерину невинными глазами.
После вопроса о разделе Польши всего полшага оставалось до темы, еще более актуальной.
— Мы приходим в отчаяние от продолжительности настоящей войны, — говорил Дидро. — Если бы она стоила лишь одного года вашего царствования, то и это было бы слишком дорогой ценой, потому что война отвлекает вас от великих предначертаний, задуманных вами для счастья вашего народа. Франция и только Франция может помочь заключить вам выгодный и почетный мир. Мы ваш естественный союзник. Когда вы заключите мир с Турцией, то мы во Франции не будем ни огорчены, ни обрадованы, но прусский волк зарычит.
Разумеется, подобные беседы не могли долго сохраняться в тайне. Гуннинг докладывал своему двору 12 ноября 1773 года:
«Чрезвычайно конфиденциально и под условием тайны граф Панин сообщил мне, что г. Дидро, пользуясь постоянным доступом к императрице, вручил ей несколько дней назад бумагу, данную ему г. Дюраном и содержащую условия мира с турками, которых французский двор обязуется достигнуть, если его добрые услуги будут приняты императрицей. Г. Дидро, извиняясь в этом поступке, совершенно выходящем за рамки его сферы, объяснил, что не мог отказаться от исполнения требования французского посланника из-за опасения быть по возвращении на родину отправленным в Бастилию. Ее величество, как сообщил мне г. Панин, отвечала, что ввиду этого соображения она извиняет неприличие его поступка, но с условием, что он в точности передаст посланнику, что сделала она с этой бумагой. А императрица бросила ее в огонь».
Детали, сообщаемые английским посланником, слишком живописны, чтобы выглядеть достоверными: каждый, кто занимался российской историей, остережется принимать на веру рассказы дипломатов и мемуаристов об уничтожении важных документов, причем непременно в огне каминов. Их слишком много.
Впрочем, обстоятельства эпизода с сожжением мемуара для нас несущественны. В записках, даже скорее, в кратких эссе, которые Дидро составлял после бесед с Екатериной, ясно видны следы его старательных и весьма добросовестных попыток выполнить поручение Дюрана.
5
Биографы Никиты Ивановича Панина неохотно вспоминают о его ноябрьском разговоре с Гуннингом, а если и вспоминают, то, перекрестившись, кивают на Макиавелли либо же сокрушаются о том, как не соответствовали высоким целям панинской политики негодные средства их достижения.
Сам же Никита Иванович вряд ли задумывался над столь тонкими материями. Интрига для дипломата — естественная среда обитания. По этой логике агента Секрета короля, немало, кстати, попортившего крови Панину по своей прошлой службе в Варшаве, надлежало укоротить. И Никита Иванович проделал это не без изящества. Анекдот с сожжением французского меморандума он поведал не Сольмсу, который живо докопался бы до истины, проверив информацию через венский двор, а Гуннингу, возможности которого в этом смысле были не в пример скромнее. В результате и французский, и английский дипломаты оказались в превеликой конфузии. Стрела, посланная верной рукой, попала в цель.
Внимательно приглядывать за Дюраном заставляли и поступавшие сведения о том, что французские военные советники пытаются установить связи с Пугачевым. На иностранный след, ведущий к Яику, намекал в беседах с Никитой Ивановичем и Сольмс.
Осенью 1773 года посол в Вене князь Дмитрий Михайлович Голицын получил возможность читать дипломатическую переписку Дюрана, приходившую в Париж через Вену (подкупив одного из секретарей французского посла в Австрии Луи де Рогана). Письма эти, обошедшиеся русской казне в двадцать тысяч рублей, ясно доказывали, по мнению Дмитрия Михайловича, «презрительную и мерзостную глупость легкомысленного посла и бесовскую злость нрава его». Из них следовало, что французские офицеры отправлялись к бунтовщикам «Черным морем, а потом пробирались через Черкасскую землю и Грузию»[71].
К чести Панина надо заметить, что при всей антипатии к Дюрану он смог досконально разобраться с этой историей и сделать трезвые и объективные выводы.
Вот полный текст его шифрованной депеши Голицыну от 12 апреля 1774 года:
«Депеши Вашего сиятельства от 20/31 марта, с курьером отправленные, я исправно получил. Чем важнее оных содержание, тем более заслуживает оно точного исследования в своей достоверности, тем паче по моей к Вам искренней дружбе и всегдашнему истинному почитанию, поставляю за долг сделать Вам, милостивый государь мой, примечания мои на сообщенные Вами пиесы, исследывая в точности обстоятельствы их содержания.
Во-первых, открывается мне подлогом самой ключ, коим написана депеша, Дюрану приписуемая. Вот какие неоспоримые причины имею я по сему подозрению. Многие шифрованные депеши как предместников Дюрана, так и его самого имею я уже разобранными, следственно, известно мне содержание оных, система цифирных ключей французского кабинета, стиль Дюрановых депеш и образ его о вещах рассуждения. Все оное совершенно разнствует от депеш, сообщенных Вашему сиятельству, и сию разницу здесь же изъясню вам подробнее.
Ключ оной состоит из одного алфабету, следственно, есть простейший и удобнейший к разобранию каждого так, что не больше четверти часа потребно найти знаменование каждой цифры, а потому уже нигде сей так называемый литерный ключ у европейских дворов не употребляется. Система же цифирных ключей французского двора, как мне весьма известно, состоит в том, что каждая цифра значит у них несколько слогов, особливо же каждое из тех имен собственных, кои чаще употребляются, имеют свою цифру. Словом, один уже образ шифрования той депеши отъемлет всякое сумнение, чтоб ключ ее был подложно вымышленный.
К сему ж еще присовокупить я должен Вашему сиятельству, что Дюран во всех своих депешах никогда не называет меня Grand Chancelier, да и Ее величество не именует никогда же Sa Majesté Zarine, как то в сей депеше именуется, а он пишет просто Catherine Seconde и иногда же иронически la Majesté Impériale.
Сверх того стиль совсем не Дюранов. Ни оборот фразесов, ни экспресии отнюдь на него не похожи; да и образ рассуждения совсем не его. Тут, например, в письме от 2-го февраля написано, что Пугачевское возмущение совсем погасло, но в депешах истинных того времени ко двору его, кои я разобранными имею, Дюран совсем не так судит об оном деле и считает, что оно произведет наиважнейшие следствия.
Невзирая на сии причины моего правильного подозрения на подлог ключа, нельзя же себе представить, что известный человек[72] выдумал из своей головы всю связь тех депешей. Думать надобно, что он, бывая часто у принца Рогана, и употребляясь при его канцелярии, почерпнул много в подложные свои депеши из его рассуждений и его отзывов, а, может быть, и из чтения переписки его с французским послом в Царьграде. Все оное, без сомнения, заслуживает того, чтоб Ваше сиятельство постарались сей канал сберечь, и для того покорно прошу Вас, милостивый государь, все то, что к Вам принесено от него, прислать ко мне с курьером, и, не подавая ему ни малейшего повода к догадке о принятом на него правильном подозрении, следовать за ним без всякой огласки, а соображая мои сумнения со всем тем, что от него выходить будет, размерять по тому и Вашу с ним коннекцию. Ваше сиятельство сами ведать изволите, что в толь нежных делах, каковы политические, ничего пренебрегать не надобно, и что иногда обманщик самым обманом своим больше служит, нежели он сам думает. Оставляя оное дело на собственно Ваше проницательное благоразумие, пребываю с истинным почтением и совершенною преданностью.
Вашего сиятельства,
Граф Никита Панин[73]».
На письме есть помета: «Апробовано Ее императорским величеством 10 апреля 1774 года».
6
Осенью 1773 года Дюрана часто видели в штегельмановом доме, где жил Григорий Орлов — подаренный ему Мраморный дворец еще достраивался. Туда же зачастил Захар Чернышев, только что получивший (в противовес Панину?) чин генерал-фельдмаршала и назначенный президентом Военной коллегии.
Зная все это, мог ли Никита Иванович остаться безучастным к небольшому, чуть более трех листов веленевой бумаги меморандуму, писанному на французском языке, который в один прекрасный день лег на его рабочий стол?
«О сыне Ее величества, Его высочестве великом князе», — прочел Никита Иванович, поднял высоко левую бровь, что было верным признаком закипавшего в его душе раздражения, и произнес скучным голосом:
— Однако.
Меморандум был доставлен верным человеком, головой ручавшимся за то, что это точный список с записки, переданной французским философом Дидро императрице.
«Человек, осмеливающийся говорить с гениальной женщиной и с такой матерью, как Ваше величество о воспитании Вашего сына должен быть нахалом, если не дураком», — прочитал Панин и соглашаясь кивнул.
Впрочем, многое из того, что Панин узнал далее, почти примирило его с Дидро. Философ хвалил способности, доброту сердца и возвышенность чувств Павла.
«Теперь он влюблен в свою супругу, хлопочет о создании наследника престола и хорошо делает», — читал Никита Иванович.
Понравились Панину и рекомендации Дидро.
«Я осмеливаюсь предложить Вашему величеству следующее: пусть великий князь присутствует при рассмотрении дел в различных административных учреждениях, пусть он там будет простым слушателем в течение двух-трех лет, то есть до тех пор, пока хорошо познакомится с государственными делами. Вот настоящая школа для будущего монарха в его годы. По выходе из заседаний пусть он отдает Вам отчет во всем, что там происходило, и со своим заключением, которое исправите, если оно окажется несправедливым».
На этом, однако, позитивная часть меморандума оказалась исчерпанной. Совет направить великого князя для завершения образования в путешествие по разным частям империи в сопровождении астронома, географа, врача, натуралиста, юриста и военного, может быть, и не показался бы Никите Ивановичу особенно странным, если бы не одно обстоятельство.
«Начальство над конвоем великого князя, — читал он, — я поручил бы одному из Орловых, которые всегда готовы отдать последнюю каплю крови за Ваше императорское величество».
Дальнейшее Никита Иванович прочитал без интереса. Ему даже показалось, что Дюран не стоил того внимания, которое он ему уделял. Даже если все эти идеи о воспитании великого князя — плод простодушия философа, а не коварства дипломата, все равно это непростительная ошибка. Воистину, если Господь хочет погубить человека, он лишает его разума.
Никита Иванович еще раз перечитал конец меморандума и недоуменно передернул плечами, как делал только в состоянии сильнейшей душевной ажитации. Мнение его о Дюране было окончательно разрушено. Прожить более года в Петербурге, иметь каждодневный доступ ко двору — и так не понять характера этой женщины. Вспомнилось вдруг, что братья Орловы в тайных письмах друг другу называли императрицу Димоном[74]. И вот этому Димону, честолюбием одержимому, советовать сына своего, ею же престола лишенного, вровень и с собой, и с Петром Великим поставить?
— Присоединить их памятники к его памятнику, — произнес Панин, не замечая, что говорит вслух, — поставив их по обеим сторонам монумента Петру Великому.
Неуютно, зябко стало на душе у Никиты Ивановича. Не Дюран его заботил и не смешной чудак Дидро. О чем бы он не думал, чем бы не занимался в последние месяцы — перед мысленным взором стояла зловещая тень голштинского интригана.
Действо пятое
Вы должны сформировать молодую нацию,
Мы — омолодить старую.
Дидро в беседе с Екатериной II, ноябрь 1773 г.1
После свадьбы в императорской семье воцарилась идиллия. Характер великого князя, казалось, изменился. Он был счастлив и не скрывал этого. Наталья Алексеевна выполняла роль ангела-примирителя. Императрица была совершенно довольна невесткой, публично благодарила ее за то, что та «вернула ей сына».
Впрочем, в тайных закоулках души молодой супруги Павла Петровича в первые месяцы ее жизни в России происходили процессы непростые. В хранящемся в ГАРФ фонде 728 «Рукописные материалы библиотеки Зимнего дворца» есть дело 218 «Бумаги, относящиеся к первому браку Павла Петровича с великой княгиней Натальей Алексеевной», а в них — сшитые в тетрадку копии писем великой княгини к ее матери ланд-графине Каролине за 1773–1774 годы.
Заглянем в них.
Вот письмо от 8 ноября 1773 года: «Le Grand-Duc ira aussi toutes les semaines deux fois chez elle, le matin pour être un peu instruit des affaires, enfin»[75].
Самое выразительное в этом отрывке — словечко enfin — наконец. За ним многое — и сдерживаемая гордыня, и игра честолюбия, уязвленного ложным положением мужа, и недоумение вызванное порядками, сложившимися в России.
Невольно вспоминается письмо барона Ассебурга, знавшего Гессен-Дармштадтскую принцессу с детства, Н. И. Панину от 23 апреля 1773 года, приведенное лучшим биографом Павла Д. Кобеко «Принцесса Вильгельмина, — предупреждал он, — до сих пор еще затрудняет каждого, кто бы захотел разобрать истинные изгибы ее души… Удовольствия, танцы, наряды, общество подруг, игры, наконец, все, что обыкновенно пробуждает живость страстей, не достигает ее. Среди всех этих удовольствий принцесса остается сосредоточенной в себе самой и когда принимает в них участие, то дает понять, что делает это более из угождения другим… Не знаю, что сказать и простодушно сознаюсь, что основные черты этого характера для меня еще закрыты завесою».
Однако, продолжим. В письмах к матери Natalie (так, с довольно грубой орфографической ошибкой — Nathalie — подписывалась великая княгиня) она предстает женщиной порывистой, своевольной, безумно скучавшей по семье, сестрам Амалии и Луизе: «Господи, как я хотела бы увидеть королеву au lit[76] и, особенно, физиономию Луизы при этом. Эта сумасшедшая написала мне, что была dégoutée[77] коричневыми перчатками, которые были на королеве», — так откликается великая княгиня на впечатления сестер от остановки в Берлине на обратном пути в Дармштадт.
Дни Натальи Алексеевны, судя по ее письмам, проходили в послесвадебной суете: балы, маскарады, катание на санях, манеж, охота на куропаток, в часы послеобеденные — с 3 до 6 — читали вслух. Великого князя очень развлекала «История Англии» Хьюма.
«Чем больше я его (Павла Петровича — П.С.) узнаю, тем больше уважаю», — письмо от 29 января 1774 года[78]. Тут же благодарный отзыв о bontés[79] Ее величества. К великокняжеской чете в прислуги определены два «petit turc»[80], а к супруге сына — еще и молоденькая армянка. Фальконе и Колло начали работу над бюстами Павла и Натальи Алексеевны.
И тут же — вновь диссонанс. Сообщая 6 января о свадьбе герцога Курляндского с княгиней Юсуповой, пишет: «Cela m’a fait une certaine peine de ne pas avoir la femme, qu’il devait légitimement avoir»[81]. За этими неосторожными (письмо не шифровано) признаниями — обида за сестру, которую прочили в герцогини Курляндские. Однако по политическим резонам — на Курляндию засматривалась не только Саксония, но и Пруссия — герцог должен был жениться на русской, а не немецкой княжне.
После свадьбы организм восемнадцатилетней великой княгини вдруг стал бурно развиваться. Она начала расти, так что пришлось перешивать платья, которые сделались коротки. Наталья Алексеевна просила мать прислать ей тафты для новых нарядов.
Возникли естественные вопросы. «О моем состоянии нельзя сказать ни «да», ни «нет» — сообщала супруга великого князя в письме от 1 февраля 1774 года. — Здесь думают, что «да», потому что хотят этого. Я же боюсь, что «нет», но веду себя как будто «да»[82]. В таком же духе высказывался в апреле 1774 года в письме к Нессельроде барон Гримм: «Я хотел бы подтвердить известие Лейденской газеты о беременности великой княгини, но боюсь, что это будет еще одним несбывшимся пророчеством»[83].
Далее в том же февральском письме великой княгини есть нечто, еще более любопытное: «Я с огорчением прочла статью упомянутого Вами человека (судя по помете на полях, сделанной по-немецки, речь идет о бароне Ассебурге — П.С.). Как утаено все это, я и не подозревала ничего подобного. Я прочитала Вашу статью, как Вы мне приказали, дорогая матушка, господину де Райсамхаузену, который был поражен и отнес все это на счет черных мыслей этого человека. Дай Бог, чтобы так оно и было, дорогая матушка, потому что Вы, делающая всех вокруг счастливыми, вовсе не заслуживаете того, чтобы быть обманутой, тем более людьми, которые пользовались Вашим доверием.
Я крайне удивлена недоброжелательностью, выказанной этим человеком относительно Ваших бесед с ее Величеством, а также насчет истории с деньгами, которые Вы якобы взяли. Я очень переживаю за Вас, дорогая матушка. Впрочем, я была очень довольна, когда мой супруг посетил сегодня после обеда ее Величество и рассказал ей все о коварстве некоего человека, заставившего графа Герца, пруссака, оставить свою прежнюю службу. Это проявление доверия к матери тронуло и обрадовало меня. Я думаю, дорогая и уважаемая матушка, что Вы будете того же мнения»[84].
Трудно, да, наверное, и не стоит подробно разбираться в сути проблем, с которыми ланд-графиня столкнулась по возвращении на родину. Они понятны: германские газеты не могли, конечно, обойти молчанием переход принцессы Вильгельмины в православие, немало спекуляций возникло и в связи с крупными суммами, пожалованными Екатериной при расставании своим новым родственницам — 100 тысяч рублей Каролине и по 50 тысяч — дочерям, не считая бриллиантовых табакерок, бижутерии и прочих мелочей.
Для нашего рассказа важнее другой взгляд на атмосферу, складывавшуюся вокруг великокняжеской четы после свадьбы. Против своей воли они неожиданно оказались как бы на авансцене придворного театра, в партере которого заняли места не только екатерининские вельможи со своими жадными до пересудов женами и дочерьми, но и, так сказать, международная коронованная общественность, включая многочисленную полудержавную родню невесты.
Надо отдать должное Екатерине. Всю жизнь обитавшая в этой среде и научившаяся когда — не замечать, когда — направлять к своей пользе злоречивость больших самолюбий, она еще в сентябре предупреждала Павла: «Перед публикою ответственность теперь падает на Вас одного; публика жадно следить будет за Вашими поступками. Эти люди все подсматривают, все подвергают критике, и не думайте, чтобы оказана была пощада как Вам, так и мне… О Вас будут судить, смотря по благоразумию или неосмотрительности Ваших поступков, но, наверное, это уже будет моим делом помочь Вам и унять эту публику, льстивых царедворцев и резонеров, которым хочется, чтобы Вы в двадцать лет стали Катоном и которые стали бы негодовать, коль скоро вы бы им сделались». И еще одно. В бумагах князя Безбородко, найденных после его смерти, была и такая записочка, писаная рукой Екатерины: «Злословников почитать ли за неблагодарных? Сей вопрос опасаюсь решить, ибо дело есть царское: делать добро и сносить поношения, как говорил Александр Великий»[85].
Но молодость самонадеянна — и уже осенью 1773 года между императрицей и великой княгиней нет-нет да и пробегали тучки. Наталья Алексеевна никак не хотела учить русский язык. Ее больше привлекали прогулки, танцы, домашние игры, в которых она, по мнению императрицы, не знала никакой меры. Не нравилось Екатерине и то, что Павел, пользуясь свободой, доставленной ему браком, настоял на том, чтобы его ближайшему другу, Андрею Разумовскому, сыну гетмана, было разрешено поселиться во дворце, на великокняжеской половине.
Павел, Разумовский и великая княгиня были слишком дружны, чтобы не возбудить сплетен. К сожалению, через год Екатерина сама вмешается в семейные дела своего сына, поделившись подозрениями относительно Разумовского — и этим отдалит его от себя.
Впрочем, все это будет потом. В первые же, безоблачные дни начавшейся взрослой жизни сына Екатерина больше заботилась составлением великокняжеского двора. Никиту Ивановича, как мы уже упоминали, заменил при царевиче генерал-аншеф Николай Иванович Салтыков, известный тем, что весьма твердо знал придворную науку. Главное его правило состояло в том, чтобы никогда не высказывать по официальным делам противных мнений. Современники много злословили на его счет, утверждая, что в вопросах служебных Николай Иванович управляем был своим письмоводителем, а в домашних — супругой, женщиной властной и крутонравной. Гнева жены он действительно боялся, как грома небесного, покорно исполняя ее прихоти и наказы. Однако и со служебными обязанностями Салтыков справлялся неплохо, сумев сохранить не только доверие Екатерины, но и уважение ее сына, обид не забывавшего.
В покоях Павла Салтыков появился впервые в зеленом военном мундире нараспашку. В свои пятьдесят шесть лет был он весьма худощав, росту незначительного, голову его венчал тупей, густо напудренный и напомаженный. Острый небольшой нос, живые карие глаза, рот, искривленный в полуулыбке, довершали его сходство с хитрым лисом. При ходьбе граф прихрамывал, потому что по совету докторов имел на ноге фантонель. Вместо сапог он носил черные штиблеты и подпирал себя костыльком.
«С женитьбой кончилось Ваше воспитание, — писала Екатерина Павлу, извещая его о назначении Салтыкова. — Отныне невозможно оставлять Вас долее в положении ребенка и в двадцать лет держать под опекою».
Самое важное, однако, императрица приберегла на конец.
«Чтобы основательнее занять Вас, я, к удовольствию общества, назначу час или два в неделю, по утрам, в которые Вы будете приходить ко мне один для выслушивания бумаг, чтобы познакомиться с положением дел, с законами страны и моими правительственными началами».
Именно на это письмо Екатерины Наталья Алексеевна и отреагировала многозначительным «enfin».
«Императрица решила дать сыну наставления о способах ведения государственных дел, — докладывал Дюран в Версаль. — Трижды в неделю великий князь бывает в кабинете матери. Кроме того, она объявила, что доклады по адмиралтейской части будет отныне выслушивать только из его уст».
К счастью в архивах библиотеки Зимнего дворца сохранилась собственноручная записка Екатерины, адресованная, как можно предположить, Павлу и относящаяся как раз к описываемому нами времени. Она дает представление о вопросах, которые могли обсуждаться во время их бесед.
«Ecoutez mon cher Ami vous m’avez dit hier que les avancements etc. ne dépendent point от постороннего доклада или запамятования, но от моей власти. Dans un sens sans doute oui, mais dans un autre non, has oui. J’ai prise pour but de mon Règne le bien de l’Empire, le bien public, le bien particulier mais le tout à l’Unisson». И далее: «J’ai cru necessaire d’enter dans ce compte rendu. Si vous avez des objections ou des questions à me faire je vous prie de me les dire parceque j’aime à rendre compte en ce que je fais ou ai fait»[86].
Павел на первых порах был очень польщен такой доверительностью.
Можно ли было предположить, что участие его в государственных делах не продлится и года? Осенью 1774 года он подаст Екатерине записку под заглавием «Рассуждение о государстве вообще, относительно числа войск, потребного для защиты оного, и касательно обороны всех пределов». В документе этом, соединявшем верное понимание государственных задач России с абсурдными представлениями о методах их достижения, собственно, уже и заключалась вся программа будущего несчастного павловского царствования. Предлагая отказаться от наступательных войн, разорявших страну, призывая навести порядок в гражданской администрации и армии, Павел думал достичь этого жесткой централизацией и регламентацией как служебной, так и частной жизни своих подданных. Россия представлялась ему необъятным плацем, на котором все, от генерала до солдата, должны были маршировать так же стройно и покорно, как деревянные солдатики в его задней комнате.
Екатерина пришла в ужас. Немедленно явилась мысль: кто научил? Однако на все вопросы Салтыкова, допросившего великого князя с необходимым пристрастием, тот не выдал Петра Панина, отвечая упрямо, что о непорядках и неустройствах узнал сам и как верный сын Отечества молчать не мог. Беседовать с сыном Екатерина не стала. Великого князя просто перестали приглашать на утренние доклады.
Впрочем, все это будет, как мы уже говорили, потом. Осенью же 1773 года отмечались лишь первые признаки будущей — и окончательной — размолвки Екатерины с сыном. Немалую роль в этом, как и опасалась императрица, сыграли льстивые и болтливые царедворцы. Граф Дмитрий Матюшкин, состоявший при дворе великого князя в должности камергера, Бог весть из каких видов намекнул Наталье Алексеевне, что Салтыков назначен императрицей для догляда и донесения, куда следует, обо всем, происходящем при малом дворе. Павел со свойственной ему безрассудной прямолинейностью отправился выяснять отношения к матери. Матюшкину через обер-гофмейстера князя Николая Голицына был сделан строгий выговор с запрещением попадаться на глаза императрице.
Павел успокоился, но ненадолго. В начале ноября его отношения с императрицей подверглись новому, на этот раз более серьезному испытанию. За ужином великому князю подали блюдо сосисок, до которых он был большой охотник. Подцепив вилкой сосиску, Павел отправил ее в рот, как вдруг лицо его исказилось гримасой гнева и изумления. Исторгнутый на тарелку кусок был подвергнут внимательному исследованию. В нем были обнаружены осколки стекла.
В порыве чувств Павел вскочил из-за стола и, взяв обеими руками блюдо с сосисками, поспешил прямиком в покои императрицы.
— Вот доказательство того, как ко мне относятся, — закричал он с порога. — Меня хотят извести.
Екатерина была настолько поражена этой сценой, что в первый момент не нашлась, что ответить.
Было предпринято строгое расследование, доказавшее, что единственной причиной случившегося явилась непростительная небрежность прислуги. Виновные понесли заслуженное наказание. Однако дворец вибрировал от слухов и подозрений.
2
Устав от бессмысленных объяснений, которые продолжались несколько дней, Екатерина сочла за лучшее покинуть столицу и переехать в Царское Село, прихватив с собой великокняжескую чету. В тишине царскосельских парков на Екатерину снизошло спокойствие.
«Ваша дочь здорова, — писала она ланд-графине Каролине 10 ноября, на следующий день после приезда в свою загородную резиденцию, — она по-прежнему кротка и любезна, какою вы ее знаете. Муж ее обожает и не перестает хвалить ее и рекомендовать; я слушаю его и иной раз задыхаюсь от смеха, потому что она не нуждается в рекомендации; ее рекомендации в моем сердце. Я люблю ее, и она того заслуживает; нужно быть ужасно придирчивой и хуже какой-нибудь кумушки-сплетницы, чтобы не оставаться довольною этой принцессою, как я ею довольна».
14 ноября в Царском пышно отпраздновали именины великой княгини. Бал, данный по этому поводу, начался любимым танцем Павла — менуэтом. Екатерина следила за великокняжеской четой с улыбкой тихого умиротворения. Танцуя, великий князь преображался. Движения его становились строги и грациозны. На грубоватом, с коротким курносым носом лице появлялось выражение рыцарской учтивости. Наталья Алексеевна самозабвенно порхала вокруг него, улыбаясь и поворачиваясь во все стороны таким образом, чтобы было видно дорогое бриллиантовое ожерелье, подаренное ей императрицей.
Anglaise великая княжна танцевала с Разумовским. Восемнадцатилетний граф был вызывающе, ослепительно красив. Выражение его лица и манера держать себя выдавали натуру самоуверенную и страстную. Le roué aimable[87], как называли его в обществе, он тратил тысячи на жилеты. Женщины слабели под его завораживающим взглядом.
Впрочем, искусство покорять женщин было семейной чертой Разумовских: Дядя графа, Алексей Григорьевич Разумовский, происходивший из простых казаков и игравший в юности на бандуре в украинском хуторе Лемеши, сделался фаворитом императрицы Елизаветы Петровны и, как полагали, ее тайным супругом.
От внимательного взгляда Екатерины не скрылось, что в движениях великой княгини, следовавшей плавной музыке, появилась некоторая томность. Взгляд императрицы невольно обратился в сторону Орлова. Тому, как обычно, было достаточно полунамека, чтобы понять желание Екатерины. Следующий танец он танцевал с великой княгиней.
В 20-х числах ноября Екатерине вздумалось по старой памяти устроить маскарад, где женщины, в том числе и великие княгини, нарядились в мужское платье, а мужчины в женское. Императрица, питавшая пристрастие к подобного рода грубоватым забавам, расхаживала среди ряженых, потешаясь от души. Ей, как и Елизавете Петровне, шел мужской наряд. Младший из братьев Орловых, Владимир, впоследствии ставший директором императорской Академии наук, вспоминал:
«Я в женщинах лучше всех был. Так щеки себе нарумянил, что и папенька меня не узнал бы. Федор был передо мною — ничто».
24 ноября в Царском Селе праздновали тезоименитство императрицы. По этому случаю было сделано большое производство в армии и флоте. Придворным чинам розданы награды.
Собравшихся в Большом зале Царскосельского дворца придворных поразил Орлов. Поздравляя императрицу, князь преклонил колено и протянул ей двумя руками овальный сафьяновый ларец.
— Позволь поднести тебе, матушка, по случаю дня твоего ангела вместо букета эту безделицу, — громко сказал он.
Открыв ларец, Екатерина не смогла сдержать восторга. На красной бархатной подушечке всеми цветами радуги сверкал необыкновенной величины бриллиант. Это был знаменитый бриллиант Надир-шаха, вывезенный из Персии несколько лет назад. Говорили, что сделал это какой-то неизвестный казак, зашивший драгоценный камень в рану на своей ноге. Бриллиант долгое время хранился в Амстердамском банке. Владевшие им армянские купцы Лазаревы предлагали его различным европейским дворам, но назначенная ими цена даже в Версале показалась чересчур высокой. Екатерина видела бриллиант и знала, что Лазаревы просили за него 400 тысяч рублей.
Подарок был принят.
Бриллиант, получивший имя Орлова, и ныне украшает императорский скипетр. Кстати сказать, счет за его покупку был оплачен не Орловым, а из тайных сумм императорского кабинета.
Занятная история.
Иностранные послы и придворные, толпившиеся в тот день на паркете Большого зала, сочли поступок Орлова бесспорным свидетельством его скорого возвращения в фавор.
3
Екатерина оставалась в Царском Селе до 25 ноября. Переезд в Петербург совершился обычным порядком, без пушечной пальбы и особой помпы.
Через два дня, 27 ноября, на Совете обсуждался вопрос о бунте в Оренбурге. К этому времени стало вполне очевидно, что местными силами с бунтовщиками не справиться. Генерал-майор Кар забросал военную коллегию рапортами о неверности башкирцев, во множестве переходивших на сторону Пугачева, предательстве рабочих Демидовских заводов, снабжавших повстанцев ядрами. Сообщая о нехватке войск и военного снаряжения, Кар просил прислать в Оренбург три регулярных полка: пехотный, карабинерный и гусарский. Для скорости он предлагал отправить седла и оружие на почтовых подводах, лошадей же брался добыть сам у башкирцев. Требовал также значительных подкреплений в артиллерии.
Посылать Кару было некого, все боеспособные части были задействованы на Дунае. Значительные силы приходилось держать в Польше, а после переворота, совершенного Густавом III, — и на границе со Швецией и Финляндией. В начале ноября из Москвы в Оренбург отправили два орудия, но их было явно недостаточно. Восстание ширилось.
11 ноября Кар обратился в Военную коллегию, прося позволения приехать в Петербург и доложить об обстановке в Поволжье. За два дня до этого основные силы его отряда были разбиты мятежниками. Ответ последовал незамедлительно. Назвав намерение Кара оставить порученных ему людей поступком неосмотрительным и «противоречащим военным регулам», Чернышев приказал Кару «команды не оставлять и сюда ни под каким видом не отлучаться, а если отъехал, то где бы сие письмо не получил, хотя бы под самим Петербургом, тут же возвращаться обратно».
Между тем, Кар еще до получения письма Чернышева отбыл в Казань, как впоследствии объяснил, по болезни, поручив находившийся под Оренбургом корпус генерал-майору Фрейману. Пробыв два дня в Казани, Кар все-таки явился в Москву, где был встречен дворянством с негодованием. Главнокомандующий в первопрестольной, князь Волконский, удивленный его самовольным приездом, доносил, что это «вызвало в публике худые толкования как в положении оренбургских дел, так и в отношении его персоны».
На заседании 27 ноября в Совете был обнародован проект манифеста о самозванце, подготовленный для прочтения в церквях. В нем Пугачев сравнивался с Гришкой Отрепьевым.
По окончании чтения с места поднялся Григорий Орлов.
— Не много ли чести делать беглому казаку, уподобляя его Гришке-расстриге? — заявил он. — Во время древнего нашего междоусобия все государство было в смятении, а ныне одна только чернь, да и то в одном месте. Такое сравнение может только возгордить мятежников.
Екатерина отвечала:
— Мне самой пришло на мысль велеть сделать такое уподобление, дабы более возбудить омерзение к возмутителю. Однако извольте, я еще раз просмотрю манифест.
28 ноября на заседание Совета был приглашен генерал-аншеф Александр Ильич Бибиков. Опытный военачальник, он был хорошо известен в Заволжье — в 1762 году разумными и справедливыми мерами смог успокоить начавшиеся на заводах Демидова волнения. Манифест зачитали еще раз и поручили Бибикову обнародовать его по прибытии на место, также как и указ ко всем духовным, воинским и гражданским властям, которым повелевалось беспрекословно повиноваться его приказам.
Орлов вновь возражал против сравнения Пугачева с Отрепьевым. Его поддержал Захар Чернышев На этот раз Екатерина согласилась с мнением Орлова. Бибиков зачитал заготовленное им обращение к народу. Тому, кто доставит Пугачева живым или мертвым, было обещано вознаграждение.
— Награду следует обещать только за живого, — возразила Екатерина. — Я не хочу, чтобы этой наградой был дан повод к убийству. Впрочем, если хотите, можете издать это обращение от своего имени.
Пройдет совсем немного времени — и на подавление восстания будет брошена целая армия во главе с лучшими офицерами и генералами — Паниным, Суворовым, Голицыным, Михельсоном…
«Не Пугачев важен, а важно всеобщее негодование», — напишет в январе 1774 года Александр Ильич Бибиков своему другу Денису Фонвизину.
4
По возвращении двора в Петербург беседы Екатерины с Дидро возобновились с прежней регулярностью.
Но легкости и непосредственности в них, однако, уже не было.
— Чем вы занимались эти три недели? — был первый вопрос императрицы.
— Как и все, ожидал приезда Вашего величества, — ответил Дидро.
— А мы с вашим другом Гриммом надеялись видеть вас в Царском Селе, — сказала Екатерина.
— Уверен, что вы не скучали, — улыбнулся Дидро. — Мой друг Гримм флегматик, но в вашем присутствии он преображается. Впрочем, это неудивительно: там, где находитесь вы, нет места скуке.
— И все же, чем вы занимались все это время? Ваше здоровье, я вижу, поправилось?
— Чем может быть занят философ? Болен он или здоров, днем или ночью, дома, на улице, в обществе — он занят только одним — он думает.
— И каким же образом это происходит? — улыбнулась Екатерина. — Я так и представляю себе нашего философа, лежащего в постели в ночном колпаке и рассматривающего потолок.
— Но потом он встает, — подхватил Дидро, — подходит к своему бюро и набрасывает на листе бумаги пришедшие в голову мысли. Затем, когда голова его таким образом освобождается, он отдыхает, дает время идеям созреть, затем приводит в порядок записи, иногда их нумеруя.
— И сочинение готово?
— Нет, тут-то и наступает самое трудное. Нужно подготовить сочинение к печати, выправить его. Эта работа скучная, нудная и бесконечная, потому что у нас, во Франции, три-четыре неудачных выражения могут убить прекрасную книгу.
Речь Дидро журчала, как весенняя вода в петергофских фонтанах, но смысл его слов ускользал от внимания императрицы. Наблюдая за Дидро, она невольно сравнивала его с Гриммом, и сравнение это было явно не в пользу ее нынешнего собеседника. С Гриммом ей было так же легко, как, скажем, с Львом Нарышкиным. С той лишь разницей, что Нарышкин не был так исчерпывающе осведомлен о нравах, царивших в «petit coin»[88] Марии-Антуанетты супруги будущего Людовика XVI, отношениях Марии-Терезии с ее сыном Иосифом или последних bons mots[89] прусского короля.
Ежевечерние беседы с Гриммом давали ей возможность дышать воздухом Версаля, Шенбрунна и Сан-Суси. Триумфы Греза в луврских Салонах, забавные истории, случавшиеся на вечерах у мадам д’Эпине, так и представали перед ее глазами. Гримм был знаком со всей Европой. За три недели, проведенные в Царском селе, он получил два письма от Фридриха, а прусский король умел выбирать друзей.
Стоило, скажем, Екатерине заговорить о Сведенборге, посетовав, что его сочинения написаны по латыни и потому недоступны ей, как он тут же сказал, что есть немецкий перевод и немедленно поручил Нессельроде, советнику российского посольства в Берлине, прислать его. А как тонко и изящно рассуждал Гримм об этих нелепых спорах между глюкистами и пуччинистами — она смеялась до слез, слушая, как он читал ей своего «Маленького пророка из Богемишброде».
Да, эти вечерние беседы (Екатерина — в кресле, Гримм — на стуле) превратили секретаря ланд-графини Гессен-Дармштадтской в souffre-douleur[90] русской императрицы.
— Вот результат моих размышлений.
Голос Дидро вернул Екатерину к действительности. Философ протягивал ей стопку аккуратно пронумерованных листков. В верхней части первого из них стояло заглавие: «О воспитании юношества».
Начало понравилось.
«Ваше императорское величество создали учреждения для воспитания девочек и мальчиков, — писал Дидро. — Если они привьются, то через двадцать лет Вашей империи, наверное, узнать будет нельзя. Россия будет иметь просвещенных отцов и матерей. Эти отцы и матери дадут своим детям такое же образование, какое получили сами. Просвещение, поддерживаемое ежегодными выпусками из двух воспитательных учреждений, упрочится и распространится по всем сословиям».
Императрица углубилась в чтение. Просвещение как шаг к личной свободе, собственности, а затем, кто знает, и к отмене крепостного права — вот что занимало ее мысли после того, как работа первого в России законодательного собрания сошла на нет. Только образованные люди способны разрабатывать и уважать законы. Таких людей в России пока ничтожно мало, но эта не беда — их надо воспитывать.
Дидро был того же мнения. Он рассыпался в похвалах Смольному институту, в котором бывал неоднократно. Кадетский корпус оценивал более сдержанно. На его взгляд, кадеты продвигались в науках слишком медленно. Ученики второго возраста, пробывшие в корпусе три года, не умели еще как следует читать. Большая часть учеников третьего возраста, проучившись семь лет, говорили по-французски хуже воспитанниц Смольного.
— Несмотря на это, — восклицал Дидро, — их незрелые головы переполнены географией, математикой, всеобщей и русской историей, историей искусств.
— Что же в этом дурного? — удивилась Екатерина, оторвавшись от чтения.
— Но учиться одновременно и науке, и языку — это такая задача, с которой и взрослый не справится, — возражал Дидро. — К чему такая учеба приводит? К отвращению. «Мне не нужны ваши науки, к чему они мне послужат? Разве вы хотите сделать из меня ученого? Я и без этого сумею драться в армии и служить при дворе императрицы!» — так рассуждают Ваши кадеты. Нужно показать, что хорошо сражаться — это одно дело, а плохо командовать — другое, что императрице неприятны услуги людей, не умеющих воспользоваться воспитанием, которое она им дает.
— Что же для этого надо сделать?
— Нужно перейти от изучения слов к изучению смысла вещей, — живо ответил Дидро.
— Но это даже для меня слишком мудрено, — усмехнулась императрица.
— Просвещение быстро идет вперед, — возразил Дидро, — и скоро изучение иностранных языков, то есть познание слов, будет возможно только в ущерб знанию предметов. Ваши же кадеты изучают и живые, и мертвые (что уж совсем не нужно) языки в течение своей учебы в корпусе.
— Но не у всех же есть возможность выучиться говорить по-французски дома.
— Об этом я и говорю, — с жаром подхватил Дидро, — домашнее воспитание в России ничего не даст хотя бы потому, что его поручают людям случайным. России нужна система всеобщего образования, ну хоть как в Германии, где за это дело принялись порядочно. В каждом городе должна быть открыта школа. Вы молодая страна, вы начинаете с чистого листа. Надо все устроить, не повторяя ошибок других, — нигде, кроме древних Афин и Рима, воспитание молодых людей не имело национальной основы.
— Прекрасные мысли, господин Дидро, прекрасные мысли, — задумчиво сказала Екатерина. — Но, скажите, кому же этим заниматься? Все само собой не может устроиться, а у меня кроме Бецкого нет подходящих людей.
— Люди появятся, как только Вы издадите надлежащие установления, — сказал Дидро.
— Я понимаю это, — отвечала Екатерина. — Видели ли вы сочинение Бецкого о воспитании юношества?[91]
— Доктор Клерк, профессор Академии художеств, рассказывал мне о нем. Готов взять на себя все заботы по его редактированию и изданию. Европа должна знать, каких успехов достигло просвещение в России.
Екатерина благосклонно наклонила голову и вопросительно посмотрела на философа. Но Дидро не был бы самим собой, если бы умел вовремя заканчивать беседы с сильными мира сего. Он принялся доказывать императрице необходимость устройства анатомического кабинета в Смольном институте, брался даже пригласить для этой цели в Россию свою знакомую Мари Биерон, содержавшую такой кабинет в Париже.
— Когда знаменитый Прингль увидел ее анатомические модели и препараты, то сказал, что они так похожи, что в них «одной только вони не хватает», — втолковывал он императрице.
Екатерина вежливо улыбалась[92].
От уроков анатомии для благородных девиц Дидро перешел к своей излюбленной теме о полезности конкурсов для поощрения образования.
— Конкурс среди учеников, конкурс среди преподавателей — вот истинный стимул к ревностной учебе и добросовестному преподаванию, — не унимался он. — Скажу больше: свободное соревнование — единственное средство спасти народ от пустоты и посредственности. Я желал бы, чтобы все должности в государстве, даже самые высокие, не исключая канцлера, замещались по конкурсу. Пусть тот из Ваших подданных, который почувствует в себе силу обнять весь план законодательства империи, и схватит дух этого законодательства, пусть он, просидев десять лет за книгами на чердаке с куском черствого хлеба и кружкой воды, знает все-таки, что может сделаться и канцлером.
Взгляд императрицы поскучнел.
К словам Дидро она больше не прислушивалась.
5
В начале декабря Дидро и Гримм были приняты в российскую Академию наук.
— Поздравь меня, теперь я трижды академик, — говорил Дидро своему другу. — Я член Берлинской академии, а с 1767 года — член-корреспондент петербургской Академии художеств.
— Не понимаю твоего ликования, Дени, — отвечал Гримм. — Много ли чести состоять в Академии, в стенах которой ученых людей меньше, чем в салоне мадам д’Эпине?
— У русских академиков только один недостаток, — отвечал ему Дидро.
— Они немцы, — быстро продолжил Гримм.
— И твои соотечественники.
В середине месяца наконец-то ударил мороз. Нева встала. Екатерина простудилась, но несколько дней превозмогала болезнь, посещая заседания Совета. Болезнь, однако, не отступала, и в конце декабря доктора уложили императрицу в постель. Несколько дней она не выходила из своих комнат.
Вечера Дидро освободились. Новый год он встретил в семье Нарышкина, бывшего в числе весьма немногих истинных почитателей и ценителей таланта Дидро в России.
Как-то вечером, после ужина, который по петербургскому обычаю был многолюдным и шумным, Дидро, постучав ножом по хрустальному бокалу, попросил внимания.
— Месье Нарышкин, — сказал он, обращаясь к хозяину дома, — я подготовил для вас новогодний подарок. Это небольшая театральная сценка, которая, возможно, подойдет для вашего театра. В ней два персонажа — вельможа и кредитор.
С этими словами Дидро вытащил из бокового кармана сложенный вдвое лист бумаги, расправил его и принялся читать.
Вельможа. А! Это вы!
Кредитор. Да, Ваше превосходительство.
Вельможа. В чем дело?
Кредитор. Я пришел, чтобы…
Вельможа. Садитесь, пожалуйста!
Кредитор. Много чести, Ваше превосходительство. Я пришел, чтобы…
Вельможа. Да сядьте же вы, говорю вам! Что, вы озябли?
Кредитор. Я принес ввиду истечения срока векселя…
Вельможа. А не хотите ли чаю? Выпейте чайку!
Кредитор. Если бы Ваше превосходительство были так добры…
Вельможа. Вы любите музыку?
Кредитор. Да… Немножко, Ваше превосходительство.
Вельможа. Может быть, и сами играете на каком-нибудь инструменте?
Кредитор. Нет, Ваше превосходительство.
Вельможа. Но хорошая игра доставляет вам удовольствие?
Кредитор. Точно так, Ваше превосходительство.
Вельможа. Подать скрипку!
Кредитор. Но я пришел, Ваше превосходительство…
Вельможа. Ну, как вам нравится моя игра?
Кредитор. Превосходно! Но я пришел, Ваше превосходительство…
Вельможа. Да, слышу. Зайдите в другой раз».
Кредитор зашел и в другой раз, но вельможа отказался с ним говорить. Зашел в третий — вельможа рассердился; в четвертый — и был встречен бранью. В пятый раз кредитор был принят так, что в шестой он уже не вернулся».
При этих словах и сам Нарышкин, и его гости разразились громким смехом. Смеялись даже те, кто не знал, что сцена была списана с разговора самого Семена Кирилловича с портным, шившим ему новый камзол.
Не смеялся только один из гостей, прилично одетый молодой человек с не по возрасту обрюзгшим, одутловатым лицом.
— Сценка совершенно в наших нравах, — сказал он негромко, когда смех стих.
Молодой человек служил в канцелярии графа Панина. Звали его Денис Иванович Фонвизин.
6
В середине января в одной из приемных зал Зимнего дворца было найдено подметное письмо, адресованное в собственные руки императрицы. Аноним, подписавшийся «честным человеком», предупреждал Екатерину, что Сенат состоит из плутов и что, в особенности генерал-прокурор вовсе не заслуживает народного доверия. Автор письма советовал императрице сменить всех сенаторов, иначе она сама подвергнется опасности лишиться престола.
Было положено немало трудов, чтобы открыть автора письма. Генерал-полицмейстер объявлял даже, что «человек, потерявший письмо во дворце», может явиться в назначенный день к гофмаршалу, не опасаясь последствий. Никто, однако, не пришел, и письмо было сожжено палачом перед зданием Сената. Над лицами, являвшимися ко двору, учредили бдительный надзор. Вышло распоряжение допускать во внутренние апартаменты лишь находившихся в майорском ранге и выше.
Разумеется, столь важный инцидент не мог ускользнуть от пытливого взора Дюрана.
— Публика была поражена сожжением в прошлую пятницу рукой палача письма, написанного императрице каким-то анонимом, — писал он в депеше герцогу д’Эгильону от 17 января. — Она назвала его «честным человеком» в письме, которым он приглашался объявить свое имя и явиться к ней. Один из моих знакомых сказал в тот же день по этому поводу: императрица весьма умна, но в кризисе, в котором она очутилась, не знает, куда кинуться. Она советуется с людьми, которые ее окружают и которые из вероломства или невежества заставляют ее пускаться во всякие авантюры. До оглашения Указа о так называемом Петре III никто не осмеливался говорить об этом бунтовщике, сегодня же эта тема обсуждается во всех салонах и кабаках, где задаются вопросом, жив или мертв тот, чье имя взял самозванец… Дух восстания распространяется по всей империи, во всех классах общества. Если в этих условиях осмелятся объявить набор рекрутов, все вспыхнет. Как утверждают в придворных кругах, со времен стрельцов здесь не случалось более сильного кризиса, так как никогда еще после их восстания знамена бунтовщиков не развевались в столь отдаленных областях страны. Объявлено, что если появятся новые анонимные письма на имя императрицы, то все они будут преданы огню прежде, чем будут распечатаны[93].
В этот-то момент Никита Иванович и совершил поступок, окончательно определивший его отношения с императрицей.
В конце января, сразу же после поступления в Петербург известия о ратификации польским Сеймом раздельного договора, он вызвал в свой кабинет секретарей Дениса Фонвизина, Якова Убри и Петра Бакунина и объявил, что дарит им пожалованные ему в новоприобретенных польских областях войтовства Нащанское, Лиснянское и Клещинское.
Встретив Никиту Ивановича на утреннем выходе, императрица сказала ему:
— Я слышала, граф, что вы расточали вчера свои щедроты подчиненным?
— Не понимаю, о чем ваше величество изволите говорить, — сухо отвечал Панин.
— Разве вы не подарили несколько тысяч душ своим секретарям?
— Так это вы называете моими щедротами? Ваши собственные, государыня. Награждая подданных, вы столь обильно на них изливаете милости, что всегда представляется способ уделить часть из полученного содействовавшим в снискании благоволения вашего.
Екатерина смертельно обиделась. И была по-своему права. Как ни крути, поступок Никиты Ивановича не мог быть расценен иначе, как протест против начавшейся конфискации имений у польских магнатов, не желавших мириться с разделом их родины. И шляхта, и простой люд отчаянно сопротивлялись разделу.
Можно только догадываться, каково было на душе у Екатерины в эти дни. Вести из Поволжья поступали самые тревожные. Бунтовщики осаждали Оренбург и Яицкую крепость. Бибиков, прибывший в Казань на второй день Рождества, ожидал подхода войск, стягивавшихся из Тобольска, с Украины, Польши и даже из Петербурга. Его план состоял в том, чтобы идти к Оренбургу, не дав Пугачеву проникнуть во внутренние губернии и северо-восточный край, где он мог соединиться с возмутившимися башкирцами и заводскими крестьянами.
В ожидании подхода войск он пытался организовать сопротивление восставшим местными силами. Казанское дворянство собрало по одному человеку с двухсот для создания корпуса. Майор Муффель по приказанию Бибикова атаковал занятую бунтовщиками Самару и освободил город, захватив до двухсот человек пленных.
Екатерина, как могла, подбадривала Бибикова. В рескрипте от 20 января 1774 года она назвала себя казанской помещицей. Обольстительные письма разбойника Пугачева, дерзнувшего принять на себя имя покойного Петра III, приказала сжигать на площади. Только сама она, однако, знала, каких душевных сил стоило ей сохранять выдержку и видимое спокойствие.
И вот в этот-то момент, точнее 7 февраля, великий князь явился к матери и, рыдая, выложил историю с Сальдерном. Екатерина пришла в страшный гнев. Особенно досталось Панину, который, как признался Павел, знал о кознях голштинца во всех подробностях. Призвав Никиту Ивановича, Екатерина имела с ним бурное объяснение. В порыве справедливого негодования императрица приказала схватить Сальдерна и доставить в Россию, закованным в кандалы. Пограничным начальникам было велено немедленно арестовать его, если бы он сам вздумал появиться в России.
С огромным трудом удалось Панину уговорить императрицу несколько отсрочить выполнение принятого ей решения. Мысль его состояла в том, чтобы окончить это дело без шума. Огласка заговора, имевшего целью возведение на престол великого князя, была крайне нежелательна с учетом как внутренних, так и внешних обстоятельств, в которых находилась страна.
Зная скандальный характер Сальдерна, Панин был намерен посоветовать ему в частном письме не возвращаться больше в Россию, вернув табакерку с вензелем Екатерины, которая ему не принадлежала.
Императрица махнула на все рукой и удалилась в Царское Село, как делала всегда, когда хотела собраться с мыслями. Дело Сальдерна она поручила улаживать Панину, хотя, надо признать, тот вел себя не вполне понятно. Даже после происшедшего объяснения он еще в продолжение целой недели не считал нужным являться с докладом к Екатерине. Несмотря на напоминания, всячески тянул с отправкой письма Сальдерну, ссылаясь на то, что ждет каких-то известий из Копенгагена. При дворе, как водится, начали поговаривать, что дело нечисто. Проволочки Панина объясняли тем, что были у него с Сальдерном какие-то тайные, возможно, денежные дела.
— В Петербурге все дрожит при имени Царицы, — сообщал 25 февраля наблюдательный Дюран. — Нашему Другу[94] даже кажется, что она только выжидает момента, чтобы все успокоилось, для того, чтобы наказать виновных, выданных их сообщниками, явно пытавшимися заслужить таким образом прощение.
7
В день отъезда Екатерины в Царское Село наступила неожиданная для этого времени года оттепель. Императрица смотрела на дождевые тучи, висевшие над верхушками мокрых лип в Царскосельском парке, и лицо ее было задумчивым.
В том, что пришла пора решительных действий, сомнения больше не было. И так тянула долго — все надеялась, что Панин сам поймет, что заглавных ролей в этой пьесе ему уже не играть. Не понял, однако, иначе бы не устроил комедию с раздачей секретарям своим пожалованных в Польше земель. Что ж, пенять ему не на кого, сам виноват.
Признание Павла при всей его неожиданности не открыло для нее чего-либо нового. Всю осень, да что там — весь прошлый год только и занималась тем, что вытравляла каверзу из собственного дома. И как очистить его от честолюбцев и интриганов, примыслила не сегодня. Еще 4 декабря черкнула письмецо генерал-поручику Григорию Потемкину, сражавшемуся в армии Румянцева под Силистрией. Заканчивалось оно словами многозначительными:
«Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то Вас прошу по-пустому не вдаваться в опасность. Вы, читая сие письмо, может статься, сделаете вопрос, к чему сие писано? На сие Вам имею ответствовать: к тому, чтоб Вы имели подтверждение моего образа мыслей об Вас».
4 февраля 1774 года Потемкин был в Петербурге. Здесь его ждал более, чем внимательный прием.
Враг всяких условностей, Екатерина сама призналась Потемкину в том, что он нужен ей. Однако объяснения их проходили, судя по всему, не просто. Потемкин сначала странно медлил, затем решительно потребовал от императрицы объяснить ее прошлые увлечения.
21 февраля, спустя неделю после того, как двор вернулся из Царского Села, императрица весь день не выходила из своих покоев. Этим днем помечено ее поразительное по откровенности письмо Потемкину, которое она сама назвала «чистосердечной исповедью».
Текст его нужно читать целиком.
«Марья Чоглокова, видя, что через десять лет обстоятельства остались те же, каковы были до свадьбы, и быв от покойной Государыни бранена, что не старается их переменить, не нашла иного к тому способа, как обеим сторонам сделать предложение, чтобы выбрали по своей воле из тех, коих она на мысли имела. С одной стороны выбрали вдову Грот, которая ныне за артиллерии генерал-поручиком Миллером, а с другой — Сергея Салтыкова и сего более по видимой его склонности и по уговору мамы, которую в том заставляла великая нужда и надобность.
По прошествии двух лет Сергея Салтыкова послали посланником, ибо он себя нескромно вел, а Марья Чоглокова у Большого двора уже не была в силе его удержать… По прошествии года и великой скорби приехал нынешний король польский, которого отнюдь не приметили, но добрые люди заставили пустыми подозрениями догадаться, что он на свете есть, что глаза были отменной красоты и что он их обращал (хотя так близорук, что далее носа не видит) чаще на одну сторону, нежели на другие. Сей был любезен и любим от 1755 до 1761. Но тригодняшняя[95] отлучка, то есть от 1758, и старательства князя Григория Григорьевича, которого паки добрые люди заставили приметить, переменили образ мыслей. Сей бы век остался, если бы сам не скучал. Я сие узнала в самый день его отъезда на конгресс из Села Царского и просто сделала заключение, что о том узнав, уже доверки иметь не могу, мысль, которая жестоко меня мучила и заставила сделать из дешперации выбор кое-какой, во время которого и даже до нынешнего месяца я более грустила, нежели сказать могу, и иногда более как тогда, когда другие люди бывают довольные, и всякое приласкание во мне слезы возбуждало, так что я думаю, что от рождения своего я столько не плакала, как сии полтора года. Сначала я думала, что привыкну, но что далее, то хуже, ибо с другой стороны месяца по три дуться стали, и признаться надобно, что никогда довольна не была, как когда осердится и в покое оставит, а ласка его меня плакать принуждала.
Потом приехал некто богатырь. Сей богатырь по заслугам своим и по всегдашней ласке прелестен был так, что услышав о его приезде, уже говорить стали, что ему тут поселиться, а того не знали, что мы письмецом сюда призвали неприметно его, однако же с таким внутренним намерением, чтоб не вовсе слепо по приезде его поступать, но разбирать, есть ли в нем склонность, о которой мне Брюсша сказывала, что давно многие подозревали, то есть та, которую я желаю, чтобы он имел.
Ну, господин богатырь, после сей исповеди могу ли я надеяться получить отпущение грехов своих? Изволишь видеть, что не пятнадцать, но третья доля из сих: первого поневоле да четвертого из дешперации, я думаю на счет легкомыслия поставить никак не можно; о трех прочих, если точно разберешь, Бог видит, что не от распутства, к которому никакой склонности не имею, и если бы я в участь получила смолоду мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась. Беда та, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви. Сказывают, такие пороки людские покрыть стараются, будто сие происходит от добросердечия, но статься может, что подобная диспозиция сердца более есть порок, нежели добродетель. Но напрасно я сие к тебе пишу, ибо после того взлюбишь или не захочешь в армию ехать, боясь, чтоб я тебя позабыла. Но, право, не думаю, чтоб такую глупость сделала, и если хочешь навек меня к себе привязать, то покажи мне столько же дружбы, как и любви, а наипаче люби и говори правду»[96].
Откровенность Екатерины достигла цели. 27 февраля состоялось решительное объяснение. Екатерина была счастлива.
— Гришенька немилой, потому что милой, — писала она Потемкину на другой день. — Я спала хорошо, но очень не могу, грудь болит и голова и, право, не знаю, выйду ли сегодня или нет. А если выйду, то это будет для того, что я тебя более люблю, нежели ты меня любишь, что и доказать могу, как два и два — четыре. Выйду, чтоб тебя видеть.
И далее:
— Только одно прошу не делать: не вредить и не стараться вредить князю Орлову в моих мыслях, ибо я сие почту за неблагодарность с твоей стороны. Нет человека, которого он более мне хвалил и в прежнее время, и ныне до самого приезда твоего, как тебя. А если он свои пороки имеет, то ни тебе, ни мне не пригоже их расценить и расславить. Он тебя любит, а мне они друзья, и я с ними не расстанусь. Вот тебе нравоучение: умен будешь — примешь; не умно будет противоречить сему для того, что сущая правда.
В последний день февраля Алексей Орлов, прискакавший накануне из Москвы, вошел в комнаты Екатерины и с порога спросил:
— Да или нет?
— О чем ты? — удивилась императрица.
— О материи любви.
Екатерина помедлила и отвечала серьезно:
— Я лгать не умею.
— Да или нет? — настаивал Орлов.
Екатерина посмотрела ему прямо в глаза и сказала:
— Да.
Откровенность обезоружила Алехана.
Он громко рассмеялся и произнес:
— А видитесь в мыленке?
— Почему ты так думаешь?
— Да дня четыре как огонь в окошке виден позже обыкновенного. Впрочем, это неважно. Важно то, что на людях ничего не показываете, это хорошо.
— Молвь Панину, чтоб через третьи руки уговорил ехать Васильчикова к водам, — просила Екатерина, сообщая Потемкину о своем разговоре с Орловым. — А там куда-нибудь можно определить, где дела мало, посланником. Скучен и душен.
В марте Васильчиков получил почетную отставку.
10 апреля Потемкин, ставший генерал-адъютантом, переехал в Зимний дворец в специально отделанные для него покои.
Восемнадцать лет до своей кончины в 1792 году, Потемкин оставался главным и самым доверенным помощником императрицы. Среди «екатерининских орлов» он по праву занимает особое место.
В начале июля 1774 года Екатерина тайно венчалась с Потемкиным в храме св. Самсония Странноприимца на окраине Петербурга.
8
Дидро, по всей вероятности, был плохо информирован о событиях, происходивших при дворе. Иначе трудно объяснить, что побудило его в конце января вновь затеять с Екатериной разговор о посредничестве Франции в мирном окончании войны с турками. Более неудобного и невыгодного времени для этого придумать было трудно.
Всю осень и зиму в Совете продолжались крайне сложные дискуссии относительно условий мирных переговоров. Панин, расстроенный провалом Бухарестского мирного конгресса, столь же безрезультатного, как и Фокшанский, советовал поумерить русские амбиции в Крыму. Только в марте 1774 года мирный план Панина был принят Советом. Надежды на успех предстоящего нового раунда переговоров не в последнюю очередь связывались с добрыми услугами Пруссии и Австрии. Франции в этих дипломатических комбинациях места не было.
Зная это, вряд ли стоит удивляться, что и вторая попытка Дидро выступить в роли дипломата оказалась столь же неудачной, как первая. И на этот раз Дюран не смог сообщить герцогу д’Эгильону ничего утешительного.
Последние дни в Петербурге Дидро провел в переговорах с Бецким о новом издании Энциклопедии, которое он предполагал осуществить в России.
— Allons, mon general, Encyclopedierons — nous[97], — говорил он, усаживаясь напротив Бецкого.
Бецкий, однако, игривый тон Дидро оставлял без внимания. По каким-то неясным причинам идея издания Энциклопедии в России ему не нравилась. Дидро напрасно тратил свое красноречие, обещая представить новый, исправленный вариант Энциклопедии через пять — шесть лет. Бецкий отмалчивался или принимался говорить, что сумма в сорок тысяч рублей, назначенная за работу, чрезмерно велика.
В прощальном письме, отправленном Дидро Екатерине 11 февраля 1774 года, были такие слова:
«Я надеялся свидеться с Вашим величеством не позже чем через пять или шесть лет; но тот честный человек, который наряду с тысячью прекрасных качеств, обладает недостатком (если только это недостаток) беспрестанно колебаться между «да» и «нет», не соглашается на это, и мы оба обязаны ему благодарностью. Ваше величество — за отказ от подарка в сорок тысяч рублей, я — за то, что он возвращает мне предложение двенадцатилетнего труда. Энциклопедия не будет переиздана и исправлена, и мое прелестное посвящение останется в моей голове, ибо совершенно невероятно, чтобы ваш Сфинкс, не сговорившись в пять месяцев, проведенные бок о бок, стал сговорчивее на расстоянии 800 лье».
Дидро, однако, оказался не совсем прав. После отъезда из Петербурга он все же получил от Бецкого письменное предложение начать работу над новым изданием Энциклопедии. Дидро с радостью подтвердил свое согласие. На этом, однако, дело и кончилось.
9
Положение Дидро как гостя императрицы обеспечило ему хороший прием в петербургском свете. Сам он чувствовал себя в России вполне естественно. Болтая, к примеру, с хорошенькой фрейлиной Анастасией Соколовой, незаконнорожденной дочерью Бецкого, Дидро без церемоний целовал ее dans le cou, près de l’ oreille[98].
Однако быть в моде еще не значит быть понятым. Беседовать о серьезных предметах в русской столице Дидро мог, кроме Екатерины, с немногими: с Бецким, Нарышкиным, генералом Бауэром, профессором Клерком, Павлом Демидовым, коллекцией минералов которого он интересовался. Из Петербурга он написал два письма Екатерине Дашковой, жившей в Москве.
Павел принял его довольно холодно.
«Дидро не одержал здесь, — писал Гримм, — ни одной победы, кроме как над императрицей — не все ведь способны подобно ей уживаться с гением и уважать его странности».
Петербургская публика смотрела на Дидро как на явление экзотическое — с удивлением и опаской. Так, наверное, глазели на слона, присланного персидским шахом в подарок Елизавете Петровне. Пылкость воображения, искренность речи, естественность поведения делали Дидро в Петербурге как бы пришельцем из другого мира.
Между тем, Дидро с обычной непосредственностью излагал свои взгляды всякому, кто интересовался ими. Его блестящие силлогизмы, пересыпанные примерами из древней истории, воспринимались как ученые чудачества, малопонятные, но безобидные.
Другое дело, когда речь заходила о вопросах веры. Свобода, с которой Дидро высказывал свои мысли, нравилась в Петербурге не всем. Кто-то из близких к Екатерине лиц, возможно, архиепископ, впоследствии митрополит Платон, обратил ее внимание на опасность для неокрепшей духовно и восприимчивой к зловредным учениям молодежи открытой проповеди безбожия. Екатерина согласилась, что надо бы изыскать средства побудить Дидро к молчанию в подобных вопросах.
Далее произошло следующее. Дидро сказали, что некий член Академии наук предлагает представить на его суд доказательства бытия Божьего посредством алгебраических формул. Дидро, не подозревавший подвоха, заявил, что будет очень рад выслушать эти доводы, которым он, однако, заранее не верит.
Назначили день и час для предстоящих прений.
В условленное время при немалом стечении публики молодой человек, представленный Дидро как русский философ, с важным видом подошел к своему французскому коллеге и возгласил тоном, каким, как ему казалось, велись дебаты в академическом собрании:
— Милостивый государь а минус один плюс в в степени n, деленное на z, равно x, следовательно, Бог существует.
С этими словами он строго посмотрел на Дидро и сказал:
— Отвечайте же.
Говорят, что едва ли не впервые в жизни, блестящий полемист не мог найти соответствующего обстоятельствам ответа. Когда Дидро выходил из наполненной публикой залы, он невольно прятал взгляд: старому философу неловко было смотреть в глаза устроителям этой злой мистификации.
Говорят, что Платон, когда ему рассказывали об ученом диспуте с участием Дидро, произнес:
— Рече, безумец, в сердце своем: несть Бог.
10
С начала января Дидро засобирался в обратный путь. Гримм настойчиво уговаривал его ехать вместе, предлагая завернуть по пути в Берлин, где их ожидал прусский король. Станислав-Август также звал их остановиться в Варшаве. Дидро, однако, решил возвращаться в Париж тем же путем, что приехал — через Гаагу. К тому же в конце февраля петербургское простудное поветрие добралось и до Гримма — он заболел и довольно тяжело, Екатерина направляла к нему придворного лекаря.
Свой последний разговор с русской императрицей Дидро записал сам (в письме к матери, отправленном из Гааги 9 апреля 1774 года):
«Едва я приехал в Петербург, как негодяи стали писать из Парижа, а другие негодяи распространять в Петербурге, что я под предлогом благодарности за прежние деяния явился выпрашивать новых; это оскорбило меня, и я тотчас же сказал себе:
— Я должен зажать рот этой сволочи.
Поэтому-то, откланиваясь Ее императорскому величеству, я представил нечто вроде прошения, в котором говорил, что прошу ее убедительнейше и даже под опасением запятнать мое сердце не прибавлять ничего к прежним милостям. Как я и ожидал, она спросила меня о причине такой просьбы.
— Это, — отвечал я, — ради Ваших подданных и ради моих соотечественников; ради Ваших подданных, которых я не хотел бы оставить в том убеждении, о котором они имели низость намекать мне, будто не благодарность, а тайный расчет на новые выгоды побудили меня к путешествию. Я хочу разубедить их в этом, и необходимо, чтоб Ваше величество были столь добры поддержать меня; ради моих соотечественников, перед которыми я хочу сохранить полную свободу слова, чтоб они, когда я буду говорить им правду о Вашем величестве, не предполагали слышать голос благодарности, всегда подозрительный. Мне будет гораздо приятнее заслужить доверие, когда я стану превозносить Ваши великие достоинства, чем иметь более денег.
Она возразила мне:
— А вы богаты?
— Нет, государыня, — сказал я, — но я доволен, а это гораздо важнее.
— Что же я могу сделать для Вас?
— Многое: во-первых, Ваше величество не пожелает ведь отнять у меня два-три года жизни, которыми я Вам же обязан, и оплатит расходы моего путешествия, пребывания здесь и возвращения, приняв во внимание, что философ не путешествует знатным барином.
На это она отвечала вопросом:
— Сколько Вы хотите?
— Полагаю, что полутора тысяч будет довольно.
— Я дам Вам три тысячи.
— Во-вторых, Ваше величество, дайте мне какую-нибудь безделицу, ценную лишь потому, что она была в Вашем употреблении.
— Я согласна, но скажите, что Вы желаете?
Я ответил:
— Вашу чашку и Ваше блюдечко.
— Нет, это разобьется и вас же опечалит; я подумаю о чем-нибудь другом.
— Или резной камень.
Она возразила:
— У меня был один только хороший, да я отдала его князю Орлову.
Я отвечал:
— Остается вытребовать его у него.
— Я никогда не требую обратно того, что отдала.
— Как, государыня, Вы настолько совестливы с друзьями?
Она улыбнулась.
— В-третьих, дайте мне одного из Ваших служащих, который проводил бы меня и доставил здоровым и невредимым в мой дом или, скорее, в Гаагу, где я пробуду месяца три ради служения Вашему величеству.
— Это будет сделано.
— В-четвертых, Вы разрешите мне прибегнуть к Вашему величеству в том случае, если я впаду в разорение вследствие операций правительства или по какой-нибудь другой причине.
На этот пункт она отвечала мне:
— Мой друг (это ее слова), рассчитывайте на меня; Вы найдете во мне помощь во всяком случае, во всякое время. Но Вы, значит, скоро уезжаете?
— Если Ваше величество позволите.
— Да вместо того, чтобы уезжать, почему вам не выписать сюда ваше семейство?
— О, государыня, — отвечал я, — моя жена женщина престарелая и очень хворая, и с нами живет ее сестра, которой скоро уже будет восемьдесят лет!
Она ничего на это не отвечала.
— Когда же Вы едете?
— Как только позволит погода.
— Так не прощайтесь же со мною; прощание наводит грусть».
Через несколько дней Дидро передали подарок Екатерины: перстень с камеей, на которой был вырезан ее портрет.
Дидро выехал из Петербурга вечером 5 марта в оттепель. В провожатые Екатерина дала ему грека Бала, служащего канцелярии опекунства иностранных, которую возглавлял Орлов. Для путешествия была специально изготовлена удобная английская карета, сломавшаяся, однако, в Митаве.
Ровно через месяц, 5 апреля, философ был в Гааге, где его радушно встретил и Голицын. Первой заботой Дидро в Голландии было договориться о печатании «Учреждений и уставов, касающихся до воспитания и обучения в России юношества обоего пола», переведенных на французский язык Клерком. В ноябре печатание книги было закончено, а в январе 1775 года она появилась в продаже. Сам Дидро в конце мая был уже в Париже.
На этом история наша закончена.
Что-то мешает, однако, поставить точку. Что же?
Может быть, это — вот еще один отрывок из письма, направленного Дидро жене из Гааги:
«Накануне моего отъезда из Петербурга Ее императорское величество велела передать мне три мешка по тысяче рублей в каждом. Я пошел к нашему послу и обменял эти деньги на французскую монету. Разница в курсе, которая была в этот момент очень благоприятной, превратила три тысячи рублей в 12 тысяч 600 ливров нашей монетой. Если вычесть из этой суммы стоимость эмалевых подвесок и двух картин, которые я подарил императрице, путевые расходы и стоимость подарков, которые надо бы сделать Нарышкину (он был так добр, относился ко мне как к брату, дал пристанище, кормил и освобождал от всяких расходов на протяжении пяти месяцев), то нам останется от 5 до 6 тыс. франков может быть, немного меньше.
Не могу поверить, однако, что это все, чего мы могли бы ожидать от государыни, представляющей собой воплощенную щедрость, тем более, что ради нее я в мои весьма почтенные годы проехал более полутора тысяч лье и ради которой я работал практически день и ночь на протяжении пяти месяцев. (Кстати, мой провожатый уверяет меня в обратном.) Если же даже все останется так как есть, то и тогда мне не следует жаловаться. Она была так щедра ко мне раньше, что требовать больше, значило бы признаться в ненасытной жадности. Нужно подождать, возможно, весьма долго, прежде, чем приходить к окончательному заключению. Она знает, что ее дары не обогатили меня. А я знаю, что она уважает и, я бы даже осмелился сказать, питает дружбу ко мне.
Я как-то предложил переиздать для нее Энциклопедию, она сама вернулась к этому проекту, сказав, что он ей нравится. Все, что имеет характер величия, увлекает ее…
Суммы, выделенные на это издание, весьма значительны. Речь идет не менее, чем о 40 тыс. рублей, т. е. 200 тыс. франков, от которых нам будет идти сначала полная, затем частичная рента в течение почти 6 лет. Таким образом у нас будет около 10 тыс. франков на ближайшие шесть месяцев, 5 тыс. франков на последующие и т. д. Вместе с нашими текущими доходами это весьма хорошо уладит наши дела.
Следует хранить полное молчание на этот счет. Во-первых, дело это, хотя и вполне вероятно, но еще не кончено, во-вторых, когда деньги придут, следует молчать о них из-за наших детей, которые будут докучать нам просьбами дать взаймы, тогда как деньги эти нужно будет свято хранить. Есть и другие соображения, о которых ты знаешь без моих объяснений. Так что, мой друг, готовься переезжать…
Слушай, что если я подарю мои часы провожатому — ей же станет известно об этом? Кроме того, я ими мало пользуюсь, да и вообще хотел подарить их господину Нарышкину…»
Постскриптум
По возвращении во Францию Россия сделалась главным предметом разговоров Дидро. Это, впрочем, не помешало ему еще в Гааге написать свои «Замечания на Наказ Екатерины II», в котором он назвал русскую императрицу «деспотом, отрекшимся на словах».
Дидро умер 20 июля 1784 года. Незадолго до смерти Екатерина сняла для него по ходатайству Гримма великолепную квартиру на улице Ришелье. Наконец-то Дидро смог переехать из старого парижского дома на улице Вьей Эстрапад, подниматься на четвертый этаж которого ему было уже не по силам. Однако в новой квартире он прожил только 12 дней. В книге записей приходской церкви св. Рокка значится: «1784 года августа первого дня в сей церкви погребен Дени Дидро, 71 года, член Берлинской, Стокгольмской и Санкт-Петербургской академии наук, библиотекарь Ее императорского величества Екатерины II, императрицы России». Екатерина назначила вдове Дидро пенсию в двести ливров в год.
Библиотека великого энциклопедиста была получена в Петербурге и выставлена в Эрмитаже в начале 1786 года. Обнаружив среди находившихся в ней рукописей «Замечания на Наказ», Екатерина прочла их и назвала вздором. После смерти Екатерины библиотекой мало интересовались.
1774 год стал годом окончания русско-турецкой войны. 10 июля фельдмаршал Румянцев подписал в болгарской деревушке Кючук-Кайнарджи мирный договор, открывший России выход к Черному морю и обеспечивший ей присоединение Крыма в 1783 году. Кючук-Кайнарджийский мир составил славу екатерининского царствования.
В январе 1775 года с плахи, установленной на Болотной площади в Москве, покатилась голова Емельки Пугачева. Подавлением восстания руководил брат Никиты Ивановича, генерал-аншеф Петр Панин. Конвоировал Пугачева в Москву бригадир Александр Суворов.
Никита Иванович Панин до осени 1782 года сохранял за собой пост первоприсутствующего в Коллегии иностранных дел. Прежнего значения в делах он, однако, уже не имел. Умер он в 1783 году. Последние годы жизни Никита Иванович посвятил воспитанию сына своего брата, Никиты, которого взял в свой дом в 1775 году в пятилетнем возрасте. По иронии судьбы Никита Петрович, занимавший при Павле должность вице-канцлера, женился на дочери младшего из Орловых, Софье Владимировне. Отец его, Петр Иванович, забыв старую вражду, сам сделал предложение ее отцу.
Григорий Орлов так и не смог восстановить своего былого влияния при дворе. В 1777 году, будучи сорока трех лет от роду он женился на своей двоюродной сестре, Екатерине Николаевне Зиновьевой. Из-за близкой степени родства этот брак хотели признать незаконным. Орлову грозило заточение в монастырь, но Екатерина вступилась за бывшего фаворита. Летом 1781 года Екатерина Николаевна в одночасье скончалась в Лозанне; Орлов, страстно любивший молодую жену, тяжело заболел. Он умер в 1783 году, почти одновременно со своим старым недоброжелателем Никитой Ивановичем Паниным.
Потемкин смог выдержать при дворе Екатерины недолго. В Петербурге ему было тесно. В 1776 году он был назначен генерал-губернатором Новороссийского края, а с 1782 года начал выезжать в южные губернии, сумев, однако, и вдали от столицы сохранить положение второго лица в государстве.
Год 1773 Екатерина считала переломным в тридцатичетырехлетней истории своего царствования.
«Только с 1774 года почувствовала я, что мои приказы исполняются беспрекословно», — признавалась она впоследствии своему статс-секретарю Храповицкому.
Впрочем, смысл этих слов Екатерины в свете дальнейших событий остается не вполне ясным. В апреле 1776 года великая княгиня Наталья Алексеевна умерла родами. Объяснения врачей, связывавших причину смерти великой княгини с дефектом позвоночника, выгнутого не в ту сторону, мало кого удовлетворили. Сальдерн, к примеру, в «Истории Петра III», увидевшей свет после его смерти в Германии, обвинил Екатерину в отравлении невестки. Впрочем сочинение это настолько вздорное, что с достоверностью судить по нему можно разве что о характере автора.
Павел Петрович на похоронах жены не присутствовал. Сразу же после ее смерти Екатерина увезла его, находившегося в состоянии полупомешательства от горя, в Царское Село, где показала ему письма покойной, не оставлявшие сомнений в преступном характере ее связи с Андреем Разумовским. «Придворная эха» решила, что речь идет об обычном адюльтере. Известно, однако, что летом 1775 года на праздновании Кючук-Кайнарджийского мира, проходившем в Москве, Разумовский сказал Павлу, указывая на толпы народа, приветствовашие его с бóльшим энтузиазмом, чем Екатерину: «Ах, мой друг, если бы Вы только захотели..».
Покои великокняжеской четы в Зимнем дворце были перестроены — Екатерина находила, что в комнатах великой княгини воняло, — мебель отдала архиепископу Платону, исповедовавшему умирающую.
В июле, еще до истечения траура, назначенного по великой княгине, Павел в сопровождении брата прусского короля принца Генриха, появившегося в Петербурге за месяц до смерти Натальи Алексеевны, отбыл в Берлин, где Фридрих II уже подыскал ему новую невесту — принцессу Вюртембергскую Марию-Луизу, предварительно расторгнув ее помолвку с принцем Гессен-Дармштадтским, братом покойной Натальи Алексеевны.
В новом браке Павел, по крайней мере, первые пятнадцать лет был счастлив.
Впрочем, его отношения с матерью испортились навсегда.
Красный кафтан (июнь — июль 1789 г.)
Действо первое
Историю Екатерины II нельзя читать при дамах.
А. И. Герцен1
В знойный послеобеденный час, когда даже птицы утихли за окнами Большого Царскосельского дворца и сонная тишина распространилась в его пустынных залах, перед увитыми золотой резьбой дверями Голубой гостиной стоял Захар Константинович Зотов, камердинер Ее императорского величества.
Впрочем, слово «стоял» не передает всего своеобразия позы, в которой по необходимости находился Захар Константинович. Если кому-либо вздумалось приблизиться к Голубой гостиной, скажем, со стороны малой официантской, то перед ним открылась бы прелюбопытная картина. Добротные кожаные башмаки, полусогнутые в коленях ноги в белых бумажных чулках, а над ними — округлый зад, обрамленный фалдами кармазинового ливрейного кафтана. Короче говоря, Захар Константинович стоял в классической позе соглядатая — враскоряку.
Взопревшее от волнения лицо его с маленькими любопытными глазками было обращено к замочной скважине. События, происходившие по ту сторону плотно закрытых дверей, безусловно, заслуживали внимания Захара Константиновича, хотя видимость, надо признаться, была скверная. В вырезе замочной скважины ему представала лишь часть корпуса — от талии до подбородка — стройного и, по всей видимости, молодого человека, затянутого в красный мундирный кафтан с генерал-адъютантским эполетом на левом плече. Красный Кафтан[99] стоял неподвижно, будто позируя невидимому художнику. Локтем левой руки (правая была безвольно опущена вниз), он опирался на пузатый секретер итальянской работы с бронзулетками.
Немного.
Однако для Захара Константиновича и этих скупых деталей было довольно, чтобы понять трагический смысл происходящего.
— Грех тебе жаловаться на мою холодность, — доносился до Зотова знакомый женский голос, приятный грудной тембр которого был сегодня, как бы несколько надсажен. — И каково мне слышать это от тебя, когда ты после всякого публичного собрания, где присутствуют дамы, становишься сам не свой.
— Я уже имел честь объяснить вам причины своего поведения, и жду ответа, — глухо прозвучал ответ молодого генерал-адъютанта.
— И советов моих давно не слушаешь, — женский голос то приближался, то отдалялся от двери, — сколько раз говорила: хочешь съехать из дворца — воля твоя…
Красный Кафтан переменил позу, поворотившись в сторону своей собеседницы. Усыпанный бриллиантами эполет на его плече рассыпал гроздья холодных искр. Теперь Захару Константиновичу была видна лишь тугая, безупречной формы ляжка молодого человека. Слова ее обладателя сделались совсем неразличимыми, но ответы, видимо, были неловки, так как та, к которой они были обращены, внезапно вскрикнула, зайдясь в вибрирующей скороговорке французских фраз.
2
Врожденное благоразумие и многолетний опыт подсказали Захару Константиновичу, что пора ретироваться. С хрустом, распрямив одеревеневшую спину, он оправил камзол на тугом животе, осмотрелся и скользящей походкой направился прочь. Путь его лежал в то крыло циркумференций, где имел казенную квартиру кабинет-секретарь Ее императорского величества Александр Васильевич Храповицкий.
Выйдя за кавалергардов, дежуривших у входа на личную половину, Захар Константинович приосанился, и в наружности его произошла замечательная метаморфоза. Здесь, в парадных покоях, он ощущал себя персоной значительной. В голове начинали струиться легкие, приятные мысли. В мечтах он воображал себя сенатором, поспешающим на высочайший доклад, либо же лихим гусарским полковником, прибывшим из действующей армии с реляцией о блестящей победе и размышляющим, что предпочесть: внеочередное производство в генеральский чин или пятьсот душ в Могилевской губернии. В груди закипал восторг, заурядная физиономия Захара Константиновича приобретала выражение государственное. Даже поступь его делалась вальяжной, совсем как у старого графа Кирилла Григорьевича Разумовского, кумира дворцовой челяди.
Мерное пошлепывание его казенных башмаков по сверкающему паркету долго нарушало гулкую тишину вытянувшихся в бесконечную анфиладу зал.
А за окном стоял июнь, месяц веселый. В царскосельских садах и рощах цвели липы, и аромат их, смешиваясь с запахом молодой, нескошенной травы, кружил голову.
Лишь у двери Храповицкого Захар Константинович стряхнул с себя сладкое наваждение. Поскребся скорее для приличия — свои люди — и, не ожидая ответа, протиснулся внутрь. Кабинет-секретарь стоял спиной к двери за бюро, на котором в беспорядке были разбросаны бумаги и книги в желтых переплетах свиной кожи. Поза его была неестественна.
— Не пужайся, Александр Васильевич, друг сердешный, это же я, — молвил Захар Константинович и осторожно потянул в себя воздух, в котором витал сладковатый запах ерофеевки.
Плечи Храповицкого, обтянутые тесным для его полной фигуры кафтаном, расслаблено опустились. Не оборачиваясь, он сделал знак короткой ручкой с зажатым в ней гусиным пером. Зотов поспешил к пузатому угловому шкафчику. Секундное размышление перед дюжиной разнокалиберных бутылок — массивные золотые перстни звякнули о стекло. Привычно скривившись, камер-лакей заглотил янтарную настойку и замер, переживая.
— Бальзам души, — выдохнул он, — амброзия, ядреный корень.
Только сейчас Храповицкий повернулся к Зотову. Его слегка одутловатое лицо с чистым покатым лбом, бровями вразлет, тонким шляхетским носом с хищно вырезанными ноздрями было бледным и усталым.
Гость был не ко времени.
— Погоди, Константиныч, — сказал Храповицкий, приноравливаясь к лексике камердинера императрицы, — я мигом.
Он быстро дописал строку, бросил перо и присыпал масляно поблескивающие чернила песком. Затем взял лист и, играя модуляциями бархатного секретарского голоса прочитал:
Куда хочешь, поезжай, Лишь об пол лба не разбивай, И током слез из глаз твоих Ты не мочи ковров моих.Захар Константинович, вновь потянувшийся было к настойке, обессмертившей имя лекаря Преображенского полка Ерофеича, замер, польщенный доверием своего просвещенного друга. Его подвижное лицо мгновенно приняло пристойное случаю выражение — губы, влажные, разлапистые, сложились дудочкой, белесые бровки заиграли, скакнув под парик, совсем как у графа Александра Сергеевича Строганова — друга муз.
— Манифик, — продребезжал он, — по мне, Александр Васильевич, так ты первый наш пиит, лучше Державина, право лучше. Звончей.
Храповицкий посмотрел на Захара Константиновича без удовольствия и собрал в стопку исписанные мелким почерком листы, соединив их с нотной партитурой. За литературной славой он не гнался. Комическая опера «Горе-богатырь Косометович», сочинение Ее императорского величества самодержицы всероссийской Екатерины Алексеевны, была готова к отправке в Москву Николаю Петровичу Шереметеву, задумавшему поставить ее на сцене своего останкинского театра.
3
«Горе-богатыря», нравоучительную сказку à la russe, в русском духе, императрица вчерне набросала еще в прошлом году. Придворный капельмейстер Мартини положил ее на музыку, и сказка, превратившись в комическую оперу, была показана в конце января 1789 года в Эрмитажном театре. Представление вызвало немалое замешательство присутствовавших на нем иностранных дипломатов, усмотревших в «Горе-богатыре» пародию на шведского короля Густава III, с которым Россия находилась в состоянии войны. С постановкой оперы на публичном театре в Петербурге по совету Потемкина решено было повременить, чтобы не раздражать лишний раз дипломатический корпус. Оперу было дозволено представить в Москве. Либретто ее отдали на доработку Храповицкому.
Александр Васильевич трудился долго. Работа продвигалась медленно, через силу. Текст был сырой: слог тяжел, юмор натужен, изложение нестройно. Но дело было даже не в этом.
В строчках, написанным столь знакомым Храповицкому крупным ровным почерком, чудился ему другой, потаенный смысл. Мнилось, что становится он невольным соучастником затеи недостойной и — кто знает? — небезопасной по своим последствиям.
Впрочем, судите сами.
Отправляясь завоевывать Океан-море, Горе-богатырь напяливает картонные латы, вооружается деревянным мечом (Густав III питал пристрастие к рыцарским доспехам) и приглашает арзамасских барышень на пир, который намерен устроить на его берегу (накануне похода король пригласил стокгольмских дам на бал в Зимнем дворце). С привезенной ему лошади «богатырь» падает (намек на то, что в 1783 году, перед свиданием с Екатериной во Фридрихсгаме Густав III упал с лошади и сломал себе руку), а когда в сопровождении верных телохранителей Кривомозга и Торопа идет на штурм ветхой избушки, то однорукий старик обращает его в бегство (неудачная осада слабо укрепленной Нейшлотской крепости, которую отстоял однорукий комендант Баранов с горсткой инвалидов).
Казалось бы, сходство со шведской войной не вызывает сомнений.
Так, да не так.
Отец Горе-богатыря, прозванный Косометом за то, что косо метал бабки, смахивает на покойного императора Петра Федоровича, также сохранившего в зрелые годы пристрастие к детским забавам.
Далее: «Горе-богатырь» был по седьмому году, когда отец его Косомет умер. Но и наследнику Павлу Петровичу было столько же в год смерти Петра III.
Единственная, кто пытается удержать сына от безрассудного поступка, мать Горе-богатыря Локмета — все помнят, как прошлой осенью противилась императрица желанию великого князя выехать в действующую армию. И поездка эта закончилась так же быстро и бесславно, как и поход Горе-богатыря.
Впрочем, эта статья особая. Уж кому-кому, а Храповицкому, прекрасно осведомленному в хитрой механике придворных интриг, были известны подлинные причины внезапного отзыва Павла из действующей армии. Начавшаяся в Финляндии странная переписка великого князя с герцогом Зюдермандландским, братом шведского короля, мистиком и масоном, поддерживавшим связи с братьями в России, лишь разбудила дремавшие дотоле подозрения…
4
Когда кабинет-секретарь поднял, наконец, свое обрюзглое, усталое лицо от бюро, Зотов, истомившийся в ожидании, тут же поймал его взгляд и протянул Храповицкому загодя наполненную пузатенькую рюмку зеленоватого венецианского стекла. Маслянисто поблескивавшая в ней настойка источала тонкий аромат целебных трав.
— Слышь, Александр Васильевич, — прошелестел камердинер в самое ухо Храповицкому, — у нас новости. — И, сделав приличную столь неординарным обстоятельствам паузу, выдохнул: — Паренек на волю просится, и его, кажись, отпущают.
Кабинет-секретарь замер с рюмкой в руке.
— Mais c’est impossible[100], — непроизвольно вырвалось у него.
— Поссибль, поссибль, — дурно зафранцузил Зотов, горячась, — только что в Голубой гостиной состоялось решительное объяснение. Самолично слышал, как матушка ему сказала: хочешь съехать из дворца — воля, мол, твоя… Да ты же знаешь, я уж давно почуял, что неладно у них. Было время, паренек каждый вечер шастал через верх в опочивальню, а теперь и зовут — не идет, все на грудь жалуется. Зимой светлейшему прямо заявил: жизнь во дворце, мол, считаю тюрьмой.
Храповицкий, оправившись, наконец, от изумления, в которое его повергло сообщение Зотова, одним глотком опустошил рюмку.
— Тюрьмою, говоришь, — задумчиво протянул он. — Что-то не припомню я, чтобы кто-то из прежних любимцев сам из этой тюрьмы на волю просился. Под ручки выводить случалось: а этот — смотри ты… Это же, душа моя, маленькая революция.
Действо второе
Не нужно было ни ума, ни заслуг для достижения второго места в государстве.
А. С. Пушкин1
— Революция…
Не случайно, ох, не случайно спорхнуло это загадочное, вибрирующее темной энергией слово с языка Храповицкого. В то последнее лето эпохи Просвещения — июнь 1789 года! — оно было у всех на устах.
Грозным призраком вставало оно, острое, как нож гильотины, над douce France, la belle[101], над далеким Парижем.
Впрочем, на берегах Невы слово «революция» чаще употреблялось применительно к пищеварению.
— Какая у меня, друг мой, от вчерашних устерсов революция в брюхе приключилась, не приведи Господь, — жаловался, случалось, Храповицкому большой гурман и гастроном Александр Андреевич Безбородко.
Революциями было принято называть и дворцовые перевороты, время от времени случавшиеся в северной столице: революция 1741 года, подарившая престол дочери Петра — Елизавете Петровне, революция 1762 года, открывшая екатерининскую эпоху.
Но та «маленькая революция», о которой случилось обмолвиться Александру Васильевичу, была особого рода.
Храповицкий понимал, что подслушанный Зотовым разговор императрицы с ее фаворитом Александром Матвеевичем Дмитриевым-Мамоновым — именно его окрестил пареньком вездесущий Захар — мог дать только начало событиям непредсказуемым.
Впрочем, начнем, как говорят французы, с начала — commençons par commencement.
2
А начали мы, помнится, с вынесенной в эпиграф фразы Герцена о том, что историю Екатерины II нельзя читать при дамах.
Фраза броская, но абсолютно безосновательная. Оставим ее на совести Александра Ивановича, имевшего веские основания очень не любить в своем эмигрантском далеке императора Николая Павловича, а заодно и всех его родственников. Историю Екатерины II можно и нужно читать и при дамах, и при детях, если, разумеется, она не написана, используя выражение В. С. Пикуля, дегтем на кривом заборе.
При всем при том фаворитизм — тема настолько деликатная, что, прикасаясь к ней, невольно рискуешь, как это, на наш взгляд, случилось с Герценом, опуститься до политических или того хуже — обывательских банальностей. Поэтому переворачивая эту страницу славного екатерининского царствования, мы считаем необходимым сделать две оговорки. Во-первых, фаворитизм в России XVIII века был не лучше и не хуже фаворитизма, скажем, во Франции, Англии или Испании. Если подходить с нравственными мерками к этой стороне жизни коронованных особ века Просвещения, то похождения Людовика XV в Оленьем парке или вполне нетрадиционные юношеские увлечения Фридриха Великого дают куда больше оснований для морализирования, чем частная жизнь Екатерины. Во-вторых, фаворитизм как реалия екатерининского царствования интересует нас лишь постольку, поскольку он являлся частью того сложного механизма, который обеспечивал формирование и, особенно, реализацию политических решений, превратившись при этом в некоторое подобие государственного института.
Сделав это краткое, но важное предуведомление, вернемся к нашему герою.
«Случай» Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова начался летом 1786 года, когда его предшественник Ермолов, самонадеянный молодой человек, затеял интригу против того, кому был обязан своим счастьем — против князя Григория Александровича Потемкина-Таврического.
Это был весьма неосторожный, если не сказать опрометчивый, шаг.
Дело в том, что после своего короткого, длившегося менее двух лет романа с императрицей, Потемкин сумел не только не утратить доверие Екатерины, но и существенно нарастить свое влияние на ход государственных дел. Глава военного ведомства, член государственного совета, шеф легкой иррегулярной конницы (ему подчинялись все казачьи войска), он сосредоточил в своих руках невиданные доселе полномочия. Доверенное ему управление южными губерниями России, простиравшимися от устья Волги до устья Днепра, и вовсе превратило Потемкина в соправителя Екатерины.
Современники не могли постичь причудливой логики происходивших перед их глазами событий: фавориты императрицы — Завадовский, Зорич, Корсаков, Ланской, наконец, Ермолов менялись, а власть и влияние Потемкина продолжали расти. Прочность положения светлейшего казалась необъяснимой его многочисленным завистникам, и лишь немногим, весьма немногим удавалось проникнуть в тайну, которой были опутаны отношения Екатерины и Потемкина. Одним из этих посвященных был, по всей видимости, французский посланник в Петербурге граф Луи-Филипп де Сегюр. В депеше, отправленной в Версаль 10 (21) декабря 1787 года, поясняя самостоятельность, проявлявшуюся Потемкиным при начале русско-турецкой войны, он пишет: «Особое основание таких прав — великая тайна, известная только четырем лицам в России. Случай открыл мне ее, и, если мне удастся вполне увериться, я оповещу Короля при первой возможности»[102].
Как установил российский историк В. С. Лопатин, «великой тайной», о которой говорит Сегюр, являлся тайный брак Екатерины II с Г. А. Потемкиным, заключенный 8 июня 1774 года, в праздник Животворящей Троицы в храме Св. Сампсония Странноприимца, основанном по повелению Петра I в честь Полтавской победы[103]. О браке Екатерины II со Светлейшим князем как о достоверном факте сообщал австрийский посол в Петербурге Л. Кобенцель в депеше от 15 (24) апреля 1788 года, писали такие авторитетные знатоки века Екатерины, как П. И. Бартеньев и Д. Ф. Кобеко. Однако только осуществленная в 1997 году наиболее полная на сегодняшний день публикация переписки Екатерины II с ее тайным супругом поставила, как нам кажется, окончательную точку под затянувшимися на десятилетия спорами историков по этому вопросу. «Владыко и Cher epoux, — писала Екатерина Потемкину весной 1776 года, в разгар самого острого кризиса в их личных отношениях, связанного с появлением вблизи императрицы П. В. Завадовского. — Для чего более дать волю воображению живому, нежели доказательствам, глаголющим в пользу твоей жены? Два года назад была ли она к тебе привязана Святейшими узами?.. Переменяла ли я глас, можешь ли быть нелюбим? Верь моим словам, люблю тебя и привязана к тебе всеми узами»[104].
О подробностях объяснения, завершившего кризис, длившийся с конца января по конец июля 1776 года, мы можем судить лишь по немногим дошедшим до нас письмам и запискам Екатерины и Потемкина. Тем не менее существо и мотивацию состоявшихся договоренностей нетрудно представить. Незаурядный характер Екатерины в личной жизни проявлялся столь же неординарно, как и в политике. В. С. Лопатин, глубоко и бережно изучивший непростые отношения императрицы с ее великим сподвижником, подметил, как нам кажется, самое главное: «признаваясь Потемкину в пороке своего сердца, которое «не хочет быть ни на час охотно без любви», Екатерина пыталась «оградить свой интимный мир от страшной силы государственной необходимости. С Потемкиным это оказалось невозможным. Она сама вовлекла его в большую политику и … потеряла для себя. Два крупных, сильных характера не смогли ужиться в семейных рамках». «Мы ссоримся о власти, а не о любви», — признавалась Екатерина в одном из писем… Первой она поняла суть этого противоречия, первой почувствовала необходимость отдалиться от Потемкина «как женщина», чтобы сохранить его как друга и соправителя[105].
Зорич, Корсаков и Ермолов, одним словом, все фавориты Екатерины, за исключением Ланского, потеряли свое место из-за того, что не могли понять, что интриговать против Потемкина (мужа и соправителя!) все равно, что интриговать против самой императрицы.
Судя по всему, бурным летом 1776 года между Екатериной и Потемкиным было заключено нечто вроде негласного соглашения, в силу которого фаворит, занимая свое место, должен был защищать интересы Потемкина при дворе, где не прекращалась борьба различных группировок.
Недаром все те, кто последовал за Завадовским — от Зорича до Мамонова — прежде чем стать любимцами императрицы служили адъютантами у Потемкина.
Нарушение подобного порядка, а тем более попытки играть самостоятельную роль немедленно пресекались.
Подробности интриги, затеянной Ермоловым против Потемкина, не вполне ясны. Судя по свидетельствам некоторых современников, стоявшие за спиной фаворита противники Потемкина пытались обвинить Светлейшего в присвоении казенных сумм, выделенных на содержание последнего крымского хана Шахин-гирея, жившего после присоединения Крыма к России в Воронеже. Оправдываться князь счел ниже своего достоинства, а на предупреждения от состоявшего с ним в дружеских отношениях Сегюра сказал: «Я знаю, что про меня говорят, что я погибну. Не беспокойтесь, меня не погубит этот мальчик, и вообще нету никого, кто бы осмелился это сделать. Я слишком презираю моих врагов, чтобы бояться их».
15 июля 1786 года незадачливый Ермолов, имевший, кстати сказать, прозвище «белый негр» (столичные пересмешники указывали на раздутые ноздри фаворита как на признак по-африкански страстной натуры), был отпущен для поправки здоровья за границу. Пожалованные при расставании тысячи червонцев и крепостных душ явилась для него слабым утешением.
Вечером того же дня на собственную половину были внесены несколько картин, приобретенных Потемкиным для Эрмитажа. Их сопровождал двадцатишестилетний адъютант Светлейшего, молодой человек «d’une taille grande et bien prise, an visage de kalmouk, mais plein d’esprit»[106], — так описывала внешность Мамонова наблюдательная современница.
Для понимания логики дальнейших событий весьма существенно, что Потемкина в эти первые дни фавора Мамонова не было в Петербурге. 22 июля 1786 года он находился в инспекционной поездке в Шлиссельбурге и Финляндии.
Спустя три дня Мамонов, уже пожалованный в полковники и обосновавшийся в официальной резиденции фаворитов — флигельке, примыкавшем к покоям императрицы, поднес своему благодетелю золотой чайник великолепной работы с прочувствованной надписью: «Plus unis par le cœur que par le sang»[107].
Через месяц матушке Мамонова, жившей в Москве, была выслана в подарок табакерка, отец был назначен сенатором.
За три года, что продолжался «случай» Дмитриева-Мамонова, он сделался премьер-майором Преображенского полка, корнетом кавалергардов, наконец, графом Римской империи и генерал-адъютантом с жалованием сто восемьдесят тысяч рублей в год.
3
О, век осьмнадцатый, галантный… Столетье безумно и мудро… Эпоха великих войн и революций, время Моцарта и Сальери, Энциклопедии и гильотины.
Твоя мелодия — менуэт.
Девиз — свобода, равенство, братство.
Символ — масонский циркуль.
Лилия на плече — фаворитизм.
Дмитриев-Мамонов по праву мог считаться сыном своего века. Кое в чем он даже опередил его. Отпрыск старинного, но обедневшего дворянского рода — в его жилах текла кровь Рюриковичей! — с младых ногтей был честолюбив, как Растиньяк, и, как Жюльен Сорель, видел в успехе у женщин верное средство сделать успешную и быструю карьеру.
Под влиянием этих обстоятельств и формировалась его судьба, столь типичная и в то же время едва ли не единственная в своем роде.
От природы Сашенька был одарен счастливой внешностью, преимуществами которой научился пользоваться довольно рано.
Его первый учитель, иезуит Совери, как мог, боролся с неодолимым влечением своего подопечного к цветным жилетам и бульварным романам, но педагогический талант его оказался бессильным перед могучим зовом натуры.
Чтение французских романов, как известно, рано или поздно приводит в девичью. Пытаясь уберечь сына от искушений, Мамонов-старший, томившийся из-за нехватки средств в патриархальной Москве, отправил его в столицу, к богатому родственнику, барону Строганову. От судьбы, однако, не уйдешь. Последовал короткий, но бурный роман с дочерью Строганова — и юноша раньше срока вновь очутился в первопрестольной. В родительском доме гнев отца быстро привел его в чувство, попутно напомнив о почтении к начальству.
Однако запретный плод был надкушен: отныне жизнь вне столицы казалась Мамонову недостойной его. Новый наставник, тоже француз, был подобран более удачно, и маленький петиметр в точном соответствии с крылатым выражением В. О. Ключевского начал превращаться в «homme d’esprit»[108]. В просвещенные екатерининские времена это предполагало знакомство с «Велизарием», сочинением аббата Мармонтеля, двумя-тремя рискованными ситуациями из «Хромого беса» Лессажа, а также доступными выдержками из «Энциклопедии» и сочинений Вольтера и Дидро. Не менее важно было и то, что Мамонов сносно объяснялся по-французски, по-итальянски, а античной литературой увлекался одно время до такой степени, что, по собственному признанию, не мог уснуть, не положив томик Гомера под подушку. Добавьте к этому занятия живописью, театром, короткую, но блестящую военную карьеру, которая привела его в 1784 году, благодаря рекомендации друга отца генерала Загряжского, приходившегося дальним родственником матери Потемкина, в адъютанты к светлейшему — и перед вами будет законченный портрет предпоследнего фаворита Екатерины II.
4
На первых порах Мамонов толково и добросовестно выполнял доверенную ему роль. Потемкин, живший безвыездно с осени 1786 года в краях полуденных — Крыму и Новороссии — как никогда нуждался в поддержке. Надвигалась война с Турцией, к тому же необходимо было готовить поездку императрицы в Крым, начавшуюся в январе 1787 года. В этой сложной обстановке Мамонову приходилось играть роль противовеса придворным группировкам, которые, каждая в силу своих резонов, пыталась ослабить силу и влияние Потемкина. Главными противниками князя в ту пору были президент Коммерц-коллегии граф А. Р. Воронцов и сенатор П. В. Завадовский, оба члены Совета. Особенно опасен был Воронцов, человек «душесильный», по выражению Радищева. Твердый в своих убеждениях, феноменально работоспособный, предельно независимый, он резко и открыто критиковал деятельность Потемкина в Новороссии и Тавриде, считая результаты освоения новоприобретенных земель несоизмеримыми с производимыми на них затратами. Близкий Воронцову и его брату Семену Романовичу, послу в Лондоне, Завадовский, почитавшийся современниками человеком скорее хитрым, чем умным, был при нем чем-то вроде «серого преосвященства». Давая в 1794 году согласие на просьбу Воронцова в увольнении от службы, Екатерина призналась: «Всегда знала, а теперь и наипаче ведаю, что его таланты не суть для службы моей; сердце принудить нельзя; права не имею принудить быть усердным ко мне». И, не удержавшись (чуть ли не единственный раз в жизни), заключила: «Ч.Е.П.» — т. е. «Черт его побери».
До начала турецкой войны к Воронцову и Завадовскому примыкал Александр Андреевич Безбородко, фактически руководивший Коллегией иностранных дел. вместе с Завадовским, Петром Васильевичем Бакуниным-младшим, третьим членом КИД, он составлял так называемый «триумвират», прибравший к рукам канцелярию Ее императорского величества.
Впрочем, Безбородко, бывший значительно дальновидней своих товарищей и по «триумвирату», и по «хохлацкой» партии, объединявшей выходцев из Малороссии, вел себя по отношению к Потемкину с разумной предусмотрительностью, неукоснительно выполняя отданные Екатериной в декабре 1786 года указания о согласовании со Светлейшим всех дел, связанных с отношениями России с Османской империей.
Безбородко не поддержал усилия Воронцова и Завадовского, с которыми был связан дружескими узами, добиться при начале турецкой войны смещения Потемкина с поста главнокомандующего и замены его П. А. Румянцевым, воздержавшись, однако, противодействовать и интригам так называемого «социетета» — камер-фрейлины А. С. Протасовой, певшей с голоса австрийского посланника в Петербурге Л. Кобенцеля, связывавшего неудачи, которые терпели союзники России австрийцы, с промедлением Потемкина, не спешившего брать Очаков.
В это критическое для Потемкина и России время, когда к трудностям первых месяцев русско-турецкой войны добавилось вероломное нападение шведского короля Густава III, воспользовавшегося тем, что основные силы русской армии были скованы на юге, и начавшего боевые действия в непосредственной близости от Петербурга, Мамонов оказал Потемкину ряд важных услуг. В дни тяжелейшего кризиса, пережитого Потемкиным после гибели его любимого детища — Черноморского флота в результате шторма, Мамонов сумел добиться разрешения Екатерины на приезд князя в Петербург, предупредив, однако, начальника канцелярии князя П. С. Попова о желательности «отложить свой вояж на несколько времени». Потемкин внял своевременно поступившему совету.
Верный тон избрал Александр Матвеевич и в отношении австрийского посла, постоянно повторявшего в эти дни: «Mon Dieu, mon Dieu, Oszchakow»[109]. Екатерина сполна оценила усилия Мамонова и начала привлекать его к по-настоящему важным государственным делам. Одно из них касалось отношений с Францией, продолжавшей проводить двусмысленную линию в турецких делах. Заявив о своем нейтралитете в начавшейся войне, французы продолжали оказывать тайную политическую и военную помощь туркам.
В фонде «Рукописи» библиотеки Зимнего дворца сохранилось в копии письмо Екатерины Мамонову, написанное осенью 1787 года. Приведем его полностью — оно, как нам кажется, неплохо иллюстрирует попытки императрицы сделать из Александра Матвеевича государственного человека.
«Сиятельство не совсем прав, когда говорит, что сидит руки спустя — сказывают Сегюр взбесился, узнав, что война объявлена, а вы о сем мне не говорили — говорят, что он отзывался, что сей поступок оскорбителен его двору, посол же примечает так, как ожидать можно было от союзника.
Je vous prie de dire en passant au Ségur avec la dexterité que je vous connais que je suis maitresse de déclarer la guerre quand, à qui et comme cela me semble… Vous aimez Ségur parce qu’il est aimable — je l’aime aussi. Mais je n’oublie jamais que la France est la plus grande Ennemi de la Russie et de la gloire de Catherine II. Et si vous ne l’assurez que vous êtes attaché à votre patrie … (пропуск. — П.C.) devez cooperé au bien général.
Ne vous fâchez pas en me voyant vous donner des leçons. Vous êtes jeune et un peu trop français. C’est à ces deux titres que je vous en donne»[110].
Забегая вперед, скажем, что усилия императрицы принесли свои плоды. Вскоре Сегюр предложил заключить «четверной» союз между Россией, Австрией, Францией и Испанией. Такой поворот событий мог бы стать серьезной победой российской дипломатии, уравновесив образовавшуюся к 1790 году мощную антирусскую коалицию во главе с Англией и Пруссией. Для Франции, однако, доживавшей последние годы Старого режима, новая «renvercement des alliances»[111] была уже не по силам. Екатерина, кстати, впоследствии считала, что, если бы Людовику XVI хватило политической воли пойти в 1787–1788 годах на союз с Россией, июльской катастрофы 1789 года можно было бы избежать.
Летом 1788 года Александр Матвеевич был сделан членом Государственного совета («для догляду», как впоследствии признавалась императрица в переписке с Ф.-М. Гриммом)[112]. Одним словом, перед Мамоновым открывались блестящие перспективы. Безбородко, очень не ладивший с одряхлевшим вице-канцлером Остерманом, одно время даже хлопотал о его назначении на это место. Во время знаменитого путешествия в Крым Александр Матвеевич еще более коротко сошелся с сопровождавшими императрицу иностранными послами, особенно Сегюром, ставшим со временем его близким приятелем.
«Они будто соревнуются в том, кто скажет и сделает больше сумасбродств; все совершенно распоясались: разговаривают, болтают и смеются наперебой, а я слушаю и смотрю на них, забившись тихонечко в угол; такова жизнь. И все же это очень приятная жизнь», — этот отрывок из письма Екатерины Гримму достаточно выразительно рисует место, уготовленное у трона великой преобразовательницы России иностранным дипломатам.
Впрочем, не будем опережать события.
5
На первом году «случая» положение Мамонова казалось непрочным. Помня о дерзостях зарвавшегося Ермолова, Екатерина предпочитала до поры до времени держать нового фаворита на некотором расстоянии, присматривалась…
Подобная неординарная ситуация не могла не привести многие умы в мечтательное настроение. Стоило, скажем, Александру Матвеевичу во время поездки на галерах по Днепру занемочь, как в опасной близости от императрицы объявились некто Милорадович и Миклашевский — креатуры «хохлацкой» партии. Управляющий делами и доверенное лицо Потемкина в Петербурге Михаил Гарновский добавляет в этот список и какого-то Казаринова, также имевшего якобы дерзость надеяться.
В таких обстоятельствах ухо приходилось держать востро. Мамонов ни на шаг не отходил от Екатерины. Сцены ревности следовали одна за другой. Безумства юного генерал-адъютанта импонировали императрице.
Канитель эта тянулась довольно долго, до осени 1788 года, когда ситуация круто переменилась. Екатерина страстно привязалась к Мамонову. Однако по таинственным законам связи молодого мужчины со стареющей женщиной (Екатерина была старше Мамонова на тридцать один год) он сам начинает тяготиться своим положением. Дворец кажется ему золотой клеткой. И не без основания — отлучиться из казенной квартиры во флигельке даже на короткий срок делается для него проблемой почти неразрешимой. Все тот же Сегюр, с трудом заполучив Мамонова на обед, случайно подошел к окну и, к крайнему изумлению, заметил в окне кареты, дважды проехавшей перед его домом, встревоженное лицо императрицы.
Утраченную свободу Екатерина пыталась компенсировать щедрыми подарками. К началу 1789 года у Мамонова было двадцать семь тысяч душ в одной только Нижегородской губернии. На пряжках туфель, пуговицах его алого кафтана, генерал-адъютантском жезле и эполетах засверкали бриллианты.
Однако ни многочисленные знаки монаршей милости, ни толпы льстецов в приемной, ни обретенное чувство государственной значимости уже не радовали Мамонова.
Едва ли не единственный среди екатерининских фаворитов, он стыдился своего двусмысленного положения и тяготился им.
Старшие Дмитриевы-Мамоновы принадлежали к кругу московских ворчунов, с неодобрением следивших из первопрестольной за повреждением нравов в северной столице. Невиданная и непривычная еще для России роскошь екатерининского двора, частые смены «припадочных людей», «трутней» — так называли они фаворитов — почитались ими особенно постыдными.
При одной мысли о том, как поджимались сухие губы отца, когда доходили до него светские пересуды об очередном успехе находившегося в «случае» сына, Александру Матвеевичу становилось дурно.
Проявлялись эти потаенные чувства, правда, весьма своеобразно, воздействуя, прежде всего, на характер Александра Матвеевича, портившийся день ото дня. В нем вдруг обнаружилась привередливость капризной содержанки. Наград требовал уже сам, причем отказов не переносил. Однажды в именины, Александров день, не получив орден Александра Невского, на который рассчитывал, заперся в своей комнате и несколько дней не показывался из нее, сказываясь больным. Гнев сменил на милость только после того, как Екатерина сняла знаки ордена с подвернувшегося под руку Николая Ивановича Салтыкова и послала их «enfant gâté»[113].
В это непростое время и появилась на сцене фрейлина княгиня Дарья Федоровна Щербатова. Наблюдательный Гарновский, еще в мае 1788 года заметивший что-то неладное, в августе сигнализировал, что «у Александра Матвеевича происходит небольшое с княжной Щербатовой махание». Потемкин, проигнорировав по крайней своей занятости военными делами столь своевременно поступившее предупреждение, потом уже, после дела, каялся: «Амуришко этот давний, я слышал прошлого году, что он из-за стола посылал ей фрукты».
Ко времени знакомства с Мамоновым Дарье Федоровне шел двадцать седьмой год. Детство и юность ее прошли трудно. Брак ее родителей был несчастлив. Отец, Федор Федорович, генерал-поручик, жил в Москве, будучи отставлен от службы и удален от двора за неудачные действия во время пугачевского бунта. Человек крутого нрава, после отставки озлился на весь мир, хотя был, несомненно, ответственен за бездарную сдачу Самары Пугачеву, перечеркнувшую успехи, достигнутые Бибиковым. Мать — Мария Александровна — вынуждена была вернуться с дочерью в дом своего отца, князя Бекович-Черкасского, где вскоре и умерла, оставив малолетнюю дочь на его попечение. После смерти деда княжна Щербатова по просьбе тетки Дарьи Александровны Черкасской была взята Екатериной во дворец и воспитана на половине фрейлин под присмотром баронессы фон Мальтиц.
1 января 1787 года Дарья Федоровна была пожалована во фрейлины. Сохранилось ее письмо к Потемкину, в котором она с большим достоинством просила доставить ей место при дворе, напоминая князю о своих бедах и полной беззащитности. Звание фрейлины в те времена было редкой честью: при екатерининском дворе их было всего двенадцать.
Дарья Федоровна не слыла красавицей. Было, однако, в ее разговоре, манере держаться что-то выгодно отличавшее ее от «интересливых», мило картавивших фрейлин императрицы. Врожденное чувство собственного достоинства новой фрейлины, не переходившее в гордость, скрытность без замкнутости импонировали Екатерине. Бесприданницы и старые девы вообще были ее слабостью — надо думать, что в них ее трогали отголоски собственной судьбы. Поэтому, наверное, когда вскрылась «интрига» княжны Щербатовой с английским послом Фитц-Гербертом, воспылавшим к ней платонической страстью, дело замяли, хотя всего за несколько лет до этого подобная неосторожность с фрейлиной Хитрово стоила английскому дипломату Маккарти карьеры — он был отправлен на родину. Впоследствии Екатерина немало удивлялась тому, что ко времени свадьбы за Щербатовой числилось тридцать тысяч рублей долга.
Мамонов и Дарья Федоровна познакомились в доме бригадира графа Ивана Степановича Рибопьера. Жена Рибопьера, Аграфена Александровна, урожденная Бибикова, приходилась княжне дальней родственницей и принимала живое участие в устройстве ее судьбы. Мамонов же подружился с Рибопьером, когда оба они служили в адъютантах у Потемкина. Отец Ивана Степановича происходил из знатной эльзасской семьи, был другом Вольтера, по рекомендации которого сын его поступил на русскую военную службу. Рибопьеры жили на широкую ногу в роскошном доме на Моховой, купленном у герцога Вюртембергского. Мамонов, впрочем, как и Сегюр, и Кобенцель обедали у Рибопьеров чуть не каждый день. Там же по-родственному бывала и княжна Щербатова. Аграфена Александровна, женщина сильного характера, по-видимому, и устраивала первые свидания княжны Щербатовой с Мамоновым. Впрочем, встречались они и во дворце, и во фрейлинском саду, куда Александр Матвеевич проходил через комнаты фрейлины Шкуриной.
Постепенно потребность видеть Дарью Федоровну каждый день, хотя бы и мельком, сделалась для него неодолимой. Готовясь к решительному объяснению, он не думал о последствиях, будучи одержим худшим видом страсти — страсти к самоутверждению.
Свидания их, по понятным причинам, были нерегулярны. Чтобы отлучиться от двора, Александр Матвеевич разыгрывал целые спектакли, симулируя приступы удушья. (Причиной их, как он утверждал, были чересчур мягкие подвески в дворцовой карете.) Ценой невероятных усилий он добился позволения пользоваться собственным экипажем, дававшим некоторую свободу передвижения.
К счастью или к несчастью, Бог весть, Дарья Федоровна оказалась той цельной натурой, для которой не ответить на порыв такой силы было невозможно. Спокойно и естественно пошла она навстречу судьбе, не только не страшась гнева своей августейшей соперницы, но даже не думая об этом.
Роман Мамонова и Щербатовой тянулся чуть менее двух лет.
Трудно предположить, что Екатерина ничего не знала об истинной подоплеке участившихся недомоганий Мамонова. Если и не знала, наверное, то догадывалась — поводов для этого было более чем достаточно. Догадывалась, конечно. Но и мысли не допускала, что дело может дойти до публичного скандала. Графом Римской империи и членом Совета Мамонов был сделан весной-летом 1788 года, на пике его тайного романа со Щербатовой.
Что же ускорило развязку?
Трудно сказать. Достоверно известно лишь то, что княжна Щербатова, идя под венец, была четвертый месяц как брюхата (да простит нам читатель это грубоватое на современный слух словцо хотя бы за то, что его так любил Пушкин!).
Короче, каковы бы ни были обстоятельства, вынудившие Мамонова на решительное объяснение с Екатериной, ситуация оказалась неординарной: тут и человек более сильный духом, чем Мамонов, пришел бы в уныние. Александр Матвеевич же в этот критический момент совсем потерял себя — вместо того, чтобы повиниться в преступной связи и попытаться уладить дело по-доброму, не нарушая чести и благопристойности двора, не нашел ничего лучшего, как начать упрекать императрицу в невнимании и холодности к нему. Этим-де пользуются завистники, вконец отравившие его жизнь подлыми интригами.
Да и вообще — в его годы пора жить своим домом, пора жениться — вот только не знает на ком.
О Щербатовой, разумеется, ни слова. Зато о желании остаться на службе была произнесена целая речь, яркая и, как казалось Александру Матвеевичу, вполне убедительная.
Тайным свидетелем этой странной сцены, состоявшейся в Голубой гостиной, и стал Захар Константинович Зотов.
6
Вернувшись к себе, Мамонов поднялся в бельэтаж, и, едва дойдя до гостиной, рухнул без сил на угловой диван. Во флигельке царила мертвая тишина: лакей Мамонова Антуан, крепостной его отца, прыщавый верзила с гнилым взглядом ловеласа, надушенный и облаченный в ливрейный кафтан и французские башмаки на высоких красных каблуках, чуял настроение хозяина, как верный пес.
Разбудил Мамонова камердинер императрицы Федор Михайлович, по прозвищу Меркурий, вестник богов. При дворе этот человек был знаменит тем, что никто не слышал от него ни единого слова. Употребляемый императрицей для самых конфиденциальных поручений, он бродил по коридорам дворца, безмолвный и надежный, как ходячий почтовый ящик.
Федор Михайлович молча оттопырил боковой карман своего кафтана, и Мамонов, волнуясь, торопливо выудил из его глубин свернутую вчетверо записку. Из предосторожности Екатерина писала по-французски:
«Desirant toujours que toi et les tiens jouissiez d’une parfaite prospérité et voyant à quel point ta situation actuelle te pèse, j’ai l’intention d’organiser ton bonheur d’une autre manière. La fille du comte Bruce est le parti le plus riche et le plus illustre de Russie. Epouse-la. La semaine prochaine le comte Bruce sera de service aupres de moi. Je donnerai des ordres pour que sa fille vienne avec lui. Anna Nikitichna emploiera tous ses moyens pour amener cette affaire au denoument voulu. J’y aiderai de mon côté et tu pourras de la sorte rester au service»[114].
Пробежав глазами записку, Мамонов побледнел. Ответный удар был нанесен Екатериной с холодной расчетливостью.
Граф Яков Александрович Брюс, петербургский генерал-губернатор, жил один с тех пор, как жена, знаменитая Прасковья Брюс, увлекшись фаворитом императрицы Римским-Корсаковым, оставила его. Брак с его дочерью действительно мог быть устроен сравнительно легко — отказаться от великодушного предложения Екатерины было неизмеримо сложнее, чем принять его.
Мамонов еще раз, уже внимательнее, перечел записку. «Дочь графа Брюса — самая богатая и блестящая партия в России». Молнией блеснула догадка — императрице известно о его связи со Щербатовой, и его вынуждают отказаться от брака с княжной.
В эти минуты и решилась судьба Мамонова. Он знал правила игры. Отвечать было положено немедленно и прямо. Дрожащей рукой он взялся за перо и, мешая правду с вымыслом, поминутно вымарывая слова и целые строки, сочинил ответ:
«Les mains me tremblent et comme je Vous l’ai déjà écrit, je suis seul, n’ayant personne ici, ecxepté Vous. Maintenant je vois tout et à Vous confesser la verite, je suis, de mon côté, Votre obligé en toute chose; Dieus me punirait, si je n’agissais pas en toute sincérité. Ma fortune et celle de ma famille Vous sont connues: nous sommes pauvres, mais je ne me laisserai pas tenter par la richesse ni ne deivendrai l’obligé de personne, hormis de Vous, mais pas de Bruse. Si vous désirez donner fondement a ma vie permetter d’épouser la princesse Stcherbatov, demoiselle d’honneur, qui Ribaupierre et beaucoup d’autres m’ont vantée; elle ne me reprochera pas mon manque de fortune et je ne menerai pas une existence desordonnée; je compte m’installer auprès de mes parents. Que Dieus juge ceux qui nous ont amenés où nous en sommes. Ce n’est pas la peine de Vous assurer que tout ceci restera secret. Vous me connaissez suffisamment. Je baise Vos petites mains et Vos petits pieds et je ne vois pas moi-même ce que j’écris»[115].
Когда письмо было готово, вновь явился молчаливый Федор Михайлович, и ответ Мамонова отправился в обратный путь.
7
А холодные сквознячки сплетен уже продували дворец насквозь.
— Цельный день во флигелек записку таскаем, — шепнул Зотов Храповицкому, зажевывая щепотью ситного золотистую наливку.
— Разве дело еще не решено? — удивился кабинет-секретарь.
— Хрен разберешь, по-французски пишут, — пожаловался Зотов. — Примечаю, однако, — голос его опустился до едва слышного шелеста, — что парнишка-то, Александр Матвеевич, не прост оказался. Ох, не прост. Не поверишь, мон шер, уж год амур на стороне крутит. И знать не знал, ведать не ведал. Какой конфуз, экселенс, как матушке в глаза смотреть? Не доглядели, не уследили. Мадам Ливен третий час в обмороке лежит — да уж поздно. Паренек совсем с ума свихнулся — жениться, вишь ли, задумал…
— Жениться, Константиныч? Да на ком же?
— На фрейлине Дарье Федоровне.
— Щербатовой? — ахнул Храповицкий. — А что же сама, неужели благословила?
— Какое там, весь вечер слезы, никого кроме Анны Никитичны не пускает. Третий раз за бестужевскими каплями посылаем.
8
Под вечер Мамонов все же был призван в опочивальню.
С первого, исподлобья, взгляда раскосых калмыцких глаз понял, что все обошлось, — и повалился на колени, заелозил башмаками, подбираясь к заветной атласной туфельке.
— Vous m’aurez épargné bien de desagrements si vous avez fait cette confessions en hiver[116]. К чему было тянуть? Вы знаете, как я ненавижу принуждение, и, тем не менее, поставили и себя, и меня в ложное положение, — говоря так, Екатерина смотрела в сторону, прикрывая распухшее от слез лицо кружевным платком. — Votre duplicité, duplicité?[117] — она не могла продолжать.
Анна Никитична Нарышкина, уже три с лишним десятка лет состоявшая при императрице дуэньей, поверенной сердечных тайн, будто дождавшись сигнала, зашлась в визге, поминая и Рибопьера, и Щербатову, и самого Александра Матвеевича обидными словами.
Мамонов клекотал по орлиному, давя рыдания, вертелся на колене, норовя впиться губами в мягкую ручку. Екатерина уворачивалась. Толстая Нарышкина, руки в боки, витийствовала, как наемная плакальщица на похоронах:
— На кого польстился? Дашка Щербатова, телка квелая, рожа от мушек рябая, на двадцать седьмом году не замужем!
В общем, сцена получилась тяжелая.
Захар Константинович, примостившийся за дверью гардеробной, на краешке фарфоровой ночной вазы, сидел тихо, как воробушек.
Будто в театре побывал.
9
Храповицкий прождал друга до вечерней звезды. Когда стемнело, зажег свечи, запер дверь и, достав из потайного ящичка бюро заветную тетрадь в переплете красного сафьяна с золотыми разводами записал: «С утра невеселы… Слезы. Зотов сказал мне, что паренька отпускают, и он женится на кн. Дарье Федор. Щербатовой. После обеда и во весь вечер была только одна Анна Никитична Нарышкина».
В тот же час в темном закутке за секретарской дежурный камер-фурьер Герасим Журавлев томился, решая, как запечатлеть для потомства события достопамятного июня 16 дня 1789 года. Грыз перо, вздыхал, марал виньетками засаленный картонный пюпитр, словом, творил вдохновенно. Наконец, вывел крупными, как горошины, буквами в толстом журнале, куда полагалось заносить все обстоятельства жизни августейших особ: «В вечеру особливого ничего не происходило; Ее Императорское Величество из внутренних своих покоев выхода иметь не изволила, и как обыкновенно в состоящем в верхнем саду театре представления никакого не было».
Трудно делать историю, но писать ее бывает стократ труднее.
Действо третье
Я воевала без адмиралов и заключала мир без министров.
Екатерина II1
На следующий день по раз и навсегда заведенному порядку Екатерина поднялась в седьмом часу утра. Посидела на краю кровати, ожидая, пока отойдут отекшие за ночь ноги. Приподняла подол ночной рубашки, погладила взбухшие вены, проступавшие сквозь бледную кожу. Время не щадит никого, не пощадило оно и императрицу. По утрам ее все больше беспокоила тупая ноющая боль в ногах, мешавшая ходить. К докторам, однако, не обращалась, привыкнув с молодости — со времен незабвенного Лестока — считать их шарлатанами.
Оделась сама, отмахнувшись от суетившейся более обычного Марьи Саввишны Перекусихиной, первой юнгферы. Та, со сдержанной скорбью во взоре и голосе, пересказывала ей последние придворные сплетни. Однако подробности разразившегося на днях громкого скандала с находившимся на русской службе адмиралом Полом Джонсом, обвиненным в совращении несовершеннолетней, Екатерина слушала вполуха. Мнения своего, против обыкновения, не высказывала.
В туалетной с кувшином теплой воды и льдом, мелко накрошенным в серебряной плошке, уже ждала калмычка Катерина Ивановна. Вывезенная из оренбургских степей после пугачевского бунта, она во дворце продолжала жить, как в юрте: просыпалась, когда вздумается, и до вечера бродила, босая и простоволосая, по залам и комнатам, натыкаясь на мебель и разбивая дорогой фарфор.
Но императрицу боготворила, что, однако, не мешало ей регулярно просыпать свое дежурство при утреннем туалете Ее императорского величества. При виде императрицы немела и не могла пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Екатерина ее не бранила. Чувствуя преданность Катерины Ивановны, она терпеливо сносила неудобства, проистекавшие из-за ее крайней бестолковости. В часы досуга любила наставлять ее, учить уму-разуму, приготовляя к замужеству, которое, увы, откладывалось из года в год.
Сегодня, однако, императрица была не расположена к общению. К тому же, распухший хлюпающий нос и затуманенный слезой бараний, навыкате, взгляд калмычки не оставляли сомнений в том, что весть о вчерашних событиях совершила свой круг, дойдя до прачек и поломоек. Что ж — на чужой роток не накинешь платок. Как всегда, от удачно вспомнившейся русской пословицы Екатерина приободрилась.
Умывшись, прополоскав рот теплой водой и потерев виски кусочком льда, она отпустила Перекусихину и калмычку и, переваливаясь, как утка, прошла в свой рабочий кабинет.
Тяжело опустившись на обитый белым штофом стул у резного фигурного столика, императрица первым делом потянулась к табакерке с портретом Петра I на крышке. Табак особого сорта специально для нее выращивали в Царскосельском саду. Чихнув так, что слезы выступили на глаза и мелодичным перезвоном откликнулись хрустальные висюльки в жирандолях, Екатерина трубно прочистила нос и шепотом сказала сама себе: «Quand on s’eternue, on ne meurt pas»[118]. Мелко, старчески затряслась голова в кружевном ночном чепце. Опять одна, доброго здоровья пожелать некому. Кругом одни ласкатели, интриганы и подлые души.
Внезапно ярко, в мельчайших подробностях ожило в памяти вчерашнее объяснение. Искаженное рыданиями лицо Мамонова, фальшивые, путаные слова, которые он произносил в свое оправдание.
Мелкий оказался человечишко. Заврался, единственно из-за трусости и малодушия поставил и себя, и ее в ложное положение. А может, и вправду влюбился?
Резко поднявшись со стула, Екатерина подошла к окну. Из него открывался чудесный вид на верхний сад с его густой зеленью, бесчисленными мостиками, перекинутыми через каналы, уютными беседками-ротондами и островерхими павильонами в китайском стиле.
Порыв свежего ветра, напоенного ароматами цветущих лип и жимолости, остудил разгоряченное лицо императрицы. Собственно, измена Мамонова задела, скорее, ее самолюбие. В ее женской судьбе случались потрясения и посильнее.
Пришедшая вдруг в голову мысль о том, что за выходкой Мамонова могла стоять не низкая интрига, а простое стечение обстоятельств, неожиданное, шальное чувство, вовсе не успокоила. Своим холодным аналитическим умом Екатерина не могла не сознавать, что в подобной ситуации ей была уготована совсем уж неприглядная роль не по возрасту влюбчивой, ревнивой старухи из второсортной французской оперетки.
Неприязнь к Мамонову вспыхнула с новой силой. А за окном, там, где прямо от входа на собственную половину начиналась липовая аллея, стоял утренний птичий гомон. По обеим сторонам аллеи сквозь нежную листву белел мрамор античных статуй. Взгляд императрицы привычно скользнул правее. Там, на округлой вершине холма, виднелся полускрытый бурно разросшимся плющом невысокий монумент, увенчанный траурной греческой вазой.
Это был памятник фавориту Ланскому, умершему четыре года назад. На лицо Екатерины набежала тень. Ланской — вот пример истинной преданности. Ни в ком больше не чувствовала такой искренности и бескорыстия. Подарки его обижали, от деревень отказывался, хоть беден был. Буде бы остался жить — может и избавил бы ее от тайной напасти, удела вдов и императриц — неотступного, рвущего сердце одиночества. И на смертном одре, когда задыхался уже, даже пить не мог из-за глубоких, незаживающих нарывов на горле, последние мысли были только о ней. Как боялся он огорчить ее своей кончиной. А Мамонов…
На щеках императрицы вспыхнули красные пятна.
Неблагодарный наглец! Самонадеянный и самовлюбленный мальчишка, две войны на дворе — а он чуть не до публичного скандала дело довел. Через неделю, небось, в гамбургских газетах все здешние происшествия распишут. В Москву его, и на дух к государственным делам не подпускать.
Екатерина покачала головой, будто отгоняя навязчивое подозрение. Постояла немного, собираясь с мыслями. Главное сейчас — восстановить контроль над событиями. Плыть по течению — удел слабых духом. Обстоятельства, как бы они ни были тяжелы, должны подчиняться ее воле.
В считанные минуты план действий был готов.
Кликнула Перекусихину. Пошептались неслышно, голова к голове.
Выходя, Марья Саввишна оглянулась, осенив Екатерину крестным знамением. На лице ее читалось неподдельное восхищение.
Императрица вернулась к столу.
Позвонила. Подали крепчайший, заваренный по левантийскому рецепту кофе и два поджаренных тоста — это все, чем она обходилась до обеда.
Теперь за работу.
2
Французский посланник при Петербургском дворе Дюран в депеше герцогу д’Эгильону, отправленной осенью 1772 года, в самый разгар европейского кризиса, вызванного разделом Польши, доносил, что уже два месяца кряду императрица почти не дотрагивается до бумаг, так как занята делами, связанными с удалением от двора Григория Орлова.
Сменивший его на этом посту Корберон писал в 1778 году:
«В делах России намечается нечто вроде междуцарствия, которое наступает в промежутке между смещением одного фаворита и воцарением другого. Это событие затмевает все остальные. Оно направляет в одну сторону и сосредотачивает все интересы; и даже министры, на которых отражается это влияние, прекращают отправление своих обязанностей до той минуты, пока окончательно утвержденный выбор фаворита не приведет их умы в нормальное состояние и не придаст машине ее обычный ход».
Впрочем, в моменты по-настоящему критические императрица всегда или почти всегда умела заставить себя подняться над личными переживаниями.
3
Екатерина решительно пододвинула к себе папку с бумагами. Началась обычная, повторяющаяся изо дня в день процедура выслушивания докладов, просмотра почты, диктовки распоряжений, которая и составляла таинство управления огромным государством, именуемым Российской империей.
Забот было много. Россия вела две войны — с Турцией и Швецией — и опасалась третьей — с европейской коалицией в составе Пруссии и Англии, к которой, при неблагоприятном для России развитии войны с турками могла примкнуть и Польша.
Неизбежность новой войны с Османской империей была ясна и Екатерине, и Потемкину, по крайней мере, с осени 1786 года. Турки не могли и не хотели смириться ни с потерей Крымского ханства, присоединенного к России 8 апреля 1783 года, ни с переходом под ее покровительство Восточной Грузии — царства Картли-Кахетии в июле того же года. Непрекращавшиеся набеги на русские форпосты, похищения людей и скота доказывали невозможность обеспечения безопасности Тавриды и Новороссийского края без переноса русско-турецкой границы на рубеж реки Днестр.
13 декабря 1786 года Г. А. Потемкин сообщил российскому посланнику в Константинополе Я. И. Булгакову о «высочайшем поручении» ему «дел пограничных с Портою». К депеше Потемкина была приложена выдержка из адресованного ему высочайшего рескрипта от 16 октября, согласно которому Светлейшему были предоставлены фактически неограниченные полномочия относительно дальнейшей линии действий в отношении Турции. Этими полномочиями, кстати говоря, Потемкин распорядился вполне разумно. Жестко сформулировав русские требования относительно «обезопасевания границ» новоприобретенных областей, он в то же время поручал Булгакову «с искренностью уверить министерство Порты, что их недоверенность к нашей дружбе неосновательна, и что желания Ея величества свято основаны на сохранении мира. Сами они по пространству и великости Империи Российской могут видеть, нужно ли Ее величеству желать разпространения пределов. Сама натура и положение мест может им доказать, что большое разширение владений ослабило бы Россию, наипаче теперь, когда получением Крыма окружность границ толь совершенно устроена. Представьте им ясные доказательства, что вместо укреплений и искания посторонних противу нас пособий, лучше для них и полезней прямо быть с нами в дружбе, которая непрерывным наблюдением обязанностей столь усилится, что тишина и покой взаимный[119] утвердятся навеки».
Столь обширную цитату из дипломатической переписки Потемкина мы сочли необходимым привести, потому что она была доведена до сведения турок в особых обстоятельствах — накануне знаменитого путешествия Екатерины в Крым в январе — июле 1787 года. Путешествие это, имевшее целью контроль за деятельностью Потемкина по освоению новоприобретенных земель на юге России, получило значение, далеко превосходящее задачи, которые перед ним ставились.
Организовано оно было с необыкновенным размахом. В подготовке его участвовала вся Россия. Была введена специальная подушная подать, составившая внушительную сумму в два миллиона рублей. Однако реальные расходы были, конечно, намного выше. Английский посол Фитц-Герберт доносил в Лондон, что издержки путешествия приближались к четырем миллионам рублей. Однако и эта цифра, повергнувшая в изумление Европу, была, очевидно, далека от истины.
Храповицкий, которому было поручено вести «поденные записки» путешествия, скрупулезно подсчитал, что до Киева пышная свита императрицы добиралась на 14 каретах, 124 санях и 40 запасных экипажах. Указом Сената только на путь от столицы до Киева предписывалось иметь на каждой из 75 станций по 500 лошадей, что в целом составляло 37 500 лошадей. Если же учесть, что по славному российскому обычаю дело это умудрились устроить так, что из Пензы везли лошадей в Новгород-Северский, курских лошадей — в Белгородскую и Орловскую губернии, а орловских — в Тульскую, то к общей сумме расходов миллион-другой придется добавить.
Картины, открывшиеся взорам путешественников во владениях Потемкина, красочно описывает обер-камергер Евграф Александрович Чертков, человек честный и прямой:
«Был я с его светлостью в Тавриде, Херсоне, Кременчуге месяца за два до приезда туда Ее императорского величества. Я удивлялся его светлости и не понимал, что он там хотел показать? Ничего не было там отличного. Но приехала государыня — и, Бог знает, что там за чудеса явились. Черт знает, откудова взялись строения, войско, людство, татарва, одетая прекрасно, казаки, крестьяне. Ну-ну, Бог знает, что. Какое изобилие в яствах, зрелищах, словом, нельзя, чтобы пересказывать порядочно. Я тогда ходил, как во сне, право, как сонный, сам себе ни в чем не верил. Не мечту ли, ни привидение вижу? Ну, надобно правду сказать: ему, ему одному только можно такие дела делать».
Приведя это свидетельство человека, репутацию которого современники, повторим, считали безупречной, мы не можем не прервать ненадолго наш рассказ и не высказаться по поводу пресловутых «потемкинских деревень», вызвавших в свое время столь бурные споры историков. Разумеется, после известных публикаций академиков Е. И. Дружининой и А. М. Панченко говорить о «потемкинских деревнях» в том смысле, который вкладывали в них мемуаристы вроде Гельбига или Ланжерона, неуместно. Тем более что тот же Ланжерон в поздних приписках к своим воспоминаниям отдал должное талантам и распорядительности Светлейшего князя в Тавриде.
И тем не менее вопрос этот не так прост, как может показаться. Понятие «потемкинские деревни» прочно вошло в наше сознание как символ, отражающий имманентную, зародившуюся задолго до Потемкина и продолжившуюся до наших дней особенность ментальности русского чиновника, гражданского и военного, в силу которой по случаю приезда вышестоящего начальства в воинской части, к примеру, летом красят траву в зеленый цвет, а снег зимой — в белый. Поколению 60-х годов памятен знаменитый «книксен» — зеленый сквер, как бы чудом за одну ночь возникший на пространстве между Пашковым домом и Боровицкими воротами Кремля на месте ветхих домишек перед приездом в Москву президента Никсона в 1972 году. Примеров такого рода множество, и жаль, когда ложно понятый патриотизм, справедливо возмущающийся пристрастностью иностранцев, никогда не бывших в состоянии постичь широту русской души, одновременно отрицает очевидное — нашу страсть к показухе, этой незаживающей язве отечественной действительности.
Впрочем, как бы там ни было, постараемся быть справедливыми. Свидетельств очевидцев — а среди них были такие строгие наблюдатели, как австрийский император Иосиф II, принц де Линь, французский посол Сегюр и многие другие — о впечатляющих результатах преобразовательной деятельности Потемкина значительно больше, чем более или менее недобросовестных измышлений всякого рода злопыхателей. Екатерина имела все основания быть чрезвычайно довольной своей поездкой в Тавриду. Увиденное ею подводило окончательную черту под циркулировавшими в северной столице сплетнями о не держащемся на плаву флоте, построенном Потемкиным, картонной кавалерии и фальшивых городах и деревнях, исчезавших с лица земли, как только поезд императрицы скрывался за горизонтом. 13 июля 1787 года она писала Потемкину из Царского Села: «Третьего дня окончили мы свое 6000-верстное путешествие, приехав на сию станцию в совершенном здоровье, а с того часа упражняемся в рассказах о прелестном положении места вам вверенных губерний и областей, о трудах, успехах, радении, попечении и порядке, вами устроенном повсюду».
Екатерина вернулась в Царское Село 11 июля, а через месяц, 13 августа 1787 года Порта объявила войну России. В начале августа турки предъявили Булгакову два ультиматума. В первом из них содержались требования отказаться от протектората над Грузией и разрешить турецким чиновникам досматривать русские торговые суда, выходившие из Черного моря в Средиземное. Не дождавшись ответа на первый ультиматум, турки вызвали Булгакова в диван великого визиря во второй раз и потребовали заведомо невозможного — возвратить Османской империи Крым и признать недействительным Кючук-Кайнарджийский мирный договор. После отказа Булгакова отправить ноту столь наглого содержания в Петербург он был немедленно препровожден в Едикуле — Семибашенный замок, куда турки помещали послов государств, которым объявлялась война.
Противники Потемкина, приумолкшие было после триумфальной поездки императрицы в Тавриду, принялись обвинять его в развязывании войны. Дело, однако, обстояло не так просто. Стрелы, направлявшиеся в Светлейшего, попадали в Екатерину. Дело в том, что еще в 1781 году путем обмена письмами между Екатериной II и австрийским императором Иосифом II, датированными соответственно 21 и 24 мая, был заключен русско-австрийский союз, сыгравший важную роль в екатерининской дипломатии. Австрийский император признавал за себя и своих наследников территориальные приобретения России в соответствии с Кючук-Кайнарджийским договором и обязывался в случае объявления Портой войны России действовать против турок в союзе с ней корпусом войск, равным российскому. Екатерина поддержала территориальные претензии Габсбургов на Северную Сербию с Белградом, Малую Валахию и часть Боснии, дававшие Австрии выход к Адриатическому морю.
Антитурецкая подоплека русско-австрийского союза, несмотря на абсолютную конфиденциальность достигнутых договоренностей, не составляла секрета для ведущих политиков Европы. Фридрих II в письме к своему посланнику в Петербурге графу Герцу от 2 апреля 1782 года обнаруживает такое знание существа того, что впоследствии получило название «Греческого проекта», которое позволяет ему сделать следующий вывод: «Я думаю, что с этим проектом случится то же, что и с большинством других, сформулированных императрицей, — его оставят на бумаге, не слишком обременяя себя его исполнением»[120].
Лукавство Фридриха можно сравнить лишь с его проницательностью. «Греческий проект» был сформулирован в письмах, которыми Екатерина и Иосиф обменялись в сентябре — ноябре 1782 года[121]. Инициатором его выступила русская императрица, предложившая ввиду препятствий, которые чинила Порта проходу русских судов через Босфор и Дарданеллы, подстрекательств жителей Крыма к восстанию, заключить «секретную конвенцию о вероятных приобретениях, которых мы должны домогаться у нарушителя мира». Основой такой конвенции Екатерина видела договоренность о создании между Российской, Австрийской и Турецкой империями буферного государства в составе Молдавии, Валахии и Бессарабии, которое она назвала античным именем Дакия. Существенно, что при этом было подчеркнуто, что Россия не претендует на это буферное государство и стремится лишь присоединить крепость Очаков на Днепровском лимане и полосу земли между реками Буг и Днестр (иными словами, речь фактически шла о тех приобретениях, которые Россия получила по Ясскому миру, завершившему русско-турецкую войну 1787–1791 гг.). В то же время в случае благоприятного развития войны с Турцией Екатерина выражала надежду, что Иосиф II «не откажется помочь мне в восстановлении древнегреческой монархии на развалинах павшего варварского правления, ныне здесь господствующего, при взятии мною на себя обязательства поддерживать независимость этой восстановленной монархии от моей». На престол этой греческой империи должен был взойти внук Екатерины великий князь Константин при условии, что он откажется от наследования российской короны, а великие князья Павел Петрович и его сын Александр, в свою очередь, поклянутся, что никогда не станут претендовать на константинопольский престол.
Ответное письмо Иосифа с достаточной ясностью обрисовывало те противоречия, которые впоследствии сделали русско-австрийский союз столь шатким. В качестве своего главного противника австрийский император видел не только турецкого султана, но и прусского короля, который, по его словам, питал к нему «беспредельную ненависть и недоверие». В отношении «Греческого проекта» позиция Австрии была сформулирована расплывчато: «Что касается создания нового королевства Дакия с государем греческой религии и утверждения Вашего внука Константина сувереном и императором Греческой империи в Константинополе, то лишь ход войны может все решить; с моей стороны осуществление всех Ваших замыслов не встретит затруднения, если они будут сочетаться и соединяться с тем, что я считаю достойным»[122].
Исследователей «Греческого проекта» всегда озадачивало легкомыслие, проявленное Екатериной и Иосифом в отношении возможной реакции европейских держав на обсуждавшиеся ими планы раздела Османской империи. Забегая вперед, скажем, что они оправдались только в отношении Франции, не способной в силу начавшейся революции принимать активное участие в европейской политике. Что же касается других европейских государств — Пруссии, Англии, Швеции, отчасти Польши — то их реакция на русско-австрийские планы в отношении Турции в 1790 году очень напоминала ситуацию, сложившуюся накануне Крымской войны.
Организатором антирусской коалиции в 1790 году, как и подозревал Иосиф II, выступила Пруссия. Правда, к тому времени ни самого Фридриха Великого, ни Иосифа II уже не было в живых. Прусским королем стал племянник Фридриха II Фридрих-Вильгельм, отношения которого с Екатериной еще до его восшествия на престол складывались более чем напряженно.
Что же касается «старого Фрица», как называли Фридриха II его соратники, то, думается, что он с присущим ему реализмом всегда понимал, что «Греческий проект» был для Екатерины задачей не столько практической, сколько тем, что сам он в своих «Политических завещаниях» называл «химерами». Это, однако, не помешало прусскому королю совместно с английскими дипломатами в Константинополе внушить туркам летом — осенью 1787 года мысль о необходимости самим начать войну против России.
В этом смысле война, объявленная Портой, носила, с ее точки зрения, превентивный характер — русская армия, реформированная Потемкиным, и молодой флот, показанный Екатерине и Иосифу II в Севастополе, еще не закончили своего переформирования, на которое, согласно позднейшим признаниям Светлейшего, нужно было не менее двух лет. К тому же в самом начале войны, 8 сентября, большая часть новопостроенных российских кораблей погибла в результате шторма. Это повергло Потемкина в такое отчаяние, что он одно время подумывал об оставлении Крыма. «Флот севастопольский разбит бурей… Корабли и большие фрегаты пропали. Бьет Бог, а не турки», — писал Потемкин Екатерине, прося сложить с него командование[123].
«Я думаю, что в военное время фельдмаршалу надлежит при армии находиться», — отвечала Екатерина Потемкину 24 сентября. И далее: «Вы отнюдь не маленькое частное лицо, которое живет и делает, что хочет. Вы принадлежите государству, Вы принадлежите мне»[124]. В. С. Лопатин установил, что смягчить выражения этого необычно резкого письма убедил Екатерину Дмитриев-Мамонов.
Можно только догадываться о том, каких душевных усилий стоило Потемкину справиться с собой и восстановить контроль за ситуацией. К весне 1788 года вверенные ему войска уже диктовали туркам план войны, а летом следующего, 1789 года, появилась возможность открытия мирных переговоров.
— Освобождение Булгакова — есть первейшее условие для мирных трактаментов, — императрица формулировала кондиции для начинавшихся переговоров с турками со своей обычной ясностью мысли. Ее речь звучала твердо и энергично, словно и не было вчерашней бурной сцены.
Храповицкий, в отсутствие Безбородко бывший в этот день и на докладе по делам Иностранной коллегии, едва успевал записывать.
— Во втором пункте должно требовать простого и никаким толкованиям не подверженного утверждения прежних договоров, а именно: трактата 1774 года в Кючук-Кайнарджи, торгового договора 1783 года и акта о землях татарских от декабря того же года.
— В третьем — стараться начать трактование мирных кондиций на условиях ab uti possidetis, то есть, кто теперь чем владеет, желая, чтобы река Дунай служила границей владений Порты.
Не сверяясь с записями, по памяти Екатерина определяла уступки, на которые можно было пойти в вопросе о судьбе земель между Днестром и Дунаем, уверенно ориентируясь в мельчайших деталях предстоящих переговоров.
Закончив диктовку, Екатерина пошелестела бумагами, которые к этому времени в немалом количестве скопились на ее столе, и протянула Храповицкому свернутый втрое и опечатанный собственноручно лист.
— Отправьте князю Григорию Александровичу с тем же курьером, что повезет рескрипт.
И, помедлив, сочла нужным пояснить:
— Советую ему не срывать крепостных укреплений Очакова до утверждения границы. Полезны могут оказаться для защиты лимана и оснастки кораблей. Да и, чаю я, дела наши с турками этой войной не кончатся. A propos[125], как там очаковский паша? Был ли в Эрмитаже?
Трехбунчужный паша, начальник Очаковского гарнизона, взятый в плен русскими войсками при штурме города, уже несколько месяцев жил в Петербурге, где ему воздавались почести, приличные его сану.
— Точно так, — отвечал Храповицкий. — Показаны коллекции монет и гемм. Иван Андреевич[126] сказывал, что картины смотреть отказался, объявив сие противным его закону. Бриллиантовые же вещи осматривать соизволил с восхищением.
Екатерина усмехнулась, представив, как педантичный, заболевавший от любого нарушения дипломатического протокола Остерман уговаривал турка смотреть Рембрандта.
— Распорядись, Александр Васильевич, чтобы в газетах о сем любопытном происшествии напечатано было. Пусть Европа увидит отличие нации просвещенной от турецкого варварства.
4
Наступила очередь читать реляции о ходе военных действий со Швецией. Победы, одержанные русским флотом под командованием адмирала Грейга, никак не удавалось подкрепить успехами на суше. Командующий финляндской армией генерал граф Валентин Платонович Мусин-Пушкин («мешок нерешительный», как называла его в минуты гнева Екатерина) топтался то у городишки Сент-Михель, то у богом забытой переправы Парасалема, хотя шведские войска сражались, будто из-под палки. Помня Полтаву, ни армия, ни парламент, ни народ Швеции не хотели воевать против России. Трон Густава III шатался.
Странная, надо сказать, это была война. Впоследствии Густав III объяснял ее то опасениями, вызванными в Швеции вооружением русского флота на Балтике, который хотели направить, по примеру первой турецкой войны, в архипелаг, то недовольством поведением русского посла в Швеции А. К. Разумовского, объявленного им персоной нон-грата за открытую, можно сказать, демонстративную поддержку шведской оппозиции.
Впрочем, сохранившиеся документы рисует несколько иную картину. 1 июля 1788 года вице-канцлеру Остерману через секретаря шведской миссии в Петербурге Шлаффа, единственного шведского дипломата, остававшегося в русской столице, после того как Екатерина выдворила из Петербурга посланника барона Нолькена в знак протеста против высылки Разумовского из Стокгольма, был вручен ультиматум.
Ультиматум шведского короля состоял из трех пунктов. В первом Густав с неподражаемым, вполне опереточным (вспомним «Горе-богатыря») высокомерием требовал «наказать» графа Разумовского «за его интриги, которыми он безуспешно занимался в Швеции». Вторым пунктом Екатерине предъявлялось требование «уступить королю и шведской короне навечно все части Финляндии и Карелии с административным центром в Кексгольме, переданные России в силу мирных трактатов в Ништадте и Або, восстановив границу по Систербеку».
Особенно любопытен третий пункт. От него веяло уже не просто стремлением взять реванш за Полтаву, но вернуться к геополитическому мышлению времена Карла XII. Приведем его полностью: «Императрица должна принять посредничество короля в обеспечении мира с Портой Оттоманской. Она обязуется уполномочить Его величество предложить Порте полное возвращение Крыма и восстановление границ в соответствии с трактатом 1774 года (в Кючук-Кайнарджи — П.C.) или, если этих условий будет недостаточно, чтобы побудить Порту к миру, предложить ей восстановление границ, существовавших до войны 1768 года. В знак обеспечения своих предложений императрица должна незамедлительно разоружить свой флот, отозвать корабли, уже вышедшие в Балтийское море, отвести войска к новым границам и разрешить королю оставаться вооруженным до заключения мира между Россией и Портой». Не менее колоритна и фраза, заключавшая ультиматум: «Король ожидает «да» или «нет» и не примет малейших изменений этих условий, поскольку это нанесло бы ущерб его славе и интересам его народа»[127].
Указы вице-адмиралу фон-Дезину и контр-адмиралу Тололишину о начале военных действий против Швеции на море Екатерина подписала 27 июня 1788 года, в годовщину Полтавской победы. «Сей анекдот принят с приметным удовольствием», — пометил Храповицкий в своем «Дневнике»[128].
А между тем летом 1788 года исход шведской войны многим казался неясным. Неожиданное нападение с севера застало Россию врасплох. Основные силы армии были сосредоточены на юге. Шведскую границу прикрывали лишь две дивизии, да и те были далеко не в комплекте. Всего лишь год назад, в июле 1788 года, шведы находились в двух дневных переходах от Петербурга. Бои шли так близко, что на улицах столицы пахло порохом и слышался гул морских сражений. Иностранные посольства ожидали, что двор со дня на день переедет в Москву.
Казалось, одна Екатерина в эти критические дни сохраняла самообладание. Она подсмеивалась над малодушными и радовалась, что ей тоже пришлось «понюхать пороху». Панику в столице пресекла, приказав отслужить торжественный молебен по случаю полученного от Потемкина известия о победе над турецким флотом. Выйдя из церкви, громко сказала Салтыкову, что толпы народа, собравшейся вокруг храма, вполне достаточно, чтобы побить шведов камнями с мостовых Петербурга.
Презрение к опасности соседствовало в ее душе с непоколебимой верой в свою счастливую судьбу. Во время первой русско-турецкой войны она, несмотря на дружное сопротивление со всех сторон, не дожидаясь доставки карт и лоций, заказанных в Англии, направила флот в Средиземное море, и он, потрепанный в долгом походе, едва державшийся на плаву, сжег многократно превосходящую его турецкую эскадру в Чесменской бухте. «Не спрашивали древние греки, идя на неприятеля, — сколько его, но — где он?» — подбадривала она Румянцева, медлившего перейти Дунай. В итоге русская армия одержала ряд самых блистательных побед в своей истории.
Ей казалось, что, только ставя великие задачи, можно добиться успеха. Как никто, она понимала значение сверхусилия, того таинственного «чуть-чуть», которое и приводит к решающим победам.
Когда 11 июня в Петербург прибыл курьер от Мусина-Пушкина с известием о взятии генералом Михельсоном затерянного в чухонских болотах городишки Сент-Михель, радости императрицы не было предела. Лейб-гренадерского полка майор Сазонов, доставивший в Царское Село два знамени и штандарт, отбитые у шведов, получил в награду пятьсот рублей и золотую табакерку.
— Распорядись, чтобы трофеи шведские, присланные от Валентина Платоновича, выставили и на Чесму, и на восшествие в Зеркальной зале, где буду послов принимать.
От внимания кабинет-секретаря не ускользнуло, что при этих словах по лицу императрицы пробежала тень. Вспомнилось, что Сазонова представлял Дмитриев-Мамонов, дежуривший в тот день во дворце.
Впрочем, предаться размышлениям о переменчивости человеческой судьбы Храповицкому не удалось. Едва успевая записывать сыпавшиеся на него распоряжения, он невольно проникался воодушевлением, владевшим Екатериной. Здесь, в рабочем кабинете императрицы, легко и сладостно дышалось Александру Васильевичу Храповицкому.
Действо четвертое
Последние годы царствования великих королей часто портили дело, начатое в первые годы.
Д. Дидро1
В десятом часу в кабинет ввели великих князей Александра и Константина. Екатерина с младенчества взяла внуков от родителей и сама занималась их воспитанием. Александр, стройный одиннадцатилетний мальчик, первым подошел к руке. Императрица, просветлев лицом, поцеловала его в мягкие душистые волосы — у Александра они были длинные и ниспадали на белый отложной воротничок аккуратными, загибающимися внутрь прядями.
— Qu’est qu’on fait aujourd’hui, de l’histoire?[129] — Екатерина привлекла к себе внука, с удовольствием пожимая его хрупкое плечо.
По странной, казавшейся многим необъяснимой прихоти императрицы воспитание великих князей было поручено республиканцу. Полковник Фридрих-Цезарь Лагарп, выписанный из Швейцарии, штудировал с ними не только латинских и греческих классиков, английских историков, но и французских энциклопедистов.
Александр, души не чаявший в Лагарпе, неуверенно улыбнулся и ничего не ответил. В последнее время он становился туг на правое ухо. Мать, великая княгиня Мария Федоровна, имела дерзость связывать это с неудачным расположением комнаты, отведенной ему в Зимнем дворце, окна которой выходили на Петропавловскую крепость. С ее стен еще по петровской традиции в полдень била пушка. Дошло до Екатерины. Вспылив, она помянула недобрым словом гатчинскую потешную артиллерию и отменила на время пятничные поездки внуков к отцу.
Между тем Константин, который был младше брата на полтора года, но живее, предприимчивее и развязнее, прочел на память отрывок из Наказа:
— Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подчинены были одним и тем же законам! — слегка грассируя, продекламировал он с совсем не детской хрипотцой в голосе.
Александр, вздрогнув от неожиданности, посмотрел на брата с немым укором. Не далее как третьего дня, Константин, с юных лет отличавшийся склонностью к беспричинной и необузданной жестокости, собственноручно распял на козлах в каретном сарае кота Ермолая и высек его вымоченными в рассоле розгами.
Провинность Ермолая состояла в том, что он по неосторожности опрокинул чернильницу на домашнюю работу великого князя.
Лагарпу, привлеченному дикими криками кота, в оправдание было приведено то же извлечение из бабкиного Наказа о равенстве всех граждан перед лицом закона.
Ошеломленный такой византийской логикой, швейцарец только смог выговорить:
— Несчастливы будут ваши подданные, Ваше высочество, если в понимании законов вы будете действовать не как Периклес, а как Нерон.
Как известно, Константина готовили занять престол Греческой империи, о восстановлении которой мечтала его бабка.
Слушая младшего внука, ничего не подозревающая императрица одобрительно кивала, но задумчивый ее взгляд был устремлен на Александра.
Александр был ленив с детства, но не эта черта в характере старшего, любимого внука с недавнего времени все больше беспокоила Екатерину.
— Что за странная для его возраста послушность, — поверяла она свою тревогу воспитателю великих князей Николаю Ивановичу Салтыкову. — Запретишь ему проказничать — тут же остановится, напомнишь, что не сделан урок по арифметике — бежит в классную комнату. Как маленький старичок, право.
Салтыков, маленький, осанистый, с необыкновенно живыми глазами на желтоватом лице, имел возможность наблюдать за Александром не только в толпе ханжей и льстецов, наполнявшей бабкины раздушенные салоны, но и на субботних гатчинских вахтпарадах, где тот под одобрительным взглядом отца до изнеможения муштровал второй батальон, в котором значился командиром. Он мог бы ответить и на этот и на многие другие вопросы Екатерины, но не делал этого — и потому сохранял свой пост распорядителя малого двора, а затем и воспитателя сыновей наследника престола на протяжении вот уже более пятнадцати лет.
Павел по воцарении назначит Салтыкова фельдмаршалом.
2
Следом за детьми в кабинете появилась великокняжеская чета. Павел, облаченный в мундир гатчинских войск, был ниже жены на голову. Мария Федоровна, высокая, статная, с неестественно ярким румянцем, присела, шелестя тафтяным подолом, в книксене — и, едва обронив несколько слов, устремилась к сыновьям. Интриганка вюртембергская, как окрестила ее Екатерина, почитала их насильно у нее отобранными.
Екатерина ее не задерживала. Внимательным женским взглядом она сразу заметила в ушах великой княгини бриллиантовые серьги, подарок Мамонова. Зная характер Марии Федоровны, можно было поручиться, что серьги надеты не случайно.
История эта была давняя.
Как-то, еще в самом начале своего «случая», Мамонов преподнес Екатерине великолепный бриллиантовый гарнитур, за который, впрочем, она сама и заплатила — бриллианты стоили целое состояние.
К несчастью, Екатерина, глубоко равнодушная к драгоценностям, не оценила по достоинству душевный порыв своего фаворита и передарила серьги из гарнитура Марии Федоровне, с которой в то время поддерживала вполне приличные отношения.
Великая княгиня, не избалованная вниманием, настолько расчувствовалась, что пригласила Мамонова в Гатчину, желая выразить ему свою благодарность.
О приглашении стало известно.
Разразился ужасный скандал.
— Как она посмела тебя звать? — крикнула Екатерина в приступе ревности.
Мамонов был вынужден отказаться от приглашения, сказавшись больным. Вскоре из Гатчины прискакал курьер, передавший Александру Матвеевичу усыпанную бриллиантами табакерку.
Екатерина успокоилась:
— Ну, теперь можешь ехать благодарить великого князя, но только с графом Валентином Платоновичем (Мусиным-Пушкиным), а не один.
Павел не захотел видеть Мамонова.
В кабинете матери он, по своему обыкновению, держался как на плацу. Императрица молча следила за тем, как он мерно маршировал на негнущихся ногах от стены до стены, не останавливаясь ни на минуту. В движениях и облике его развязность странным образом мешалась со скованностью. Высокие прусские ботфорты, трость и треугольная шляпа, короткая косица, вздрагивавшая от каждого шага, надменно вздернутый подбородок — и такая боль, такая беззащитность во взгляде больших влажных глаз… Год от года Павел казался ей все более похожим на покойного императора Петра Федоровича.
После короткого пребывания в финляндской армии великий князь безвыездно жил в Гатчине, предаваясь мрачной романтике прусской муштры. До Екатерины все чаще доходили слухи о том, что в Гатчине и в Павловске, при малом дворе, чуть ли не в открытую ведутся крамольные разговоры: то примутся обсуждать плачевное состояние финансов, истощенных войнами, то вдруг Мария Федоровна появится с утра с покрасневшим носом: проплакала-де всю ночь, расстроенная запретом на ношение при дворе французских платьев и причесок[130].
Появление Павла в неурочный день (обычно он наезжал в Царское раз в неделю) настораживало. В тяжелом, исподлобья, взгляде сына мнилось скрытое злорадство, и Екатерина не без удовольствия отказала ему в просьбе оплатить просроченный вексель — в Гатчине велось бесконечное, казавшееся ей бессмысленным строительство.
3
Как только дверь за великим князем затворилась, Храповицкий неслышно, как тень, вновь возник в кабинете. Одного взгляда на озабоченное лицо императрицы было для него достаточно, чтобы мгновенно и точно почувствовать ее настроение и сделать именно то, что надлежало сделать.
На овальный столик легла только что полученная от переписчика рукопись «Горе-богатыря».
Екатерина надела очки, без которых уже не могла обходиться при чтении бумаг, и, не произнося ни слова, принялась перелистывать пухлую, добротно переписанную тетрадь. Глубокая складка на ее переносице разгладилась, сухие, обычно плотно сжатые губы раздвинулись в задумчивой полуулыбке, обнаружив нехватку двух передних зубов.
«Угодил», — понял кабинет-секретарь и, расслабившись, задышал глубоко и покойно, чуть посапывая, как это случается у тучных и одышливых людей.
Редактирование, или, называя вещи своими именами, соавторство в сочинении театральных пьес, опер-буфф, драматических сценок, в изрядном количестве выходивших из-под монаршьего пера, входило в служебные обязанности Храповицкого. Екатерина обычно лишь вчерне набрасывала сюжеты и диалоги своих литературных произведений. Свободно освоив разговорный русский язык, она до конца жизни была не в ладах с российской грамматикой и орфографией. По этой причине изрядные куски ее опусов, вошедших впоследствии в школьные хрестоматии, попадали на стол Храповицкого написанными по-немецки или по-французски.
Кабинет-секретарь быстро наловчился соединять в единое целое и излагать литературным языком разрозненные заметки Екатерины. Стихотворные вставки кропал с Божьей помощью сам или без особых церемоний заимствовал у Сумарокова, Хераскова, а то и Тредиаковского, хотя последнего в литературном окружении Екатерины не жаловали, считая наивным и архаичным.
Александр Васильевич знал, что сама императрица была неспособна зарифмовать два слова на любом из известных ей языков. Сегюр, взявшийся как-то посвятить ее в тайны стихосложения, вынужден был признать бесполезность этого дела после двух часов занятий.
Екатерина, всегда готовая посмеяться над своими недостатками, не скрывала и того, что не могла отличить Моцарта от Глюка — по ее собственному признанию, музыка казалась ей просто шумом. Не лучше обстояло дело и с художественным вкусом: при отборе картин для своей замечательной коллекции живописи Екатерина полностью полагалась на советы посредников — от Мельхиора Гримма до посла в Вене князя Дмитрия Михайловича Голицына, известного мецената и покровителя искусств.
Исподволь наблюдая за погруженной в чтение императрицей, Храповицкий привычно размышлял об этих странных особенностях ее интеллекта.
Между тем Екатерина, дошедшая, видно, до какого-то показавшегося ей особенно забавным эпизода, вдруг развеселилась. Александр Васильевич давно уже замечал, что в различных обстоятельствах Екатерина смеялась по-разному. В совершенстве владея искусством держаться на людях, на официальных церемониях она позволяла себе лишь легкую полуулыбку, чрезвычайно украшавшую ее и пленявшую сердца подданных. Для дипломатов у нее был припасен воркующий горловой смех, который Храповицкий называл про себя французским.
По-настоящему же, для души, Екатерина смеялась по-немецки. Трубно, со свистящим подхрюкиванием и похохатыванием, хлопаньем себя по коленям и нечленораздельными причитаниями. Завершалось все это долгим обрядом промокания глаз и вытиранием покрасневшего носа[131].
Это был как раз такой случай. «Горе-богатырь» был насквозь пронизан тем непритязательным и грубоватым юмором, который так нравился Екатерине.
Отсмеявшись, императрица не без сожаления перевернула последнюю страницу рукописи и обратилась к Храповицкому:
— Ну, что же, Александр Васильевич, дело сделано. Потрудился ты изрядно… Помедлив, добавила с мягким юмором, — пожалуй, даже чересчур…
Храповицкий и сам знал, что виноват. Все сцены, в которых сходство характеров Горе-богатыря с великим князем проступало наиболее явственно, он переписал. От текста отступал далеко, своевольничал недопустимо и безоглядно.
— Я тебе не судья, — проговорила Екатерина, посерьезнев. — Впрочем, как и ты мне. Чтобы меня судить, надо пожить с мое, да еще царствования Елизаветы Петровны и Петра Федоровича помнить.
Храповицкий, у которого и в мыслях не было осуждать императрицу, знал, что оправданий от него не ждали. Императрица понимала, что кабинет-секретарем двигало скорее нравственное чувство, чем симпатии к великому князю.
Не далее как на прошлой неделе Павел Петрович, когда разговор за общим столом зашел о французских бунтовщиках, разгорячился по обыкновению, и заявил, что в один день положил бы конец смуте, выведя на улицы пушки.
Екатерина прервала его тогда с необычной резкостью:
— Боюсь, что с такими представлениями вы недолго процарствуете! — воскликнула она. — Пушками против идей не воюют.
Возвращая Храповицкому рукопись «Горе-богатыря», императрица наказала:
— Посылай, Александр Васильевич, сие знатное сочинение в типографию. Закажи два издания — одно в осьмушку, другое — с партитурой — в половину листа. Славы оно нам с тобой не прибавит, но польза, Бог даст, будет немалая.
4
Между тем пришло время читать перлюстрацию. Храповицкий, приободрившись от возможности переменить направление беседы, торопливо вскрыл тяжелый от сургуча конверт, присланный из Коллегии иностранных дел. Внутри оказалось несколько разноформатных листков.
Это были перехваченные и расшифрованные депеши иностранных дипломатов, аккредитованных при русском дворе.
Чтение подготовленных в Коллегии экстрактов из посольских депеш давалось Александру Васильевичу не без некоторого внутреннего сопротивления. Особенно коробила его необходимость знакомиться с личной перепиской дипломатов. В ней случались подробности столь интимного свойства, что одутловатые щеки кабинет-секретаря невольно покрывались пунцовыми пятнами, а из-под парика выступала испарина.
Зачитывал экстракты Александр Васильевич монотонно, нарочно бесстрастным голосом, хотя знал, что слушают его внимательно.
Сегодня, однако, против обыкновения, чтение перлюстраций не доставило удовольствия и Екатерине. И австрийский посол Кобенцель, союзник России, и английский Фитцгерберт указывали на признаки ухудшения отношений России с Пруссией.
Это было неприятно, но не ново. Характер братца Ги[132], готового душу продать, лишь бы овладеть польской Померанией и Данцигом, был известен. К каверзам прусским еще при жизни Фридриха Великого, встревавшего в любой европейский конфликт, привыкли, обтерпелись. Авось, и на сей раз пронесет.
Хуже было другое. В перлюстрацию попала депеша французского посланника графа Сегюра, в которой подробно излагалась история с Мамоновым. Понимая деликатность предмета Александр Васильевич молча положил дешифрант на столик перед императрицей. Екатерина принялась читать:
«Императрица прилагает все силы, чтобы скрыть отвращение и печаль, которую она испытывает, — писал Сегюр после того, как изложил основные события, вплоть до обручения Мамонова с княжной Щербатовой. — Княжне сделаны прекрасные подарки. Мамонов получил 100 тысяч рублей и 3 тысячи крестьян. Свадьба состоится в следующее воскресение в Царском Селе. По всей вероятности, она станет еще одним испытанием для уязвленного раненого самолюбия императрицы, поскольку по обычаям двора, императрица должна лично присутствовать на свадьбе своей фрейлины.
Между тем в ее интимном кругу появился гвардейский офицер Зубов, уже осыпанный отличиями. Приближающийся отъезд Мамонова ускорил появление нового фаворита. Считают, однако, что он пользуется пока только видимостью фавора. Дело в том, что он не является протеже князя Потемкина, и если новый фаворит не понравится князю, это станет источником внутренних ссор и размолвок, которых императрица всегда стремится избегать. Судьба этого фаворита, как мне кажется, не может считаться решенной до тех пор, пока не поступит письмо от князя. Курьер к нему был отправлен немедленно.
Можно ожидать, что князь будет более чем удивлен, нынешним оборотом событий, поскольку Мамонов, которым он был доволен и который действовал в его интересах, обещал ему выполнять свои обязанности до его возвращения.
Впрочем, я не хотел бы злоупотреблять вниманием короля, сообщая ему детали этого дела. Я считал своим долгом объяснить Его величеству лишь его суть, поскольку происшедшие события позволяют представить характер императрицы, не говоря уже о том, что они могут в какой-то мере повлиять на политику. Мамонов проявлял большое внимание к нашим интересам и демонстрировал дружеские чувства ко мне. Он пытался поддерживать мою репутацию в глазах императрицы, разоблачал клевету, которая могла бы быть вредна для меня, и использовал любую возможность, чтобы сблизить меня с императрицей. Вследствие этого его отставка для меня прискорбна. Она лишает меня средства, бывшего в высшей степени полезным.
К сожалению, в своих депешах я слишком часто вынужден был останавливаться на обстоятельствах, которые останутся пятном на репутации той, чьим чувством чести и талантами я восхищаюсь, как и ее редкими и прекрасными качествами. Надеюсь все же, что Королевский совет сможет придти на основании моих депеш к заключению, что нужно закрыть глаза и проявить терпимость к ошибкам великой женщины, которая даже в своей слабости демонстрирует такое умение владеть собой, великодушие и умение прощать. Весьма редко можно встретить в носительнице высшей власти способность умерять такое сильное чувство, как ревность. Такой характер могли бы осудить лишь люди бессердечные или безупречные»[133].
Во все время чтения лицо императрицы оставалось бесстрастным, разве что, голубые глаза ее, имевшие странную особенность темнеть в минуты крайнего душевного волнения, стали карими. Перелистнув последнюю страницу, Екатерина подняла взгляд на Храповицкого.
— Так, значит, бессердечные или безупречные. Каков французик? — произнесла она глухим от ярости голосом.
Александр Васильевич счел за лучшее промолчать.
До конца своей миссии в Петербурге Сегюр так и не узнает, как прав был министр иностранных дел Верженн, снабдивший его при отъезде новыми, повышенной сложности шифрами и напутствовавший следующими словами:
— On ne pout pousser trop loin en Russie les precautions pour garder les chiffres avec sureté[134].
5
Впрочем, промашка с шифрами была едва ли не единственной ошибкой французского посланника за время пятилетней работы в Петербурге.
Граф Луи-Филипп де Сегюр прибыл в Санкт-Петербург в марте 1785 года. Несмотря на молодость — ему едва исполнилось тридцать два года — в парижском высшем свете он был фигурой заметной. Потомок одного из древнейших аристократических родов, сын военного министра и маршала Франции, Сегюр, как и его друзья маркиз де Лафайет и виконт де Ноайль был принят в салоне Жюли де Полиньяк, близкой подруги Марии-Антуанетты. Избрав, по семейной традиции, военную карьеру, он, вслед за Лафайетом и Ноайлем, сражался за независимость английских колоний в Америке и был награжден республиканским орденом Цинцинната — орлом на голубой ленте.
Письма, которые он писал отцу из Америки в 1782–1783 годах, определили его дальнейшую судьбу. Верженн, на которого произвел большое впечатление литературный слог молодого полковника (по возвращении во Францию Сегюр был назначен шефом полка Орлеанских драгун), его широкие познания в древней и новой истории, предложил ему испытать себя на дипломатической службе. В то время — в конце 1785 года — как раз открывалась вакансия посланника в Петербурге. На этот пост хотели назначить графа де Нарбонна, протеже сестры Людовика XVI мадам Аделаиды, но связи отца Сегюра и влияние Жюли де Полиньяк, конфидентки Марии-Антуанетты, решили дело в его пользу.
К миссии в России Сегюр готовился очень серьезно. Он внимательно изучил дипломатическую переписку своих предшественников, встречался и обстоятельно беседовал с Бретейлем, пытавшимся представить себя в качестве тайного героя июньского переворота 1762 года, Мельхиором Гриммом. Последний, кстати, дал в письме к Екатерине весьма лестную оценку будущему посланнику.
Задачи перед ним ставились скромные: «Король убежден, что любые попытки приобрести дружбу Екатерины обречены на неудачу», — говорилось в инструкции Сегюру, подписанной Верженном 16 декабря 1784 года. Таков был печальный итог движения России и Франции навстречу друг другу, начавшегося было после опалы Шуазеля.
С воцарением Людовика XVI, которого Екатерина ставила не в пример выше его предшественника, дела какое-то время пошли на лад, но затем вернулись в прежнее состояние взаимного недоверия. Причину этого в Версале видели в наметившемся после опалы Панина сближении России с Австрией, боровшейся в то время с Францией из-за влияния в Нидерландах. Сегюру предписывалось противодействовать русско-австрийскому союзу, рекомендовалось, хотя и без большой надежды на успех, продолжить переговоры о заключении торгового трактата, которые безуспешно велись французскими послами с XVII века, со времен царя Михаила Федоровича. Главным противником развития торговых отношений с Францией в Париже считали Потемкина, в котором видели, и не без оснований, убежденного англофила.
Забегая вперед скажем, что в истории русско-французских отношений Сегюр остался самым выдающимся представителем Франции в Петербурге, не только потому, что поднял их уровень на казавшуюся недосягаемой высоту, но и потому, что добился этого, опираясь на доброе расположение Екатерины и дружбу Потемкина, считавшихся в Париже, как мы видели, недоброжелателями Франции.
Впрочем, уже первые шаги Сегюра на дипломатическом поприще были вполне неординарны. По пути в Петербург, в Майнце, на обеде у маркграфа Цвайбрюккенского Сегюр, верный традиции французской дипломатии занимать самые почетные места, уселся в кресло, предназначенное для российского посланника графа Николая Румянцева, при этом слегка оттолкнув его, что уже само по себе считалось серьезным нарушением этикета. Румянцев пожаловался в Петербург, в дело вмешалась его тетка, графиня Прасковья Брюс, жена столичного генерал-губернатора и статс-дама, — и в результате первая аудиенция нового французского посла у императрицы состоялась только через две недели после его приезда — 9 марта 1785 года.
В комнате, где Сегюр ожидал приглашения к императрице, находился австрийский посол граф Кобенцель. «Его живая, яркая речь, важность некоторых вопросов, которые он затронул, — вспоминал впоследствии Сегюр, — настолько заняли мое внимание, что в тот момент, когда меня пригласили к императрице, я вдруг обнаружил, что полностью забыл содержание речи, которую приготовил (и текст которой ранее передал вице-канцлеру — П.C.).
Проходя через множество комнат, я бесплодно пытался восстановить в памяти свою речь, как вдруг передо мной открылась дверь зала, в котором находилась императрица. Она стояла в богато убранном народном платье, опираясь рукой о полуколонну; ее величественная наружность, благородство манер, гордость во взгляде, вся ее поза, немного театральная, так меня поразили, что это окончательно парализовало мою память.
К счастью, поняв бесплодность попыток припомнить текст, я принялся импровизировать новую речь, в которой осталось не более двух слов из той, что была написана, и на которую она приготовилась отвечать.
Легкое удивление, отразившееся на ее лице, не помешало императрице ответить мне со своей обычной утонченной вежливостью, добавив к тому же несколько приятных слов в мой адрес»[135].
Заметим, что непроизнесенная речь Сегюра сохранилась в архивах. В ней есть и слова о том, что новый посланник Франции надеется «заслужить расположение монархини столь знаменитой, что если бы я не был направлен к ее двору в качестве посланника, я, несомненно, прибыл бы выразить мое восхищение в качестве путешественника»[136]. Обращение к Павлу, которому он представлялся отдельно, Сегюр начал словами: «Монсеньер! Я был в Америке, когда Ваше императорское высочество приезжали во Францию, чтобы завоевать сердца всех французов. Поскольку они говорили мне о своих чувствах, я могу лишь сожалеть, что не мог разделить с ними счастье видеть Вас»[137].
Впоследствии, узнав Сегюра ближе, Екатерина спрашивала, что заставило его изменить подготовленную речь — ведь это заставило и ее отложить в сторону подготовленный в Коллегии иностранных дел текст ответа.
— Великолепие вашего двора, озаренного лучами вашей славы, так поразили меня, — отвечал Сегюр, — что я излил свое восхищение теми словами, которые пришли мне в голову.
— И правильно сделали, — заметила Екатерина, — мне нравится непосредственность. Вот, помнится, один из ваших предшественников настолько растерялся в подобной ситуации, что не мог выдавить из себя ничего кроме слов «Король, мой повелитель…» Когда он повторил их в третий раз, я решила прийти к нему на помощь и сказала, что давно уже знаю о дружбе и расположении, которые питают ко мне в его стране. На том и расстались.
Mes ministres de poche[138], шутливо называла Екатерина тех послов при русском дворе, которые входили в ее интимный кружок. Признанный мастер салонной беседы, поклонник новых идей, поэт, Сегюр сразу же занял в нем особое место. По части веселых каламбуров, буриме, импровизированных театральных представлений ему не было равных. С его появлением в Эрмитажных собраниях и толстый рыжеволосый театрал Кобенцель, и чопорный Фитцгерберт, не говоря уже о прусском посланнике графе Герце, как-то потускнели и сменили привычное амплуа любимцев публики на скромные роли артистов кордебалета.
Екатерина прощала Сегюру даже то, что не прощала другим. Познакомившийся у Лафайета со знаменитым Месмером, Сегюр пристрастился к его теории животного магнетизма. В Петербург он прибыл с магической палочкой, при помощи которой Месмер погружал своих пациентов в транс. Впрочем, закончились эти увлечения печально: заболев в конце 1785 года, Сегюр пытался вылечиться по методу Месмера, в результате чего едва не умер. Веко его правого глаза осталось парализованным навсегда.
Через два года Сегюру, сопровождавшему императрицу во время ее путешествия в Крым, довелось услышать из уст Екатерины и вовсе удивительные вещи: «Я не могу найти достаточно похвал молодому королю, который становится в сердцах французов равным Генриху IV».
Надо полагать, что Сегюру, принадлежавшему к протестантской семье, было приятно сравнение Людовика XVI с Генрихом IV, особенно отличавшим его предков.
Впрочем, взаимные реверансы, на которые и Сегюр, и Екатерина были большие мастера, не дают оснований записывать молодого дипломата в число «карманных послов». На политику Екатерины Сегюр смотрел достаточно критически, отделяя в ней то, что, на его взгляд, соответствовало французским интересам и европейскому равновесию от амбициозных планов в Польше и Турции. Беседуя с Потемкиным, он не упускал случая, чтобы не напомнить, что присоединение к России Крыма в 1783 году прошло относительно спокойно якобы благодаря молчаливому согласию Франции, удержавшей Порту от немедленного возобновления военных действий. В то же время он вполне откровенно предупреждал светлейшего, что если в Петербурге все же решат приступить в осуществлению «греческого проекта», европейские державы вынуждены будут решительно вмешаться. Крымская война, грянувшая через три четверти века, подтвердила правильность оценок Сегюра.
Откровенность французского посланника импонировала императрице.
«Наконец-то Версаль направил к нам нормального человека, а не очередного демона зла», — говорила Екатерина в своем окружении. До появления Сегюра императрица называла его предшественников не иначе, как животными.
К концу 1786 года труды Сегюра принесли первые конкретные плоды. После девятнадцати месяцев труднейших негоциаций, направлявшихся с русской стороны (в обход Иностранной коллегии, возглавлявшейся Безбородко) Потемкиным, Сегюру удалось заключить торговый договор, распространявший на Францию режим наибольшего благоприятствования, которым до этого пользовалась Англия. Сегюр впоследствии любил вспоминать, что нота, излагавшая принципы этого договора, была написана пером, позаимствованным им у английского посла, не подозревавшего, что он помог открыть новый, южный маршрут русской торговли в Леване, Марселе и всем Средиземноморье.
Россия и Франция могли бы и дальше продвигаться по пути взаимного сближения. В Петербурге к этому были готовы. Однако подземные толчки Великой французской революции уже потрясали трон Бурбонов. Людовику XVI и его министру иностранных дел Монморену, сменившему Верженна, было не до России. От предложения Потемкина, ставшего другом Сегюра, подписать союзный договор в Версале отмахнулись, не желая начинать переговоры до окончания русско-турецкой войны. Без энтузиазма была воспринята в Париже и идея заключения четвертного союза, связавшего бы Россию с Австрией, Францией и Испанией.
Сегюру приходилось творить чудеса изворотливости, объясняя причудливые изгибы французской политики. По его приглашению в армии Потемкина сражались французские добровольцы, в том числе его друзья по Америке Роже де Дама и Эдуард Диллон. Чтобы развеять подозрения, возникшие у императрицы в начале турецкой войны, Сегюр пошел на весьма смелый шаг. Он поручил своему другу принцу Нассау-Зигену, вскоре назначенному командовать гребной флотилией на Лимане, показать Екатерине дешифрованную депешу от французского посла в Константинополе Шуазеля-Гуфье, перечислявшего меры, предпринятые им для умиротворения турок.
Екатерина так высоко ценила Сегюра, что при очередном осложнении дел с Турцией в октябре 1787 года воспротивилась его отъезду в отпуск. Сделано это, однако, было весьма деликатно. Пригласив посланника для приватной беседы, она отвела его в Эрмитажный театр, где в этот вечер, к полной неожиданности Сегюра, была представлена его трагедия «Кориолан». Императрица, довольная произведенным эффектом, заставляла автора аплодировать собственной пьесе, прошедшей, кстати говоря, с большим успехом. Сегюр понял намек и, в отличие от Бретейля, отказался от отпуска, заслужив тем самым признательность не только Екатерины, но и Людовика XVI, нуждавшегося в присутствии Сегюра в Петербурге в связи с начавшейся в августе 1787 года русско-турецкой войной.
6
Словом, у Храповицкого были веские резоны удивиться реакции императрицы на частное письмо Сегюра. Буря, однако, грянула чуть позже, в августе, когда в перлюстрацию попало другое письмо Сегюра, адресованное маркизу де Лафайету, которого, кстати, Екатерина совсем еще недавно настойчиво приглашала посетить Россию.
— Я всегда подозревала, что он, — Екатерина замялась, подыскивая подходящее слово, — demonarchiseur[139]. Эти неуместные восторги по поводу созыва les Etats[140] давно уже были мне подозрительны. Теперь вижу, что была права. Он опасный человек! Клеветать на своего монарха, пусть даже в частной переписке — это верх вероломства.
Справедливости ради надо заметить, что Екатерина ошибалась, считая Сегюра скрытым противником королевской власти. В описываемое время он был либералом, сторонником реформ, однако вполне умеренных и не задевавших коренных привилегий двора и старой аристократии.
Удивительная вещь: обо всем, что касалось начинавшейся во Франции революции, Екатерина судила на редкость пристрастно. Она, разумеется, ясно представляла себе катастрофические последствия краха французской государственности, но наводнившие Париж после «процесса об ожерелье» памфлеты, в которых перечислялись подлинные и мнимые любовники «autre chienne»[141] Марии-Антуанетты, раздражали ее едва ли не больше, чем вдохновенные нападки Мирабо на пороки старого режима.
Обладая трезвым умом и обостренной интуицией, она внимательно следила за событиями во Франции, вникала во все тонкости противостояния короля и оппозиции, которое день ото дня становилось все острее. Симпатии ее были на стороне Людовика XVI, но нерешительный образ его действий, уступки «третьему сословию» вызвали сильнейшее раздражение. Согласие короля на последовавший в мае 1789 года созыв Генеральных штатов возмутил ее до глубины души.
«Жертва, принесенная королем, — говорила она, разумея съезд в Версале представителей трех сословий, — не положит конца брожению умов. Ферментацию следует пресекать в самом начале, ну хоть как у нас, когда была созвана Большая комиссия».
Собственный опыт, казалось, был тому убедительным примером.
— Были и в России, в мое уже царствование, лихие времена, — продолжала она задумчиво, будто забыв про письмо Сегюра. — Да вот хотя бы перед бунтом пугачевским… Не собери я депутатов, не дай открыто сказать, где башмак наш государственный им ногу жмет — Бог знает, чем бы дело кончилось. А так файетам[142] нашим показала, что Монтескье и аббата Беккария читывала не меньше, чем они. Один очень умный человек сказал мне тогда, что мой «Наказ» это «axiomes a renverser les murailees»[143]. Это верно, но я умела вовремя остановиться.
— Во Франции, Ваше величество, — почтительно вмешался Храповицкий, — дело другого рода. У нас маркиз Пугачев был один, у них же брожение умов затронуло всех, даже дворянство.
Екатерина задумалась, затем отвечала очень серьезным тоном:
— Пустое, Александр Васильевич. Думаю, и сейчас еще не поздно воспользоваться расположением умов благородного сословия против черни. Свободомыслие и равенство — чудовища опасные. Если их не взять в узду, они сами захотят сделаться королями. Я бы действовала решительно. Файета, например, comme un ambitieux[144], взяла бы к себе и сделала своим защитником. Да, собственно, тем и занималась здесь с самого восшествия, что приручала наших российских файетов, коих и сейчас у нас довольно.
Интересная деталь: Сегюр, которого по понятным причинам бурные дебаты в Генеральных штатах волновали не меньше, чем Екатерину, придерживался другого мнения:
«Кажется, двор пытается помешать нововведениям в виде конституции, — писал он 3 июля 1789 года в Париж отцу, маршалу де Сегюру. — Боюсь, что он узнал о ней слишком поздно. Год назад еще можно было помешать ей, сегодня же с ней следует примириться. Это слово «свобода» прошло через слишком много уст, чтобы смягчить свое звучание, и малейшее препятствие превратило бы его в грозный крик».
И далее, совсем уже меланхолично:
«Все хотят набить карманы — вот в чем суть дела»[145].
Впрочем, ни Екатерине, ни Храповицкому в тот июньский день грозного 1789 года еще не было известно, что до взятия Бастилии осталось уже меньше месяца.
7
С началом шведской войны обед накрывали на час позже: Екатерина не успевала управиться с возросшим потоком государственных дел.
За будничным, малым столом собиралось обычно восемь — десять человек, однако в этот день Ее императорское величество изволили обедать во внутренних покоях за одним кувертом. Екатерина была очень умеренна в еде. Кусок вареной говядины и стакан воды составляли ее обычный рацион. Вина она не пила совсем.
После обеда наблюдалось странное.
За кавалергардом важно, животом вперед, прошествовал Зотов. За ним, к всеобщему изумлению, двигались Дмитриев-Мамонов и княжна Щербатова — безмолвные, как тени. Княжна была бледна и заплакана.
Трепещущая пара сразу же прошла в кабинет императрицы и оставалась там долго.
«Дворцовая эха» на все лады обсуждала столь необычное происшествие.
Участь Мамонова сомнений не вызывала.
«Граф должен ехать в армию, — горячилась молодежь. — Бесчестье смывается только кровью».
Старики возражали: «К чему эти крайности? При Елизавете Петровне выпороли бы мерзавца в караульной, да и весь разговор».
Щербатову жалели.
И только одному человеку во всех подробностях было известно то, что произошло в кабинете императрицы.
Человеком этим был, естественно, Зотов.
Лица персонажей екатерининского «заднего двора» неразличимы. О Зотове, столь часто встречающемся на страницах нашего рассказа, достоверно известно лишь то, что он был «породы греческой», служил у Потемкина, затем по рекомендации Светлейшего был определен во дворец. Женат был на горничной Екатерины.
— Государыня изволила обручить графа и княжну. Они, стоя на коленях, просили прощения и прощены, — сообщил он Храповицкому.
Удивлению кабинет-секретаря не было предела.
— Ну, теперь жди светлейшего с очередным адъютантом.
— Поздно, — выдохнул Захар заветное. — Без Григория Александровича обошлись. Подозреваю караульного секунд-ротмистра Платона Зубова. Дело идет через Анну Никитичну.
8
В камер-фурьерских журналах, издававшихся Министерством двора, со строгой монотонностью расписаны годы, месяцы и дни самодержцев российских. Историки и просто любопытствующая публика могут с точностью узнать, сколько пушечных выстрелов прогремело в честь рождения будущего императора, за сколькими кувертами он изволил обедать в каждый из дней своего царствования, по какому пути следовала скорбная колесница с его прахом в Петропавловский собор.
Однако кто скажет нам, о чем думала, как вела себя Екатерина в тот, надо полагать, невыносимо тягостный для нее вечер?
Поставленная перед необходимостью защищать и свой престиж самодержицы, и женское достоинство, она поступила так, как привыкла действовать в критических обстоятельствах: если узел нельзя было развязать, она без колебания разрубала его.
Зотов в очередной раз оказался прав. На измену Мамонова Екатерина немедленно ответила двойным по силе и неожиданности ударом: сама благословила брак его с княжной Щербатовой — и в тот же день остановила свой выбор на новом фаворите.
Трудно сказать, чего было больше в этом поступке — женского благородства, импульсивного протеста уязвленного самолюбия, желания досадить Мамонову, мнившему себя, как и все без исключения его предшественники, незаменимым, или — как прихотлива бывает логика стареющей женщины! — расчета на то, что новый coup de foudre[146] отвлечет внимание двора и света от мучительных подробностей разрыва с Красным кафтаном?
Впрочем, вполне может статься, что в эти критические дни рядом с императрицей нашлись люди, понявшие и поддержавшие ее. Во всяком случае, в попавшем в перлюстрацию письме Сегюра жене от 10 июля 1789 года мы находим такие строки: «Мне немножко грустно от того, что я не видел императрицу с тех пор, как она переехала в Царское Село, если не считать одного спектакля. Она сталкивается сейчас с неприятностями как во внешних, так и домашних делах, но переносит их с силой духа, величием и благородством, достойным всяческой похвалы. Немногие женщины обладают теми чертами характера, которые присущи ей и о которых, по моему мнению, не следует говорить; все, что я вижу в ней каждый день все теснее привязывает меня к этой удивительной женщине»[147].
И, через четыре дня, 14 июля 1789 года: «Ее гений и сила ее характера помогают ей преодолевать все эти неприятности, но в душе она должна быть уязвлена, она должна страдать, и я не могу не испытывать чувства самого глубокого сострадания, когда вижу, как она опечалена»[148].
Одно несомненно: вечер 19 июня 1789 года стал одним из самых тяжелых в жизни императрицы Екатерины Алексеевны.
Раскроем переплетенный в черный дерматин томик. Камер-фурьерский журнал за 1789 год. Запись, сделанная 19 июня:
«В вечеру, в седьмом часу, приглашены были к Ее императорскому величеству, в колоннаду, знатные генералитеты, обоего полу особы, составлявшие свиту, кои имели пребывание до половины 10-го часа вечера».
А за этими казенными строками — Камеронова галерея на исходе белых ночей. Колоннада, летящая в серебристо-серых облаках. Статуи Геракла и Флоры у подножия гранитной лестницы. Пепельные сумерки опускаются на нижний сад и на верхний, и на Чесменскую колонну, отражающуюся в зеркале пруда. Желтые огни свечей в канделябрах колеблются в такт шелесту листвы и печальным звукам роговой музыки.
Играют Бортнянского — в этом сезоне в моде все русское.
Фрейлины в сарафанах, галантные кавалеры в пудреных париках, из буфетной доносится звон хрусталя.
Екатерина, умевшая, как никто, держаться в самых трудных обстоятельствах, — за ломберным столиком — партия в вист с Нарышкиным и Строгановым.
Все как обычно: игра небольшая, по полуимпериалу за вист, но Строганов — скупой при своих несметных богатствах, сердится, проигрывая. Бранится по-французски, обиженно картавя. Леон Нарышкин, шут по призванию, натужно хохочет, а в глазах мучительное недоумение, как у старого верного пса, не понимающего, что творится с его хозяином.
Все как третьего дня, лишь четвертое место за карточным столом вакантно.
И взгляды, взгляды со всех сторон…
О, какая тоска струится с этих пепельно-серых небес.
Белые ночи — бессонные ночи.
Действо пятое
Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивления потомства.
А. С. Пушкин1
Под утро пошел дождь.
Налетевший с залива свежий ветер пригоршнями бросал тяжелые капли в окна императорской опочивальни и, откатываясь, замирал в шелесте влажных крон лип.
Всю первую половину дня императрица оставалась в своих покоях. Прибывшим из Царского членам государственного Совета — вторник был днем его еженедельных заседаний — велено было трудиться одним.
Обедала за малым столом в обществе все той же Перекусихиной.
После обеда распогодилось, и, глянув в окно, императрица решила прогуляться по парку.
Когда Екатерина в сопровождении Храповицкого, Перекусихиной и Тома Андерсона-младшего, потомка родоначальника русских левреток, вышла на берег Большого пруда, из-за темных грозовых туч, вновь нависших над Царскосельским парком, вырвался луч солнца, позолотив тонким перстом орла, распростершего крылья на вершине Чесменской колонны. Здесь, под кроной старого вяза, у самой кромки воды, стояла скамейка, на которой императрица любила сиживать, отдыхая во время утомлявших ее в последнее время дальних прогулок.
Колонна, воздвигнутая в честь разгрома русским флотом под предводительством графа Алексея Орлова турок в бухте Чесма, напоминала ей об одной из самых славных страниц ее царствования.
Здесь и произошел тот памятный разговор, над потаенным смыслом которого мы и сегодня, два столетия спустя, задумываемся не без недоумения.
— Слышал, Александр Васильевич, здешнюю историю?
Храповицкий, растерянно проводив взглядом удалявшуюся по усыпанной гравием дорожке Перекусихину, признался, что слышал.
— Я благословила их, — тихо сказала императрица, скорбно поджимая губы. — Бог с ними, пусть венчаются в воскресенье.
Храповицкий от неожиданности сделал полупоклон. Том Андерсен, решив, что с ним играют, с комической точностью повторил его движение, отставив костлявый зад и царапнув гравий породистой лапой. Екатерина, досадливо отмахнувшись от расшалившегося пса, усадила кабинет-секретаря рядом с собой.
— Ты, я чаю, Александр Васильевич, не ожидал такого коварства. А я давно уже себя к этому приготовила. Восемь месяцев, как переменился. Сперва, ты помнишь, до всего охоту имел et une grande facilité[149], а с осени вдруг начал мешаться в речах: все-то ему скучно и грудь болит. А как придворная карета неудобна стала, тут я все поняла.
— Всем на диво, сколько вы его терпели, Ваше величество, — пробормотал Храповицкий. — Все его бранят.
— А что бы ты сделал на моем месте?
Храповицкий совсем смешался.
— On ne saurait pas répondre du premier moment[150], — проговорил он.
Екатерина, однако, не ждала ответа.
— Зимой еще князь говорил: «Матушка, плюнь на него», — и намекал на Щербатову, но я виновата — сама его перед князем оправдать пыталась. C’etait toujours une oppression de poitrine. C’est son amour, sa duplicite qui l’étouffait[151]. Но когда не мог себя преодолеть, зачем не сказать откровенно? Третьего дня признался мне, что уж год, как влюблен. Буде бы сказал зимой, то тогда бы и сделалось то, что вчера. Я не помеха чужому счастью. Бог с ними! Простила их, пусть будут счастливы.
Храповицкий, завороженный этим странным рассказом, с хрустом ломал пальцы.
Пауза. Влажные, вечно печальные глаза четвероногого уродца, примостившегося у ног своей хозяйки, внимательно следили за судорожными движениями рук кабинет-секретаря.
— Одного не могу уразуметь, Александр Васильевич, — произнесла вдруг императрица. — Ils doivent être en extase, mais au contraire — ils pleurent. Pourquoi cela? Voila un personnage fort extraordinaire, cet Habit rouge[152]. Сам на сих днях проговорился, что совесть мучит.
Она вновь помолчала и, искоса взглянув на кабинет-секретаря, продолжала с кокетливым смешком:
— Вообрази, мой друг, тут замешивается еще и ревность. Что за странный человек, право. Больше недели уж стал ревнив, как мавр, и все за мной примечает, на кого гляжу, с кем говорю.
Храповицкий перестал хрустеть пальцами и отвел глаза в сторону.
2
Ну что ж, любезный читатель. Пришла пора поговорить о человеке, без которого наш рассказ был бы невозможен.
Ты, конечно, догадываешься, что мы имеем в виду Александра Васильевича Храповицкого, кабинет-секретаря Ее императорского величества.
В должности своей Храповицкий служил уже более десяти лет. Местом он был обязан покровительству генерал-прокурора князя Александра Алексеевича Вяземского, высоко ценившего его по прежней службе в Сенате, где он достиг должности обер-прокурора благодаря редкому умению составлять служебные бумаги.
Князь Александр Алексеевич был последним из оставшихся при дворе «екатерининских орлов», составивших славу первых лет великого царствования. Остальные умерли или разлетелись кто куда. Фельдмаршал Петр Александрович Румянцев, малороссийский губернатор, герой Кагула, до войны жил безвыездно в своих украинских имениях. Алексей Орлов, один из главных участников событий июня 1762 года, приведших Екатерину на престол, а затем победитель турок при Чесме, уже много лет отдавал досуг своему знаменитому конному заводу, цыганским песням да кулачным боям, до которых был большой охотник. На службу и он, и брат его Федор возвращаться отказывались, несмотря на неоднократные предложения.
Вяземский за три десятилетия пребывания на должности генерал-прокурора — «ока государева» — приобрел у императрицы доверенность почти неограниченную. Это казалось необъяснимым. «Il est difficile d’être plus borné»[153] — столь нелестная характеристика, данная Александру Алексеевичу еще в самом начале его карьеры известным бонмотистом, французским поверенным в делах Сабатье де Карбом, разделялась по неведению многими современниками.
Однако придворные изъяны свои Вяземский с лихвой компенсировал усердием к службе не ложным. Был строг, исполнителен, чурался интриг, в грызне партий, не прекращавшейся у подножия трона, не участвовал.
Именно эти последние обстоятельства, надо думать, придавали рекомендации Вяземского в глазах императрицы, проявлявшей понятную осторожность при выборе своих сотрудников, особый вес.
Выбор оказался удачным. На служебном поприще Храповицкий показал себя с самой лучшей стороны. Ежедневно, а иногда и по нескольку раз в день, бывая у императрицы, он неизменно представал перед ней неутомимым, пунктуальным, осведомленным в самых разных предметах. Ему можно было поручить все: от записки в Сенат до редактирования очередной пьесы. Обладая счастливой способностью ладить с разными людьми, он легко находил общий язык с Потемкиным и Разумовским, Безбородко и Салтыковым. На временщиков у него был особый нюх. С Мамоновым он сблизился задолго до того, как Екатерина остановила свой взор на Красном кафтане.
Храповицкого ценили. Чины и награды не заставляли себя ждать. Статский советник и кавалер многих орденов, он быстро сделался при дворе персоной значительной.
Гораздо сложнее оказалось приобрести доверие императрицы. Екатерина долго присматривалась к своему кабинет-секретарю.
В ее обращении с Храповицким, как и с другими персонажами «basse cour» — ближнего круга сотрудников и наиболее приближенных и доверенных слуг — был в ходу тон насмешливо-покровительственной бесцеремонности, заимствованной, как считают люди знающие, у Фридриха Великого. С кабинет-секретарем шутили относительно его тучности и советовали садиться не на стул, а на диван, потому что если он упадет, то уж не поднимется. Если он был печален, у него спрашивали, не поссорился ли он с невестой, которой, кстати, у него отродясь не было, если весел — не болят ли ноги после дневной беготни. Его тыкали фамильярно в живот, иногда оставляли обедать — puisqu’il est dêjà ici[154], и он принимал все, казалось бы, с одинаково добродушным видом.
Между тем, едва ли не главной чертой в характере Александра Васильевича была мнительность, эта беспокойная спутница натур творческих.
От природы Храповицкий был тучен, одышлив. Но резов. По коридорам и лестницам дворца носился без устали. От усердия, пардон, потел.
И вот как-то накоротке, без свидетелей, Екатерина посетовала Храповицкому, как на грех развивавшему перед ней свои идеи о преодолении разногласий в Совете относительно способа ведения турецкой войны, на его неопрятность. Нюхая флакончик духов, сказала, что в юности и сама была потлива. И очень, мол, помогли холодные обтирания.
Внушение было сделано шутливо, с деликатной улыбкой, но с этого дня будто надломилось что-то в чувствительной душе Александра Васильевича. Отныне только после штофа любимой ерофеевки мог он вообразить себя сподвижником великого царствования.
Начались запои.
Что ж, у каждого, как говорится, своя Голгофа.
3
Храповицкий был рожден придворным.
Детство его прошло вблизи дворца — отец его служил в лейб-кампанцах, приведших к власти Елизавету Петровну. Затем — кадетский корпус, дававший по тем временам образование изрядное. В корпусе начал писать стихи, которые были замечены и одобрены Сумароковым и Новиковым. Литературным талантом была одарена и сестра Храповицкого, Марья Васильевна, много переводившая с французского и итальянского; брат, Михаил Васильевич, сотрудничал в литературных журналах, другой брат, Петр Васильевич, служил в Государственном казначействе.
Любопытно, однако, что литературные способности молодого поколения Храповицких в петербургском высшем свете связывали не столько с порядочным воспитанием, сколько с завидной наследственностью — мать Александра Васильевича, в девичестве Сердюкова, дочь строителя вышневолоцких каналов, считалась одной из побочных дочерей Петра Великого. Великий реформатор был, как известно, не без греха.
Храповицкий не был женат, но от Прасковьи Ивановны Гурьевой имел четырех сыновей и двух дочерей, в малолетстве утвержденных в дворянстве и получивших фамилию отца и права законных детей.
Круг знакомых Храповицких был очень широк. В доме брата случалось встречаться с Херасковым, Хвостовым, с наезжавшим из Москвы Николаем Новиковым, Яковом Княжниным, прозванным друзьями «республиканцем». Близкое знакомство связывало Храповицкого со служившим по таможенной части Александром Радищевым, чей пылкий нрав был известен ему еще по тем временам, когда он, будучи вынужденным подрабатывать репетиторством, преподавал юному Радищеву российскую грамматику.
Словом, окружали Храповицкого люди наилучшие, враги рабства и друзья просвещения, цвет своего времени. Брат его под конец жизни отпустил на волю всех своих крепостных.
Велик был соблазн записать в поборники народных прав и самого Александра Васильевича. Однако он ни по характеру, ни по взглядам своим не принадлежал к беспокойной породе бунтарей, ниспровергателей устоев.
«У России собственная судьба, нам с Францией не равняться», — так говорил он, когда в долгих ночных беседах с московскими вольнодумцами или на заседаниях масонской ложи, в которой он, по обычаям своего времени, состоял непременным членом, вспыхивали споры о равенстве граждан перед законом или звучало отголоском революционных событий в далекой Франции крамольное слово «конституция».
И добавлял непременно, едва ли сознавая, что слово в слово повторяет слышанное не раз от императрицы Екатерины Алекеевны:
«Обширность территорий при недостатке народонаселения делает прикрепление крестьян к земле необходимым, а власть самодержавную — единственно пригодной для нас формой правления».
Да, огромна, непомерна была власть составительницы Наказа и покровительницы Энциклопедии над умами и душами ее подданных.
Надо ли удивляться тому, что уже в первые месяцы службы Храповицкий счел своим долгом сохранить для потомков мысли и деяния великой Екатерины? Вечерние часы, когда оставался он один на один со своим дневником, стали значительнейшими в его жизни.
Прошло, однако, не так уж мало времени, прежде чем Храповицкий понял, что его вполне благонамеренные занятия вдруг, сами собой, как бы без его воли, начали приобретать совершенно иной оборот. Аккуратно, день за днем заносившиеся им на страницы специально для этого заведенной красной сафьяновой тетради с золотым обрезом высказывания Екатерины все чаще разительно отличались от ее публичных речей; мнения о друзьях и сподвижниках оказывались неожиданно откровенны, если не циничны.
Словом, чем дальше заходил Александр Васильевич в своих опасных занятиях — тем отчетливее сознавал, что дневник помимо его воли начинает жить собственной жизнью, превращаясь в нечто не просто сомнительное, но и вызывающее — вроде кукиша в кармане. Фигура невидимая, но от того не менее обидная, даже оскорбительная. К счастью, правда, не столько для Ее императорского величества самодержицы всероссийской Екатерины Алексеевны, сколько для ее свиты, которая, как известно, и делает королей.
Вот только один пример: запись за 27 апреля 1788 года:
«Указ об отмене сбора с Священно и церковнослужителей Московской Епархии для бедных учеников Законосспасских, наложенного Митрополитом Платоном. — «Он блудлив, как кошка, и труслив, как заяц». — «Герцог и герцогиня Курляндские[155] препоручили новорожденного сына в покровительство Ее Величества. По их жалобе приказано сменить нашего в Митаве министра, Д. С. С. Барона Местмахера[156].
— Сказывали, что 25 лет не видала доклада, подобного сделанному о Шелехове[157] Комиссиею о Коммерции: «Тут отдают в монополию Тихое море. — Дай только повод. — Президент (граф А. Р. Воронцов) распространяет дальше виды для своих прибытков»[158].
Храповицкий пережил Екатерину на пять лет — он умер в 1801 году — и это решило судьбу дневника (будь императрица жива, дневник, обнаруженный среди бумаг покойного кабинет-секретаря, скорее всего был бы уничтожен). О существовании его знали Державин, Гнедич; в 20-е годы XIX века Свиньин опубликовал значительные выдержки из него в своем журнале «Отечественные записки». Отдельным изданием дневник был опубликован Н. Геннади в 1862 году по копии А. С. Уварова. И наконец, подлинник дневника попал к известному археографу Н. П. Барсукову, который и издал его в наиболее полном виде в 1874 году, спустя без малого век с тех пор, как он был начат.
Записки первых четырех лет весьма кратки и занимают всего около пяти страниц в издании Барсукова. Это по большей части вполне канонические изречения Екатерины, сделанные по различным поводам. С 1786 года дневник становится несколько подробнее, затем следует перерыв, после которого, собственно, и начинаются те записи, которые составили дневнику Храповицкого славу одного из самых ценных и беспристрастных источников для изучения екатерининского времени. Среди них — поразительные по откровенности отзывы Екатерины о самых различных людях: Фридрихе II, Потемкине, Орловых, Вольтере, интимные подробности ее частной жизни, государственного управления и многое другое, никогда не предназначавшееся для посторонних глаз.
Без Храповицкого мы вряд ли могли бы представить себе Екатерину и ее эпоху в той бесстрастной правдивости, которой добивается объектив современного фотоаппарата.
Это, на наш взгляд, достаточно убедительно объясняет, ради какой цели еще одному достойному человеку довелось узнать, что, служа при дворе, нельзя стать Тацитом[159], но можно Прокопием[160].
4
Запись в дневнике Храповицкого за 21 июня: «Зубов сидел, через верх проведенный после обеда, с Анной Никитишной, а ввечеру один до 11 часов».
22 июня, в пятницу, разнесся слух, что выбор нового фаворита свершился. Нашлось немало желающих дежурить на личной половине вне очереди — единственно для того, чтоб хоть один разик взглянуть на счастливчика. Им оказался Платон Александрович Зубов, молодой человек двадцати двух лет, секунд-ротмистр конного полка. Он имел приятную наружность — брюнет со стальными с голубым отливом глазами, роста среднего, но строен, подтянут и чрезвычайно опрятен. Отец его, вице-губернатор в провинции, был принят при дворе. Екатерина знала Платона Александровича еще мальчиком, когда он в одиннадцатилетнем возрасте представлялся по случаю отъезда на учебу за границу.
Любопытная деталь: в придворной иерархии Зубов был персоной настолько ничтожной, что в первые дни его даже в камер-фурьерском журнале именовали Александр Платонович вместо Платона Александровича.
Запись в дневнике Храповицкого 22 июня: «Указ о деревнях и о 100 тысячах рублях положил на стол. После обеда еще не были подписаны.
Зубов за маленьким столом и начал ходить через верх (добавим: уже в чине флигель-адъютанта)».
23 июня: «Подписан Указ о деревнях и 100 тысячах из Кабинета. Я носил. Он (Мамонов — П.C.) признателен, не находит слов к изъяснению благодарности, говорил сквозь слезы…
Потребовали перстни и из Кабинета десять тысяч рублей».
24 июня: «Сказал, что вчера после обеда приходил со слезами благодарить. Свадьбу хотели сделать в понедельник, чтоб немного людей было. «Нет, в воскресенье, il est pressé, ainsi d’aujourd’hui en huit»[161] — десять тысяч я положил за подушку на диван — отданы Зотову и перстень с портретом, а другой в тысячу рублей он подарил Захару»[162].
Впрочем, и после этого «дворцовая эха» еще не считала дело окончательно устроенным. К смене фаворита привыкли относиться, как к делу, которое не могло быть окончательно решено без конфирмации Потемкина.
В Молдавию полетели многочисленные billets[163].
«Хлипок, — доносил верный Гарновский, ожидавший сурового реприманда за проявленную беспечность, — второй том Корсакова. Одного появления Вашей светлости в столице будет достаточно для восстановления порядка».
Впрочем, в этом не было особой необходимости. Подробности разрыва с Мамоновым Потемкин знал из несохранившегося письма Екатерины от 20 июня 1789 года. Об этом, секретном письме упоминает Гарновский в своей записке Попову от 21 июня. О его существовании он узнал от Зотова. Существенно и то, что Гарновский, имевший широкие связи в придворных кругах, считал, что Екатерина, заметив охлаждение к себе Мамонова, сама вызвала его на откровенность, стремясь развязать туго завязавшийся любовный узел.
В письме Светлейшему от 29 июня 1789 года Екатерина, уже заметно успокоившаяся, так излагала подробности разрыва: «Я сказала ему, что если мое поведение по отношению к нему изменилось, в том не было бы ничего удивительного ввиду того, что он делал с сентября месяца, чтобы произвести эту перемену, что он говорил мне и повторил, что, кроме преданности у него не было ко мне иных чувств, что он подавил все мои чувства и что если эти чувства не остались прежними, он должен пенять на себя, так как задушил их, так сказать, обеими руками…
На следующий день после свадьбы новобрачные отправятся в Москву. Именно я настояла на этом, так как я почувствовала, что он вопреки браку чуть было не пожелал остаться здесь. И если говорить правду, имеются очень странные противоречия в его деле, на которые у меня есть почти несомненные доказательства. Что же касается до меня, то я нашла развлечение: я думала, что я смогла бы его вернуть, но я всегда предвидела, что это средство может сделаться опасным. Через неделю я Вам поведаю больше относительно некоего Чернявого, знакомство с которым, возможно, зависит только от меня самой, но я сделаю это лишь в последней крайности. Прощайте, будьте здоровы»[164].
Потемкин, как мог, утешал императрицу. «Матушка, Всемилостивейшая Государыня, всего нужней Вам покой, — писал он Екатерине 5 июля, — а как он мне всего дороже, то я Вам всегда говорил не гоняться, намекал я Вам о склонности к Щербатовой, но Вы об ней другое сказали. Откроется со временем, как эта интрига шла.
Я у Вас в милости, так что ни по каким обстоятельствам вреда себе не ожидаю, но пакостники мои неусыпны в злодействе; конечно будут покушаться. Матушка родная, избавьте меня от досад: опричь спокойствия, нужно мне иметь свободную голову»[165].
В письме Екатерине от 18 июля Светлейший ставит точку в конце этой, судя по всему, изрядно надоевшей ему истории: «По моему обычаю ценить суть я никогда не обманывался в нем (Мамонове — П.C.). Это — смесь безразличия и эгоизма. Из-за этого последнего он сделался Нарциссом до крайней степени. Не думая ни о ком, кроме себя, он требовал всего. Никому не платя взаимностью. Будучи ленив, он забывал даже приличие. Цена не важна, но коль скоро если что-то ему нравилось, это должно было, по его мнению, иметь баснословную цену. Вот — права княжны Шербатовой»[166].
Внушения Потемкина подействовали на императрицу. Особенно оценила она сообщения о том, что Светлейший взял к себе в дежурные офицеры старшего брата Зубова — Николая, служившего в армии в чине подполковника.
«Я здорова и весела и, как муха, ожила», — успокаивала она Потемкина в письме, отправленном 5 августа 1789 года из Царского Села[167].
Действо шестое
Удивления достойно, сколь те предметы, которые из дали его Олонецкой губернии казались ему божественными и приводили его дух в воспламенение, явились в приближении к двору весьма низкими и недостойными. Охладел дух его, И., сколько ни старался, не мог написать ничего горячим и чистым сердцем в похвалу ей.
Г. Р. Державин1
Обвенчать Мамонова и Щербатову немедленно, как они того желали, оказалось невозможно. Настоятель царскосельской церкви Дубинский наотрез отказался производить обряд венчания до окончания петровского поста, который истекал в конце июня.
Дни, оставшиеся до свадьбы, Мамонов провел, как постоялец, которого не сегодня-завтра попросят съехать. Каждый день слуги выносили из его комнаты то диван, то козетку, требовавшиеся для устройства покоев нового фаворита.
Более изощренную пытку придумать было сложно.
Приемная Мамонова, которая еще недавно с раннего утра была полна посетителей, опустела. Те, кто вчера еще искали его дружбы, перестали узнавать его при встрече. Пошел было посоветоваться о свадебном ужине с церемониймейстером Григорием Никитичем Орловым — тот сказался больным. Нарышкин, прежде захаживавший к Мамонову чуть не каждый вечер, скрылся в своей приморской мызе Красной.
Однако самое тяжелое испытание ждало Александра Матвеевича в Таврическом дворце, у Гарновского.
— Всем известно, что по причине расстроенного моего здоровья я еще летом просился в Москву, — говорил Мамонов, сидя перед Гарновским. — Меня уговорили остаться, но после всего того, что мне тогда из разных уст было сказано, я почитал себя от прежней своей должности уволенным.
Гарновский недоверчиво хмыкнул:
— Уволенным? Это, право, странно. Кто мог вас уволить, помимо его сиятельства? Как посмели вы, боевой офицер, адъютант князя, решиться самовольно покинуть вверенный вам пост, да еще во время войны?
— Иногда обстоятельства бывают сильнее нас, — мрачно возразил Мамонов. — Отвращение к придворной жизни, которому причиной были интриги подлых недоброжелателей, еще весной перешло в болезненные припадки. Клянусь, я порой сам не сознавал, что делаю, — так сильна была во мне гордость стесненного духа. И вот — будучи на грани безумия — я открылся во всем Ее императорскому величеству и как единственной милости просил дозволения жениться на княжне Щербатовой, в которую давно уже был влюблен смертельно.
При этих словах Гарновский сделал пометочку в лежавшей перед ним записной книжке.
— Спросили ее — оказалось, что и она меня любит, о чем я до сих пор не знал, — с нарастающим вдохновением фантазировал Мамонов. — Для государыни все происшедшее, конечно, неприятно, но что делать? Сама советовала мне жениться, да и князю я, сколько мог понять из ее речей, был ненадобен.
Гарновский вновь быстро застрочил.
— Дай Бог, чтобы это не потревожило князя. Я не хотел обмануть его доверия. Просите его светлость, — тут глаза Мамонова увлажнились, — чтобы он навсегда остался моим отцом. Теперь я больше прежнего нуждаюсь в его милости и покровительстве, ибо со временем мне, конечно, будут мстить.
Заключительные слова Мамонов произнес нетвердым от волнения голосом.
Вернувшись к себе, он принялся обдумывать создавшуюся ситуацию.
Вчера еще ничто не казалось Александру Матвеевичу столь желанным, как женитьба на княжне. Однако, когда дело это вдруг устроилось таким неожиданным для него образом, Мамонова охватили сомнения.
Он заставил себя поступить так, как считал должным, приготовившись пасть жертвой собственного благородства, — а никакой жертвы, как оказалось, не потребовалось.
Замену ему — благодаря Антуану он знал это точно — нашли в тот же день.
Было от чего растеряться. Вновь и вновь возвращаясь мыслями к событиям последних месяцев, Мамонов в новом свете видел многие обстоятельства, предшествовавшие разрыву. Его фрондерство, все эти разговоры о том, что во дворце жить — как среди волков, скучно и страшно, — представлялись сейчас глупой и неуместной позой.
Как ни странно, но только сейчас, сделав решительный шаг, понял он, что, расставаясь с императрицей, надлежало расстаться и с красным кафтаном, и с местом в Совете, оказавшимся, как не замедлилось выясниться, вовсе не признанием его выдающихся достоинств, а всего лишь атрибутом должности, которую он так поспешно покинул.
Жизнь предстояло начинать сначала, но это уже будет другая жизнь. Без пьянящего чувства власти, без Екатерины.
Об этом и размышлял Дмитриев-Мамонов, в волнении меряя шагами свои роскошные апартаменты. С невольной тоской он оглядывался вокруг. Каждая мелочь в его комнате хранила печать заботливых рук Екатерины.
Остановился у мраморного бюста императрицы, покоившегося на мраморном же постаменте, представлявшем нечто вроде античной колонны с каннелюрами. Резец скульптора передал и ум, и благородную осанку, и ту пленительную полуулыбку, которая очаровывала всех — от канцлера до истопника. Такой она предстала в тот день, когда он, адъютант Потемкина, вслед за Марией Саввишной Перекусихиной впервые переступил порог ее кабинета. Мамонов с удивлением понял, что и сейчас, три года спустя, его благоговение перед этой женщиной, необыкновенной, почти божеством, было живо. Мысль о том, что она навсегда ушла из его жизни, вызвала щемящее чувство тоски, и свежее личико невесты сделалось ему вдруг скучным. Даже милая веселость княжны, так нравившаяся прежде, казалась теперь простоватой.
Отчаяние завладело им с новой силой. Неужели нет пути назад? Покаяться? Не простит. С внезапно нахлынувшим чувством стыда Мамонов вспомнил последний разговор с императрицей. Закружилась голова, да так, что пришлось опереться на холодный мрамор, чтобы не упасть.
2
Единственным человеком, посетившим Мамонова в эти тяжелые для него дни, был посол Франции граф Луи Филипп де Сегюр.
Решиться на подобный шаг посла побудили чувства, которые и в Париже далеко не все сочли бы вполне естественными. В Петербурге, однако, в конце царствования Екатерины поступок его имел мало шансов быть понятым.
У Сегюра, впрочем, были возможности убедиться в этом на собственном опыте. Незадолго до истории с Красным кафтаном он против своей воли оказался одним из действующих лиц в шумном скандале, попавшем на страницы европейских газет и давшем новую пищу для толков о нравах екатерининского двора. Его старый товарищ, герой американской войны Пол Джонс, служивший в русском флоте в чине контр-адмирала[168], был обвинен (как оказалось беспочвенно) в покушении на честь четырнадцатилетней девушки. Екатерина, то ли поверив навету, то ли для пущей острастки другим стареющим прелюбодеям, запретила Джонсу появляться при дворе. Карьера и доброе имя старого моряка оказались под угрозой бесчестья.
— Клянусь Юпитером, я не виновен, — страстно уверял посла Пол Джонс, обратившийся к нему за помощью и защитой. — Это подлая клевета. Да судите сами: несколько дней назад ко мне домой явилась молоденькая девушка с просьбой дать ей шить белье или починить что-нибудь из одежды. При этом она вдруг стала довольно явно напрашиваться на мои ласки. Жалко было видеть такую дерзость в ее лета, и я стал уговаривать ее бросить гадкие намерения. Дав ей денег, я отпустил ее, но она не хотела уходить. Меня это рассердило: я взял ее за руку и вывел вон. Но в ту минуту, когда я растворил дверь, эта дрянная девчонка, разорвав рукава своего платья и платок, принялась ужасно кричать и жаловаться, что я ее обесчестил. Она бросилась в объятья старухи, будто бы ее матери, которая, конечно же, появилась тут не случайно. Мать с дочерью раскричались на весь дом и побежали жаловаться на меня. Остальное вам известно.
Сегюр счел своим долгом принять самое деятельное участие в судьбе оклеветанного контр-адмирала. Удалось достоверно установить, что старуха была обыкновенной сводницей, выдававшей состоявших в ее заведении молодых девушек за своих дочерей. Помог и Потемкин, настоявший на том, чтобы дать Полу Джонсу возможность уехать из России.
Несмотря на счастливый исход истории с Полом Джонсом настроение у Сегюра было неважное. Усугубляло его и до предела обострившееся к лету 1789 года ощущение собственного бессилия.
— Comment soutenir notre crédit quand nous avouons notre impuissance actuelle? Comment desirer norte alliance, quand nous le differons jusqu’au moment de la paix des Turces; c’est a dire au moment ou la Russie croit n’avoir aucun besoin de notre appui?[169] — писал он в Версаль в мае 1789 года.
В ответ герцог Манморен с ледяным спокойствием советовал Сегюру не горячиться.
Что ж, во всех странах и во все времена старые порядки рушатся по одним и тем же законам. Паралич власти — верное предвестие ее конца.
3
За четыре с половиной года, что Сегюр провел в Петербурге, не было, наверное, ни дня, когда не посещала бы его щемящая тоска по родине, на которой происходили удивительные события.
И по семье, оставленной в Париже. Весной 1787 года Сегюр женился на Генриетте д’Агессо, дочери от второго брака знаменитого канцлера. Кстати, его ближайшие друзья — знаменитый маркиз де Лафайет и виконт де Ноайль, также были женаты на сестрах д’Агессо. Их мать была внучкой канцлера. Сегюр в шутку, разумеется, называл Лафайета своим племянником. Дети Сегюра, сыновья Октав и Филипп и дочка Луиза — остались с матерью.
С каждым курьером Сегюр получал письма от жены. К 1789 году, когда работа во французском министерстве иностранных дел замерла (случалось, что Сегюр не получал ответы на свои запросы месяцами), письма жены стали для него едва ли не важнейшим источником сведений о глубоком кризисе, в который погружалась Франция.
На закате жизни, работая над своими знаменитыми «Записками», Сегюр назовет XVIII век временем, когда судьбы людей и государств решало случайное стечение обстоятельств.
«Лабиринты этого мира, пути, которыми мы следовали, опасности, вечно манившие нас, цели, которых мы все-таки достигали, зависели от множества таинственных причин и мелких обстоятельств, уловить логику которых не могли ни наша воля, ни сила провидения», — писал Сегюр.
Первопричинами политического декаданса, поразившего Францию, Сегюру и его друзьям (а среди них, кроме Лафайета и Ноайля, были лучшие умы эпохи: Ларошфуко, герцог Лозэн, Талейран) казались легкомыслие похотливого Людовика XV, забывшего о достоинстве Бурбонов в объятиях куртизанки Дюбарри, фатальное слабоволие и безликость Людовика XVI, «le serrurié»[170], так напоминающего и характером, и судьбой нашего Николая II. Они видели, что деградация монархии, летаргия власти глубоко ранили совесть нации. Общество объединило неприятие пороков деспотизма.
Желание перемен сделалось всеобщим, однако, когда слова «liberté, égalité, propriété»[171] были, наконец, произнесены, мало кто из молодых аристократов, к которым принадлежал Сегюр, понял их как сигнал полной и безжалостной ломки не просто старых порядков, но их собственной прежней жизни. Свобода привлекала их потому, что открывала возможность продемонстрировать личное мужество, независимость суждений, которыми они так восхищались в философах. Равенство они воспринимали как нечто вроде игры, правила которой позволяют в любой момент сделать шаг назад и вернуться к привычным привилегиям. Громко крича, что старое социальное здание прогнило, они продолжали жить в нем, уважая все условности строгого этикета, увлеченные обычной погоней за чинами.
«Мы, знатная французская молодежь, не жалели о прошлом и думали, что не имеем оснований заботиться о будущем, — вспоминал Сегюр, — мы беззаботно шагали по покрытому цветами ковру, не подозревая, что под ним скрывалась пропасть. Смеясь, мы фрондировали, потешаясь над старыми людьми, феодальной гордостью наших отцов, их старомодным этикетом. Все старинное нам казалось стеснительным и смешным. Серьезность старых догм мешала нам жить. Мы страстно любили поэзию и ту новую философию, которая будучи поддержана самыми блестящими умами нашего века, казалась нам способной обеспечить триумф разума на Земле».
Сегюр гордился тем, что был одним из трех представителей древних французских фамилий, первыми предложивших свои шпаги генералу Вашингтону.
Фрегат «Эгль», на борту которого Сегюр отправился в Америку, поднял паруса в Дувре в начале мая 1782 года, когда Лафайет, только что вернувшийся из второй поездки к американским инсургентам, танцевал на балу в Версале, дававшемся в честь российской великокняжеской четы, путешествовавшей по Европе. Уже первая поездка Лафайета в Америку в 1777 году принесла ему славу. В то время Сегюру, страстно желавшему сопровождать своего друга, воспрепятствовала семья. Французский двор на первых порах предпочитал держаться подальше от авантюр Лафайета, казавшихся сомнительными (о тайном покровительстве ему графа де Брольи, главы Секрета короля, мало кто знал).
Не прошло, однако, и пяти лет, как все переменилось. Сегюр отправился в Америку под королевским флагом и с официальным поручением к командующему французским экспедиционным корпусом генералу Рошамбо, помогавшему Вашингтону в осаде Нью-Йорка. Кстати, вместе с ним на борту «Эгля» были Лонжерон, будущий губернатор Одессы, и шевалье Александр де Ламетт, отличившийся впоследствии в русско-турецкой войне, где он сражался под знаменами Потемкина.
Путешествие было опасным. Сегюру и его товарищам чудом удалось спастись от плена, «Эгль», севший на мель, был захвачен англичанами. Тем не менее, подкрепление, депеши из Версаля и 2,5 миллиона франков были благополучно доставлены Рошамбо, стоявшему лагерем вместе с Вашингтоном на берегу реки Гудзон.
Участвовать в сколь-нибудь серьезном сражении в Америке Сегюру не пришлось. В депешах, врученных им Рошамбо, содержался приказ французскому флоту и десантному корпусу высадиться на Антильских островах, бывших английским владением. План состоял в том, чтобы подорвать могущество Англии на море и тем самым способствовать прекращению войны.
Во Францию Сегюр вернулся если не республиканцем, то, во всяком случае, убежденным сторонником американских порядков.
«В Америке моим идеалом стал человек независимый, но склонявшийся перед законами, гордый своими правами и уважающий права других. Следует признать, что разум, порядок и свобода далеко не повсеместно, как утверждают философы, изгнаны с лица Земли. Их встречаешь на каждом шагу в Америке».
Рассказы о далекой стране стали излюбленной темой бесед Сегюра с Потемкиным, австрийским послом Кобенцелем и Мамоновым, с которым он сошелся особенно близко. Глаза Александра Матвеевича приобретали выражение отрешенное, когда французский посланник принимался вспоминать о нравах квакеров, охоте на змей, обезьян и попугаев на Антильских островах, романтических приключениях с испанскими монашками или встреченной на Антильских островах прекрасной девушкой по имени Рафаэлита Эрментильда.
— Вы счастливый человек, граф! — томно восклицал Мамонов. — Ваши рассказы сводят меня с ума. О Боже, как я хочу в Америку!
В ответ Сегюр лишь усмехался, роняя:
— Comment, sans y être obligé?[172]
Мамонов почитал своим долгом разразиться хохотом, хотя шутка эта давно его уже не веселила.
Впрочем, справедливости ради надо заметить, что автором ее был не Сегюр, а принц де Линь, про которого Сегюр как-то сказал, что «Декамерон» кажется бледным подражанием его приключениям и авантюрам, повествовать о которых у де Линя был особый талант.
Одной из любимых его историй был рассказ о кратковременной связи с постаревшей и уродливой дамой, муж которой, узнав о происшедшем, счел своим долгом нанести принцу визит. Одним из вопросов, с которым обратился к де Линю супруг, кстати, никак не выглядевший огорченным, и стала та фраза, которая произвела такое впечатление на Сегюра:
— Скажите, мсье, неужели вы сделали это по собственной воле?
Услышав утвердительный ответ, муж вскричал:
— Как, не будучи к этому обязанным?
«J’ai l’esprit en rose»[173], — любил говорить де Линь тем, кто был способен его понять.
4
В гостиную Мамонова Сегюр вошел стремительным шагом.
— Ваш слуга — скрытый англоман, — сказал он поднявшемуся навстречу Мамонову. — Его ливрея смахивает на фрак. И потом — эти красные каблуки…
Антуан действительно третьего дня вымолил у Мамонова разрешение обкорнать полы своего ливрейного кафтана.
— Но фрак пришел к нам из Парижа, — возразил Мамонов.
— К вам из Парижа, а к нам — из Лондона. Покрой у него французский, но идея английская, это костюм свободного человека, в нем есть невидимый экилибр, он где-то посередине между изысканным и дорогим кафтаном придворного и одеждой простолюдина.
— Так вам не нравятся фраки, граф? — спросил Мамонов, знавший, что с Сегюром надо держать ухо востро.
— Вы же сами говорите, что фрак пришел к вам из Парижа, а я француз, более того, я из тех французов, которые сделали немало для того, чтобы человечество могло носить эту одежду свободно.
Широкие калмыцкие брови Мамонова поползли вверх.
— Благодарю вас от имени облагодетельствованного вами человечества, — сказал он. — Ну и, разумеется, за визит к Овидию, готовящемуся отправиться в ссылку.
— Не стоит благодарности, граф, — ответил Сегюр, устраиваясь на диване. — Я обижусь, если вы скажете, что ожидали от меня чего-либо другого. Я заметил, что ваша приемная пуста, но знайте, что нравы общества везде одинаковы. Помню, когда в конце 1770 года герцог Шуазель попал в немилость, многие перестали узнавать его при встрече. Вскоре, однако, все изменилось.
За Шуазелем последовал почти весь двор, во всяком случае, его лучшая часть. Лувр и Версаль опустели. Даже принцы королевской крови участвовали в этой новой фронде времен Людовика XV. Мой отец, правда, ему еще не приходилось тогда рисковать постом военного министра, навестил герцога в его замке Шантели. Кстати, на знаменитой колонне в доме Шуазеля, где посетители в знак протеста против несправедливости, допущенной в отношении этого достойнейшего человека, оставляли свои имена, одной из первых значится наша фамилия.
— Прекрасная идея, — со смехом сказал Мамонов, — почему бы нам не воздвигнуть такую же колонну в Петербурге.
Он огляделся вокруг, взгляд его остановился на постаменте в виде колонны, на котором стоял бюст Екатерины.
— Почему бы нам не начать, граф, — сказал он, взглядом указывая на колонну.
Не в характере Сегюра было отступать. На секунду задумавшись, он вывел под бюстом Екатерины: «Liberte, égalité, proprieté».
— Вы хитрите, граф! — вскричал Мамонов. — Вы не хотите ставить свою фамилию.
— Как я могу поставить свою фамилию под лозунгом всех французов?
Сравнение с Шуазелем польстило Мамонову. Герцог был, как говорят, большой канальей в политике, человеком независимым, упрямым, подал в отставку с поста министра иностранных дел, протестуя против капризов новой фаворитки короля мадам Дюбарри.
— Ба, а это что такое? — Сегюр вертел в руках взятую с каминной доски деревянную лопатку с длинной ручкой.
— Неужели вам не приходилось видеть ничего подобного в ваших путешествиях, если не в Америке, то в испанских колониях, где, судя по вашим рассказам, царит едва ли не средневековое варварство?
— Нет, никогда, — озадаченно произнес Сегюр.
— Вы подтверждаете мои подозрения, что в данном случае мы имеем дело с произведением нашего национального гения, — отвечал Мамонов с нарочитым сарказмом. — Это щекодир, граф. С его помощью наши помещики наказывают своих крепостных. Бить раба по щекам голой рукой — в России это mauvais ton[174].
— Любопытно, весьма любопытно, — повторил Сегюр не без брезгливости. — Идея понятна и, наверное, удобна, но, клянусь, она никогда не могла бы возникнуть во Франции. Наш помещик бьет своих людей палкой, и, кажется, в этом есть какой-то демократизм. Ваш кнут ему инстинктивно отвратителен, есть в нем нечто глубоко аморальное, человека нельзя бить тем же, чем бьют лошадь или осла.
Мамонов скорбно развел руками и пригласил Сегюра сесть.
— Да, хотите расскажу вам одну историю, — продолжал француз. — Мне кажется, она весьма подходит к этому случаю. После Семилетней войны, когда всех нас поразила дисциплина прусского солдата, вышел ордонанс господина Сен-Жермена, бывшего в то время военным министром, который вменял в обязанность офицерам по прусскому образцу наказывать солдат за дисциплинарные поступки ударами сабли плашмя. Это нововведение с жаром обсуждалось и при дворе и в городе. Придворные, буржуа, аббаты, даже женщины — все схватывались по этому поводу в жарких спорах.
Те, кто поддерживал это нововведение, считали, что при помощи ударов саблей плашмя наша армия быстро сравняется в совершенстве с армией Фридриха Великого. Другие видели в этом виде наказания покушение на человеческое достоинство, деградацию нравов, несовместимую с понятием о чести. На это им возражали: «Бить палкой унизительно, но сабля — орудие чести. В системе военных наказаний нет ничего унизительного для достоинства человека. Надо еще посмотреть, не предпочтительнее ли наказывать солдата таким образом, или сажать в тюрьму или в карцер, которые подрывают их здоровье и нравы». Развернулась целая дискуссия относительно того, как физические наказания могут способствовать исправлению нравов солдат и в какой мере чувство боли может служить стимулом к исправлению их пороков, в частности, лени и недисциплинированности.
И вот как-то спозаранку ко мне пожаловал мой старый приятель, молодой человек из одной семьи, принятой при дворе. С детства я был связан с ним узами дружбы. Как это часто бывает, в юности он больше думал об удовольствиях, играх, женщинах, но потом им овладела страсть к армии. Он мечтал об оружии, лошадях, маневрах и немецкой дисциплине.
Войдя ко мне, он попросил отослать слугу. Когда мы остались одни, я спросил его:
— Скажи, дорогой виконт, что означает столь серьезное начало? Не собираешься ли ты поведать о каком-либо новом приключении, связанном с честью или любовью?
— Ни в коей мере, — отвечал он. — Речь пойдет о вещах более важных, об опыте, который я решил поставить. Может быть, он покажется тебе странным, но он совершенно необходим, поскольку здраво судить можно только о том, что испытал на себе. Тебе, моему лучшему другу, я готов доверить свои самые сокровенные мысли. Кроме того, ты один можешь помочь исполнить то, что я задумал. Вот в двух словах моя идея. Я сам хочу почувствовать и понять, какое воздействие могут оказать удары саблей плашмя на сильного, мужественного, физически крепкого человека и до какого предела он может сопротивляться этому наказанию. Прошу тебя взять саблю и бить меня до тех пор, пока я не скажу «довольно».
Признаюсь, я долго сопротивлялся прежде, чем дал себя вовлечь в этот смешной и странный эксперимент. Только так можно было убедить его в безумии его идеи. Да и потом он так настаивал, что мне ничего не оставалось, как оказать ему эту слугу.
Одним словом, я принялся за работу. К моему удивлению, однако, друг мой, холодно размышляя над ощущениями, которые ему доставлял очередной удар, собирал свое мужество с тем, чтобы достойно перенести следующий. Он не произносил ни слова и пытался, хотя и не совсем успешно, сохранить невозмутимое выражение лица. Таким образом, я успел нанести ему около двадцать ударов саблей, прежде чем он сказал мне:
— Друг, достаточно, я удовлетворен и понимаю теперь, что этот вид наказания очень эффективен и поможет укрепить дисциплину в армии.
Я счел, что все закончено и поскольку эта сцена казалась мне в тот момент не такой забавной, как сейчас, собирался позвонить своему лакею и приказать одеть меня. Виконт, однако, остановил меня, сказав:
— Минутку, мы еще не закончили. Нужно, чтобы ты тоже подвергся этому испытанию.
Я заверил его, что не имею никакого желания, но он упорно настаивал, говоря, что я должен это сделать, чтобы не подвергнуться соблазну рассказать при случае историю дамам. В общем, он упросил меня во имя нашей дружбы дать ему эту гарантию.
— Впрочем, — уверял он меня, — ты только выиграешь, поскольку сможешь составить собственное суждение об этой новой методе.
Поддавшись его мольбам, я отдал ему в руки оружие, но после первого же удара, который он нанес мне, заорал изо всех сил «достаточно». Мы обнялись, и, клянусь, я никогда никому не рассказывал об этой сумасшедшей истории. Ты первый, Мамонов, да и то лишь потому, что мне попался на глаза этот, как ты его называешь, щекодир.
Сегюр посидел еще с полчаса, затем откланялся.
О предстоящей свадьбе Мамонова не было сказано ни слова.
5
Визит Сегюра во флигелек, в котором томился покинутый всеми временщик, был сочтен дерзким вызовом общественному мнению.
Сотни глаз следили за послом, когда он утром 24 июня в группе празднично одетых дипломатов ожидал окончания торжественного молебна по случаю годовщины Чесменской битвы.
Миновав австрийского посла, Екатерина подошла к Сегюру. Рядом с ней шел вице-адмирал Александр Иванович Круз, командовавший в Чесменской бухте знаменитым «Евстафием», первым вступившим в бой и увлекшим с собой на дно флагманское турецкое судно. Екатерина находилась в том приподнятом настроении, которое обычно владело ею на публике и которое она сама называла альтерацией.
— Я слышала, что вы не забываете старых друзей, граф, — сказала она, улыбаясь. — Мне это приятно. Вот поступок благородного человека и урок низким душам, которые сегодня удалились от того, кого вчера еще столь неумеренно восхваляли.
Стоит ли говорить, что уже наутро эти слова на все лады обсуждались в петербургских салонах?
Сегюр едва ли мог предполагать, что это была одна из последних его встреч с Екатериной. Не прошло и двух недель с отъезда Мамонова, как его пригласил к себе вице-канцлер Остерман и сообщил о народном восстании в Париже 14 июля. Сегюр оказался в чрезвычайно неловком положении — в депеше, полученной накануне, Монморен ни словом не упомянул о драматических событиях, развернувшихся во французской столице. Охваченный беспокойством за судьбу семьи, он обратился в Версаль с просьбой об отпуске, напомнив, что не был на родине уже более пяти лет.
Вспоминая через много лет, уже после террора якобинцев, разложения термидорианцев, деспотии Наполеона, эти тревожные дни, Сегюр напишет в своих «Записках»:
«Вести о революции во Франции распространились в петербургском обществе с поразительной быстротой, однако воспринимались они по-разному — в зависимости от чувств и убеждений тех, кому они становились известны. При дворе преобладало живое раздражение и всеобщее недовольство; в городе эффект был совершенно обратным. Хотя Бастилия ни в коей мере не могла угрожать никому из обитателей Петербурга, трудно выразить энтузиазм, который вызвала весть о падении государственной тюрьмы, этот первый триумф бурной свободы, среди мелких торговцев, купцов, ремесленников и даже некоторых молодых людей высших классов.
Французы, русские, датчане, немцы, англичане, голландцы — все обнимались и поздравляли друг друга на улицах, как будто это они сами освободились от тяжких цепей, довлевших над ними.
Это безумие, которое мне и сейчас, когда я пишу о нем, трудно представить, длилось всего несколько мгновений. Страх вскоре остановил этот первый порыв. Петербург, конечно же, не был местом, где можно было, не подвергая себя опасности, предаваться подобным чувствам[175]».
Менее чем через три месяца, в октябре 1789 года, Сегюр навсегда покинет Петербург. Екатерина предложит ему вернуться, перевезя семью в Россию, но ко времени приезда Сегюра в Париж, хозяином французской столицы был уже не король, а la Grande Peur[176]. Дипломатическая карьера Сегюра закончится печально. В Ватикане, куда он будет назначен послом, откажутся признавать полномочия представителя врагов католической церкви. Миссия в Берлине с целью удержать Пруссию от вступления в антифранцузскую коалицию завершится еще более унизительным провалом. Сегюр, по одной из версий, попытается покончить с собой, но, к счастью, останется жив. В той долгой жизни, которую ему еще предстояло прожить, он будет журналистом, историком, писателем — членом Французской академии, спасет отца, бывшего при Людовике XVI военным министром, от гильотины, эмигрантом, директором церемоний при Наполеоне и, наконец, пэром Франции.
Екатерина попрощается с Сегюром без прежней теплоты. Она никогда не забудет ему ни письма, отправленного Лафайету в середине августа (перехвачено и расшифровано в ее «черном кабинете»), ни пожеланий счастливого царствования Павлу Петровичу, переданных им от имени короля Франции на прощальной аудиенции у великого князя.
В июле 1791 года Екатерина напишет Гримму: «Есть человек, которому я не могу простить его выходок: это Сегюр. Позор! Он лжив, как Иуда… С одними он сходил за демократа, с другими — за аристократа, а кончил тем, что одним из первых явился в Ратушу принести эту пресловутую присягу… Когда он прибыл к нам, это был граф де Сегюр, он олицетворял идеи двора Людовика XVI. Сейчас же Луи Сегюр поражен национальным безумием».
Но вот парадокс: через двадцать лет, на склоне своих дней, Сегюр, вспоминая слова императрицы, сказанные ему в день Чесменской годовщины, воскликнет: «Не должно ли снисходительно смотреть на некоторые недостатки этой женщины, которую де Линь называл Catherine le Grand[177], когда она выказывала столько гордости, доброты, великодушия?»
6
А впрочем, стоит ли удивляться?
Кто из современников не склонялся перед гением этой поразительной женщины, охотно закрывая глаза на ее не менее поразительные слабости? К тому же порой — и не так уж редко, эти слабости можно было употребить к несомненной общественной пользе.
Да вот, кстати, пример.
В те июньские дни в приемных многих влиятельных особ Петербурга можно было видеть нескладную мосластую фигуру Гаврилы Романовича Державина, служившего тогда тамбовским вице-губернатором. В столице он ожидал, пока Сенат разрешит его тяжбу с генерал-губернатором Гудовичем.
В водоворот служебных неприятностей, длившихся уже около года, Гаврила Романович был ввергнут своим характером — строптивым и прямолинейным. В наивном стремлении поставить дела в губернии на твердую основу закона Державин смертельно рассорился с сонмом чиновных мздоимцев и казнокрадов, расплодившихся при попустительстве генерал-губернатора. Гудович, наущенный врагами Державина, пустил на него подлую ябеду в Сенат, но рассмотрение ее не было конфирмовано императрицей и дело оказалось под сукном.
Сам Гудович был не опасен — на нем лежала тень кратковременного (и оттого еще более неуместного) фавора в царствование покойного Петра Федоровича, Екатерина его не жаловала. Однако в дело вмешалась малороссийская партия — Безбородко и Завадовский, с которым Гудович состоял в дальнем родстве через многочисленных дочерей и племянниц графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Вторая жалоба, сочиненная собственноручно Петром Васильевичем Завадовским, непревзойденным мастером приказной казуистики, была закручена так, что сразу пошла гулять по кривым коридорам Сената.
Заседатели сенатские, обнаруживая среди обвинений, предъявленных Державину, свидетельства того, что он имеет дерзость «упослеживать ответами» замечания высшего начальства, только языками цокали, ценя железную хватку графа Петра Васильевича.
Гаврила Романович, видя, что дело приобретает, так сказать, политический оборот, смекнул, что недоброжелатели его оказались сильнее и коварнее, чем ему первоначально показалось. Спасения следовало искать у персон могущественных. Однако найти таких покровителей оказалось непросто. Рассчитывать на заступничество Потемкина или Мамонова не приходилось. Светлейший, к которому был ход через Василия Степановича Попова, не видел смысла по столь ничтожному поводу лишний раз трогать Безбородко. Мамонов же, ни с какой стороны не был знаком Державину.
Словом, положение Гаврилы Романовича было незавидное.
Помог случай в лице Храповицкого, с которым Державин некогда начинал службу в Сенате. На дуэли Храповицкого с Окуневым, случившейся в середине 70-х годов, Гаврила Романович был секундантом и немало сделал, чтобы эта пустяшная, в сущности, ссора закончилась миром.
Кабинет-секретарь, давний поклонник поэтического дара Державина, повел дело умело и решительно. Удачен был сам день, который он избрал для доклада императрице: 23 июня, канун Чесменских торжеств.
В свое время Потемкин, наставляя английского посла Гарриса перед первой беседой с императрицей, сказал ему: «Я могу дать вам только один совет — польстите ей. Это единственное средство добиться у нее чего бы то ни было. И этим достигают всего».
Храповицкий мог и не знать этих слов светлейшего, но характер Екатерины был изучен им досконально.
Поднося прошение Державина на высочайшее имя, Александр Васильевич позволил себе по памяти прочесть:
Еще же говорят не ложно, Что будто завсегда возможно Тебе и правду говорить.Понял сразу: понравилось.
Однако произнесла с укором:
— Говорят, характером тяжел приятель твой. Он не только с Гудовичем — с Тутолминым, но и с князем Вяземским не ужился.
Храповицкий почтительно молчал.
— Впрочем, Екатерине трудно обвинять автора «Оды к Фелице». Передай ему это, cela le consolera. Enfin, on peut lui trouver une place[178].
Через месяц Державин удостоился высочайшей аудиенции, и дело его устроилось. Новый фаворит был к нему благосклонен.
Казалось бы, все обошлось как нельзя лучше. Но почему же почти не находим мы в собрании сочинений Державина стихов, датированных этими годами?
Действо седьмое
Происхождением власти была образована ее политика… Впервые на русском престоле встречается носительница верховной власти, которая более всего заискивала популярности.
В. О. Ключевский1
28 июня с утра в Царское Село съехались особы первых двух классов в цветном платье и при кавалерии. После молебна члены Государственного Совета и послы были пожалованы к ручке.
Восшествие на престол — главный государственный праздник — по традиции отмечался с особой торжественностью.
Парадные выходы императрицы производили неизгладимое впечатление на современников. И неудивительно: Екатерина, как никто, владела искусством магнетического, завораживающего воздействия на толпу, которое составляет, может быть, одну из самых сокровенных тайн власти.
Позволим себе ненадолго прервать наше повествование и привести довольно пространную цитату из письма одного немецкого путешественника, оказавшегося при дворе Екатерины примерно в то же время, когда происходила описываемая нами история. Некоторые его наблюдения могут показаться нашему читателю знакомыми — это оттого, что приведенное нами письмо послужило источником для многих, писавших о екатерининском дворе в позднейшие времена.
Велик соблазн еще раз переписать этот документ своими словами, но не утратится ли от этого его главное достоинство — не потускневшая за два века, истекшие со дня его написания — достоверность?
Итак:
«Двери открылись перед нами, и Боже! среди какого несметного множества орденских лент, звезд, разнообразных мундиров и пр. увидели мы себя. Тут были люди почти от всех народов Европы и от различных азиатских, как казаки, калмыки, крымцы, один перс и др. Собственно русские превосходили всех мужественной красотой и ростом. Я вообще заметил здесь, в обществе, преобладание красивых мужчин над женщинами; но это замечание не относится к провинции, а только к Петербургу, куда привлекаются все выдающиеся всякого рода. Особенно же заметил я это относительно мужчин. Большинство иностранцев очень проигрывало перед этими красивыми и рослыми русскими…
Все эти персоны и многие другие из значительных в настоящее время вращались один около другого. Это непрестанное рассаживание, приветствия, господствующее желание быть представленным, громкие уверения (частенько лживые) видеть друг друга здоровыми, речи, ничего не значащие или обозначающие совсем противное, придворные разговоры, — все это усиливало несмолкаемый шум в зале.
Вдруг отворились двери: возвестили о приближении государыни, и тотчас все посланники и другие знатные персоны образовали проход, став по обеим сторонам.
Водворилась торжественная тишина. Казалось, никто не смел громко дышать. Так умолкали прочие боги, по словам Гомера в «Илиаде», когда приближался Зевс. Впереди всех показался гофмаршал, за ним попарно — камергеры, министры всех ведомств и прочие придворные… Далее следовала та, которая кроме своего собственного государства, тысячи существ возбуждает от тихого покоя, по одному своему усмотрению, и в Константинополе и в Испании, и дарует мир своему отечеству; та, флаги которой развеваются в Черном, Каспийском и Средиземном морях, а также в Балтийском и Белом; та, которая достигла того, мой друг, что вы и бесчисленное множество людей можете теперь с меньшим страхом и дрожью петь молебные слова: «сохрани нас от меча турецкого».
Екатерина II среднего, скорее большого, чем маленького роста; она только кажется невысокою, когда ее сравниваешь с окружающими ее высокими русскими людьми. Она немного полна грудью и телом; у нее большие голубые глаза, высокий лоб и несколько удлиненный подбородок… В чертах ее лица много признаков прежней красоты и, в общем, видны знаки ее телесной прелести. Ее щеки, благодаря краске, ярко нарумянены. Во взгляде столько же достоинства и величия, сколько милости и снисхождения. Она держится с большим достоинством, весьма прямо, но не впадает в принужденность.
Если не ошибаюсь, то слышу вопрос вашей милой жены. Что же на ней было надето? Была ли она завита? Какое у нее головное украшение? Ну, хорошо, я попробую на это ответить. Ее одежда по отношению к кройке почти такая же, какую носят вообще русские; только немного различия, особенно в рукавах. Длинное платье, которое тянется от груди до ног, совершенно прямо. Это полукафтанье. Рукава доходят до кистей рук во множестве небольших складок. Вверху у плеч эти рукава несколько шире, но ближе к рукам они становятся уже. Над этими Stolan[179] или Adrienne[180] (если дерзну так назвать) носила она летучее одеяние без рукавов. Костюм и верхнее платье разных цветов, и там, где приходятся руки, все одно к другому хорошо приложено, и я должен сказать, что это несколько азиатское одеяние на меня не произвело неблагоприятного впечатления, так как цвета не слишком ярки. Нижнее платье было из легкой материи, чередующейся между белым и серебряным. Верхнее платье бледно-лиловое и также в немногих затканных серебром линиях, лилово-красных и переливчато-серебристых. Ее головной убор: ко лбу спускающаяся и почти в три пальца возвышающаяся прическа, сзади которой спадает несколько сплетенных кос. На тупее покоилась небольшая бриллиантами прикрепленная корона, подобная изображенным на монетах. На груди небольшой щиток, покрытый алмазами. Возле этого грудного украшения видны две орденские ленты. Так как она эти орденские ленты носила через плечо, вплоть до бедра, и притом между верхним и нижним платьем, то посему они особенно заметны у самой груди. Одна прикрывает другую, так что нижняя лишь немного выдвигается. Верхняя, светло-голубая, почти в руку шириною, лента первого и высшего ордена Российского государства, Андреевского; нижняя, оранжево-желтая с черными полосами, это военный орден св. Георгия, или за военные заслуги. От обоих, Андреевского и Георгиевского орденов носила она золотые и бриллиантовые цепи вокруг шеи и на груди, две звезды, одна другую заслоняющие, так как гроссмейстер обоих орденов.
Ее полная грудь мало видна вследствие русской одежды. Талия очень широкая, но, благодаря умело избранному платью, весьма удачно скрыта. Ее и совсем не видно.
Как только императрица вступила в комнату, она остановилась и несколько раз милостиво поклонилась многочисленным присутствующим…»
Екатерина принимала бесконечную череду поздравляющих, восседая на Большом троне, специально привезенном для этого случая из Петербурга.
Камергер Зиновьев представлял прибывших из армии генерал-майора артиллерии Эйлера (сына знаменитого математика и члена петербургской Академии наук) и генералов Комсина и Фаминца.
Затем императрица, стоя на главном крыльце, изволила принять парад гвардейских полков, прошедших церемониальным маршем под звуки труб и глухую дробь барабанов. В ее свите все взоры привлекал новый фаворит — Зубов, облаченный в мундир флигель-адъютанта.
Праздничный обед на восемьдесят пять кувертов был накрыт в Большой столовой. Когда присутствовавшие стоя пили за здоровье Ее императорского величества, пушки за окном ударили салют, продолжавшийся до окончания обеда.
Вечером — партия в макао. Хор придворных певчих в колоннаде.
И бархатные звуки музыки под затухающим небосклоном.
Екатерина покинула гостей необычно рано. В девятом часу она уже была у себя.
2
Войдя в опочивальню, Екатерина выпила стакан кипяченой воды, стоявшей на маленьком столике возле кровати. Она никогда не ужинала.
По случаю праздника прислуга была отпущена. Императрица подошла к письменному столу. За окном было светлей, чем в комнате.
Белые ночи — бессонные ночи.
Екатерина присела за стол и, чуть помедлив, выдвинула правый ящик. Щелкнула потайная пружина, из-за отодвинувшейся дверцы императрица вынула старинную шкатулку красного дерева с инкрустацией. Шкатулка была полна бумаг. Екатерина принялась перебирать их, откладывая некоторые в сторону.
День 28 июня, как и следующий, 29 июня — тезоименитство Петра и Павла — имели для Екатерины особое, почти мистическое значение.
Да вот, кстати, пример. Собственноручная записка Екатерины, написанная ею, как считают, незадолго до смерти и обнаруженная при разборе бумаг князя А. А. Безбородко, скончавшегося в 1799 году:
«В 1744ом году, 28 июня, на Москве в Головинском деревянном дворце, который сгорел в 1753 году, я приняла Грекороссийский Православный закон.
В 1762 году, 28 июня в С.-Петербурге я приняла всероссийский Престол в пятницу, на четвертой неделе после Троицына дня, в сей день достойно примечания Апостол и Евангелие, которое и читается ежегодно в день моего возшествия и начинается Апостольскими словами: вручаю вам сестру мою Фиву, сущую служительницу и проч.
Пред моей Коронацией на Москве я выезд имела публичный в день возобновления Храма.
Молебен о Чесменской баталии был в день воздвижения Креста, Апостол сегодня во всех умах, а тогда не иначе, как с восхищением принят был и всем казался пророчеством о разрушении турецкого варварства»[181].
В этом поразительном по откровенности документе — все или почти все, что питало душевные силы Екатерины, то высокое честолюбие, что двигало ее поступками на протяжении долгого тридцати четырехлетнего царствования. Здесь и не потускневшее за тридцать лет потрясение от прозвучавших в судьбоносный для нее день под сводами Казанского собора слов апостола Павла о «Фиве, сущей служительнице», чье имя почти буквально совпало с тем, как в детстве называли саму Екатерину — Фике, и глубокая, фаталистическая вера в избранность своей судьбы, свое высокое предназначение, и отголосок той идеи, что на протяжении всей жизни таилась в глубине ее души, — идеи о восстановлении Византийской империи.
«Пусть кто как хочет думает, а я считаю, что Апостол в Ваше возшествие пристал не на удачу»[182], — такими словами пытался Г. А. Потемкин восстановить покой в душе Екатерины в один из самых опасных моментов ее царствования, в начале второй турецкой войны. И повторил благоговейно слова Апостола Павла о Фиве, сущей служительнице.
«Вы знаете меня, что во мне сие не суеверие производите»[183], — пояснял (скорее, напоминал) светлейший. И, конечно же, не лукавил. Мистическое в его судьбе, как и судьбе Екатерины, было намертво сплавлено с реальным, «испанские замки» — со здравым смыслом.
Не случайно, видимо, 29 июня она несколько раз принималась писать воспоминания, удивительные по своей откровенности, но так и не доведенные до конца.
Это были дни судьбы.
Екатерина вытащила наугад из отложенной стопки сложенный вчетверо лист бумаги. Копия ее письма к Гримму, писанного четыре года назад. Пробежав первые строчки, она уже не могла оторваться и прочла письмо целиком.
«Déscription métafysique, physique et morale de l’Habit Rouge: cet Habit Rouge enveloppe l’être qui a un coeur excelentissime, joint a un grand found d’hônnéteté; de l’ésprit on en a comme quatre, un found de gaieté intarissable, beaucoup d’originalité dans la conception des choses et dans la façon de les rendre, une éducation admirable, singulierement instruit de tout ce qui peut donner du brillant a l’ésprit. Nous cachons comme meurtre notre penchant pour la poésie; nous aimons passionnement la musique; notre concetion en toute chose est d’une facilité rare; Dieu sait ce que nous ne savons pas par coeur; nous declamons, nous jasons, nous avons le ton de la meilleure compagnie; nous sommes d’une très grande politesse; nous écrivons en russe et en français comme il est rare ches nous qu’on ecrive, tant pour le caractère; notre exrerieur; nos traits sont très reguliers; nous avons deux superbes yeux noirs avec des sourcils tracés comme on n’en voit guère; taille au-dessus de la mediocre, l’air noble, la demarche aisée; en un, mot; nous sommes aussi solide interieurement qu’adroit, fort et brillant pour notre exterieur. Je suis persuadée que si Vous rencontriez cet Habit Rouge, Vous demanderiez son nom, si Vous ne le deviniez tout d’abord»[184].
Боже, как давно это было! Екатерина подняла голову от письма. Молодой адъютант Потемкин умел показать товар лицом. Усмехнулась, вспомнив, как изящно изгибал стан молодой протеже светлейшего, изъясняя достоинства картин присланных с ним в подарок императрице.
Как недавно все это было, будто вчера. Она даже помнит, что ответила светлейшему.
— Le tableau est beau, mais le colorit est defectueux[185].
Александр Матвеевич был в тот день немного бледен.
Кто знает, зачем так ответила, ведь понравился сразу.
Сколько же тогда ему было? Двадцать семь? Двадцать восемь?
Свой возраст она помнила точно. После пятидесяти вдруг стала ощущать каждый прожитый месяц, каждую неделю всей кожей, всем своим существом.
Екатерина резко поднялась из-за стола и подошла к трюмо. Из зеркала на нее смотрела женщина с властным и одухотворенным лицом. Осанка ее была величественна, свободное платье с пышными рукавами скрывало приобретенную с годами полноту. Серебряные нити седины не портили прекрасные каштановые волосы. Екатерина опустилась на бархатный пуф, стоявший перед трюмо, и принялась за вечерний туалет. Вот уже три года, как она начала прользоваться косметикой, но все еще считала, что об этом никто не подозревает. Она несколько раз энергично провела смоченным в воде платком от скул вниз, к тяжелому и двойному подбородку.
С каждым взмахом руки лицо ее будто линяло на глазах.
Только сейчас почувствовала она, как утомил ее этот бесконечный день. Гудели ноги, ныла спина, а главное — в душе накопилось едкое, казавшееся беспричинным раздражение. По воспитанной годами привычке к самоанализу Екатерина принялась перебирать в памяти события минувшего дня. Все, казалось бы, прошло хорошо. Двадцать восьмой год ее царствования начался блистательно. В гвардии было заметно усердие, гости веселы. Отчего же эта глухая тоска? Неужели дело в истории с Мамоновым? Он не явился — сказался больным, — что же, в такте ему не откажешь. Два красных кафтана в свите — это было бы уже слишком.
Екатерина невольно усмехнулась.
Отчего же нет радости? А, может, просто годы, может, прав Нарышкин, сказавший намедни с дурацкой своей откровенностью:
— Пережили мы свое время, матушка.
Что же, может, и пережили. Но какое это было время!
Нахлынули воспоминания.
Вот склоняется над ней красное от возбуждения лицо Алехана Орлова. Весь в пыли, дышит, как загнанная лошадь, шрам, обычно припудренный, совсем лиловый. Что, бишь, сказал? «Матушка, вставай, все готово для воцарения». Дурачок, так и остался в уверенности, что она спала. Какое там, последние две ночи в Петергофе провела без сна.
Белые ночи, les nuits blanches[186]. Каждую минуту ждала гонцов от Григория. А затем скачка навстречу восходящему солнцу, эта драка Алехана с крестьянином, который не хотел уступать лошадь, а у Средней рогатки — Григорий с Федором Барятинским верхами. Какой день! Как прекрасно все было — любовь и смерть шли рядом. Ради этого следовало жить.
В этот день — 28 июня 1762 года, — стоя перед ликующей толпой у Казанского собора, она впервые ощутила пьянящее чувство власти. Власти самодержавной, неограниченной, дающей право решать судьбы народов. Бремя и ответственность непомерную этой власти несла смиренно и с достоинством, как Фива, сущая служительница. Сподоби, Господь, хоть часть этих душевных сил передать внуку Александру — ему царствовать. А Константин сядет на престол византийских императоров в Царьграде. Ради этого стоило жить, а кровь покойного супруга или Иоанна Антоновича — что же, где престол, там всегда кровь. Алый цвет — цвет царей. Недаром в Византии — оплоте православия, императоров называли багрянородными.
Да и не только кровь и крест власти были в ее жизни. Было и другое. Гришенька, единственная ее любовь… Все, чем восхищалась она в русском народе, соединилась в Григории. Замуж готова была за него пойти, да нет, не судьба. Не усидеть бы им вдвоем на российском престоле. Дорогой ценой было получено право повелевать. Ради него угождала тем, кто толпился вокруг трона. Их зависти, их злобе и отдала Григория. Да и сам Григорий… Два дела его великие — восшествие и прекращение чумы. В Совете все скушен был, по-французски так и не выучился. Добр был до глупости, doux comme un mouton, il avait le coeur d’une poule[187]. С Никитой Паниным в шахматы играл. Душить его надо было, горло грызть, а я бы уж помогла. Да, видно не из того теста был Гриша, знать, не судьба.
Теперь что уж делать, шесть лет, как преставился. И надо же, неприятель его злейший, Никита Панин, вслед за ним, чуть не в одночасье, скончался. Насмешка фортуны. Знал бы Гриша, что дочь Петра Панина ныне замужем за сыном брата его, Владимира, немало бы удивился. А может, и нет. Алехан вон куда круче брата был, а и то благословил молодых, правда, с тех пор носу из своего Нескучного не кажет. Впрочем, с Алеханом история особая. Отказался-таки прошлой осенью возглавить новую экспедицию в Архипелаг. Не забыть поздравить его с Чесмой и восшествием…
Да, Орловы составили славу ее царствования. Смелы до отчаяния, дружны, тороваты, воевали миром. В них чувствовала силу. После них — только Потемкин, но это материя особая.
Екатерина глянула в зеркало. В призрачном полумраке ночи она увидела себя такой, какой хотела видеть и какой, наверное, была двадцать-тридцать лет назад.
О чем думала она в эту минуту?
В огромном личном архиве Екатерины сохранился поразительный документ — эпитафия, написанная себе самой. Ее шутливый тон не может нас обмануть.
Это — автопортрет, завещанный будущим историкам ее царствования.
Вот он:
«Здесь покоится Екатерина Вторая, рожденная в Штеттине 21 апреля (2 мая) 1729 года. Она приехала в Россию в 1744 году, чтобы выйти замуж за Петра III. В возрасте 14 лет она составила тройной план: понравиться своему супругу, Елизавете и народу. Восемнадцать лет скуки и одиночества заставили ее прочитать много кнг. Взойдя на русский трон, она поставила целью обеспечить счастье, свободу и благосостояние своих подданных. Она легко прощала и не ненавидела никого. Щедрая, жизнерадостная, веселая, с душой республиканки и добрым сердцем, она имела много друзей. Труд ей был не в тягость, общество и искусство ей нравились».
Так шутливо, будто ненароком, но методично слагалась легенда о великом царствовании.
Современники и потомки, однако, по-разному оценивали политику и поступки Екатерины.
В одном, впрочем, сходились все: Золушка из штеттинского захолустья, принцесса Фике, ставшая всемогущей государыней, страстно любила Россию и желала видеть ее по-европейски обустроенной и процветающей державой.
И ей удалось немало сделать для этого. Став, благодаря редкой целеустремленности и трудолюбию, одной из образованнейших женщин своего времени, она систематизировала и осовременила российское законодательство, усовершенствовала систему государственного управления и финансов, осуществила важные административные и судебные реформы, заложив основы правового гражданского общества в России. Образование губерний, генеральное межевание, созыв Комиссии для составления нового Уложения — каждого из этих дел было бы достаточно, чтобы прославить любое царствование.
Но в анналах «золотого века» Екатерины значатся еще Чесма и Кагул, Очаков, Рымник и Измаил. Ее армии войн не проигрывали, а дипломаты на равных беседовали с могущественнейшими государями Европы.
«Без нас ни одна пушка в Европе не могла выстрелить», — с грустной гордостью вспоминал впоследствии Безбородко — и он был недалек от истины.
Но коли все обстояло так блестяще, то к чему вся эта суета с эпитафиями собственноручного изготовления, неоконченными мемуарами и многотомной перепиской с Мельхиором Гриммом, мадам Жоффрен и даже некоей госпожой Бьельке из Гамбурга, подругой ее матери, бывшей в течение трех десятилетий адресатом поразительных по своей откровенности писем Екатерины?
Ответ напрашивался сам собой. Самодержица всероссийская Екатерина Алексеевна, урожденная Августа София-Фредерика, принцесса Ангальт-Цербстская, дочь губернатора Штеттина, жена Карла-Петера-Ульриха, сына дочери Петра Великого Анны и герцога Голштейн-Готторпского, впоследствии императора Петра III, была обречена на то, чтобы всю жизнь доказывать свое право царствовать. И она делала это с упорством Сизифа: награждала, лицедействовала, казнила, заискивала, унижалась, вела переписку с Вольтером и Дидро, сталкивала своих противников, даровала вольность дворянству, прикрепила украинских крестьян к земле, писала плохие пьесы, выиграла войну с Турцией, поделила Польшу.
Всего и не упомнишь…
Взгляд императрицы вновь упал на ящик бюро.
Историки забывчивы, но она — она ни одной мелочи не упустит, все сочтет.
Екатерина достала из ящичка листок бумаги, на котором рукой Безбородки было написано:
Губерний создано — 29.
Построено городов — 144.
Договоров и конвенций заключено — 30.
Одержано побед — 78.
Законов и уложений создано — 88.
Указов, направленных на облегчение жизни народа — 123.
Прочитав список, императрица подвела под ним жирную черту, дописала последнюю строку:
Всего — 492.
И поставила точку, да так, что чернильные брызги полетели в разные стороны.
Разве все это не дает ей право называться великой? А дух просвещения, который насаждала неустанно, а каторжная, от зари до позднего вечера, работа? Разве способен на это Павел, с его задатками голштинского тирана и русского Гамлета?
Лицо Екатерины окаменело, как бывало всегда, когда она вспоминала о сыне. Как искупить этот грех? Чем оправдать то, что сделала со своим сыном?
Благом России. Ей суждено, суждено, суждено! — было царствовать. И она стала великой государыней. Белоруссия, Крым, выход к Черному морю — вот ее счет потомкам. Пример Петра в том порукой.
Жаль только, что удалось сделать далеко не все из того, о чем мечталось в юности над томиками Локка и Монтескье. Грезы о свободном землепашце, хозяине на своей земле, трудолюбивом и законопослушном, верной опоре царю и отечеству, так и остались неосуществленными. Уж, казалось бы, сколько сил отдано наведению порядка в губернских учреждениях. Ан нет — чиновники, облачившись в мундиры, стали чванливей, но не деловитей, губернаторы чувствовали себя удельными князьками, путая, как повелось веками, казенный карман с собственным, мало радея об общественном благе.
Только в дворянстве, получившем подтверждение своих привилегий, чувствовала опору. Орловы помогли сесть на российский престол, братья Панины, отставив в сторону прежние обиды и разногласия, были ей опорой в страшные месяцы пугачевского бунта.
Но рабовладельцы — плохие помощники тому, кто решился это рабство уничтожить.
Екатерина так и не решилась.
Загадочная, заповедная страна Россия. Только на первый, поверхностный взгляд кажется, что держится она беспорядком. На самом деле камни в здании ее государственности пригнаны плотно, без щелей и зазорен. Поди, сунься с реформами да перестройками, тронешь камень одни — все здание перекос даст, вынешь второй — погребет дерзкого под своими обломками.
То, что строилось веками, в одночасье не перестроишь. Умный труд и долгое время надобны, чтобы что-либо изменить в России.
Не сразу поняла эту, казалось бы, очевидную истину. Но, поняв, со всей энергией и энтузиазмом принялась за то, чем кончил Петр: стараться о просвещении дворянства, создании служилого сословия, или, как она говорила, новой породы людей. Десятками и сотнями возникали училища, военные корпуса, воспитательные дома, в стенах которых подрастали и приобретали знания те, кому было суждено продолжить великие дела, начатые в ее царствование. Они и вынесут окончательный вердикт и ее времени, и ее царствованию.
А сегодня — сегодня не судить ее должно, а жалеть. Вот и настало время, когда самодержица окончательно победила в ней женщину. И поплакаться некому — светлейший за тысячу верст, в Молдавии.
Екатерина положила ставший бурым от румян платок на туалетный столик, зажгла свечи в канделябре И мельком взглянув в зеркало, вдруг вскрикнула и в ужасе отпрянула от трюмо. Неровный свет свечи высветил с безжалостной откровенностью массивный подбородок, запавшие глазницы, скулы со следами румян, седую паклю волос. Муаровый чепец топорщился, как крылья совы. Длинная тень императрицы легла на пол опочивальни и, сломавшись, расползлась по противоположной стене.
Наклонившись вперед, жадно всматривалась она в зеркало. Обожгло воспоминание, ранившее в самую душу. Картина, которую показывал Строганов еще при Грише. Как бишь, он называл ее? «Старая кокетка» художника итальянской школы. Екатерина вскрикнула, заслонилась рукой и, приволакивая ноги, еле добралась до кровати, рухнула на правый бок. Опять эта боль, опять те же колики, что и на галерее под Черниговом. Вспомнила совет лейб-медика Роджерсона: лечь, подтянув ноги под живот, как сорока. Устроилась. Боль постепенно затихла, но сон не пришел.
Белые ночи — бессонные ночи.
3
Вечером, 1 июля, придворный священник Дубинский обвенчал Мамонова с княжной Щербатовой.
Жених, стремившийся избежать публики, был приведен в церковь верхом, через хоры.
Невесту, как было принято, когда выдавали замуж фрейлин, обряжала к венцу сама императрица. Присутствовавшие на церемонии рассказывали, что когда Екатерина прикалывала фату к пышным волосам Щербатовой, та вскрикнула от боли — золотая булавка впилась в кожу.
В церкви были только самые близкие.
Венцы над головами жениха и невесты держали обер-камергер Евграф Александрович Чертков и камер-юнкер Щербатов, младший брат княжны.
На свадьбу молодым было подарено сто тысяч рублей и две тысячи двести пятьдесят душ, но с условием, что они навсегда оставят двор и поселятся в Москве, где для них был приобретен и меблирован прекрасный дом.
На свадебном ужине, накрытом в комнатах Мамонова, царила неловкая тишина. Брюс, Строганов, Барятинский не проронили ни слова. Приглашенных было двенадцать человек.
Екатерина в церковь не ходила и весь вечер оставалась в своих покоях.
На следующий день в полночь молодые навсегда покинули Царское Село.
4
Сразу же после свадьбы началось следствие.
— Я знаю, кто предатели. Рибопьер и жена его Мамонова сосватали. Они бессовестно надо мной подшутили, — жаловалась Екатерина Захару Зотову.
— Не думаю, что ради удовольствия выдать замуж родственницу жены он захотел бы пожертвовать расположением Вашего величества, тем более что он приобрел его единственно через дружбу свою с Мамоновым, — отвечал Зотов, прекрасно знавший, когда следовало возразить своей повелительнице.
— Ты прав, Захар, — признала императрица после короткого раздумья. — Горе меня ослепило.
Тем не менее «бога молчания», как называла Екатерина Рибопьера за его крайнюю сдержанность, привезли из финляндской армии, он на коленях клялся, что невиновен.
Дознались, что переписка Мамонова с княжной шла с осени, свидания проходили в рибопьеровском доме. Руководила всем Марья Васильевна Шкурина, дочь верного человека, камер-лакея, ставшего камергером, в семье которого рос и воспитывался Бобринский, сын Екатерины и Григория Орлова.
В июле Шкурина съехала в Москву, где нашла приют в доме родителей Мамонова.
Помня заслуги отца, Екатерина ее не преследовала.
Постскриптум
Брак Мамонова был несчастлив.
В семейной жизни он оказался мелким тираном, не стеснявшимся попрекать жену в загубленной карьере.
Не прошло и нескольких месяцев после свадьбы, как он попросил разрешения вернуться на придворную службу, изъявив готовность оставить ради этого жену. Екатерина прямо не отказала, но советовала хотя бы год пожить в Москве.
Путь в Петербург был ему заказан навсегда.
Только Павел, став императором, вспомнит о Мамонове и возведет его в графское достоинство. О возвращении на службу, однако, не могло быть и речи: к этому времени Александр Матвеевич окончательно опустился и целые дни проводил, запершись в комнате перед портретом Екатерины.
Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов отбыл в мир иной в 1803 году, в возрасте сорока четырех лет.
Супруга его Дарья Федоровна скончалась родами двумя годами раньше.
Рибопьер вскоре погиб под Измаилом. Екатерина воспитала его сына, ставшего известным дипломатом.
Храповицкий в 1791 году, в разгар следствия о московских мартинистах, был без лишнего шума уволен от должности и вернулся в Москву сенатором.
Захар Зотов оставался с Екатериной до самого конца. Екатерина умерла у него на руках. Павел, придя к власти, не простил ему близости к матери. Зотов закончил свою жизнь в доме для умалишенных.
Платон Зубов стал последним фаворитом Екатерины. Он пользовался невиданной властью, вывел в люди четырех братьев и многочисленных родственников и вообще вел себя кое-как.
Современники считали, что он дурно влияет на императрицу. Действительно, последние годы великого царствования были отмечены печатью вырождения.
В 1792 году (Новиков — в Шлиссельбурге, Радищев — в Илимской ссылке) Николай Иванович Салтыков, успевший к тому времени разочароваться в своей креатуре, спросил императрицу, не слишком ли молод ее избранник.
Ответ Екатерины вошел в историю:
— Что ж из того, что молод? Я оказываю услугу отечеству, воспитывая новую породу людей.
И — что самое невероятное! — великая женщина и на этот раз была недалека от истины. Среди потомков ее фаворитов оказалось немало тех, кем по праву гордилась Россия: государственные деятели, министры, генералы, прославившиеся на полях сражений, писатели, знаменитый композитор.
Союз Львов и Орлов (август — сентябрь 1796 г.)
Действо первое
J’ai éspéré satisfaire la curiosité de lecteur et non sa malignité.
Louis-Philippe de Segur. «Souvenirs»[188]1
Летом 1796 года двор вернулся в столицу из Царского Села раньше обычного.
Уже в начале августа Зимний дворец, в котором заканчивались ремонтные работы, ожил. Близ поварни разгружались обозы с волжской стерлядью и балыком, икрой и астраханскими арбузами. С барж, приходивших с Ильмень-озера, спускались огромные корзины, полные морошки и клюквы, с Валаама привозили запечатанные воском банки с маринованными опятами и солеными рыжиками — царским грибом. Из винных погребов доставались пыльные пузатые бутыли бургундского, изящные тонкошеие карафы с золотым испанским хересом, штофы черного, как смоль, портвейна из далекого Лиссабона, города моряков. Мадера, токай, шампанское рядами выстраивались в буфетных. Томились на льду запотевшие серебряные лохани с устерсами из Марселя и оливками из Салоник, дозревал в запечатанных пузатых бочонках игристый английский эль, привезен был из Ливорно заморский фрукт — ананас, похожий на маковку Василия Блаженного, осененную экзотической туземной растительностью.
Помимо подготовки сюрпризов гастрономических и питейных заметны были и другие признаки, указывавшие на то, что северная столица жила ожиданием события чрезвычайного. К подъезду «под фонариком», где располагалась канцелярия обер-церемониймейстера Валуева, одна за другой подкатывали кареты иностранных дипломатов. Выходившие из них секретари посольств исчезали за дверями, имея на лицах выражение государственной озабоченности. Мимо их цепких взглядов не могло, разумеется, пройти незамеченным то обстоятельство, что кавалергардам, несшим охрану личных покоев императрицы, были выданы новые черные перья на серебряные шлемы. Примечали также, что по ночам Невскую першпективу, Луговую-Миллионную и другие улицы, прилегающие к Зимнему дворцу, мели с сугубой тщательностью. А по ночам из-за контрфорсов Петропавловской крепости в бархатное августовское небо, дробясь в темных водах Невы, одинокими звездами уходили шутихи — это дрезденский мастер Иоганн Вайсмюллер под руководством артиллерийского генерала Петра Мелиссино налаживал jeux d’artifice — огненные игрища.
Впрочем, не будем долее испытывать терпение читателя. На исходе лета 1796 года в Петербурге действительно готовились к событию государственной важности — приезду шведского наследного принца Густава-Адольфа, будущего короля Швеции. В те далекие времена коронованные особы редко покидали пределы своих государств, и потому подготовка визита была окружена завесой таинственности. Впрочем, на этот раз конфиденциальности требовали не только дипломатический этикет, но и, как мы вскоре увидим, соображения высокой политики.
Это, разумеется, лишь подогревало интерес общества к знаменательному событию. Слухи о небывалых торжествах, предстоявших по случаю приезда Густава, циркулировали повсеместно — от великосветских салонов на Каменном острове до портовых кабаков за Адмиралтейством.
У каждого, как водится, был свой интерес.
— А что, Антон, — говорил, сидя в питейном заведении у Чернышева моста, будочник Семен Патрикеев своему приятелю кучеру Антипу Гвоздилову, — по паре ковшиков хлебного вина за здоровье прынца из Стекольного града[189] на нас придется?
— Окстись, Семен, — возражал на это гулким извозчичьим басом Гвоздилов, укоризненно качая кудлатой головой. — Мне, чтобы в кураж войти, не менее ведра надобно.
При этих словах Антип, хорошо знакомый с могучей натурой друга, уважительно крякал.
В салонах больше интересовались целью приезда принца.
Граф Валентин Эстергази, представлявший при екатерининском дворе французских эмигрантов, нашедших в России спасение от якобинской диктатуры, горячился, утверждая, что Густав-Адольф намерен был по примеру своего отца объявить о присоединении Швеции к коалиции европейских держав против республиканской Франции.
Английский посол Чарльз Витворт, сообщивший о предположениях Эстергази в Лондон, снабдил их, однако, комментарием столь же скептическим, сколь и лаконичным:
— Wishful thinking[190].
Зная практический ум Екатерины, Витворт полагал, что со столь тщательно готовившимся визитом в Петербурге связывали ожидания совсем иного рода.
Как вскоре выяснилось, английский дипломат был недалек от истины.
2
Впрочем, довольно лукавить. Проницательный читатель, конечно, заподозрил, что стилизация разговора между будочником Семеном Патрикеевым и кучером Антипом Гвоздиловым «под Соловьева», не говоря уж о чересчур многозначительной ремарке британского посла, — плод разыгравшейся фантазии автора.
Вынуждены подтвердить справедливость подобного подозрения, с той лишь оговоркой, что, хотя нам достоверно не известно, как реагировал Чарльз Витворт (фигура, кстати говоря, весьма заметная в петербургском обществе того времени) на слухи, распространявшиеся Эстергази, он вполне мог высказаться подобным образом. В Лондоне внимательно следили за связями между Петербургом и Стокгольмом и, вне всяких сомнений, прекрасно знали, что, по крайней мере, в течение последних трех лет русские и шведские дипломаты обсуждали возможность заключения династического брака между наследником шведского престола будущим королем Густавом-Адольфом IV и внучкой Екатерины великой княжной Александрой Павловной. Британский посол, если не знал наверное, то догадывался, что Густав прибывал в Петербург на смотрины.
История неудавшегося сватовства шведского наследного принца к внучке Екатерины описана многократно и красочно, хотя, к сожалению, в манере, которую мы попытались воспроизвести в начале нашего рассказа. Многочисленные мемуаристы, историки, а вслед за ними и романисты не могли, конечно, пройти мимо временами забавных, временами трагических событий, развернувшихся после приезда Густава в Северную столицу.
Между тем не все в этом ярком и, казалось бы, досконально исследованном эпизоде великого царствования так просто. Начнем с того, что в документах, рассказывающих о пребывании шведских гостей в Петербурге, — явный некомплект. Не вполне ясна, в частности, предыстория появления принца в Петербурге, хотя дипломатическая переписка о переговорах, ведшихся на этот счет, частично опубликована[191]. Еще хуже обстоит дело с пребыванием будущего короля в российской столице, столь красочно, хотя и противоречиво описанным мемуаристами. Даже в камер-фурьерских журналах — официальной летописи жизни и царствования российских монархов, сведения за последние два месяца жизни Екатерины II отсутствуют. Это, насколько нам известно, единственная столь значительная лакуна в трехсотлетней истории дома Романовых.
Между тем, документы сохранились. К примеру, в бумагах Церемониального департамента Коллегии иностранных дел в Архиве внешней политики Российской империи ожидали своего часа «Журналы и записки о приезде ко двору короля Швецкого под именем графа Гага и дяди его герцога Зюдермандляндского под именем графа Ваза, 1796 года»[192]. Этот документ, никогда не бывший предметом внимания исследователей, является, на наш взгляд, недостающей частью записей в камер-фурьерских журналах за август — сентябрь 1796 года.
В фонде «Трактаты» того же мидовского «Архива на Серпуховке» сохранились подлинные тексты подписанного, но не ратифицированного в сентябре 1796 года русско-шведского союзного договора и проект обсуждавшегося во время пребывания короля в Петербурге брачного договора с секретными приложениями[193]. С помощью прекрасных специалистов своего дела, сотрудниц АВПРИ О. И. Святецкой и С. Л. Туриловой удалось обнаружить протокольную запись состоявшейся 18 сентября 1796 года последней конференции полномочных представителей России и Швеции, обсуждавших проекты союзного договора и брачного трактата[194], а также сделанные рукой Марии Федоровны копии писем и записок, которыми она обменивалась с Екатериной и Н. И. Салтыковым в августе — сентябре 1796 года[195].
И, наконец, в личном фонде А. Я. Будберга, посла России в Швеции, — хранящемся в Государственном архиве Российской Федерации, удалось найти целый ряд ранее неизвестных интереснейших документов, включая составленные Будбергом «две исторические записки», в которых детально изложен ход дипломатических переговоров о русско-шведском династическом браке[196].
Изучение этих документов позволяет во многом по-новому и, как мы надеемся, более точно реконструировать романтическую историю, произошедшую в Петербурге осенью 1796 года. На наших глазах как бы приподнимается завеса над удивительным явлением — брачной дипломатией Екатерины, нацеленной на упрочение не только династических связей Романовых с царствующими домами Европы, но и достижение тех же политических целей, ради которых ее армии сражались в Финляндии, Польше и Молдавии.
Династическими браками как средством политики не пренебрегал, как известно, и Петр Великий, покончивший, по выражению одного из крупнейших знатоков XVIII века Е. В. Анисимова, с «кровной изоляцией» Романовых. Сына своего Петра женил в 1711 году на Софье-Шарлотте Брауншвейг-Вольфенбюттельской, сестре австрийского эрцгерцога Карла, ставшего в том же году германским императором Карлом VI. Женихов для своих дочерей и племянниц Петр искал в северогерманских княжествах, как бы продолжая политику овладения побережьем Балтики, начатую Северной войной. Анна Иоанновна и Екатерина Иоанновна были выданы им за герцогов Курляндского и Мекленбургского, чьи владения занимали значительную часть балтийского побережья. Та же логика прослеживается в браке любимой дочери Петра Анны с герцогом Голштейн-Готторпским в 1724 году: Киль, столица герцогства, был прекрасным портом, позволявшим контролировать не только выход из Балтики, но и часть Северного моря. Не случайно и то, что женихом второй дочери Петра Елизаветы стал князь-епископ Любекский Карл-Август, скончавшийся до свадьбы, в 1727 году.
Для понимания скрытой подоплеки дальнейших событий важно иметь в виду, что со времен Петра брачный союз с герцогами Голштейн-Готторпскими означал косвенное вовлечение России в сложные династические комбинации государств Северной Европы. Голштейн-Готторпы были младшей ветвью Ольденбургского дома, старшая линия которого более четырехсот лет правила Данией и Норвегией. На протяжении столетий они находились в состоянии то разгоравшейся, то затухавшей вражды с Данией из-за своего наследственного владения — Шлезвиг-Голштейна, одна часть которого (Шлезвиг) была связана унией с Данией, а другая (Голштейн) — являлась ленным владением Германской империи.
Герцог Голштинский Карл-Фридрих, супруг Анны Петровны, был племянником шведского короля Карла XII по матери и, таким образом, являлся потенциальным претендентом на шведский трон. В браке с дочерью Петра он видел дополнительные гарантии своих династических амбиций, тем более что, по мнению ряда историков, в последние месяцы жизни Петра к брачному контракту Анны Петровны с голштинским герцогом была добавлена секретная статья, предусматривавшая возможность вступления на российский престол ее будущего сына.
Надо думать, что именно в этом, а не только в сентиментальности Елизаветы Петровны, питавшей нежные чувства к голштинской родне своей сестры, крылась причина появления в Петербурге в 1742 году сына герцога Карла Фридриха и Анны Петровны Карла Петра Ульриха, ставшего русским великим князем, будущим императором Петром III. Внук Петра Великого и Карла XII имел одинаковые права и на российский, и на шведский троны. Дядя его, Христиан Август, в 1743 году стал королем Швеции при поддержке России, опекавшей Голштейн-Готторпскую династию.
Екатерина, ставшая в 1744 году супругой наследника русского престола, происходила по отцу из младшей, Ангальт-Цербстской ветви древнего Асканийского дома, мужская линия которого пресеклась в 1793 году со смертью ее младшего брата Фридриха-Августа. Однако по матери она была голштинкой, принадлежавшей к младшей линии Голштейн-Готторпской ветви Ольденбургского дома, находившегося в политическом и династическом союзе со шведским королевским домом. Густав III, взошедший на шведский престол в 1771 году, был сыном дяди Екатерины короля Швеции Адольфа-Фридриха и, стало быть, приходился ей кузеном.
Став императрицей, Екатерина провозгласила национальные, государственные интересы России высшим приоритетом своей внешней политики. На тесные династические связи с королевскими домами Пруссии, Дании и Швеции, родственные связи с владетельными князьями ряда германских государств она смотрела как на естественное и удобное средство придания дополнительной эффективности своей дипломатии. В этом, похоже, кроется одна из причин горячей поддержки ею уже в 1764 году Северной системы, разработанной Паниным, бывшим послом в Стокгольме, и Корфом, послом в Копенгагене.
Однако стремление, немного женское, как нам кажется, решать проблемы Северной Европы в семейном кругу нередко вступало в более или менее острые коллизии с реальными законами, определяющими отношения между государствами. В частности, разменяв в 1773 году являвшийся предметом многовековых споров Шлезвиг-Голштейн на Ольденбург и Дальменгорст, которые были переданы в наследственное владение князю-епископу Любекскому Фридриху-Августу, представителю младшей линии Голштейн-Готторпов, и, следовательно, дяде шведского короля Густава III, Екатерина существенно улучшила отношения с Данией, ставшей на долгие годы надежной союзницей России. Густав III, однако, увидел в этом ущемление прав средней линии Голштейн-Готторпов, к которой принадлежал сам, и обратился с жалобой на действия Екатерины к германскому императору Иосифу II. Франция, использовавшая любой предлог, чтобы ослабить позиции России в Стокгольме, поддержала шведского короля. Положение осложняло и то, что в обмене Шлезвиг-Голштейна, наследственного владения Павла Петровича, многие в Европе усмотрели намерение еще больше ущемить права великого князя, непростые отношения которого с матерью и без того являлись предметом пересудов в дипломатических гостиных европейских столиц.
В этот непростой для Екатерины момент у нее возникла идея, с которой она не расставалась до конца своего царствования. 29 сентября 1773 года, как мы помним, в Петербурге состоялось бракосочетание Павла Петровича с Гессен-Дармштадтской принцессой Вильгельминой, в православии Натальей Алексеевной. Брак этот, как, впрочем, и замужество самой Екатерины, был устроен Фридрихом II, племянник которого Фридрих-Вильгельм, наследник прусского престола, женился в 1769 году на старшей сестре принцессы Вильгельмины Фредерике, названной, кстати, в честь прусского короля. Однако еще в июле, за два с половиной месяца до свадьбы, у Екатерины появился план выдать замуж старшую дочь маркграфа Гессен-Дармштадтского Каролину за датского короля Кристиана VII, только что разведшегося со своей женой Каролиной-Матильдой, а младшую из принцесс Гессен-Дармштадтских Луизу пристроить за брата шведского короля герцога Карла Зюдермандляндского. Таким образом династический союз между Россией и Пруссией, скрепленный женитьбой Павла Петровича и Фридриха-Вильгельма на родных сестрах, естественно перерос бы в семейный пакт государств Северной Европы — России, Пруссии, Дании и Швеции.
Идея «семейного пакта» Северных держав была сообщена Екатериной прусским послом в Петербурге графом Сольмсом. «De cette façon tout le Nord sera apparenté, ce qui pouvait même avec le tems avoir des influences sur les affaires politiques»[197], — так передавал он слова российской императрицы в постскриптуме к своей депеше Фридриху II № 910 от 2 (13) июля 1773 года. По просьбе Екатерины Фридрих II изложил этот план шведскому королю. Тот, однако, с безукоризненной и оттого еще более обидной для Екатерины вежливостью отвечал, что его брат уже помолвлен с принцессой Эйтинской, причем посредником в этой помолвке выступил не кто иной, как князь-епископ Любекский Фридрих-Август, которому только что по воле российской императрицы достались графства Ольденбург и Дальменгорст, обмененные на Шлезвиг-Голштейн. Екатерине не оставалось ничего другого, как поздравить Густава III с помолвкой его брата[198].
Как известно, первый брак Павла Петровича оказался неудачным. Весной 1776 года после смерти Натальи Алексеевны от родов Екатерина вновь прибегла к матримониальным услугам прусского короля и его брата принца Генриха, прибывшего в Петербург по странному совпадению за две недели до кончины Натальи Алексеевны. Для того чтобы устроить второй брак Павла Петровича, на этот раз с принцессой Вюртембергской Софией-Доротеей, нареченной после крещения Марией Федоровной, Фридрих II не останавливался даже перед тем, чтобы расстроить ее помолвку с братом покойной Натальи Алексеевны принцем Людвигом Гессен-Дармштадтским. Мария Федоровна, вся родня которой была тесно связана с Пруссией, до конца жизни сохранила чувство признательности к Фридриху II, всячески поддерживая и подогревая пруссофильские настроения своего мужа.
И тем не менее, семейные связи Романовых с Гессен-Дармштадтским и Вюртембергским домами (с 1805 года Вюртембергская династия стала королевской) оказались весьма устойчивыми. До октября 1917 года еще две Гессен-Дармштадтские принцессы стали российскими императрицами: Мария Александровна — жена Александра II и Александра Федоровна — супруга последнего российского императора Николая II. Заметную роль в расширении династических связей российской императорской фамилии сыграли и герцоги Ольденбургские (29 декабря 1774 года указом Иосифа II графства Ольденбург и Дальменгорст были превращены в герцогства). В 1781 году Екатерина устроила свадьбу своего двоюродного брата Петера-Фридриха-Людвига Голштейн-Готторпского, ставшего вскоре герцогом Ольденбургским, с тринадцатилетней сестрой Марии Федоровны Фредерикой. Их сыну герцогу Константину будет суждено основать так называемый «русский Ольденбург».
И последнее, возможно, самое важное. Упрочение и расширение династических связей российской императорской семьи в Европе никогда не являлось для Екатерины самоцелью. В брачной дипломатии, которой она так охотно занималась, императрица видела лишь средство для достижения политических целей. Когда в начале 80-х годов она сочла союз с Австрией более выгодным для государственных интересов России, чем с Пруссией союз, она без всяких колебаний поменяла и направленность своей брачной дипломатии. В январе 1782 года, несмотря на сильнейшее противодействие со стороны Фридриха II, она устроила помолвку эрцгерцога Франца, сына Леопольда Тосканского и племянника австрийского императора Иосифа II, и младшей сестры Марии Федоровны принцессы Елизаветы Вюртембергской. Эта брачная сделка скрепила русско-австрийский союз, просуществовавший до смерти Иосифа II в 1790 году.
Впрочем, в 90-е годы, когда императрице пришлось устраивать браки многочисленных внуков и внучек, Екатерина, как и в молодости, была далека от понимания, что браки, заключенные по политическому расчету, редко бывают счастливы.
3
В конце октября 1792 года в Петербург из Баден-Бадена привезли дочерей тамошнего маркграфа принцесс Луизу и Фредерику. Луизе, предназначавшейся в невесты великому князю Александру Павловичу, весной этого года исполнилось тринадцать лет. Фредерике было на год меньше. Александру, старшему из внуков Екатерины, едва минуло пятнадцать.
В Стрельне баденских принцесс, прибывших в сопровождении матери, встретила вдова знаменитого Андрея Петровича Шувалова — друга Вольтера, камергер Федор Стрекалов и Александр Салтыков, сын вице-президента Военной коллегии. Гостей разместили в Шепелевском дворце, стоявшем на месте здания нового Эрмитажа.
Разумеется, принцесс подробно проинструктировали о том, как следовало вести себя при русском дворе. Однако живой и непосредственный характер избранницы Екатерины дал знать о себе уже во время ее первой встречи с императрицей. Не обращая внимания на далеко отставших спутников, Луиза стремительно взбежала по ярко освещенной парадной лестнице Зимнего дворца. Лишь семнадцатилетний Александр Салтыков успевал за ее легким бегом по анфиладе великолепно убранных комнат. Луиза и сама не заметила, как оказалась в опочивальне, стены которой были обиты вышитой золотом дамасской тканью. Перед ней стояла женщина и двое мужчин. Поняв, что это императрица, Луиза, из головы которой мгновенно выветрились все наставления и советы, живо подбежала к ней и поцеловала руку.
Екатерина, поджидавшая гостей из Бадена вместе с Салтыковым-старшим и Платоном Зубовым, не только не рассердилась за нарушение церемониала, но и, поговорив с Луизой, нашла, что принцесса была прекрасно воспитана. Девочка любила поболтать, но суждения ее были основательны.
Через день Луизу представили великокняжеской чете. Она впервые надела платье русского фасона с фижмами, ее волосы были причесаны и напудрены, как было положено при дворе. Естественная грация и обаяние баденской принцессы пришлись по душе Павлу, хотя ни он, ни Мария Федоровна не одобряли затеи Екатерины с женитьбой сына. Они считали, что Александр еще ребенок.
Великий князь послал за сыновьями и дочерьми. Вновь забыв о приличиях, Луиза впилась взглядом в Александра. Он ей очень понравился, хотя и не показался таким красивым, как ей описывали. Александр же, напротив, даже не подошел к принцессе. Весь вечер он дичился и старался держаться от нее подальше.
После взаимных представлений Екатерина начала свою обычную партию в бостон. Детей посадили за поставленный по соседству круглый стол. Присматривала за ними камер-дама Шувалова. Девочки быстро нашли общий язык, Александр же со скучающим видом глядел в сторону.
Лишь недель через шесть после приезда баденских принцесс между Александром и Луизой произошло объяснение. В записочке, посланной им Луизе, говорилось, что поскольку родители велели сказать, что он любит ее, то может ли он надеяться, что она будет счастлива, выйдя за него замуж. В ответ принцесса выразила покорность воле родителей, пославших ее в Петербург. С этого момента Александр и Луиза считались помолвленными.
Свадьбу Александра и Елизаветы Алексеевны — так была наречена принцесса при принятии православия, — отпраздновали 19 сентября 1793 года. Венчание проходило в церкви Зимнего дворца с необыкновенной пышностью. Короны над головами новобрачных держали граф Шувалов и князь Безбородко.
Молодые были очень красивы. Стройный Александр, затянутый в парадный кавалергардский мундир, который ему необыкновенно шел, благожелательно улыбался. Елизавета, в белоснежном платье с розами в белокурых волосах, была ему под стать.
Восторг был всеобщим. Когда новобрачные под звуки специально сочиненного Державиным для этого торжественного случая марша «Александр, Елизавета!» спускались по парадной лестнице, направляясь на молебен в Казанский собор, приветственные крики огромной толпы, собравшейся на их пути, заглушали гром оркестра.
После Александра настал черед Константина. Летом 1795 года на смотрины в Петербург были вызваны принцессы Саксен-Кобургские: София-Антуанетта, которая впоследствии вышла замуж за Александра Вюртембергского и провела всю жизнь в России, и Юлия. Екатерине их представили перед спектаклем в Эрмитаже.
Герцогиня Кобургская, сопровождавшая дочерей, чувствовала себя бедной родственницей среди блестящей толпы екатерининских вельмож, столпившихся у дверей, чтобы первыми увидеть принцесс. Все знали, что ее дорожные расходы, включая придворные платья для принцесс, были оплачены Екатериной. Довольно скованно вели себя и ее дочери, однако молодость искупала видимые недостатки их воспитания. Раньше всех освоилась младшая из принцесс. На балу в Зимнем дворце она подошла к Елизавете, ласково потрепала ее за мочку уха, прошептав по-немецки: «Какая ты милашка». Елизавете понравилась эта непосредственность, они быстро подружились. Днями напролет девушки болтали, вспоминая жизнь в Германии, по которой очень скучали.
Между тем сватовство шло ни шатко, ни валко. Герцогиня явно раздражала Екатерину. Константин тоже колебался. Только через три недели он остановил свой выбор на младшей из принцесс — Юлии. Та, в свою очередь, не выглядела от этого счастливой, тем более, что Константин и не думал соблюдать правил приличия по отношению к принцессе.
Он приходил к свой суженой ежедневно ровно в 10 часов утра и во время завтрака заставлял ее играть на клавесине свои любимые военные марши. Музыканты придворного оркестра аккомпанировали ей на барабане и трубах. Этим его знаки внимания и ограничивались. Когда музыкантов под рукой не оказывалось, Константин демонстрировал привязанность к принцессе, больно щипая ее за руку, а иногда даже кусая ее.
Особенно он разошелся после свадьбы, которую сыграли в феврале 1795 года. Принцесса была наречена Анной Федоровной. Молодые поселились в Мраморном дворце, однако поведение новобрачного, почувствовавшего себя хозяином в доме, показало, что за ним нужен глаз да глаз. Как-то Екатерине донесли, что Константин развлекался тем, что стрелял в манеже дворца живыми крысами, которых заряжали в пушки. Вернувшись в начале осени из Царского Села, императрица поселила молодых поближе к себе — в апартаментах, прилегающих к Эрмитажу.
4
Екатерина раньше других поняла, что браки ее внуков были заключены слишком поспешно, для того чтобы стать счастливыми.
Лето 1796 года Александр и Константин с молодыми супругами провели в Александровском дворце Царского Села, специально построенном Екатериной для старшего внука. Накануне переезда императрица пригласила к себе Варвару Николаевну Головину, муж которой стал гофмейстером двора великого князя Александра Павловича, и попросила ее поселиться вместе с великокняжеской четой. Головина, боготворившая императрицу, с готовностью согласилась.
— Я рада, что именно вы так близки к моей старшей невестке, — сказала Екатерина. — Вы видите молодых каждый день, скажите мне, действительно ли они любят друг друга, довольны ли они друг другом?
Головина ответила лишь то, что могла ответить.
— Мне кажется, что великий князь и его молодая супруга вполне счастливы.
Положив свою руку поверх руки Головиной, Екатерина произнесла тоном, который обличал крайнее душевное волнение, фразу, навсегда оставшуюся в памяти графини:
— Я знаю, вы не тот человек, который разъединяет любящих. Я все вижу и знаю гораздо больше, чем вы можете себе представить. Моя признательность к вам будет длиться вечно.
Головина была тронута до глубины души. Ее и саму все более беспокоило то, как складывались отношения между Александром и Елизаветой. После замужества великая княгиня очень похорошела. Когда она появлялась на людях, ее ангельское лицо, грациозные движения, легкая походка привлекали внимание всех. Всех, кроме великого князя.
Внешне жизнь Александра и Елизаветы, особенно на первых порах, выглядела вполне безоблачной. В окружении Екатерины их называли не иначе, как Амуром и Психеей. И лишь немногие замечали, что отношения великокняжеской четы были, если можно так выразиться, чересчур платоническими. Ни по возрасту, ни по воспитанию Александр не был готов к браку. Кроме того, нравы екатерининского двора не могли не деформировать его представлений о существе и даже о внешних формах супружеских обязанностей.
Как-то вечером, после игры в мяч, великий князь подвел к Головиной раскрасневшуюся от бега по царскосельской лужайке Елизавету и сказал ей с детским самодовольством:
— Графиня, Зубов влюблен в мою жену.
При этих словах Елизавета страшно смутилась, но ее юный супруг даже не заметил, что поставил жену в ложное положение. Варвара Николаевна ответила, что если Зубов способен на такую низость, то он достоин презрения и не надо обращать на это внимания. Было, однако, слишком поздно. Эти слова запали в сердце великой княгини.
Зубов, между тем, вовсе не собирался скрывать своих чувств, что не осталось незамеченным толпившимися вокруг него шпионами, наушниками и прочей сволочью. Роль поверенной в чувствах Зубова взяла на себя графиня Шувалова. Ей помогали находившиеся в большом доверии у фаворита граф Федор Головкин и Оттон Магнус Штакельберг, престарелый дипломат, бывший послом в Варшаве и Стокгольме.
Однажды, встретив Головину на аллеях царскосельского сада, Штакельберг попытался и ее привлечь на свою сторону.
— Дорогая графиня, — сказал он со светской развязностью, — чем дольше я наблюдаю за нашей очаровательной Психеей, тем больше теряю голову. Однако и у нее есть, по крайней мере, один недостаток.
— Какой же? — подняла брови Головина.
— Ее сердце недостаточно чувствительно: вокруг нее столько несчастных. Скажите, почему она не хочет воздать должное самым нежным чувствам и глубочайшему уважению?
— Но с чьей стороны?
— Со стороны того, кого я обожаю.
— Вы с ума сошли, дорогой граф, я не желаю слушать ваши пошлости. Пойдите к мадам Шуваловой, она поймет вас лучше. Но знайте раз и навсегда, что слабости так же далеки от Психеи, как ваши слова недалеки от низости.
Между тем Зубов по вечерам продолжал шептаться с Шуваловой, бросая влюбленные взгляды в сторону великой княгини. Шувалова с упоением предавалась роли сводни. Для нее, с юности имевшей скверную репутацию, сейчас, на шестом десятке, это было как бы вторым рождением. Злой и наблюдательный Федор Растопчин, служивший при великом князе, говорил, что от Шуваловой веяло пороком.
Окна Зубова выходили на апартаменты, которые занимали в Царском Селе Александр и Елизавета. По вечерам он устраивал у себя под окнами концерты. Генрих Диц, музыкант, дававший уроки великому князю, играл на viole d’amour, ему аккомпанировали альт и виолончель. Серенады Дица невольно трогали сердце великой княгини, очень любившей музыку и прекрасно игравшей на арфе.
И вот во время очередной серенады Зубов уговорил Шувалову умолить Елизавету пройтись по лужайке возле ее окон в знак одобрения его чувств. Великая княгиня, которую пугала и приводила в отчаяние двусмысленная ситуация, в которую она попала, чуть было не согласилась. Лишь решительное вмешательство Головиной заставило ее остаться дома.
И уже на следующий день, итальянский гитарист Сарти, близкий к Зубову, имел наглость заметить Елизавете, что она не понимает la politique de la société[199]. Елизавета действительно не понимала того, что происходило вокруг нее. Ее душевные страдания усугубляло то, что она была воспитана очень добродетельной и обладала развитым чувством долга. Она всячески пыталась сблизиться с Александром. Тот относился к жене как к близкому другу, но и только. Утешение великая княгиня находила лишь в долгих разговорах с Головиной.
Варвара Николаевна храбро противостояла интригам Шуваловой и Зубова. Заметив как-то, что тот из своего окна подглядывает за тем, что происходит в комнатах великой княгини, она демонстративно завесила окно темной шторой. И, тем не менее, вряд ли одной Головиной хватило бы сил обуздать наглость Зубова. Трудно сказать, почему так долго — целых два года — Екатерина предпочитала не замечать безумств своего фаворита. И все же к весне 1796 года князь Платон вынужден был поумерить свой пыл. Полагали, что причиной этого стало состоявшееся между ним и императрицей объяснение.
Впрочем, семейная жизнь Елизаветы от этого лучше не стала. Зимой 1796 года в Петербурге появились братья Чарторыйские — Адам и Константин, сыновья одного из богатейших польских вельмож. В Петербурге они жили фактически в качестве заложников: в смуте, начавшейся в Польше после восстания Костюшко и последовавших второго и третьего разделов, России важно было обеспечить себе поддержку и повиновение со стороны могущественного клана Чарторыйских.
Старший из братьев — Адам — был серьезен и молчалив, но в темных глазах его таилась страсть. Младший, Константин, отличался живым поведением, любил пофранцузить.
Александр быстро сошелся с Чарторыйскими. Они практически не расставались. Константин принялся ухаживать за великой княгиней Анной, у которой не хватало ни ума, ни такта отказать ему в этом. Ее кокетство превращало ситуацию при молодом дворе в комедию ошибок, тем более, что старший из братьев — Адам — обращал слишком пристальное внимание на Елизавету. Александр, казалось, не замечал щекотливого положения, в котором оказалась его жена. Более того, временами складывалось впечатление, что он чуть ли не поощрял князя Адама в его увлечении.
Головина и ее муж пытались образумить Александра, но дело окончилось лишь тем, что их отношения с великокняжеской четой испортились. Великий князь вел себя, как испорченный ребенок. Своими тревогами и сомнениями Елизавета могла отныне поделиться только с Анной, но той явно не хватало не только твердых нравственных убеждений, но и просто здравого смысла, которые могли бы уберечь ее от опасностей, подстерегавших при дворе.
Екатерина, однако, не теряла надежды образумить молодежь. После того как верная камер-юнгфера Мария Саввишна Перекусихина, поведала императрице на ушко, что великий князь Александр самолично расшнуровывал корсет Елизаветы, чтобы показать князю Адаму ее прелести, братьям Чарторыйским запретили появляться при дворе. Александру было сделано внушение. Елизавета же утратила расположение императрицы.
В отношении младшего внука чаша терпения императрицы переполнилась, когда воспитательница великих княжон мадам Ливен, конфузясь, рассказала ей о том, как Константин, без всяких видимых причин, учинил жестокую и бессмысленную расправу с гусаром, несшим караульную службу во дворце. Екатерина была настолько поражена выходкой внука, что поручила Захару Зотову провести следствие. Тот в деталях повторил рассказанное мадам Ливен.
Екатерина так расстроилась, что заболела. Она написала Павлу Петровичу, попросив наказать сына, что тот и сделал с удовольствием и, по обыкновению, крайне жестоко. Затем императрица отдала приказ посадить Константина под арест. Но в того будто бес вселился. После понесенного наказания он стал вести себя еще более разнузданно.
Считали, что в эти дни с императрицей произошел первый из трех ударов, которые вскоре свели ее в могилу.
5
Первые неудачи не остановили, однако, матримониальных опытов императрицы.
У Екатерины было пять внучек. Старшей, Александре, в июле 1796 года исполнилось тринадцать, младшая, Анна, родилась в январе 1795 года. Самой красивой считалась вторая, Елена, отличавшаяся правильными чертами лица и стройностью фигуры. Однако среди всех великих княжон, каждая из которых была по-своему хороша, и Екатерина, и строгая мадам Ливен, которой было поручено их воспитание, выделяли Александру.
В свои тринадцать лет Александра Павловна — Alexandrine, как называла ее бабушка, свободно говорила на четырех иностранных языках, прекрасно рисовала, играла на клавесине, пела, танцевала и к тому же отличалась чрезвычайной кротостью характера.
Бабушку Alexandrine боготворила.
Рассказывали, что когда Александре было десять лет, императрица раскрыла перед ней альбом в голубом переплете, в котором были собраны портреты лучших женихов Европы, и шутливо предложила:
— Choisissez-vous un prince[200].
Внимательно, с той забавной серьезностью, с которой ее сверстницы играют в куклы, Александра перелистала страницы голубого альбома и без колебаний указала на портрет молодого человека с серыми, холодными, как льдинки, глазами и прямыми белокурыми, почти белыми волосами, ниспадавшими на плечи черного камзола.
Разумеется, это был шведский наследный принц Густав, будущий король Швеции Густав-Адольф IV.
Екатерина пришла в восторг, хотя, надо полагать, другого выбора и не ожидала. С ранних лет Александру Павловну приучали к мысли, что ей предстоит стать королевой Швеции.
Идея связать Россию и Швецию узами династического брака возникла по окончании русско-шведской войны 1788–1790 годов.
Странная это, надо признать, была война — началась без повода, закончилась без результата. Виновником ее Екатерина считала шведского короля Густава III. Тот и сам не отрицал, что военные действия начались по его инициативе.
— Il faut une guerre pour caractériser un reigne[201], — говорил он.
Впрочем, войн без причин не бывает. Со времен Петра Великого интересы Швеции и России, двух сильнейших держав Балтики, сталкивались на просторах от Полтавы до Финляндии, поделенной между ними в результате Северной войны. Однако войны с Турцией, завоевание Крыма, польские дела побуждали Екатерину действовать на северном направлении сугубо осторожно. В Стокгольме воевали дипломаты, оружием их были политические интриги и финансовые субсидии, в которых остро нуждалась измотанная войнами Карла XII Швеция. Посланники России и Франции беззастенчиво вмешивались во внутренние дела Швеции, выступая арбитрами между партиями «колпаков» и «шляп» в шведском парламенте — рикстаге. Как ни странно, но монархическая Россия поддерживала «колпаков» — партию «третьего сословия», а республиканская Франция имела влиятельных друзей среди стокгольмской аристократии. В жестком противостоянии короля и парламента Россия неизменно держала сторону последнего. В ее интересах было, чтобы до поры до времени Швеция, как и Польша, «держалась беспорядком».
Государственный переворот 1772 года, в результате которого Густаву III удалось ограничить полномочия парламента и укрепить основы монархической власти, явился неожиданным и сильным ударом по этим планам. В Петербурге забеспокоились, но Густав — надо отдать ему должное — оказался на высоте. Летом 1777 года он посетил русскую столицу и сумел если не развеять, то поколебать предубежденность, с которой относилась к нему Екатерина. Обращаясь к императрице, он по-русски называл ее «сестрой». Та, в свою очередь, направила «братцу Гу» в Стокгольм повара, умевшего готовить понравившиеся королю квас и щи, сделала его действительным членом Российской Академии наук — следуя традициям своего просвещенного века, шведский монарх переписывался с Вольтером.
После личного свидания отношения Густава и Екатерины преобразились. Их переписка приобрела семейный характер. Сообщая шведскому королю о рождении внука Александра в 1777 году, императрица подробно рассказала о своих заботах по его воспитанию и даже посылала ему куклу, одетую в костюм, который она придумала для Александра.
Густав отвечал взаимностью. В 1778 году, сообщая, что жена его, после долгих лет бесплодия, наконец, беременна, он не скрывал и того, что и он, и его жена стали жертвами клеветы. По Стокгольму прошел слух, что отцом будущего наследного принца был не Густав, а его друг, красавец барон Монк (к несчастью, супруга Густава имела репутацию женщины фривольных нравов). Самое печальное, что усердней всех распространялась на этот счет мать Густава, вдовствующая императрица Луиза-Ульрика. Не остался в стороне и его дядя, герцог Карл.
Екатерина, имевшая основания смотреть на шведского короля как на близкого родственника, в судьбе которого она принимала участие, несомненно, была тронута подобным доверием и, как могла, пыталась утешить Густава, советуя не обращать внимания на «злоречие, обычное при королевских домах». Она обещала даже попросить прусского короля Фридриха II оказать воздействие на его сестру, вдовствующую королеву Швеции. И действительно, Луиза-Ульрика вскоре угомонилась, однако отношения ее с сыном до конца жизни оставались натянутыми. Одно время Густав подумывал о том, чтобы удалить мать за пределы Швеции.
Идиллия в отношениях между русским и шведским царствующими домами, однако, длилась недолго. Вскоре после второго свидания Густава III и Екатерины (на этот раз во Фридрихсгамме, в 1782 году) между ними наступило резкое похолодание. Внешним поводом для размолвки стали странности, проявившиеся в характере Густава под влиянием семейных неурядиц. Он, к примеру, полюбил примерять сшитые по его собственным эскизам рыцарские наряды в духе Карла XII, бывшего его кумиром и примером для подражания. Екатерина говорила впоследствии Иосифу II, что для того чтобы овладеть вниманием «короля пик» (так она к этому времени называла Густава), нужно было говорить с ним, стоя спиной к зеркалу. В этом случае он был готов порассуждать о французской опере и о последних книгах философов, смотрясь в зеркало за плечом собеседника и прихорашиваясь перед ним.
Истинные же причины назревавшего русско-шведского разрыва лежали в сферах более основательных. Во Фридрихсгамме впервые обнаружилось несовпадение политических целей Густава и Екатерины. Российская императрица говорила о пользе тройственного союза России, Швеции и Дании в рамках Северного аккорда. Густав, конфликтовавший с Данией из-за Норвегии и Шлезвиг-Голштейна, настаивал на двустороннем русско-шведском союзе, «семейном пакте», в рамках которого обе страны обязались бы не препятствовать друг другу в их предприятиях.
В несговорчивости Густава Екатерина увидела опасность возрождения французского влияния в Стокгольме. В шведскую столицу в качестве чрезвычайного посланника был направлен Аркадий Иванович Морков, дипломат, которому, кстати, предстояло сыграть весьма своеобразную роль в нашей истории. Морков, человек до крайности самоуверенный, получив назначение, отправился прямо в Италию, где шведский король находился осенью 1783 года. Густав назначил местом встречи собор св. Петра, уединенную часовню, отделенную занавесом от большого зала. Беседа, как и следовало ожидать, зная характер обоих ее участников, оказалась настолько острой, что уже через два месяца, в феврале 1784 года, Екатерина сочла необходимым объясниться с Густавом, якобы сказавшим Моркову, что, воспользовавшись слабостью русских войск в Финляндии, он в любое время может совершить легкую прогулку в Петербург, чтобы там поужинать.
Новые осложнения произошли летом 1785 года после смерти князя-епископа Любекского, графа Ольденбургского. В письме, направленном Екатерине по этому печальному случаю, Густав, никогда не признававший передачу Ольденбурга и Дельменгорста младшей линии Голштейн-Готторпского дома, заявил Екатерине резкий протест против того, что покойный епископ оставил Ольденбург своему сыну, лишив таким образом и потомство самого Густава, и герцога Карла, женатого, кстати, на дочери епископа, законного наследства.
В ответном письме Екатерина подтвердила непреклонность ее решения относительно судьбы Ольденбурга и Дельменгорста, которое, по ее словам, было в той же мере продиктовано семейными интересами, что и позиция Густава.
Русско-шведская война сделалась неизбежной. Существенно, кстати, что в ходе ее Дания выполнила свои обязательства по договору от 1773 года с Россией и объявила войну Швеции в августе 1788 года.
После «полупроигранной-полувыигранной» войны с Россией, Густав счел, что получил «свою часть бессмертия». Именно в этот момент — по крайней мере так утверждала Екатерина — и появилась у него мысль скрепить новое сближение с Россией, к которому его побуждало желание всемерно противодействовать нарастанию революционных событий во Франции, браком своего сына с русской великой княжной. Предполагали, что договоренность эта была оформлена как секретная статья Дроттингольмского мирного трактата, подписанного в октябре 1791 года, и предусматривавшего выделение Россией значительных финансовых субсидий Швеции для организации совместной военной операции в Нормандии. Никаких официальных документов, подтверждающих намерения Густава в отношении русского брака, никто, однако, никогда не видел.
Намерения эти, если они, разумеется, существовали, были нарушены внезапной смертью короля, последовавшей 16 марта 1792 года. Густав III был убит фанатиком, капитаном лейб-гвардии Анкарстремом — как подозревали, якобинским террористом — во время маскарада в зале стокгольмской оперы. Барон Курт фон Штеддинг, назначенный сразу после войны шведским послом в Петербурге, описал реакцию Екатерины по получении этой вести. Курьер из Стокгольма прибыл в субботу, около 6 часов вечера, когда у императрицы собрался ее обычный круг придворных. Вскрыв конверт, Екатерина была так потрясена, что удалилась в соседнюю комнату, куда были допущены только принц Нассау-Зиген и князь Николай Репнин. Выйдя из нее, императрица сказала:
— Я слишком любила отца, чтобы покинуть сына. Он найдет во мне искреннего друга.
В Стокгольме, однако, события развивались далеко не так, как рассчитывала Екатерина. По малолетству наследного принца регентом к нему был определен его дядя, герцог Карл Зюдермандляндский. Регент имел репутацию человека лукавого, как говорят в России, криводушного. Его подозревали в связях с теми, кто направлял руку Анкарстрема, казненного по приговору суда. Другие заговорщики отделались высылкой за границу. Густавианцы — друзья короля во главе с бароном Армфельтом — подверглись преследованиям.
Ближайшим советником регента и фактическим министром иностранных дел стал его давний любимец барон Рейтергольм, вызванный из ссылки, в которую он был отправлен Густавом III. Ссылка барона протекала в Париже, что обеспечило ему в Швеции репутацию якобинца. Поверхностность таких суждений, однако, не замедлила сказаться — его симпатии к Франции были лишь обратной стороной глубокого недоверия к России.
Не зная способа поправить положение страны, полуразрушенной воинственной политикой Густава, герцог полагал, что только кардинальное изменение всего, что делалось королем, способно приглушить всеобщее недовольство. Средством утверждения своей политики он избрал разного рода мистиков, масонов и теософов (Рейтергольм был их главой), коих немало развелось в Швеции со времен Сведенборга.
На первых порах антироссийская подоплека новой шведской политики не могла проявиться открыто. Учитывая силу партии «колпаков», вожди которой симпатизировали России, сложную обстановку в шведской части Финляндии, где усиливалось русское влияние, регент остерегался предпринимать шаги, которые могли бы вызвать раздражение Петербурга. С известием о переменах в системе правления Швеции вследствие убийства Густава III, в Россию был послан генерал Клингспорр, передавший Екатерине письмо от регента, выдержанное в самых теплых выражениях. Неофициально, как бы от себя, Клингспорр обмолвился о благоприятном отношении в Стокгольме к желанию Густава III устроить брак шведского наследного принца с русской великой княжной.
Намеки Клингспорра, считавшегося другом России, встретили самое сочувственное отношение Екатерины. У нее были свои причины желать династического союза со Швецией. Сын Густава III приходился Екатерине племянником. Его брак с Александрой Павловной, оставаясь делом семейным, обещал немалые политические выгоды. Помимо открывавшейся перспективы противодействия революционной Франции, русско-шведский союз при молодости Густава открывал возможность надолго получить свободу рук на севере, а при счастливом стечении обстоятельств — и усилить русское влияние в балтийском бассейне.
Однако дело это обе стороны предпочитали вести с сугубой осторожностью.
Действо второе
Русские сделаны не так, как другие народы Европы. У них есть блеск, позолота, великолепие, пороки, но у них нет добродетелей.
Густав III в письме Карлу Зюдермандляндскому из Петербурга, июнь 1777 г.1
В октябре 1792 года через русского посла в Стокгольме регенту был передан портрет Александры Павловны, которой к тому времени не исполнилось еще и десяти лет.
В ответ регент, бывший главой шведского масонства и, возможно, в силу этого предпочитавший обходные пути официальным, направил в Петербург для неофициального обсуждения брачного договора некоего барона Витали. Однако в приеме при петербургском дворе посланцу регента было отказано. Отсутствие у него формальных полномочий для ведения переговоров явилось, разумеется, лишь предлогом. Действительная причина неудачи миссии барона Витали крылась в другом.
Дело в том, что после гибели Густава III планы совместной с Россией высадки в Нормандии, вызывавшие такой энтузиазм у Густава, были оставлены. Швеция, несмотря на дружественные жесты в сторону России, оставалась единственной монархией в Европе, не прервавшей официальные отношения с республиканской Францией даже после того, как там казнили короля. Русскому послу в Стокгольме было предписано всемерно противодействовать росту французского влияния в Швеции и распространению якобинской заразы вблизи российских границ.
Словом, в конце 1792 года у Екатерины не было основания верить в искренность дружественных заверений регента и, особенно, Рейтергольма, которого посол Штакельберг представлял в самых черных красках. Ответ на письмо герцога Карла, переданное через Витали, был дан по официальным каналам, через посольство. Характер его был вполне благоприятный, но трактовать вопрос о браке шведской стороне предлагалось с соблюдением всех необходимых формальностей, через полномочных представителей.
Между тем, сближение Стокгольма с «цареубийцами», как в Петербурге называли французов, продолжалось. Из Константинополя и Варшавы начали поступать донесения о причастности шведских дипломатов к антироссийским интригам Франции. Штакельбергу было поручено сделать по этому поводу представление. После его беседы с регентом шведский кабинет потребовал немедленного отзыва посла, обвинив его в оскорблении шведского королевского дома.
В Петербурге начали склоняться к мнению, что под пагубным влиянием Рейтергольма и сам регент, продолжая получать русские субсидии, начал тайно действовать в направлении, расходящемся с интересами России.
Екатерина, поступавшая в таких ситуациях решительно и жестко, немедленно распорядилась о приостановке субсидий, выплачивавшихся Швеции по Дроттингольмскому трактату. Но не их прекращении. В отношениях с северным соседом она предпочитала избегать действий, которые впоследствии не могли бы быть поправлены.
Регент, разумеется, всполошился. Швеция, истощенная последней войной, нуждалась в русском золоте. В октябре 1793 года он направил в Петербург графа Стенбока. Помимо передачи поздравлений по случаю бракосочетания великого князя Александра, графу было поручено вступить в официальные переговоры о династическом союзе с Россией.
На этот раз выбор регента оказался верным. Стенбок, в отличие от Витали, занимал высокое положение при шведском дворе. Екатерина дала графу личную аудиенцию, переговоры с ним вел князь Платон Зубов.
Переговоры оказались непростыми. В ответ на «домашнюю заготовку» Стенбока, сходу заявившего, что окончательное составление и подписание брачного трактата поручено барону Рейтергольму, Зубов от имени императрицы пригласил регента и наследного принца посетить Петербург, чтобы познакомиться с великой княжной. Стенбок сказал, что в соответствии с основным законом Швеции король не может выезжать за пределы своего государства до совершеннолетия. Князю Платону не оставалось ничего другого, как принять этот довод.
Второй вопрос, поднятый Зубовым, имел более важные последствия. Он обратил внимание Стенбока на то, что решающим условием династического брака в Петербурге считают сохранение русской великой княжной, когда она станет королевой Швеции, свободы исповедовать ту религию, в которой она была рождена и воспитана. Осторожный Стенбок предпочел не вступать в рассуждения по столь деликатному вопросу.
Расценив переговоры со Стенбоком как начало официального обсуждения династического брака, Екатерина не замедлила сделать ответный жест. Еще до отъезда Стенбока из русской столицы было объявлено о назначении послом в Стокгольм вместо Штакельберга графа Сергея Петровича Румянцева, сына великого фельдмаршала. Тем самым императрица как бы давала понять, что считает устраненными недоразумения, возникшие между ней и регентом.
Впрочем, и Румянцев находился в шведской столице недолго. Прибыв в Стокгольм в начале марта 1794 года, он был отозван домой уже в августе, поскольку возникли новые обстоятельства, еще более омрачившие русско-шведские отношения. В Стокгольме был раскрыт заговор, который клонился к устранению регента от власти. Одним из его руководителей оказался друг Густава III генерал Армфельт, известный как глава «русской партии» в Швеции. Будучи приговорен к смертной казни, он сумел бежать в Неаполь, затем в Вену и через некоторое время объявился в Калуге, где жил под протекцией российского двора. Рейтергольм, заклятый враг Армфельта, распространял в Стокгольме слухи о том, что тот пытался вывезти из Швеции в Россию будущего короля, который близко знал и уважал его с детства.
Крайне неприятная для России сторона этого дела заключалась в том, что агентам республиканской Франции удалось похитить у Армфельта адресованные ему собственноручные письма Екатерины, ясно указывавшие на того, кто если и не стоял прямо за спиной заговорщиков, то, во всяком случае, сочувствовал им.
Отношения между русским и шведским дворами обострились до крайности. Регент был настолько раздосадован, что, отбросив свои обычные уловки, прямо и недвусмысленно написал Екатерине, что только из желания пощадить ее он не опубликовал для всеобщего сведения документы, которые могли бы скомпрометировать ее самым серьезным образом.
С запальчивостью, мало соответствовавшей обстоятельствам, Екатерина отвечала, что если бы она хотела свергнуть правительство Швеции, то могущество ее государства позволило бы ей не прибегать к тайным проискам и интригам, в которых ее пытаются обвинить.
Кризис, вызванный раскрытием заговора Армфельта, прервал на время переговоры о браке наследного принца. Не форсировать события Екатерину побуждали и сведения, поступавшие из Стокгольма. Еще в марте 1794 года посол Румянцев достаточно откровенно, хотя и, разумеется, с крайней осторожностью предупреждал ее в конфиденциальном письме о двусмысленной позиции регента в вопросе о браке. В этом же письме посол дал и весьма любопытную характеристику будущего шведского короля:
«Король имеет рост ниже среднего, весьма худощав; его лицо, обрамленное белокурыми волосами, говорит о здоровье скорее деликатном, чем блестящем, глаза большие, светлые, движения их скорее медленны, но не лишены величия. Физиономия его обычно непроницаема, нервного тика, о котором шла речь в прошлом году, я не заметил. Регент сказал мне, что этот тик появлялся у короля только тогда, когда он был вынужден присутствовать на неожиданно назначавшихся церемониях, к которым не имел времени подготовиться. Это суждение кажется мне вполне обоснованным, поскольку сейчас король выглядит совершенно подготовленным к выполнению своих обязанностей и с ним более не случается нервных срывов, которые внушали опасения в прошлом. Кроме того, исполнение своих обязанностей, к которому он постепенно привыкает, день ото дня, видимо, укрепляет его характер.
Темперамент этого монарха, его пристрастия представляются вполне умеренными. В возрасте, когда их развитие сопровождается некоторыми крайними проявлениями, король сохраняет спокойствие и выдержку, являющиеся главными чертами его характера. Проникнуть в его чувства и намерения весьма трудно, впрочем, его манера держать себя, в которой видят проявление ума, не свидетельствует о склонности к притворству или хитрости. Король сдержан по характеру, а не в силу убежденности в необходимости держать себя таким образом. Такова его натура, в его поведении нет ничего от рисовки, связанной с его высоким положением или опасения в отношении тех, кто окружает его по воле дяди. Говорят, что в своем окружении он никого не выделяет; кажется только, что он предпочитает общество пожилых людей общению с молодыми. У него совершенно нет ясно выраженных пристрастий, хотя некоторые говорят о его наклонности к военному делу, указывая на удовольствие, которое он получает от участия в маневрах. Не следует упускать из виду, что, как считает регент, в этой стране все излишне милитаризировано. Вполне естественно, что король из противоречия своему дяде выказывает склонность к армии. Впрочем, люди, хорошо его знающие, не видят в Густаве-Адольфе черт характера, которые напоминали бы сумасбродства Карла XII. Одним словом, Ваше величество, если попытаться кратко охарактеризовать нынешнее состояние личности короля, его можно назвать скорее ребенком интересным и много обещающим, чем заслуживающим внимания или способным вызвать беспокойство. Справедливо, что обращение с ним регента и незначительность тех, кто составляет так называемую партию короля, много способствовали приведению короля в нынешнее состояние. Однако я весьма сомневаюсь, чтобы при других обстоятельствах он мог развить в себе большую энергию…
Сведения, которые мне удалось получить о расположенности короля к браку, наилучшим образом свидетельствуют о чистоте его принципов. Их можно считать совершенно способными обеспечить счастье и спокойствие той, с которой он разделит ложе. Время выбора супруги в соответствии с завещанием покойного короля определено на конец 1795 года, когда королю исполнится 17 лет. По той же статье завещания будущая супруга короля должна быть королевской крови, что существенно сужает круг претенденток. Высказываясь публично по этому вопросу, регент всегда говорит, что свое участие в выборе невесты он ограничивает предписанием, направленным послам Швеции за границей: собрать портреты принцесс королевской крови, дальнейшее — за королем, который будет делать свой выбор сам. При некоторой искренности, которую видят в подобных заявлениях, я не считаю, что регент при определенном стечении обстоятельств останется безразличным к выбору своего воспитанника. Впрочем, барон Штединг, как и другие шведские послы, получил соответствующие указания относительно российских великих княжон. Регент неоднократно спрашивал меня о них, но поскольку я не получил лично от Вашего величества никаких инструкций на этот счет, то ограничился тем, что должен был сказать без лести как о достоинствах великих княжон, так как и о совершенстве их воспитания»[202].
Сведения Румянцева о намерении шведов перенести переговоры о браке будущего короля оказались верны. В депеше Рейтергольму от 17 ноября 1794 года Штединг, передавая разговор, состоявшийся у него по этому поводу с Платоном Зубовым, писал: «Г-н Зубов сказал мне положительно, что императрица весьма желает этого брака». В ответ посол напомнил, что во время переговоров Зубова с графом Стенбоком главный для шведов вопрос — в религии будущей супруги короля — не был решен. «Казалось, Зубов не мог прийти в себя от неожиданности, — сообщал Штединг. — Он дал мне понять, что императрица может подумать, что намерения нашего двора не особенно искренны относительно брака короля, если он ставит такие условия, которые заведомо не могут быть приняты. — Почему, сказал он, приходится слышать в первый раз о таковом препятствии, когда переговоры о браке велись уже давно? он меня уверил, что никогда не было примера, чтобы русская княжна, при вступлении в брак с иностранным принцем, переменила свою религию; этого не было даже и тогда, когда Россия не принадлежала к разряду могущественных держав. Это невозможно даже и само по себе — так как греческая религия не допускает ни для кого подобного отступления, тогда как в Швеции всеобщая религиозная терпимость допускается законами. Он знал, что духовенство было проводником этого закона, и в доказательство сослался на общественное мнение, которое было за терпимость. Я, в свою очередь, ему сообщил, что основной и конституционный закон в нашей стране предписывает, чтобы король был лютеранского вероисповедания, добавив при этом, что не могу с положительностью утверждать, распространяется ли этот закон и на королеву. Несомненно одно, что шведский народ будет оскорблен в своем религиозном чувстве, если при исполнении обряда бракосочетания и коронования он увидит чужеземные церковные обряды и чужеземное духовенство. Примером может служить покойная королева Луиза-Ульрика, воспитанная в правилах протестантской — реформаторской религии и вынужденная до вступления в брак принять религию лютеранскую, так как общественное приличие требует, чтобы жена исповедовала одну религию с мужем. — Наконец все, что только я могу подумать, было мной поставлено на вид, чтобы доказать г-ну Зубову, что брак великой княжны с королем будет неосуществимым, если с ее стороны не последует согласия относительно перемены религии. Я заметил, что все, что я говорил по этому поводу г-ну Зубову не произвело сильного впечатления на него и что он становился все более и более холодным ко мне по мере того, как я говорил. В одном, казалось, он согласился со мной, это в необходимости для королевы сопровождать короля на богослужение и во всех торжественных религиозных церемониях, в чем, как он полагал, не представится никакого затруднения»[203].
Штединг, бывший, судя по всему, сторонником брака короля с российской великой княжной, действовал не только через Зубова, но и других лиц, близких к Екатерине, не желавшей в виду осложнения ее отношений с регентом и Рейтергольмом объясниться со шведским послом напрямую. Воспитательница великих княжен Шарлотта Карловна Ливен, «больше всего на свете желавшая того, чтобы ее любимая воспитанница сделалась королевой Швеции», уговаривала посла «не терять терпения, вполне надеясь, что все устроится, потому что она знает, что императрица принимает чрезвычайно близко к сердцу этот брак». Вице-канцлер И. А. Остерман, напротив, взяв предварительно со Штединга честное слово, что тот ни в чем не скомпрометирует его перед его двором, рассуждал более здраво. «Говоря откровенно в качестве друга», он советовал Штедингу «перестать и думать об этих переговорах, что дело это совершенно невозможно по множеству причин, которые он не в состоянии перечислить все, но достаточно знать, что положительно немыслимо восстановить доброе согласие между императрицей и Вашим королевским высочеством, что когда король станет совершеннолетним, тогда будет достаточно времени подумать об этом браке, который все равно не мог бы осуществиться ранее по той причине, что принцессе было всего только 12 лет. Таким образом, он сказал мне больше, чем я спрашивал. «В таком случае, — возразил я ему, — браку этому никогда не бывать, потому что наверно короля женят, или, по крайней мере, он будет помолвлен до своего совершеннолетия». «Вот это-то, — сказал старик, — и не должны допустить добрые шведы»[204].
Забега вперед скажем, что если бы все русские дипломаты, приложившие руку к этому делу, оказались бы столь же рассудительными как Остерман, история, которую мы рассказываем, имела бы, надо полагать, другой конец. К несчастью, однако, в начале 1795 года к переговорам со Штедингом подключился Аркадий Иванович Морков, бывший в середине 80-х годов посланником в Стокголье, а затем ставший доверенным лицом Зубова. Встретившись со Штедингом «в одном петербургском доме, он отвел Штединга в сторону и сообщил, разумеется, конфиденциально, что ее величество «никогда не переставала сердечно желать брака короля с ее внучкой». Затронув затем вопрос о религии, Морков сказал, что императрица была «вынуждена покоряться существующим в стране предрассудкам и что, следовательно, она не могла подписать требуемого от ее внучки отречения, но что она будет советовать ей согласиться с обрядами нашей религии и публично присутствовать вместе с королем на всех религиозных церемониях и обрядах, которые соблюдает король, оставив за собой право исполнять свои религиозные обряды в строгой замкнутости… Как только она сделается королевой Швеции, власть императрицы над ней кончается — и, если тогда она пожелает принять лютеранскую религию, то императрица, конечно, не будет в силах ей в этом препятствовать, но дать на то согласия в настоящую минуту она считает положительно невозможным»[205].
Надо отдать должное проницательности Штединга — к авансам Моркова он отнесся с большим резервом.
2
В этих обстоятельствах остается только гадать, чем руководствовался регент, поручая шведскому послу в Петербурге Штедингу летом 1795 года, в самый разгар скандала, связанного с делом Армфельта, продолжить официальные переговоры о браке наследного принца.
Еще более странным выглядит поведение Екатерины, с ходу согласившейся с предложением регента.
Первый вопрос, заданный Штедингом Зубову, касался приданого великой княжны. Князь Платон, не разобравшись в том, что опытный дипломат начинает переговоры с самого легкого, счел слова посла добрым знаком и ответил в том смысле, что шведы будут довольны.
Второй вопрос Штединга — о вероисповедании будущей королевы Швеции — Зубов не то чтобы пропустил мимо ушей, он просто не придал ему серьезного значения. Князь Платон пребывал в уверенности, что вопрос о религии был решен во время переговоров с графом Стенбоком и посол поднимает его лишь для того, чтобы успокоить противников России в Стокгольме. Едва ли кто-либо в Петербурге понимал, что именно в этот момент была сделана первая из решающих ошибок, предопределивших неудачу переговоров.
Споры возникли только тогда, когда Штединг перешел к наиболее важному пункту, касавшемуся выдачи Армфельта, продолжавшего жить в Калуге на пенсию, назначенную ему Екатериной. С русской стороны последовал резкий отказ. Штединг сообщил в Стокгольм, что в этом пункте Екатерина никогда не уступит.
Регент, подстрекаемый Рейтергольмом, пришел в крайнее раздражение. Оставив осторожность, он пошел на открытое столкновение. 1 ноября 1795 года, в день, когда Густаву-Адольфу исполнилось 17 лет, в Стокгольме было официально объявлено об обручении будущего короля с принцессой Луизой-Шарлоттой Мекленбург-Шверинской. Во всех костелах Швеции было приказано молиться за здравие будущей королевы. Французская Директория, помогавшая мекленбургскому браку, торжествовала.
Коварство герцога вызвало бурю негодования в Зимнем дворце.
«Пусть регент ненавидит меня, пусть ищет способ отмстить — в добрый час! Но зачем он женит своего племянника на кривобокой дурнушке? Чем король заслужил такое жестокое наказание? Ведь он думал жениться на невесте, о красоте которой вся Европа говорит в один голос», — недоумевала Екатерина.
В Мекленбург были отправлены тайные агенты русского двора с целью расстроить готовящийся брак.
Однако планы регента не осуществились совсем по другой причине. Глубоко уязвленный тем, что переговоры об обручении были затеяны без совета с ним, Густав-Адольф впервые пошел против воли своего опекуна, публично заявив, что вступит в брак только после того, как станет королем.
Тем не менее, по настоянию регента, желавшего досадить Екатерине, в Петербург был направлен граф Шверин с извещением о предстоящей помолвке. Шверина встретили на подъезде к Выборгу и без лишних церемоний развернули обратно. Впоследствии, остыв, Екатерина называла это «женским капризом».
Отношения между Россией и Швецией к началу 1796 года обострились до крайности. В большую силу при шведском дворе вошел посланник Французской Республики Леок.
В январе 1796 года Суворов провел смотр русских войск в Финляндии, на границе со Швецией. Зубовым была заготовлена дипломатическая нота для рассылки по европейским дворам, в которой регент обвинялся во всех смертных грехах: от тайных сношений с французскими якобинцами до убийства своего брата Густава III. Безбородко, едва ли не единственный, кроме Остермана, кто сохранял в эти дни остатки здравого смысла, всерьез опасался, что Зубов может подтолкнуть Екатерину к открытию военных действий.
3
До войны, к счастью, не дошло, но дипломатам пришлось потрудиться изрядно. В шведскую столицу был направлен Андрей Яковлевич Будберг, заслуженный генерал, преподававший великим князьям военные науки. По ряду причин Будберг пользовался неограниченным доверием Екатерины. Выходец из старинного эстляндского рода, обладавшего обширными связями в Германии и Швеции, он еще в 1782 году успешно выполнил деликатное поручение императрицы, связанное с устройством на русскую службу ее родственника графа Ангальта. Затем — устраивал брак великого князя Константина с принцессой Кобургской. На этот раз, однако, поставленная перед генералом задача была не в пример сложнее. Хорошо понимая, какой прием его ждал в Стокгольме, Будберг ехать не хотел. Однако все его попытки отговориться успеха не имели.
Отъезд Будберга в Швецию был обставлен с некоторой таинственностью. Ввиду срочности дела ему надлежало прибыть в шведскую столицу из Кобурга, где он находился, проводив мать принцессы, ставшей русской великой княгиней. Будберг был снабжен тремя различными верительными письмами. Какое из них вручить, он должен был решить сам, в соответствии с настроением в Стокгольме. Первое адресовалось регенту и давало ему только возможность говорить от имени императрицы. Второе представляло собой верительную грамоту, которая должна была аккредитовать его в качестве чрезвычайного посланника. Третье давало Будбергу статус посла. Подготовить почву для его работы в Стокгольме должен был советник посольства Будберг, дальний родственник Андрея Яковлевича, которого спешно назначили поверенным в делах.
В Петербурге старшего Будберга называли дядей, младшего — племянником.
В Стокгольме же одного называли генералом, а другого — бароном.
Старший Будберг направился в Стокгольм через Копенгаген, где счел за лучшее оставить все три свои верительные грамоты. Дело в том, что младший Будберг сообщал, что в шведской столице его дядю никто не ждал. Поразмыслив, генерал предпочел появиться в Стокгольме в качестве путешественника. Случилось это 8 февраля 1796 года, под вечер.
Шведы долго не могли взять в толк, с какой целью пожаловал к ним генерал Будберг. Штединг тоже терялся в догадках, предполагая, что генерал прибыл хлопотать о браке наследного принца с одной из владетельных немецких княжон. На всякий случай, Будберга-старшего старались не замечать, что еще более осложняло его миссию.
Поскольку обоих Будбергов — и дядю, и племянника — во дворец не приглашали, генерал решился действовать через посредников. В то время в Стокгольме находился некто Фердинанд Кристен, женевец, представлявшийся как доверенный секретарь бывшего французского суперинтенданта финансов Калонна. Этот Кристен был добрым приятелем госпожи Гюсс, французской актрисы, имевшей ангажемент в Петербурге и состоявшей метрессой Аркадия Ивановича Моркова. Письмо от госпожи Гюсс помогло генералу сблизиться с женевцем, которого он нашел вполне подходящим для роли, определенной для него в Петербурге (по некоторым сведениям, Екатерина заметила его еще весной 1793 года, когда он приезжал в Петербург в свите герцога д’Артуа). Кристен был умен, ловок, красив, пользовался успехом у стокгольмских дам и был принят в лучшем обществе.
Потребовалось совсем немного времени, чтобы ушлый женевец добился аудиенции у регента. Тот, однако, поняв, о чем идет речь, не упустил возможности покуражиться. Прервав на полуслове Кристена, только начавшего распространяться о выгодах для Швеции брачного союза с Россией, герцог поинтересовался, есть ли у него полномочия говорить от имени императрицы. Полномочий не было — и агент Будберга был отправлен объясняться с Рейтергольмом.
У Рейтергольма Кристена ждал еще более унизительный афронт. Уверения в том, что русская императрица питает к нему особое уважение и в силу этого готова признать его верховным арбитром в решении вопроса о браке шведского наследного принца, Рейтергольм встретил взрывом хохота.
— О, как это неосторожно со стороны Ее императорского величества, — проговорил он, оправившись от приступа веселья. — Передайте ей, что она найдет во мне очень плохого русского, но очень хорошего шведа. Передайте императрице, а также тому, кто вас послал, что господа Будберги напрасно жалуются на холодный прием. Мы приняли их гораздо лучше, чем графа Шверина встретили в Петербурге. Неуважение, проявленное великой Екатериной к представителю королевского дома Швеции, унижает ее, а не нас.
Пресекши попытки Кристена вставить хоть слово, Рейтергольм продолжал:
— Российский поверенный в делах барон Будберг находится в Швеции совсем непродолжительное время, однако успел зарекомендовать себя как интриган, стремящийся посеять рознь в шведском обществе. Не думайте также, что никому в Стокгольме не известно, что вы проводите ночи напролет в доме Будберга, оставляя его лишь для того, чтобы нанести визит английскому поверенному в делах. Скажите своему хозяину, что мы хорошо осведомлены о его тайных замыслах, и лучше всего ему самому убраться домой подобру-поздорову.
Кристен, однако, оказался не робкого десятка и на угрозы ответил угрозами. Он вежливо, но жестко напомнил Рейтергольму, что терпение русской императрицы не безгранично. Упомянув о военных приготовлениях с обеих сторон, он, как бы вскользь, сослался на пример Польши, только что подвергнувшейся третьему разделу.
— Молчите, мсье! — вскричал Рейтергольм. — Никогда не сравнивайте Швецию с Польшей. Национальные характеры наших народов слишком различны, энергия и свободолюбие шведов известны во всем мире.
— Императрица прекрасно видит, чем отличается Швеция от Польши, — ответил Кристен. — Именно поэтому она желает вашей стране только добра, а молодому королю — счастливого и благополучного царствования. Сближение России и Швеции служит вашим интересам.
На этом Рейтергольм перебил его:
— Вы слишком хорошо говорите по-французски, чтобы не знать историю французского короля Генриха IV, который покрыл себя несмываемым позором, переменив религию. Чтобы закончить это разговор, скажу вам с полной ясностью: греческая религия никогда не получит распространения в Швеции[206].
Надо полагать, что о разговоре Кристена с Рейтергольмом Будберг сообщил в Петербург в самых общих чертах. И правильно сделал. Выговорившись, Рейтергольм начал вести себя осмотрительнее.
Кристен же, получивший относительную свободу, сумел в середине апреля передать королю через одного из его учителей, шевалье Сюрмена, содержание своих бесед с герцогом и Рейтергольмом. Король слушал с большим вниманием, заметив, что совершенно не разделяет неприязненных чувств относительно российской императрицы. Напротив, он питает к ней большое уважение и восхищается ее царствованием. Впрочем, когда Сюрмен принялся говорить о том, что следует сделать, чтобы предупредить разрыв с Россией, король остановил его, сказав, что по всем государственным делам следует обращаться к регенту, который управляет государством.
— Я буду следовать его советам, — сказал Густав, — ибо, хотя императрица моя родственница и желает мне добра, как меня уверяют, герцог гораздо ближе мне, и я ему многим обязан.
Разумеется, слова короля немедленно стали известны генералу Будбергу, который счел, что они подтверждают сделанное им заключение о том, что в шведских правящих кругах нет согласия в политике по отношению к России. Почувствовав под ногами твердую почву, Будберг начал действовать увереннее. Он не пошел на обед, наконец-то устроенный в его честь регентом, отказался говорить с Рейтергольмом и Шверином. Это лишь усилило впечатление, которое произвели в Швеции военные демонстрации России в Финляндии.
Шведы дрогнули. Губернатор Стокгольма граф Эссен, густавианец и друг России, сказал Будбергу, что регент весьма желает знать, что он мог бы сделать, чтобы доказать императрице свое искреннее желание жить с Россией в полном согласии.
— Лучший путь к этому, — отвечал Будберг, — собственноручные письма регента и короля императрице, в которых официально объявлялось бы об отказе Швеции от союза с Францией и расторжении мекленбургской помолвки.
5 апреля 1796 года письмо регента, составленное в соответствии с пожеланиями Будберга, отправилось в Петербург. Письмо короля Екатерине последовало за ним через неделю.
10 апреля посланник французской республики Леок покинул Стокгольм.
4
Демарши Будберга в Стокгольме привели регента и Рейтергольма в сильнейшее уныние. Король нашел способ высказать свое неудовольствие в связи с вызывающим тоном, который принял Рейтергольм в беседе с Криспеном. Впрочем, и без этого было ясно, что герцог и его министр иностранных дел зашли слишком далеко: прямое оскорбление царствующей особы даже в частной беседе могло быть расценено как недружественный акт. Это было тем более опасно, что в окружении будущего короля находилось немало людей (не обязательно принадлежавших к «русской партии»), которые по политическим или личным причинам весьма неприязненно относились к регенту и Рейтергольму.
«Vous savez la grande nouvelle? — писал Штедингу 19 февраля сенатор Карл Спарре, признанный лидер партии «колпаков» в шведском парламенте. — Le mariage du Roi est differé si non rompu tout a fait, mais ils auront beau se mettre à genoux, desormais il leur en coutera, ma foi, bien chère avant d’obtenir la grande duchesse»[207].
Стоит ли пояснять, что упреки Спарре были адресованы некому иному, как герцогу и Рейтергольму.
Штединг, воспитывавшийся в юности в доме Спарре и считавший его своим наставником в жизни и политике, поддерживал переписку со старым сенатором, которая порой бывала более откровенна, чем депеши, которые он направлял регенту. Зная сложную и постоянно меняющуюся расстановку сил при шведском дворе, он с похвальной осторожностью предпочитал поддерживать контакты со всеми партиями. К тому же, информируя Спарре о петербургских делах, он мог быть уверен, что его сообщения станут известны королю без купюр и комментариев, которые позволял себе регент, лично составлявший для Густава-Адольфа экстракты из депеш шведских послов.
«Il est maleureusement que trop certain d’après des bonnes informations que l’impératrice n’a point renoncé encore à son projet que le Roi épouse sa petite fille. Elle y est si attachée au contraire qu’Elle est prête à lui tout sacrifier. Il semble que le bonheur de se vie depend de cela»[208], — сообщал он Спарре 21 марта.
5
Ко времени описываемых нами событий граф Курт фон Штединг был послом Швеции в Петербурге уже шестой год. В русской столице он появился в сентябре 1790 года, прямо из Финляндии, где во время русско-шведской войны командовал полком драгун. Воевал Штединг хорошо. Одержанная его полком в июле 1789 года победа при Паркумякки стала одним из немногих успехов шведов в этой войне.
«Вы первый, кто обогатил мой арсенал трофеев» — писал Штедингу отличавший его король Густав III.
Штединг родился в Пиннау, в шведской Померании 26 сентября 1746 года. Отцом его был барон Кристоф-Адам, матерью — дочь знаменитого маршала Шверина. Густаву III он был представлен, когда приехал в Стокгольм в 1763 году хлопотать об имениях отца, пострадавших во время прусско-шведской войны.
Fluet de taille, très bien de figure et indulent de charactère[209], Штединг, как и его младший брат, ставший адмиралом шведского флота, получили строгое семейное воспитание. В присутствии родителей детям не разрешалось садиться. Латынь, катехизис, ни капли вина, даже кофе. По субботам — порка, если полученные за неделю отметки были недостаточно хороши.
По традициям своей семьи Штединг был записан в армию с одиннадцати лет, в тринадцать участвовал в войне с Пруссией в чине младшего лейтенанта пехотного полка. Затем — Упсальский университет, где в то время преподавали великие Линней и Цельсий.
В двадцать один год Штединг переехал в Стокгольм. Родители его умерли, и он поселился в доме друга отца, Карла Спарре. Как уже говорилось, Спарре являлся лидером партии «шляп», лозунгом которой был «Франция и торговля». (У «колпаков» — «Сельское хозяйство и Россия»). В доме Спарре Штединг впервые увидел неблаговидную изнанку политики. Не раз приходилось ему наблюдать, как деньги, полученные от французского посла, укладываются в пакеты в кабинете Спарре. Тот распределял их среди влиятельных членов своей партии. Отвращение к парламентаризму Штединг сохранил до конца своих дней.
С 1766 года он вновь вернулся на военную службу. В августе 1772 года полк, в котором Штединг состоял капитаном, благодаря счастливо сложившимся обстоятельствам, умудрился поздравить Густава III с совершенным им переворотом раньше других. С этих пор Штединг стал доверенным лицом и другом короля.
Через четыре года судьба занесла его в Париж, где он командовал полками одновременно в двух армиях: французской и шведской, непрерывно курсируя между Бретанью и Финляндией, где были расквартированы его полки.
В Париже Штединг близко сошелся со знаменитым впоследствии графом Ферзеном, которого при дворе Людовика XVI называли «красавчик Ферзен». Штединг и Ферзен снимали на двоих одну квартиру, вместе стали завсегдатаями салона Жюли де Полиньяк, в котором Ферзен и познакомился с Марией-Антуанеттой. В июне 1791 года он, рискуя жизнью, предпринял отчаянную попытку вывезти Людовика XVI и его супругу из революционного Парижа по поддельным паспортам, предоставленным ему русской баронессой Корф.
В 1779 году ветры свободы увлекли Штединга и Ферзена в Америку. Ферзен сражался под командованием Рошамбо и Лафайета, Штединг — графа д’Эстена. В битве при Нью-Йорке он командовал центральной колонной, на правом фланге был виконт де Ноайль, слева — Эдуард Диллон.
За выдающиеся военные заслуги Вашингтон наградил Штединга орденом Цинцинната. Штединг принял его не раздумывая, чем — единственный раз в жизни — вызвал гнев Густава III. Шведский король, удивлявший и собственную страну, и весь мир своей редкой непоследовательностью, учинил Штедингу строгий выговор за принятие республиканского ордена да еще без его согласия.
«Шведскому подданному, — писал он Штедингу, — не делает чести участие в восстании против законной власти».
Штединг вернул орден, а с ним и расположение Густава III.
Назначение в Петербург стало для Штединга полной неожиданностью. Этот пост считался в то время одним из важнейших в шведской дипломатической службе. Он пытался было отказаться, ссылаясь на недостаток опыта, но Густав III никогда не менял своих решений.
«Императрица приняла меня в Тронной зале, — писал Штединг королю 22 сентября 1790 года. — В полном блеске своего величия, сверкая бриллиантами, она стояла возле ниши в стене, неподалеку от трона. Граф Остерман держался чуть в стороне и сзади императрицы. Сердце мое громко билось, однако я сумел довести до конца подготовленную мною речь. Императрица слушала с весьма благожелательным видом. Я забыл было поцеловать ее руку, но Остерман сделал мне знак, и я исправил свою оплошность, что вышло даже к лучшему. Императрица, отвечая мне, говорила очень медленно, обдумывая слова. Она сказала, что рада не менее чем Ваше величество видеть законченной войну, которой, если бы на то была ее воля, не было бы вовсе».[210]
Штединг быстро освоился в Петербурге, обзавелся многочисленными знакомствами и был принят в интимном кружке Екатерины, собиравшемся в Эрмитаже.
«Единственный способ получить что-нибудь здесь, — писал он королю, — заключается, как мне кажется, в том, чтобы составить о себе доброе впечатление в глазах императрицы, заинтересовать ее самолюбие, щедрость, даже ее чувства».
Штединг немало преуспел в этом. Дроттингольмский союзный трактат, заключенный между Россией и Швецией а октябре 1791 года, был в немалой степени и его заслугой.
И все же Екатерина, отдавая должное качествам Штединга, не вполне доверяла ему. Его речи и действия, далекие от приемов профессиональных дипломатов, казались ей порой настолько прямолинейными, что она невольно пыталась искать в них двойной смысл. Лично получая субсидии, причитавшиеся Швеции по Дроттингольмскому трактату, участвуя и в веселых Эрмитажных собраниях, и в официальных конверсациях, Штединг сохранял сдержанность и достоинство, никогда не выходя за рамки дозволенного и ни в чем не проявляя личного интереса.
Особенно раздражало императрицу то, что она никак не могла понять личного отношения Штединга к столь дорогой для нее идее брака шведского короля с русской великой княжной. Поэтому-то, надо думать, когда Штединг нанес визит 14 апреля вице-канцлеру Остерману и, по обычаю своему, прямо спросил, что он мог бы сделать для преодоления недоразумений последнего времени, Иван Андреевич, непревзойденный знаток придворных конъюнктур, не стал спешить с ответом.
Через два дня, 16 апреля, Остерман сказал, что ее императорское величество изволили получить и прочесть письмо регента, но ответ на него дадут, только ознакомившись с письмом, которое намерен был направить Екатерине король. В частном же порядке вице-канцлер высказался более откровенно, заметив, что добрые намерения надо подтверждать не словами, а делом. Если брак короля с Мекленбургской принцессой отменен, то что препятствует объявить об этом публично? Равно как и официально возобновить переговоры по известному послу вопросу непосредственно в Петербурге, где короля и регента всегда рады видеть?
6
18 апреля Будбергу в Стокгольм были отправлены указания, выдержанные буквально в тех же выражениях, которые использовал Остерман при встрече со Штедингом. Условия русско-шведского сближения: отмена мекленбургского брака, начало официальных переговоров о русском браке с настоятельным пожеланием видеть короля и регента в Петербурге. В случае положительного ответа Будбергу разрешалось вручить верительные грамоты, аккредитовавшие его в качестве посла при стокгольмском дворе.
Буря разразилась через неделю, когда Екатерина получила письмо короля.
«Я нахожу это письмо притворным, пустым и не имеющим характера откровенности, которая могла бы восстановить доверие», — писала она в депеше Будбергу от 21 апреля».
Еще более эмоционально было оценено письмо регента, высказывания которого по вопросу о мекленбургском и русском брачном проекте были названы «намеренными умолчаниями, уничтожающими всякое доверие».
На этом, однако, дело не кончилось. В Петербурге разум окончательно уступил место эмоциям. Едва успев сообщить регенту о крайнем недовольстве императрицы его действиями, Будберг получил приказание покинуть шведскую столицу. В начале мая он вернулся в Петербург. Кристен был выслан шведами в Данию раньше — в середине марта.
Отъезд русского посла был воспринят в Стокгольме как верный сигнал неизбежности войны.
Впрочем, даже в этих более чем горячих, как тогда говорили, обстоятельствах регент и Рейтергольм предпочитали действовать тайными и, надо признать, весьма извилистыми путями. В старом мидовском архиве на Серпуховке сохранился любопытный документ, относящийся к маю 1796 года. Написан он по-французски хорошо поставленным писарским почерком. Автор неизвестен, хотя с достаточной степенью уверенности можно предположить, что им был граф Аркадий Иванович Морков. Заглянем в него:
«Вчера около шести часов вечера я получил инструкции от графа Зубова отправиться к некоему еврею, прибывшему сюда с письмом от герцога регента Швеции. Он утверждал, что ему, якобы, доверен секрет, по поводу которого он может открыться только Ее императорскому величеству лично. Прибыв по адресу, который мне был указан, я нашел его одного в комнате; он был одет в нечто вроде сутаны из фиолетового сатина, подпоясанный наборным серебряным поясом и, как мне показалось, имел в высшей степени загадочный вид. Впрочем, держал он себя хотя и с несколько искусственной важностью, но спокойно. В нескольких словах я изложил ему цель моей миссии, сказав, что граф Зубов поручил мне сообщить ему о совершенной невозможности его личной беседы с императрицей. Однако, если он хотел довести до сведения Ее величества что-то важное, то он мог бы сделать это через Его превосходительство (очевидно, имелся в виду Зубов. — П.C.). Если же он находил затруднительным передать свое сообщение устно, он мог бы написать записку в присутствии Его превосходительства и передать ее опечатанной, с тем, чтобы она была немедленно передана Ее императорскому величеству.
Он ответил, что, к большому сожалению, не может принять столь любезное предложение, поскольку дал клятву никогда и никому, кроме императрицы, не открывать доверенный ему секрет, который не может быть изложен на бумаге. Он добавил, что скорее пожертвует жизнью, чем нарушит взятые на себя обязательства…
Я снова попытался заставить его прислушаться к голосу разума; он был непреклонен, отвечая, что ему не остается ничего другого, как вернуться назад. Однако он увезет с собой самое живое сожаление о невозможности выполнить поручение, которое было бы приятно императрице. Утешением ему будет только то, что такова была воля Господня…
Наконец, видя, что разговор зашел в тупик, я предложил ему отправиться со мной к графу Зубову. Он, однако, извинился, сказав, что его закон запрещает ему покидать свой дом в день Шаббата до тех пор, пока на небе не появятся звезды»[211].
Зубов, однако, настоял, чтобы таинственный незнакомец был немедленно доставлен к нему. Тому не оставалась ничего, кроме как согласиться, при условии, что по пути ему будет позволено читать молитвы. Разговор незнакомца с Зубовым, как и следовало ожидать, также закончился безрезультатно. На следующий день незнакомец в сопровождении офицера гвардии был доставлен в Ригу. Перед отъездом он все-таки написал письмо на имя Екатерины, однако из содержания его невозможно понять, какой секрет регент поручил передать ему императрице в личной беседе[212].
Вскоре после этого Штединг запросился на встречу с императрицей и был принят. О чем шла речь, неизвестно, но после нее настроение Екатерины изменилось к лучшему. В письме, отправленном регентом Екатерине 26 мая, есть такой пассаж:
«Я льщу себя надеждой, что последние объяснения посла короля при Вашем величестве устранят Ваши сомнения относительно этого предмета (сближение России и Швеции. — П.C.) и что секрет, который он сообщил Вам по моему приказанию, докажет Вам, по крайней мере, всю силу моего к Вам доверия».
В том же письме регент в выражениях самых категорических, под свое честное слово подтвердил, что брак короля с принцессой Мекленбург-Шверинской не состоится.
Вполне откровенно высказался регент и по предмету, в наибольшей степени интересовавшему Екатерину.
«Что касается до известного дела, — писал он, — я не сомневаюсь, что оно будет окончено к взаимному нашему удовольствию и увенчается полным успехом, если с обеих сторон к этому будут стремиться одинаково и с осмотрительностью, которой, безусловно, требуют обстоятельства. Впрочем, никто не знает лучше Вашего императорского величества, какое достоинство должен придавать государь всем своим действиям. Следовательно, Вы легко поймете, как щекотлив для короля этот шаг. На сцене мира он молодой дебютант, призванный к великому назначению и его слова и счастье для меня дороже моих собственных дней. Вы не можете, конечно, не знать, что первые шаги часто определяют всю карьеру».
Письмо регента подвело черту под кризисом. В Петербурге решили аккредитовать в Стокгольме посла, место которого было вакантно со времени отъезда Румянцева. Зубов очень хлопотал о назначении на эту должность своего родственника Осипа Ивановича Хорвата, женатого на его сестре, но Екатерина решила вернуть в Стокгольм Будберга, образ действий которого в шведской столице она одобряла. Сообщая регенту о назначении Будберга, Екатерина направила официальное приглашение королю и регенту посетить Петербург.
Торжественный въезд нового российского посла в Стокгольм свершился в день восшествия Екатерины на престол — 28 июня 1796 года. Прием, оказанный ему на этот раз, превзошел все ожидания. Регент и король состязались в изъявлениях дружелюбия. Действовавший в Швеции строгий и холодный протокол встречи послов был изменен. Регент, подражая французской галантности, разработал план, согласно которому Будберга на подъезде к Стокгольму должны были взять в плен части королевской гвардии и с почетом доставить в королевский дворец. Будберг, не желавший быстро менять суровый тон, который он взял со шведами в последнее время, нарочно не задержался вблизи Стокгольма, спутав расчеты регента. Однако для пользы дела отношения с Рейтергольмом и герцогом надо было налаживать — и на первую аудиенцию у короля Будберг направился в сопровождении Рейтергольма.
Между тем, ясности в главном вопросе, порученном новому послу — устройстве поездки короля и регента в Петербург, — все еще не было. 26 июня сообщая Екатерине о своей беседе с Рейтергольмом, Будберг писал, что король весьма желал бы, чтобы во время его визита в Петербург не было сделано ни малейшего намека на предстоящий брак.
«Министр распространялся при этом об отвращении, которое чувствует король к союзу с Мекленбургским домом, — приводил посол слова Рейтергольма, — что это отвращение высказалось так явно, что он не желает, чтобы об этом больше говорили, но что в то же время государь думает, однако, что было бы слишком неблаговидно предпринимать что-либо относительно нового брака в то время, когда во всех церквах творятся молитвы за принцессу, которая не отвергнута еще публично».
Будберг, понимавший, судя по всему, обстановку при шведском дворе лучше, чем Екатерина и Зубов, ответил в том смысле, что было бы неправильно связывать приезд короля в Россию исключительно с вопросом о его браке, речь идет о сближении двух стран, возможно о новом союзном трактате, который заменил бы Дроттингольмский. Одновременно, желая, видимо, помочь королю и регенту принять правильное решение, он написал письмо Моркову, предлагая сообщить шведам, что в случае, если Густав все же решится приехать, то в Финляндии его встретит один из великих князей.
В Петербурге, однако, продолжали смотреть на происходящее в Стокгольме с большим сомнением. Попытки регента сохранить достоинство молодого короля принимались за проявление неуместной спеси. Морков не замедлил сообщить Будбергу о том, что ни великий князь, ни он в Финляндию не поедут. Решение вопроса о том, следовало ли Будбергу сопровождать короля или остаться в Стокгольме, Екатерина оставила на его усмотрение.
Условия, переданные Рейтергольмом в Петербург через Будберга (восстановление Дроттингольмского трактата, подтверждение границ, определенных Верельским договором, компенсация за ущерб от потерь шведской торговли с Францией), вызвали у Екатерины очередной приступ гнева. Императрица, будто утратив по непостижимым причинам здравый смысл, упрямо не желала принимать всерьез вполне понятную озабоченность регента. В результате дело сугубо политическое превратилось для нее в вопрос личного престижа, если не сказать амбиций.
«Если регент, его наставник Рейтергольм продолжают изобретать новые препятствия к браку молодого короля с моей внучкою, то им можно сказать, что они покинутые Богом люди, замышляющие несчастье королю и королевству Швеции. Таким несчастьем, без сомнения, должно быть признано нежелание их принять самый лучший и ценный дар, который я могу сделать королю и королевству. Этим драгоценным даром спокойствие двух государств было бы утверждено в полном смысле слова на многие лета. Придет время, когда они будут жалеть о своей бездеятельности, и тогда на них падет обвинение в преступлении против короля и королевства» — писала она Будбергу в письме, которое начала 4, а закончила 9 июля.
В порыве эмоций, к сожалению, чисто женских, Екатерина даже приказала Будбергу прекратить обсуждении вопроса о приезде короля в Петербург.
Положение в очередной раз спас Штединг, написавший Зубову 8 июля, что король «будет иметь удовольствие, следуя любезному приглашению российской императрицы, явиться к ней в течение настоящего сезона, не предлагая при этом никаких условий». К счастью, курьер, направлявшийся в Стокгольм с письмом Екатерины, замешкался и императрица успела вложить в пакет листок, в котором выражала согласие на возобновление Дроттингольмского трактата.
«Постарайтесь с возможно большей поспешностью уведомить меня о дне отъезда короля и регента, о титуле, в коем они желают явиться в мое государство, о количестве и свойстве лиц, составляющих их свиту, а также о числе лошадей, нужных под экипажи», — так заканчивались инструкции Екатерины Будбергу.
18 июля Будберг сообщил, что король с многочисленной свитой выезжает в Петербург через две недели. С радостной вестью посол направил в Петербург своего племянника, поверенного в делах.
В день получения окончательного известия о дате выезда короля Екатерина направила старшему Будбергу в Стокгольм знаки ордена Александра Невского.
Впрочем, как известно, только поражение — без отца, у победы же — много родителей. Рейтергольм, в одночасье превратившийся из заклятого врага в друга России, не упустил возможности направить с Будбергом-младшим депешу Штедингу, в которой относил заслугу появления короля в Петербурге на свой счет.
«Я не спал сию ночь с четвертого часу и по эту минуту стол мой окружен людьми, — писал Рейтергольм. — Я так занят распоряжениями и письмом, что насилу успел написать сии строки для сообщения тебе, любезнейший друг, сей радостной вести. Но хотя бы и имел предовольно времени, то и тогда бы тщетно старался описать тебе все те интриги, затруднения и препятствия, которые был должен преодолеть»[213].
Действо третье
Мы с Густавом III так же похожи друг на друга, как круг на квадрат.
Екатерина II1
Король и регент прибыли в Выборг 11 августа, в понедельник. Королевской яхтой командовал брат шведского посла адмирал Штединг. Рейтергольм и Эссен, не переносившие моря, следовали почтовым путем. В свите короля насчитывалось двадцать три придворных, всего сопровождающих было сто сорок человек.
На русском берегу шведов встречал генерал-аншеф Михаил Илларионович Кутузов. Гостям были отданы почести, положенные коронованным особам, несмотря на то, что они путешествовали инкогнито: регент — под именем графа Ваза, Густав — графа Гага, приняв эту фамилию от названия одного из своих загородных замков.
В Петербург прибыли 13 августа, к вечеру. В просторном двухэтажном доме Штединга у Крюкова канала королю и регенту были отведены лучшие покои, свита и слуги разместились в домах, снятых поблизости. Перед подъездом посольской резиденции непрерывно курсировали экипажи — петербургской публике было любопытно посмотреть на знатного путешественника.
14 августа с утра гости принимали обер-гофмаршала Федора Барятинского, поздравившего их от имени императрицы с прибытием в российскую столицу, затем — прогулка пешком по Петербургу. Осмотрев памятник Петру Великому, король и регент сели в поджидавшую их карету и отправились в Летний сад. Первые места в карете занимали Штединг и Рейтергольм, король и регент укрывались за ширмой.
Утром гости в сопровождении Кутузова посетили Александро-Невскую лавру. В старом Троицком соборе король задержался у мраморной плиты, на которой было высечено имя Петра III[214].
Накануне вечером императрица переехала из Таврического дворца, где всегда останавливалась после возвращения из Царского Села, в Зимний. В седьмом часу по случаю наступающего Успенского поста была отслужена всенощная. На ужин собрался узкий круг приближенных. Разговор, разумеется, шел о назначенном на следующий день представлении Густава.
— Говорят, принц совсем не похож на своего отца, — обратилась Екатерина к сидевшему напротив нее Безбородко.
— Которого отца изволит иметь в виду ваше величество? — откликнулся Безбородко. При тучности фигуры он говорил высоким голосом с характерным малороссийским распевом. — На этот счет есть разные мнения…
Намек был прозрачен, но неуместен. Екатерина не терпела, когда в ее присутствии говорились двусмысленности по поводу частной жизни коронованных особ.
— Покойный король позаботился о том, чтобы дать ему изрядное образование, — продолжала императрица, как бы не слыша Безбородко.
В силу обстоятельств рождения сына, Густав III пытался с малых лет создать ему репутацию вундеркинда. Наследному принцу не исполнилось и четырнадцати лет, когда он был избран почетным доктором Упсальского университета.
— Впрочем, знавала я в своей жизни и докторов, и философов, но, по правде сказать, мало среди них было людей разумных, — задумчиво произнесла Екатерина. — Помнишь ли, князь Платон, — обратилась она к Зубову, — как Пален описывал платье, в котором покойный король явился на подписание мирного трактата?
— Как не помнить, матушка, — отвечал Зубов, скаля мелкие зубы в ускользающей улыбке. — Камзол короткий, по шведской моде, весь в кружевах и обшитый тесьмой по швам, три ряда эполет, из которых последние опускались до локтя, шелковые панталоны в обтяжку, наполовину желтые, наполовину голубые, предлинная шпага на вышитой перевязи и огромная шпора, как он говорил, принадлежавшая еще Карлу XII.
— А шляпа? — напомнил Безбородко — Шляпу забыли, Платон Александрович.
— Да как же без шляпы? Обязательно шляпа, из желтой соломы, как у пастуха, и с громадным голубым пером.
При последних словах Зубов как бы в недоумении поднял брови и вновь ощерился в полуулыбке. Смеяться громко он не умел. Безбородко — дитя природы, захохотал с подвизгом. Присутствовавшие дамы вторили ему серебряными колокольчиками.
Екатерина задумалась. Потом встряхнула головой, будто отгоняя неприятное, и сказала:
— Надеюсь, принц унаследовал от своего отца только хорошее. Вот и Румянцев, будучи в Стокгольме, писал, что у него добрые задатки. Сидор Ермолаич[215] и этот якобинец Рейтергольм сбивали его с толку. Сейчас вроде одумались, но все равно — крепко смотреть за ними надобно.
И, вставая из-за стола, закончила, как отрезала:
— Поживем — увидим, благо ждать осталось недолго, завтра пожалуют.
2
Представление Густава Екатерине состоялось в восьмом часу вечера в Эрмитаже.
Императрица ожидала принца, вошедшего в сопровождении регента и Штединга, в «комнате, где шкафы с антиками». Сзади и чуть сбоку от нее стояли Зубов и Остерман. Густав понравился ей с первого взгляда. Он оказался стройным, среднего роста юношей, одетым в черный шведский костюм с белым отложным воротничком, на который ниспадали прямые соломенные волосы с рыжеватым оттенком. Юношеское лицо его выражало спокойную приветливость, серые глаза смотрели внимательно, но холодно. Говорил Густав тихим, слегка монотонным голосом, заставляя собеседников ловить каждое его слово. Его французский был безупречен.
Еще более располагали к себе манеры принца, в которых чувствовалась уверенность в себе и привычка держаться на людях — верный признак подлинного аристократизма.
Подойдя к императрице, Густав почтительно наклонил голову, намереваясь поцеловать ей руку, но Екатерина остановила его.
— Я никогда не забуду, — сказала она, — что граф Гага — король.
— Если ваше величество, — легко нашелся Густав, — не желает дозволить мне такой чести как императрица, то разрешите засвидетельствовать мое уважение к великой женщине, достоинства которой восхваляет мир.
Одного этого было достаточно, чтобы тронуть сердце Екатерины. Что же говорить о мнении петербургского высшего света о том, в ком видели будущего родственника императорской семьи? Достоинства Густава были признаны несомненными — он выглядел и держался по-королевски.
Лишь много позже как-то вспомнилось, что за все время пребывания в Петербурге шведский король ни разу не улыбнулся. Необычной показалась и незамеченная поначалу особенность внешности Густава: голова его была как бы несколько сплюснута с боков. Этот недостаток, заметный, впрочем, только очень внимательному взгляду, необъяснимым образом трансформировал его лицо. Если в анфас оно выражало спокойное величие, то при взгляде на него в профиль чуть длинноватый нос принца и волевой, выдающийся вперед подбородок придавали ему сходство со знаменитыми флорентийцами эпохи Кватроченто — то ли с Данте, то ли с Макиавелли.
Зато уж опекун принца герцог Карл дал обильную пищу для петербургских острословов. Он, к сожалению, обладал крайне невыразительной внешностью для второго лица в государстве. Роста был незначительного, haut comme la jambe[216], как вспоминала Головина. Постоянно улыбающийся, кособрюхий, с тоненькими, циркулем, ногами и непропорционально длинными руками, которыми непрерывно жестикулировал — он производил неизгладимое впечатление. Остается только недоумевать, как при такой внешности герцог умудрялся сохранять важность и сановную значительность. Высшие шведские и иностранные ордена, побрякивавшие у него на груди, вовсе не выглядели неуместными.
Было, было в манерах и выражении лица герцога нечто такое, что заставляло забывать о его странной наружности. Взгляд ли, одновременно насмешливый и проницательный слегка косящих глаз, речь ли, вкрадчиво-раскрепощенная, завораживавшая собеседника неожиданным блеском светских банальностей — герцог был известный causeur[217] — трудно сказать. Одно несомненно: он обладал редкой способностью располагать к себе самого пристрастного собеседника.
Это, впрочем, не исключало возможности для записных столичных бонмотистов позубоскалить над странностями шведского гостя.
Далеко не исключало.
Великий князь Константин первый сравнил герцога с Полишинелем, героем французских ярмарочных балаганов. Прозвище будто приклеилось, и с тех пор в петербургских салонах иначе герцога и не называли.
3
К великокняжеской чете, ожидавшей с детьми в соседней комнате, Екатерина подвела шведских гостей сама.
Кланяясь принцу, Павел не проронил ни слова. Его сумрачное лицо несколько прояснилось, лишь когда вслед за принцем к нему приблизился регент. Перед тем как поклониться Павлу, герцог переложил шляпу в левую руку, а правую прижал к груди, сложив ее пальцы особенным образом. Отвечая, Павел как бы нечаянно повторил этот жест. Он знал, что герцог Карл был масоном глубокого посвящения.
Со свитой Густава великий князь вел себя холодно. Его раздражали фраки, в которые были облачены шведы, их круглые шляпы казались ему символом французского вольнодумства.
Мария Федоровна, пышнотелая, возбужденная от переполнявших ее ожиданий, напротив, дарила улыбки. Рядом с ней щупленький, узкоплечий Павел выглядел преждевременно состарившимся мальчиком.
Великая княгиня представила принцу дочерей.
Когда Александра Павловна впервые склонилась в книксене перед тем, кого уже открыто называли ее женихом, щеки ее покрыл жгучий румянец, а на глазах от смущения навернулись слезы. Густав, державшийся до этого момента безупречно, также, видимо, смешался и не мог вымолвить ни слова. Положение спасла Екатерина, обратившаяся к принцу со спасительным вопросом о погоде в Швеции. Отвечая, принц не сводил глаз с великой княжны. Высокая, стройная, со свежим румянцем, озарявшим ее привлекательное лицо, Александра Павловна была в тот вечер особенно хороша.
Словом, Екатерина имела все основания быть довольной первым свиданием с Густавом.
— Надеюсь, вы не будете скучать в Петербурге, — сказала она принцу при прощании.
Придворные и дипломаты впервые увидели принца в большом зале Эрмитажа, где уже находилась его свита. Представление было устроено по версальскому этикету: в распахнувшиеся как бы сами собой раззолоченные двери Екатерина вошла, опираясь на руку Густава. Величественный вид императрицы гармонировал с юношеским благородством принца.
Лиц, сопровождавших принца, представлял обер-церемониймейстер Валуев.
— Барон Густав Адольф Рейтергольм, президент Ревизионной коллегии, обер-камергер двора вдовствующей императрицы, — возвестил Валуев густым голосом.
Рейтергольм был встречен изучающим взглядом, который сменила доброжелательная улыбка.
— Рада вас видеть, барон, — сказала Екатерина, протягивая Рейтергольму руку для поцелуя.
— Генерал-майор барон Ганс Генрих Эссен, губернатор столичного града Стокгольм, — возвестил Валуев при приближении старика с добрым лицом, грудь которого украшала голубая лента ордена Серафимов.
— Un des nôtres[218], — шепнул на ухо Зубову, стоявшему за императрицей, Морков, сохраняя выражение полного бесстрастия.
Последовавшие за Эссеном граф Стенбок, барон Шверин и адмирал Штединг, младший брат посла, были известны в Петербурге.
— Граф Пипер, — произнес Валуев.
— Персона незначительная, но мать его предназначается в статс-дамы будущей королеве, — пояснил Морков.
Зато при представлении барона Флеминга, молодого человека мрачной наружности, комментарий его был более обстоятельным:
— Ce personnage — là est en train de devenir l’eminence grise[219], — прошептал он. — Король питает к нему неограниченное доверие, они воспитывались вместе. Враги регента рассчитывают на его влияние. Осторожен и умело играет на крайней религиозности короля.
Вечером в зале перед Эрмитажным театром был накрыт обеденный стол на сто двадцать кувертов.
Бал в честь гостей из Швеции продолжался до первого часа ночи.
4
Скучать Густаву в течение его шестинедельного пребывания в русской столице действительно не пришлось. Утро субботы прошло в визитах, а вечером, на первый бал, данный в Картинной галерее Таврического дворца, был приглашен избранный круг — «дамы в греческом, а кавалеры в обыкновенном цветном платье». В ожидании короля, который должен был открыть бал, собрались в Китайском зале. Наклонясь к Головиной, которая сидела подле нее, Екатерина сказала:
— Наверное, нужно начинать танцы. Лучше, чтобы к приезду короля все было в движении. Так трудно входить в зал, где у всех ожидающие лица. Я, пожалуй, прикажу, чтобы играли полонез.
— Хотите, чтобы я распорядилась, мадам? — спросила Головина.
— Нет, — ответила Екатерина, — дело нехитрое, я справлюсь сама.
Императрица сделала знак рукой, но камер-юнкер, отвечавший за танцы, был слишком увлечен беседой с дамами. Между тем стоявшему рядом с ним Остерману показалось, что Екатерина подзывает его. Старик устремился к императрице, помогая подагрическим негнущимся ногам длинной тростью, с которой не расставался. Екатерина поднялась, взяла под руку Остермана и, подведя его к оконному проему, начала с ним тихий разговор, продолжавшийся не менее пяти минут. Вернувшись к Головиной, она спросила, довольна ли та ею.
— Поступить иначе было неудобно, — пояснила она. — Старик обиделся бы, если бы понял в чем дело. Je lui ai parlé sur la pluie et le beau temps[220]. Видите, как он доволен, следовательно, довольна и я.
Наконец, появился король. В этот вечер, как и во все последующие, Екатерина вела себя чрезвычайно предупредительно по отношению к гостям, сохраняя, впрочем, чувство меры и достоинство. Король отвечал тем же. По взглядам, которые он бросал на императрицу, складывалось впечатление, что он присматривался к ней не менее внимательно, чем она к нему.
«Aujourd’hui pour la première fois les yeux du roi s’adoussissaient, il avait l’air d’un très grand contentement»[221], — так описывала Екатерина этот вечер в письме к Гримму.
Ужин был накрыт в комнатах великого князя Александра. Императрица появилась на нем лишь на несколько минут — предоставленные сами себе, молодые люди чувствовали себя непринужденнее.
17 августа Густав и Александра Павловна полдня гуляли по лужайкам и аллеям Таврического сада, не замечая стоявшей в этот день жары, великая княгиня-мать была очень весела.
Вечерами — балы, спектакли в Эрмитаже, домашние концерты, где великие княжны пели дуэты, поездки на Каменный остров.
На каждом балу будущий король Швеции танцевал с великой княжной так долго, как это позволяли приличия. Под строгим надзором мадам Ливен, не спускавшей глаз со своей подопечной, Alexandrine была немногословна. Все в ней, однако, — опущенные вниз глаза, легкий румянец щек — свидетельствовало, что внимание принца было ей приятно.
Кстати сказать, танцевала Александра Павловна, так же как и ее сестры — отменно. Танцы были манией в доме Павла Петровича. Он сам был прекрасным танцором и позаботился, чтобы дочерей обучил этому искусству француз Дидло — лучший балетмейстер Петербурга.
Густав поначалу чувствовал себя не очень уверенно. Раз или два ему случалось перепутать фигуры в вышедшем уже из моды в Европе менуэте, любимом танце Александры, но природная ловкость и умение держать себя на публике неизменно выручали его.
Беседы принца и великой княжны поначалу не выходили за рамки общих тем. По мере того как молодые люди привыкали друг к другу, речь их становилась все оживленнее, и уже через несколько дней, провожая Александру Павловну до кресел, Густав начал подолгу задерживаться подле нее, не обращая внимания на беспокойство, которое начинало излучать благопристойное, хотя и несколько лошадиное лицо воспитательницы великих княжон мадам Ливен.
5
По всей видимости, во все время пребывания в Петербурге в душе Густава шла напряженная работа. Как и рассчитывала Екатерина, Alexandrine произвела на него столь глубокое впечатление, что сомнения и колебания раненого самолюбия оставили его, хотя, как оказалось, только на время. Во всяком случае, уже через две недели после приезда принц счел нужным открыть свои чувства Екатерине.
Случилось это 24 августа, в воскресенье, на приеме в Таврическом дворце, который был на этот раз особенно великолепен. Всеобщее восхищение вызвала подсветка колонн в Большой зале, искусно устроенная архитектором Волковым. После ужина, на который, помимо обычных гостей, был приглашен приехавший из Москвы Алексей Орлов, императрица вышла в сад, где в увитой плющем беседке на берегу Круглого озера подали кофе. Пламя свечей оживляло бирюзовые изгибы севрского фарфора. Густав, внезапно возникший рядом с Екатериной из сиреневых сумерек, просил дозволения остаться с ней наедине. Усадив принца рядом с собой, императрица приготовилась слушать. Еще более монотонным и тихим, чем обычно голосом он сказал, что пользуется свободной минутой, чтобы выяснить вопрос, имеющий для него огромную важность.
— Я хотел бы открыть вам свое сердце, Ваше величество, — сказал Густав, — но прежде дайте мне слово, что вы сохраните наш разговор в непроницаемой тайне.
— Разумеется, — ответила Екатерина, внимательно глядя на молодого человека.
После некоторого, вполне, впрочем, понятного замешательства Густав объяснился. Он влюблен в Александру Павловну и хотел бы просить ее руки.
Императрица выслушала признания Густава с подобающей моменту величавостью. Стоит ли говорить, как она ждала этих слов? Тем не менее, отвечая, Екатерина сочла нужным напомнить шведскому гостю о том неловком положении, в которое он ставит и ее, и великую княжну, имея разом двух невест. Густав с готовностью согласился с тем, что с мекленбургским сватовством пора заканчивать. Обещав немедленно устранить затянувшуюся двусмысленность, он просил императрицу разрешить ему переговорить с Александрой Павловной и в случае, если ответ будет благоприятным, дать предварительное согласие на его предложение. Екатерина попросила три дня на размышление.
В тот же день она уведомила — разумеется, в строжайшей тайне — Павла Петровича — гатчинского затворника, и его супругу о предложении, сделанном их дочери. С нескрываемым ликованием сообщала она великой княгине о том, что расчет ее оказался верным: любовь явно одерживала победу над интригами политиков и церковников.
— L’amour va en battant le tambour[222], — писала она торжествующе.
И чуть позже:
— Le roi est épérdumment amoureux[223].
Мария Федоровна вполне разделяла радость свекрови. Она чрезвычайно желала этого брака, не без основания считая, что он мог высоко поднять престиж гатчинского двора. Кроме того, практический ум великой княгини подсказывал ей, что совместные хлопоты по устройству замужества Alexandrine — самый короткий и верный путь к сближению с Екатериной, отношения которой с сыном оставляли желать лучшего.
Много лучшего.
Разумеется, ее согласие не заставило себя ждать. Не возражал и Павел Петрович, хотя он и не слишком беспокоился о предстоящем браке дочери, полностью предоставив это дело на усмотрение великой княгини и императрицы.
Тем временем Екатерина мастерски держала паузу. Вечером, на бале-маскараде, принц весь вечер простоял возле кресла императрицы, за которым расположилась вся ее семья. Не зная еще, каков будет ответ, Густав выглядел печальным и озабоченным.
На следующий день, на большом приеме у Александра Сергеевича Строганова, принц снова не отходил от Екатерины. После очередного танца волна возвращавшихся к своим местам дам и кавалеров поднесла к императрице княгиню Радзивилл. Позвякивая бриллиантами и оживленно щебеча по-французски, красавица-полька протянула императрице медальон с портретом Густава, сделанный энкаустическими красками итальянским живописцем Тончи, который видел принца накануне.
— Портрет похож, — сказала императрица. — Но я нахожу, что граф Гага выглядит на нем печально.
Король с живостью ответил:
— Еще вчера я был так несчастен.
Утром этого же дня Мария Федоровна, не утерпев, намекнула ему, что ее дочь не будет возражать против брака, но окончательный ответ зависит от императрицы.
6
Наконец, ремонтные работы в Зимнем дворце были завершены. Великие князья и двор переехали из Таврического. Всем придворным были разосланы просьбы давать балы.
Первый из них был устроен 27 августа генерал-прокурором графом Александром Николаевичем Самойловым. Племянник Потемкина, он пользовался особой доверенностью Екатерины. Погоды стояли теплые. Несколько русских и шведских вельмож ожидали на балконе великолепного дома Самойлова приезда императрицы. Когда показалась ее карета, все увидели, как над силуэтом Петропавловской крепости в небе прочертила траекторию и исчезла комета. Сопровождавшая Екатерину Анна Степановна Протасова перекрестилась. Появление кометы считалось дурным предзнаменованием.
Когда Екатерина вошла в парадную залу, король был уже там. Бал начался. После первых танцев императрица перешла с Густавом в комнату, где стояли столики для бостона. Подозвав Головину, Екатерина попросила занять ее место за карточным столом, сама же расположилась с королем на диване в дальнем углу.
Густав заметно волновался.
— Я обдумала ваше предложение, — сказала Екатерина. — Более того, я переговорила с Александрой Павловной и ее родителями, о чем вам, как мне кажется, известно.
— Каков же ваш ответ?
Помедлив, Екатерина сказала:
— Я ничего не желала бы так, как устроить счастье моей внучки и ваше, граф. Помимо того, я должна считаться и с тем, что брачный союз с династией Ваза мог бы надолго водворить мир и согласие между нашими странами, устранив недоразумения, которые разделяли нас в последние годы. Словом, я готова дать согласие, если вы, в свою очередь, выполните два непременных условия. Во-первых, формально освободитесь от своих обязательств по отношению к герцогине Мекленбургской. Во-вторых, российская великая княжна, даже выйдя замуж, должна остаться верна той религии, в которой была рождена и воспитана.
Разумеется, условия, выдвинутые Екатериной, не оказались для Густава неожиданными. В отношении первого из них проблем не возникало: и в Стокгольме, и в Мекленбурге понимали, что после всего, что произошло, возобновлять переговоры о династическом браке было бы просто неприлично. Что же касается второго условия, то Густав несколько более взволнованным голосом, чем обычно, но достаточно твердо сказал, что как честный человек обязан теперь же объявить, что законы Швеции требуют, чтобы его будущая супруга исповедовала одну религию с королем.
— Мне известно, — возразила императрица, — что законы Швеции были чужды веротерпимости в начале распространения у вас лютеранства. Тем не менее впоследствии покойный король, ваш отец, издал при участии самих лютеранских епископов новый закон, который дозволяет всем, не исключая и короля, вступать в брак с невестой, исповедующей другую религию.
Не опровергая прямо слов императрицы, Густав высказался, однако, в том смысле, что в случае, если королева Швеции не будет исповедовать господствующую в стране веру, умы его подданных могут взбунтоваться против него.
— Вашему величеству лучше знать, как следует поступать в подобных случаях, — заметила на это Екатерина, приняв серьезный вид[224].
Густав пытался продолжить объяснения, но императрица встала и, не оборачиваясь, прошла к карточному столу.
Король возвратился в танцевальный зал, где его ждал сюрприз. Великий князь Константин, окруженный обычной толпой светских шалопаев, встретил его вопросом:
— Как вам понравился бал, Ваше величество?
Густав, не подозревая подвоха, отвечал со своей обычной сдержанностью.
— Так знайте, вы были в гостях у самого известного пердуна в городе, — воскликнул Константин с казарменной развязностью, оглядываясь молодецки на своих приятелей.
Король обомлел.
Когда о выходке великого князя было доложено бабушке, Константин вновь отправился на гауптвахту. Екатерина же со вздохом вынуждена была признать большую разницу в воспитании великих князей и Густава.
7
Вечером этого же дня Екатерина писала Гримму:
«Говорят, будто курьер уже готов отправиться с формальным отказом принцессе Мекленбургской. Прежде этого я, конечно, не могла и слышать о предложении. Но нужно сказать правду: он не может скрыть своей любви. Молодой человек приехал сюда грустный и задумчивый, смущенный, а теперь его не узнаешь: весел, проникнут радостью и счастьем».
Настроение Екатерины невольно передалось и Александре Павловне, для которой бабушка оставалась непререкаемым авторитетом. К этому времени объяснение между ней и принцем, по-видимому, состоялось. Во всяком случае, на очередном балу в Таврическом дворце великая княжна, оттанцевав с Густавом, подсела к матери и сообщила, что говорила сейчас с отцом, который дал ей свое благословение на брак, и просила мать сделать то же.
Во время разговора к дамам подошел регент в сопровождении Густава. Физиономии обоих в отличие от лиц великой княгини и ее дочери, были мрачны. Казалось, между ними только что произошел какой-то неприятный разговор. В продолжение бала регент хранил молчание, а король казался смущенным, мало разговаривал и вообще вел себя необычно, с оттенком не шедшего ему высокомерия.
«Со времени моего второго разговора с графом Гага затруднения, касающиеся религии, возникали только с его стороны, — вспоминала впоследствии императрица. — Регент и его приближенные не видели больше никаких препятствий для брака и надеялись устранить те, которые смущали короля».
Странное затмение посетило Екатерину в эти августовские дни 1796 года. Затмение разума. Ей и в голову не приходило сделать шаг навстречу молодому королю — ее родственнику, стараться понят логику его поведения, попыток сохранить собственное достоинство и достоинство своей страны.
Впрочем, что же тут странного? За долгие годы своего царствования императрица привыкла к тому, что соседи повиновались ее воле. Если же колебались, она знала, как заставить их повиноваться.
Затмение, право слово, затмение.
Действо четвертое
В окружении императрицы слишком рассчитывали на средства, которые вытекали из бедности шведов… Такое поведение обычно вызывает ненависть. Это и произошло.
А. А. Безбородко С. Р. Воронцову, 5 ноября 1796 г.1
Екатерина не пропускала ни одного бала, театрального представления или маскарада, дававшихся петербургским высшим светом в честь шведских гостей, хотя, будучи в последнее время слаба ногами, с трудом поднималась по парадным лестницам. Для удобства императрицы в тех домах, где давались балы, взамен лестниц сооружались покатые деревянные всходы. Граф Безбородко, устроивший прием в честь шведских гостей 28 августа, только на устройство одного такого всхода истратил пятьдесят тысяч рублей серебром, сумму непомерную по тем временам.
К дому Безбородко на Почтамтской Екатерина подъехала к двум часам дня. Огромный дом, скорее дворец, с подъездом, украшенным четырьмя колоннами из полированного гранита с бронзовыми основаниями, поражал великолепием. Над входом нависал массивный балкон с бронзовыми же перилами, задняя часть дома выходила на Большую Исаакиевскую площадь.
Внутреннее убранство соединяло в себе азиатскую роскошь с утонченным вкусом Версаля. Мраморные лестницы были устланы персидскими коврами, потолки горели люстрами, блиставшими перекрестным огнем алмазов.
Большой парадный зал с колоннами под мрамор был выполнен по проекту Кваренги. В центре его висел великолепный портрет Екатерины кисти Левицкого. Императрица была изображена в белой тунике и парчовой мантии, возле жертвенника, на котором курился фимиам из маковых цветов. В углах зала привлекали внимание две огромные мраморные вазы с барельефами, сделанные в Риме во времена Нерона. Вдоль стен протянулись высокие, почти до потолка, этажерки, сверху до низу уставленные редчайшим китайским и японским фарфором.
Танцевальные залы были украшены дорогой мебелью, скупленной князем у французских эмигрантов за бешеные деньги. В столовой обращала на себя внимание огромная люстра из горного хрусталя, привезенная из Пале-Рояля. Бюро и кресла работы знаменитого Шарля Буля были украшены инкрустациями из черепаховой кости с медными накладками. Жирандоли, бронзовые украшения для столов, урны, шелковые тамбурные занавески когда-то украшали кабинет Марии Антуанетты в Малом Трианоне. Рядом — бронзовые статуи работы Гудона, замечательные севрские вазы из голубого фарфора с накладками из белого бисквита. Стены спальни графа были обиты красным бархатом, благородную глубину которого оттеняли бронзовые украшения.
Однако предметом особой гордости Безбородко служила картинная галерея, в которой имелось немало шедевров из проданных на аукционе коллекций герцога Орлеанского, Шуазеля и других французских аристократов. Александр Андреевич гордился тем, что был у него пейзаж Сальватора Роза, равного которому не имелось и в Эрмитаже. Комиссионеры его по всей Европе охотились за произведениями французских и итальянских романтиков, среди которых граф особо выделял Клода Лоррена. Больших картин в галерее Безбородко было по каталогу триста тридцать, а миниатюр, тоже очень хорошей работы, — не счесть.
У входа в картинную галерею на фигурном столике стояла статуя маленького Амура из белого мрамора, лукаво державшего у рта указательный палец левой руки. Это была знаменитая работа Фальконе, за которую тот удостоился места во французской Академии художеств.
Державин, присутствовавший на празднике в доме Безбородко, излил свой восторг в стихах:
Что есть гармония во устроении мира, Пространство, высота, сияние, звук и чин? Не то ли и чертог, воздвигнутый для пира, Для зрелища картин, В твоем, о Безбородко, доме? Я в солнцах весь стоял в приятном сердцу доме.Густав принимал воздаваемые ему почести как должное. Вежливая улыбка не сходила с его лица. Однако в больших дозах Российское гостеприимство, бывает утомительно. Чем пышнее становились праздники во дворцах петербургских вельмож, тем большую неловкость начинали чувствовать сопровождавшие Густава лица. Головокружительная роскошь, которую несколько навязчиво пытались выставить перед ними, заставляла их чувствовать себя бедными родственниками. До Штединга и регента, несомненно, доходили разговоры о том, что Орловы, Безбородко или Строгановы несравненно богаче шведского короля. Шведов, чутких к покушению на их достоинство, это задевало, а то и выводило из себя. Ростопчин находил, что «шведы в Петербурге были смешны — они или надмевались, или принижались».
Пожалуй, один Густав в этих обстоятельствах продолжал вести себя просто и обходительно. Каждое его слово было взвешено, а рассудительные разговоры казались несвойственными его возрасту.
Поведение регента в Петербурге вполне подтвердило его репутацию хитрого и ловкого политика. Хорошо зная своего племянника, его сильные и слабые стороны, он как-то обмолвился в его присутствии, что уступка в вопросе о вероисповедании будущей королевы чревата угрозой превращения Швеции в русскую провинцию. Эти слова глубоко запали в душу Густава. По политическим резонам и по застарелой обиде на Екатерину герцог Карл, по всей вероятности, был скрытым противником брака, который находил противоречащим не только интересам Швеции, но и его собственным. Однако привыкший за свою долгую и трудную жизнь действовать исподтишка, он опасался высказываться прямо.
Да этого, впрочем, и не требовалось. Густав был воспитан в духе крайнего лютеранского фанатизма. Его протестантские наставники с детства внушали ему мысль о превосходстве лютеранской веры над всеми другими, особенно православной, которую называли еретической. Можно было не сомневаться, что в решающий момент будущий король поступит в соответствии со своими понятиями о долге.
Будучи человеком предусмотрительным, регент даже предупреждал об этом Екатерину. Однако императрица осталась глуха к его словам. Это не означало, однако, что она бездействовала. Напротив, Зубов и Морков регулярно встречались со Штедингом, интересуясь настроениями в шведском стане. Поначалу посол вполне сочувствовал планам Екатерины, даже помог организовать секретное свидание короля с бароном Армфельтом, тайно привезенным в Петербург из своего калужского убежища. Из свидания этого, впрочем, не вышло ничего хорошего. Питая непримиримую вражду к регенту, Армфельт попытался внушить королю, что его дядя давно мечтает стать единовластным правителем Финляндии и поэтому ведет в вопросе о браке собственную игру, пытаясь побудить Екатерину оккупировать шведскую часть Финляндии и отдать ему в пожизненное владение.
Интрига — всегда палка о двух концах. Против ожидания, Густав сообщил о разговоре с Армфельтом регенту. Тот, вспылив, резко изменил тон и принялся пугать короля восстанием в Швеции, если будущая королева не станет лютеранкой. Внушения регента пали на благодатную почву. В его словах король увидел подтверждение собственных сомнений.
Дальнейшие события выглядят загадочно. 2 сентября на балу у Штединга Зубов подвел к императрице Моркова, состоявшего при нем в качестве alter ego[225], и велел повторить только что сказанные ему королем слова.
— Граф Гага изволил сказать буквально следующее: «Я удалил все сомнения относительно вопроса о религии молодой княжны», — доложил Морков.
Екатерина сочла нужным поинтересоваться, сказал ли король эти слова по своей воле. Морков с горячностью подтвердил, что инициатива исходила исключительно от Густава. Императрица довольно наклонила голову. Побитое оспой лицо Моркова просияло.
За ужином Екатерина попросила Головину сесть напротив Густава и Александры.
— Великая княжна выглядела такой печальной, что на нее больно было смотреть, — рассказывала ей Варвара Николаевна. — Король также не ел и не пил, не сводя с нее глаз.
Эти маленькие безумства позабавили императрицу.
Пытаясь скрыть улыбку, которая появилась на ее лице, императрица спрятала его за веером, с которым, впрочем, обращалась весьма своеобразно. По взгляду графини она поняла, что делает это неловко.
— Мне кажется, что вы подсмеиваетесь надо мной.
— Признаюсь, ваше величество, — отвечала Головина, — я никогда не видела, чтобы веер держали подобным образом.
— Наверное, я действительно выгляжу как Ninette à la cour[226], но Нинеттой уже в почтенном возрасте.
— Просто, ваше величество, ваша рука даже веер держит, как скипетр.
Головина слишком любила Екатерину, чтобы быть неискренней. Ей, как, вероятно, и другим, казалось в те дни, что императрица была на пути к своей очередной победе.
Не знала Варвара Николаевна, что веер понадобился императрице совсем для другой цели. Всего лишь полчаса назад, разговаривая с королем на глазах у раздушенной и разнаряженой толпы гостей, она, прикрываясь им, незаметно передала ему четыре аккуратно сложенных листа бумаги, исписанных ее почерком. Сделано это было ловко — пригодилась сноровка, приобретенная еще в старые времена, когда через посла Вильямса или Льва Нарышкина передавала записки для Понятовского.
— Прошу вас после бала внимательно прочитать это письмо, — сказала она после того, как листы исчезли во внутреннем кармане камзола Густава. — Оно поможет вам утвердиться в чувствах, которые вы мне выразили.
К счастью, текст этого столь таинственно передававшегося письма сохранился. Вот он.
2
«Согласны ли Вы со мной, любезный брат мой, что заключить брак, коего Вы, как сами сказали мне, желаете, следует не только в интересах Вашего государства, но и в Вашем личном интересе?
Если Ваше Величество с этим согласны и уверены в этом, то нужно ли, чтоб религия порождала препятствия Вашим желаниям?
Да будет мне позволено сказать Вам, что даже епископы Ваши не найдут что-либо возразить против Ваших желаний и поспешат устранить всякое сомнение в этом отношении. Дядя Вашего Величества, Ваши министры и все те, кои по долговременной службе, привязанности и верности особе Вашей наиболее имеют право на доверие, не находят в этой статье ничего, что стесняло бы Вашу совесть, ничего угрожающего спокойствию Вашего правления.
Подданные Ваши не только не осудят Ваш выбор, но будут рукоплескать ему с восторгом и станут по-прежнему благословлять и обожать Вас, ибо Вам будут обязаны они верным залогом их благоденствия и спокойствия общественного и частного.
Этот выбор, — я смею сказать это, — докажет Ваше благоразумие и разборчивость и увеличит только похвалы Вам со стороны Вашего народа.
Отдавая Вам руку моей внуки, я внутренне убеждена, что делаю Вам самый ценный дар, какой только в моей власти сделать Вам, и который всего лучше может убедить Вас в искренности и глубине моего к Вам расположения и дружбы. Но ради Бога, не возмущайте счастье ее и Ваше собственное, примешивая к нему предметы совершенно посторонние, о которых и Вам, и другим следует хранить глубокое молчание; в противном случае Вы дадите доступ бесконечным неудовольствиям, интригам и сплетням.
По известной Вам материнской нежности моей к внуке, Вы можете судить, как я забочусь о ее счастье. Я не могу не сознавать, что оно сделается неразрывно с Вашим, как скоро она соединится с Вами узами брака. Неужели я могла бы согласиться устроить этот брак, если бы видела в нем что-либо опасное или неудобное для Вашего Величества и если бы, напротив, не видела в нем всего, что может утвердить Ваше счастье и счастье моей внуки.
Ко всем этим авторитетам, которые не могут не повлиять на решение Вашего Величества, я прибавлю еще один, важность коего имеет наибольшее право на Ваше внимание. Проект брака предположен и выработан покойным королем, отцом Вашим. Говоря об этом известном факте, я не сошлюсь ни на свидетелей из вашей нации, ни на свидетелей русского происхождения, хотя их множество; но я назову французских принцев и кавалеров их свиты, свидетельство коих тем менее может быть подвергнуто сомнению, что в этом деле они лица совершенно незаинтересованные. Находясь вместе с покойным королем в Спа, они часто слышали его суждения об этом проекте как о таком, который, по-видимому, был ему более всего по сердцу и осуществление которого могло бы лучше всего упрочить доброе согласие и расположение между двумя царствующими домами и двумя государствами.
Теперь, если этот проект есть мысль покойного короля, отца Вашего, как же мог этот государь, столько же просвещенный, сколько исполненный нежности к своему сыну, — как мог он задаться мыслью о том, что рано или поздно могло бы повредить Вашему Величеству и отнять у Вас любовь подданных. Что проект этот был результатом глубокого и долгого его обсуждения, — вполне доказывают все его действия. Едва он утвердил власть в своих руках, как внес в сейм великий закон о всеобщей терпимости всех религий, чтобы в этом отношении навсегда рассеять мрак, порожденный веками фанатизма и невежества, мрак, возобновлять который в настоящее время было бы безрассудно и постыдно. На сейме в Гетфле он еще более обнаружил свои предначертания, обсудив и решив, вместе с наиболее близкими своими подданными, что в будущем браке его сына и преемника соображение о могуществе дома, с которым он вступит в связь, должно преобладать над всеми другими соображениями и что различие религии не должно в этом случае составлять какого-либо препятствия. Я приведу здесь об этом именно Гетфельском сейме анекдот, дошедший до моего сведения и который все могут подтвердить Вашему Величеству. Когда решался вопрос об установлении народной подати на случай Вашего брака, в акте сказано было об этом так: при браке наследника престола с принцессою лютеранского исповедания. Епископы, прочитав проект этого акта, по собственному побуждению вычеркнули слова «с принцессою лютеранского исповедания».
Наконец, удостойте Вашим доверием опытности тридцатилетнего царствования, в течение коего я имела успех в большей части моих предприятий. Опытность эта вместе с самою искреннею дружбой дает мне смелость дать Вам совет, самый искренний и верный, с единственной целью упрочить Вашу счастливую будущность.
Вот мое последнее слово:
Русской княжне не следует переменять религию. Дочь императора Петра I вышла замуж за герцога Карла Фридриха Голштинского, сына старшей сестры короля Карла XII. Она не изменила религии по поводу этого. Права сына ее на наследие шведского престола были, тем не менее, признаны государственными чинами, которые отправили к нему в Россию торжественное посольство чтобы предложить ему корону. Но императрица Елизавета уже объявила этого сына своей сестры русским великим князем и будущим своим наследником. Тогда решили и скрепили это предварительными статьями Абосского трактата, что дед Вашего величества будет избран наследником шведского престола, что и осуществилось впоследствии. И так вот уже две русские княжны, вошедшие на шведский престол в восходящей линии Вашего Величества; они открыли блестящим дарованиям Вашим путь к царствованию, которому я всегда желаю возможно большего успеха и благополучия.
Позволю себе откровенно прибавить, что Вашему Величеству необходимо следует побороть все препятствия и недоумения, которые устраняются уже многими доводами, и которые могут только вредить Вашему счастью и счастью Вашего государства.
Скажу более: по моему личному дружественному расположению к Вам, которое не ослабевало со времени Вашего рождения, я должна обратить Ваше внимание на то, что время не терпит и что если Вы не решите в настоящую столь дорогую для меня минуту, когда Вы здесь, оно может совершенно погибнуть вследствие тысячи препятствий, которые представятся лишь только Вы уедете и что, с другой стороны, если несмотря на основательные и неопровержимые доводы, приведенные Вам как мною, так и всеми лицами, наиболее заслужившими Ваше доверие, религия должна служить непреодолимым препятствием делу, которого Вы желали по-видимому восемь дней тому назад, — Вы можете быть уверены, что с этой минуты никогда не будет более речи о браке, столь дорогом для нежного чувства моего к Вам и к моей внуке.
Приглашаю Ваше Величество внимательно обсудить все мною Вам изложенное и молю Бога, направляющего сердца государей, чтоб он просветил Ваши мысли и внушил Вам решение, соответствующее благу Вашего народа и лично Вашему счастью»[227].
3
На следующий день, 3 сентября, поутру, Густав «прогуливался верхом» в сопровождении обер-камерюнкера графа Ферзена. Затем состоялся обед, на который был приглашен австрийский посол Кобенцель. Вечером в честь шведского гостя на набережной Невы, близ Летнего сада, был устроен фейерверк.
В павильоне, поставленном у входа в иллюминированный и наполненный великим множеством зрителей сад, король сидел рядом с Екатериной. Здесь же расположилась великокняжеская фамилия.
Фейерверк состоял из трех действий. В первом огнеметные машины, установленные генералом Мелиссино на противоположном берегу Невы, извергали в ночное небо водопады разноцветных огней, удивительным образом соединявшиеся в вензеля «G» и «E». На всем пространстве от Петропавловской крепости до Кадетского корпуса бархатное петербургское небо было расцвечено лавровыми венками, пальмовыми ветвями и причудливыми звездами. Воздух сотрясался от пушечных залпов. Остро пахло порохом.
Во втором действии перед зрителями в мерцании разноцветных искр возник великолепный дворец, перед которым безумствовал, изрыгая столпы огня, огромный вулкан.
В третьем в воздух с оглушительным треском и хлопаньем поднялись, разрываясь, тысячи разноцветных ракет. Стало светло, как днем. Публика кричала от восторга.
Улучив момент, Густав наклонился к императрице и шепнул:
— Я прочел ваше письмо. Благодарю за добрые советы, которые вы соблаговолили мне дать.
— И что же? — черты оживленного удовольствием лица Екатерины то проявлялись, то вновь исчезали в таинственном полумраке.
— Мне досадно, что вы не знаете моего сердца, — порывисто произнес Густав. — Я не способен огорчить кого-либо, особенно великую княжну, которая мне столь дорога.
Екатерина сделала вид, что не слышала этих слов.
4
4 сентября король был гостем Павла Петровича и его супруги в Павловске.
— Il faut être ferme sans aigreur[228], — наставляла Екатерина сына.
Возле дворца путешественников встретил стоявший в параде сводный полк гатчинской пехоты, гусар, казаков и артиллерии, которыми командовал сам великий князь. Густава проводили в ложу, где его ожидала Мария Федоровна и великие княжны. Около часа Павел демонстрировал гостям выучку своих войск. Пехота маршировала деревянным прусским шагом, делая сложные эволюции, казаки демонстрировали чудеса джигитовки, пушки палили холостыми зарядами.
После обеда великокняжеское семейство, сев на дрожки, любовалось обширным павловским парком, посетило английский зверинец. Романтические окрестности Павловска, пейзажи в романтическом духе, дворец с его мягкими округлыми очертаниями очень понравились Густаву.
Вечером для гостей была представлена итальянская комическая опера.
Король и регент пребывали в превосходном настроении.
На следующий день, на балу, который давал великий князь Александр по случаю дня рождения своей супруги, Густав танцевал только с Александрой Павловной. Когда, после десяти часов вечера, строгая генеральша Ливен собралась уводить великих княжон, он вымолил при содействии регента у Марии Федоровны разрешение протанцевать с Alexandrine еще один танец.
Впоследствии Екатерина утверждала, что именно в этот вечер король вполне определенно говорил Марии Федоровне о своем желании, чтобы его помолвка с Александрой Павловной свершилась в ближайшее время. Сохранился, однако, один любопытный документ. Это письмо великой княгини Екатерине, датированное 7 сентября 1796 года, когда король был гостем великокняжеского семейства в Гатчине. В нем события изложены несколько иначе.
Впрочем, предоставим слово самой Марии Федоровне:
«По-видимому, все устраивается по нашим желаниям… Разговор мой с королем я начала с того, что рассказала ему, как грустит малютка, как беспокоится, видя его печальным. Я просила его поговорить со мною как с другом. Король отвечал: «Я уже просил Вашу дочь успокоиться, не следует ничего опасаться». Затем, поблагодарив меня за дружеское участие, он прибавил: «Когда она будет у меня в Стокгольме, настанет конец всем моим печалям». Поймав его на слове, я отвечала: «Но вы еще так долго не увидитесь. Вы любите друг друга (этому предшествовало множество уверений в дружбе с обеих сторон и сожаление о предстоящей разлуке), и я предвижу, что Вы станете тосковать по ней, а она по Вас. Сочтите, на сколько месяцев вы расстаетесь». Насчитали восемь месяцев. При этом на глазах у молодого человека выступили слезы. «Это очень долго», — прибавила я. На это он мне сказал: «Да, это очень долго».
При таком повороте разговора я просто должна была сказать: «Но Вы же сами говорили, что печали Ваши окончатся, когда она будет в Стокгольме, почему же Вам не ускорить эту минуту?» На это он возразил: «Я очень желал бы этого, но для бракосочетания короля существуют только два времени года: осень и весна — зимою то невозможно». «Но, — заметила я, смеясь, — отчего бы Вам не жениться теперь?» Он отвечал: «Двор не составлен, и апартаменты не готовы». «О, — возразила я, — что касается двора, то его составить недолго, а если кто кого любит, тот не обращает внимания на апартаменты». Тогда он отвечал: «Море опасно».
Тут подала голос Александра: «С Вами я всегда буду считать себя в безопасности». Это весьма тронуло короля, у которого во все время разговора были слезы на глазах. «Доверьтесь мне, Густав, Вы говорите, что желали бы поскорее кончить дело?» «Очень бы этого желал, — отвечал он, — но это зависит от герцога».
Тогда я сказала: «Что же, хотите ли, Густав, чтобы я переговорила с императрицей? Принимаю это на себя, и, без всякого сомнения, Ее величество не поставит Вас в ложное положение». Он отвечал: «Да, Ваше Высочество, но нужно чтобы она сделала предложение регенту как бы от себя, а не от меня».
Это он сказал с искренним облегчением, взволнованно благодарил меня, и разговор закончился выражением нежности к малютке. Он часто целовал ее руки, обнимал ее и говорил нежности. Вообще весь вечер король был в отличном расположении духа. Он и при посторонних говорил с малюткой и ласкал ее. Когда мы прощались, он уверял, что никому не скажет, о чем мы говорили»[229].
Как бы там ни было, однако, в понедельник, 8 сентября, на балу, дававшемся в Большой зале Таврического дворца, Екатерина, считавшая дело вполне устроившимся, предложила регенту обручить короля и Александру Павловну не откладывая.
«Регент тотчас же согласился, — вспоминала Екатерина, — и отправился сообщить об этом своим министрам и потом королю, который уговорился уже с великой княгиней-матерью просить меня сделать это предложение регенту. Через час герцог пришел сказать мне, что король согласен на это от всего сердца. Я спросила, будет ли обручение с церковным благословением или без него. Он ответил: с благословением, по вашей вере и просил назначить день, тогда, подумав, я сказала ему: в четверг, в моих покоях; так как они желают, чтобы это произошло частным образом, не в церкви, в том соображении, что в Швеции брак этот должен быть объявлен публично лишь по совершеннолетии короля. При этой церемонии со стороны короля должны были быть регент и трое государственных чинов, а с нашей стороны, я, мое семейство и министры, коим назначено подписать договор, граф Николай Салтыков и генеральша Ливен».
На следующее утро шведский посол на торжественной аудиенции просил руки Александры Павловны для Густава. Одновременно было официально объявлено о расторжении мекленбургской помолвки.
5
Русским и шведским полномочным, занимавшимся составлением брачных документов, было приказано завершить их подготовку к 11 сентября. Собственно, документов этих было два: союзный трактат и брачный договор. Тексты их подготовила Коллегия иностранных дел.
9 сентября, около 12 часов, к боковому входу в Зимний дворец подкатила одноместная раззолоченная карета, запряженная шестью белыми лошадьми. На запятках стояли два гайдука в голубых епанчах и венгерках со шнурками, на широких бляхах, украшавших их высокие картузы с перьями, был выбит графский герб с девизом «Ни жар, ни хлад не изменяют». Из кареты, опершись на руку лакея, вышел среднего роста худощавый старик лет шестидесяти. Он был одет во французский кафтан, из-под которого виднелась свеженакрахмаленная рубашка, панталоны с гульфиком, на ногах — черные плисовые сапоги, на голове — пудреный парик по старинной моде. Это был вице-канцлер Иван Андреевич Остерман, сын знаменитого петровского дипломата.
За Остерманом в четырехместной восьмистекольчатой карете явился Безбородко. Сначала в открытой дверце кареты показалась толстая нога с полуспущенным белым чулком, а за ней, сияя бриллиантами на пуговицах кафтана и эфесе шпаги, — и вся тучная фигура обер-гофмейстера и директора почтового ведомства. Пыхтя и отдуваясь, Безбородко подтянул панталоны, оглядываясь вокруг со своей привычной приятной улыбкой. Его одутловатое лицо с прямым носом и широким, всегда чуть приоткрытым ртом имело выражение добродушное и веселое. Под широким коротким лбом прятались небольшие, но светящиеся умом глаза. Походка Безбородко была неуклюжей, казалось, он еле передвигает ноги, однако по лестнице на антресоли, где располагались покои князя Платона Александровича, взлетел на удивление легко.
В кабинете его встретил хозяин — тщательно одетый и подтянутый молодой человек тридцати лет. Если бы не выражение усталой пресыщенности, застывшее в его выразительных глазах, Зубов имел бы сходство с вельможей двора Людовика XVI.
Из-за плеча Зубова выступила импозантная фигура графа Аркадия Ивановича Моркова, члена Коллегии иностранных дел и доверенного сотрудника князя. Одетый с французской щеголеватостью, Морков обладал гибкими и лукавыми манерами, которые усвоил за долгие годы дипломатической службы.
В ожидании шведских представителей устроились в креслах. Зубов по праву хозяина дома сел на обитый штофом диван, оставив место по правую руку для главного уполномоченного шведов — барона Рейтергольма.
В списке русских полномочных князь Платон Александрович занимал третье, после Остермана и Безбородко, место. Это, однако, никак не отражало роли, которую в конце царствования Екатерины играл он при дворе. Пользуясь неограниченной доверенностью императрицы, Зубов после смерти Потемкина прибрал к рукам и внешние, и внутренние дела. Влияние его далеко превышало кредит, которым пользовался при жизни светлейший. В 1796 году, на шестой год своего «случая», Зубов отправлял тринадцать государственных должностей, среди них — шеф кавалергардского корпуса, генерал-адъютант, генерал-фельцехмейстер, екатеринославский и таврический генерал-губернатор, начальник Черноморского флота. Ему были пожалованы ордена Св. Георгия и Владимира I степени, богатые имения в Литве и Курляндии, а также в польских землях, отошедших к России по второму и третьему разделу.
Между тем, Зубов был человеком небольших дарований. «Молодой человек, — сообщал в январе 1792 года Павел Трощинский послу в Лондоне Семену Воронцову, — изо всех сил мучит себя над бумагами, не имея ни большого ума, ни пространных способностей. Душа в нем добра, но боязлива на правду и вещи полезные, но неприятные».
Как следствие голова Зубова была наполнена химерами. Он носился то с проектом завоевания Константинополя флотом под командованием императрицы, которой шел шестьдесят восьмой год, то с включением в пределы России Берлина и Вены и создания в Европе новых государств — Австразии и Нистрии, названия которых запомнились ему, вероятно из школьного курса истории. В 1795 году он представил императрице план овладения Персией с тем, чтобы оттуда подойти к Константинополю. Самое удивительное заключалось в том, что план этот был не только принят, но и поставил Зубова в глазах Екатерины на место продолжателя дела Потемкина.
Чутко улавливая движения души Екатерины, Зубов сделал одним из руководящих мотивов во внешней политике покровительство французской королевской фамилии и эмигрантам. Под этим углом он смотрел и на идею брака Александры Павловны со шведским королем, трансформировавшуюся при его энергичном участии в проект русско-шведского союзного трактата, в котором помимо прочего видели возможность вернуться к старой идее совместных действий против революционной Франции.
Имея крайне слабые навыки в руководстве государственными делами, Зубов, разумеется, нуждался в помощниках. Главным из них по иностранной части стал Аркадий Иванович Морков, в молодости служивший при парижском посольстве, где в совершенстве познал искусство дипломатической переписки. Безбородко, руководивший до 1791 года иностранными делами, сделал его третьим членом Коллегии иностранных дел. Однако, как только влияние Безбородко, не ко времени покинувшего Петербург, чтобы принять участие в мирных переговорах с турками в Яссах, упало, Морков переметнулся к Зубову. Это принесло ему в короткое время графское достоинство, ордена Александра Невского и Владимира I степени, четыре тысячи душ в Подольской губернии, каменный трехэтажный дом на Дворцовой площади и многое другое. Служебные успехи до крайности обострили не только самоуверенность, но и природную скупость Моркова. Мало кто в Петербурге мог похвастаться тем, что был приглашен в его дом. Он никогда не устраивал у себя обедов или ужинов. Француженка-актриса Гюсс, от которой он имел двух дочерей, совсем одичала.
Остерман, расположившийся в кресле по левую руку от Зубова, был, несмотря на первенствующее положение в Коллегии иностранных дел, фигурой сугубо представительской. Департамент свой содержал в строгости, но в делах политических вел себя предельно осторожно. Обязанности его ограничивались официальными приемами иностранных послов и церемониальными обедами, которые он давал четыре раза в год по официальным поводам. Иностранные послы, которые лишнего слова из него не могли вытянуть, с досадой говорили, что он имел «une tête de paille»[230].
Единственным действительно незаурядным человеком в этой компании был граф Александр Андреевич Безбородко. Выходец из малороссийских старшинских детей, он с 1776 года по рекомендации Потемкина служил у Екатерины при принятии прошений. Одаренный острым умом и необыкновенной памятью, он в скором времени понял все тонкости течения государственных дел и сделался любимым докладчиком Екатерины. После смерти Никиты Ивановича Панина основные вопросы как внешней, так и внутренней политики шли через него. Действительный тайный советник, он был награжден звездой ордена Св. Андрея и богатыми поместьями. Помимо этого ему принадлежали более шестнадцать тысяч душ крестьян, соляные озера в Крыму, рыбные промыслы на Каспийском море.
Перемену фортуны, случившуюся с ним в конце 1791 года, когда первенствующая роль в государственных, в том числе иностранных делах, перешла к Зубову, Безбородко переживал очень болезненно. Больше года он ежедневно являлся в приемную Екатерины с единственной целью — напомнить о себе. Только к лету 1793 года Безбородко решился объясниться с императрицей, которая, спохватившись, обласкала и обнадежила его. Однако о возврате прежнего значения речи не шло. Безбородко подчищал за Зубовым и Морковым огрехи в устройстве польских и турецких дел, дважды в неделю являлся на заседание Совета, но и только.
Виновников постигших его несчастий Александр Андреевич тихо ненавидел, но, по природному благоразумию, вида не подавал. Вот и сейчас, просматривая бумаги, заготовленные для конференции, Безбородко улыбался, делал уважительные комплименты Моркову, основному составителю союзного трактата и вообще вел себя благодушно.
Наконец, появились шведы. Когда Рейтергольм, шедший первым, пожимал руку Зубову, на его бесстрастном лице обозначилось некое подобие улыбки. Эссен, давний доброжелатель России, смотрел с неподдельной приветливостью. Штединг, за которым с папкой под мышкой тенью двигался секретарь посольства, извинился за небольшое опоздание.
Конференция носила партикулярный характер, поэтому тратить время на проверку и обмен полномочиями не стали, решив сразу приступить к чтению текста союзного трактата. Зачитывать статьи поручили секретарю шведского посольства. Безбородко, слабо знавший французский, — в киевской семинарии, которую он окончил, преподавали только латынь — следил по русскому тексту.
В первой статье трактата заявлялось о возобновлении Дроттингольмского союзного договора, — текст его объявлялся неотъемлемой частью нынешнего трактата, причем сам договор рассматривался как никогда не приостанавливавшийся.
По второй статье, предусматривавшей взаимную гарантию границ и обоюдную помощь в случае, если одно из государств подвергнется нападению извне, слегка поспорили. Шведы предложили снять скопированное Морковым с 5-й статьи Дроттингольмского договора упоминание о Франции как о главном враге европейского мира. Зубов с Морковым поупирались, но, в конце концов, согласились изложить эту статью в следующей редакции:
«Высокие договаривающиеся стороны дают взаимное обещание, что в случае, если одна из них подвергнется нападению со стороны третьей державы, другая сторона окажет ей поддержку в соответствии со статьей 5 Дроттингольмского договора»[231].
Третья статья предусматривала уступку Россией Швеции нейтральной территории, образовавшейся в результате Абосского договора на границе между русскими и шведскими владениями в Финляндии, с той, однако, оговоркой, что новое территориальное разграничение не должно было составить затруднений для взаимного обеспечения безопасности границ.
Следующими статьями оговаривалась процедура редемаркации остальных участков русско-шведской границы, которая должна была быть завершена комиссарами обеих сторон в двухмесячный срок — к 15 декабря 1796 года; взаимное предоставление статуса наиболее благоприятной стороны до заключения нового торгового трактата; возможность закупки Швецией русского зерна в портах Финского залива на сумму до пятидесяти тысяч рублей ежегодно; взаимную выдачу с даты подписания договора государственных преступников, укрывшихся на территории одного из договаривающихся государств по первому надлежаще оформленному требованию.
Эти четыре статьи особых дебатов не вызвали, хотя шведы и попытались для порядка придать обратную силу договоренности о взаимной выдаче государственных преступников, естественно имея в виду остававшегося в России Армфельта.
Исправления пришлось вносить только в заключительную, восьмую, статью, определявшую срок действия трактата в восемь лет и предусматривавшую в русской редакции его подписание и ратификацию в течение 8 дней, то есть до отъезда короля из Петербурга, который намечался на 17 сентября. Рейтергольм вежливо, но твердо сказал, что в соответствии с шведскими законами решение о браке (тем более официальное объявление о нем) может быть принято только после совершеннолетия короля, которое наступит 1 ноября.
После продолжительных и жарких споров, во время которых Зубов бегал советоваться к императрице, решили, что договор будет подписан полномочными и ратифицирован императрицей и королем немедленно. По вступлении короля в совершеннолетие, но в срок не более двух месяцев, последует дополнительная ратификация его шведской стороной, после чего договор будет считаться окончательно вступившим в силу. Окончательную точку поставил Морков, предложивший дополнить последнюю фразу статьи восьмой, заканчивавшуюся словами: «dans l’espace de deux mois»[232] — более растяжимой формулировкой: «ou plutôt si faire se peut»[233].
Шведы, к тихой радости Зубова и Моркова, согласились. Настал черед обсудить секретные и сепаратные артикулы, не подлежавшие оглашению, но считавшиеся частью трактата.
Артикулом I восстанавливалась статья Дроттингольмского договора, согласно которой Россия обязывалась выплачивать Швеции ежегодно триста тысяч рублей на поддержание боеготовности ее армии и флота. Платежи предполагалось осуществлять по фиксированному курсу рубля, равными долями каждые полгода. Кроме того, Россия брала на себя обязательство погасить задолженность по субсидиям, причитавшимся Швеции в соответствии с Дроттингольмским договором, выплата которых была приостановлена в 1793 году. Задолженность, составившая 1 миллион 50 тысяч рублей, должна была быть погашена в течение года[234].
Согласно артикулу II Россия должна была прийти на помощь Швеции не только в случае возникновения угрозы внешнего нападения, но и дискриминации в торговле (а поскольку Швеция торговала преимущественно с Францией, намек на «цареубийц», как Екатерина называла французов, получился вполне недвусмысленным). Швеция, со своей стороны, давала обещание действовать заодно с Россией, если военные корабли какой-либо иностранной державы войдут в Балтийское море.[235]
Третий сепаратный и секретный артикул был зачитан секретарем шведского посольства полностью.
«Его величество король Швеции, одушевленный желанием еще более укрепить узы союза и дружбы, возобновленные подписанным сегодня трактатом, равно как и родственные и семейные связи, существующие между двумя монархами, а также будучи живо тронут прекрасными качествами Ее императорского высочества Великой княжны Александры Павловны, внучки Ее императорского величества, решил избрать Ее своей супругой. После того, как Его королевское величество лично и официально просил руки этой принцессы у Ее императорского величества, а также у Их императорских высочеств великого князя и великой княгини, Ее императорское величество, движимая тем же стремлением к укреплению столь счастливо существующего союза, дала согласие от себя и от лица родителей. Ее императорское высочество великая княжна Александра Павловна также объявила о своем согласии. Ее величество императрица Всероссийская и Его величество король Швеции скрепили своим императорским и королевским словом взаимное обязательство заключить этот брак, возобновляемое настоящим артикулом. Его сроки и форма будут согласованы особо, но без направления специального посольства. Настоящий артикул рассматривается как часть брачного договора, положения которого, как и церемониал обручения и путешествия великой княжны в Швецию будут окончательно урегулированы отдельным актом до отъезда короля[236].»
Когда чтение закончилось, Рейтергольм, улыбнувшись, сказал:
— У шведской стороны нет возражений или дополнений в отношении третьего сепаратного и секретного артикула.
Затем, поворотившись к Зубову, швед произнес:
— Поздравляю вас, князь, мы, кажется, неплохо поработали. Думаю, что наши монархи будут довольны.
— Минуточку, — остановил Рейтергольма Морков. — Мы хотели бы предложить вашему вниманию текст четвертого сепаратного и секретного артикула, о котором я имел удовольствие говорить третьего дня с послом Штедингом.
Рейтергольм бросил быстрый взгляд в сторону посла. Лицо Штединга было непроницаемо. Безбородко, не вполне понимая, что происходит, насторожился.
— Ну, пожалуйста, — развел руками Рейтергольм. — Хотя, признаюсь, появление в последний момент нового артикула к столь важному государственному акту — для меня полная неожиданность.
Морков, манерничая по своему обыкновению под внимательным взглядом Зубова, вынул из портфеля шесть скрепленных листов — четвертый артикул был самым длинным — и положил их перед собой так, чтобы прямо под заглавием на широких полях была видна надпись «Быть по сему», начертанная характерным почерком Екатерины. Текст артикула Морков зачитал сам.
«Ее величество императрица Всероссийская и Его величество король Швеции, воодушевленные равным стремлением обеспечить счастье и спокойствие семейных уз, которые соединят Его величество и Ее императорское высочество великую княжну Александру Павловну, внучку Ее величества императрицы Всероссийской, сочли своим долгом заранее позаботиться об особо важном предмете, состоящем в необходимости обеспечить свободу совести будущей королевы Швеции по отношению к православной апостольской греческой религии. Вследствие этого Их величества согласились между собой о нижеследующем:
1. Ее императорское высочество великая княжна Александра Павловна, став королевой Швеции, не будет стеснена или обеспокоена из-за своих религиозных взглядов. Напротив, ей будет предоставлена полная свобода следовать в этом отношении тому, что продиктует ей ее совесть и убеждения. Таким образом, этот вопрос никогда не станет предметом обсуждений и ни в коей степени не повлияет на мир и союз между двумя августейшими супругами.
2. Ее величество королева будет иметь внутри или вне покоев, которые будут отведены для нее в Стокгольме и других дворцах короля, часовню, где она сможет внимать божественной службе и выполнять другие акты веры и благочестия, которые предписывает ей ее вера, отправляя их, однако, таким образом, чтобы не бросить тень на господствующую в Швеции религию.
3. Духовник и другие служители этой часовни будут находиться под защитой естественного права в силу законов веротерпимости, установленных в Швеции.
4. В то же время Ее величество в качестве супруги и королевы будет сопровождать короля, своего супруга, при его посещении лютеранских церквей и принимать участие в религиозных службах по торжественным и другим случаям, в которых он сочтет необходимым и приличным ее присутствие[237].»
Остальное Рейтергольм, с лица которого не сходило выражение крайнего удивления, слушал вполуха.
По окончании чтения он еще раз поинтересовался, уверен ли русский дипломат в том, что король согласился на включение четвертого артикула в текст трактата.
— Разумеется, — подал голос Зубов, предпочитавший до этого сохранять молчание.
Отойдя в угол комнаты, шведы немного посовещались, затем Рейтергольм вновь предельно ясно сказал, что он и его коллеги, выслушав проект, предложенный русской стороной, остались при мнении, что вопрос о религии не следует излагать в качестве отдельного артикула, поскольку по этому поводу королем уже даны в устной форме все необходимые заверения Ее императорскому величеству.
Морков и Зубов, однако, уперлись, ссылаясь на прямой приказ Екатерины. Видя неподатливость партнеров, шведы согласились в конце концов принять русский проект четвертого сепаратного секретного артикула, оговорившись, однако, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать король. По их предложению содержавшиеся в тексте артикула слова «православная апостольская греческая религия» были заменены на «вероисповедание, в котором великая княжна была рождена и воспитана».
Когда полномочные прощались, только Безбородко да Остерман имели на лицах выражение некоторой задумчивости. Зубов и Морков пребывали в том приподнятом состоянии духа, которое появляется после удачно завершенной работы.
Окончательная сверка и парафирование союзного трактата и брачного договора были назначены на 11 сентября.
6
Между тем полагать дело оконченным было опасной и ничем не оправданной самонадеянностью. Вопрос о религии великой княжны оставался так же далек от разрешения, как и в первые дни после приезда короля в Петербург.
Главные действующие лица нашей истории — регент, король, Екатерина — каждый по собственным причинам вели себя достаточно двусмысленно и противоречиво. Расчетливее всех действовал регент. На вопросы своего питомца он неизменно отвечал, что будущий король должен решать вопрос о религии его будущей супруги в соответствии со своей совестью, напоминая, что менее, чем через два месяца, 1 ноября, тому предстояло взойти на шведский престол.
Надо отдать должное герцогу Карлу. Похоже, что умыв руки и предоставив Густаву самому принимать важнейшее государственное решение, он рассчитывал не только на сурового Лютера, но и на привитое его племеннику с младых ногтей чувство долга, усиливавшееся в душе короля по мере того, как приближался срок его совершеннолетия.
В семнадцать лет, однако, трудно выбирать между любовью и долгом. Выбор вдвойне труден, если к тому же не особенно понимаешь, в чем, собственно, этот долг состоит. И Густав вел себя так, как только и может вести себя влюбленный и слегка сбитый с толку юноша. После того, как Екатерина решительно объявила ему, что не допустит никаких уступок в вопросе о религии, Густав в разговорах с ней начал попросту избегать этой темы, сознательно или бессознательно оттягивая решительное объяснение. К его чести надо сказать, что ни с кем другим в Петербурге, кроме Екатерины, вопрос о религии Александры Павловны он не обсуждал. Когда однажды Мария Федоровна заговорила с ним об этом, он ответил, что решение этого дела во власти только его и императрицы.
Екатерина, со своей стороны, также настойчиво внушала Густаву, что решение о браке он должен принять сам, не слушая ничьих советов. Она, конечно же, хорошо помнила, что более пятнадцати лет назад, когда она сама была невестой наследника российского престола великого князя Петра Федоровича, ее отец, герцог Христиан-Август, фанатичный лютеранин, категорически возражал против перехода дочери в лоно православия. Екатерине было всего лишь пятнадцать лет, но это решение, одно из важнейших в ее жизни, она приняла сама. Когда 28 июня 1744 года в Москве в церкви Головинского дворца твердым, ни разу не дрогнувшим голосом Екатерина на память произнесла по-русски Символ своей новой веры, новгородский архиепископ Платон, совершавший обряд крещения, окропил ее голову слезами умиления. С тех пор и до конца жизни императрица самым строгим и ревностным образом исполняла обряды православия.
Лютеранские пасторы, наставлявшие немецких невест русских великих князей, готовившихся принять православие, утешали их тем, что не находили больших различий в догматах веры между протестантской и греческой церковью. Во всяком случае, так обстояло дело с самой Екатериной.
Совершенно иначе смотрело на это русское духовенство. В Университетской библиотеке Женевы — столицы Реформации, есть анонимная рукопись XVII века под названием «Краткое показание самых важнейших разностей в вере между апостольской церковью (православно-восточной) и протестантским исповедованием»[238]. Автор ее, по-видимому, русский священник, насчитывает восемь главных различий между православными и лютеранами. Вот основные: протестанты, как и католики, верят в вечное исхождение Св. Духа от Отца и Сына, православные — только от Бога Отца; по учению Лютера — спасение исключительно в вере, по православному вероучению — «и в надежде, и в любви, и в добрых побуждениях, и в делах». Еще существенней обрядовые различия: в отправлении Литургии, понимании Евхаристии, почитании икон и Святых угодников. И, наконец, лютеране, как известно, не признают и не имеют священнослужителей и Святых преданий, почитая только Библию.
В феврале 1794 года Екатерина писала Гримму:
«Предлагаю всем протестантским державам принять православную веру, чтобы спастись от безбожной, безнравственной, анархической, убийственной и дьявольской чумы[239], врага Бога и престола: греческая вера — единственно апостольская и единственно христианская, это дуб с глубокими корнями».
И Густав, и регент, естественно, не имели возможности ознакомиться с перепиской Екатерины с ее souffre-douleur[240], но, надо думать, не могли не обратить внимания на то, что во время их пребывания в Петербурге им по всякому поводу демонстрировали духовную силу православия, красоту его обрядов. 29 августа, в день усекновения главы Иоанна Предтечи, все, включая императрицу и великих княжон, были в трауре — в Большой церкви Зимнего служили панихиду по убиенному российскому воинству. 30 августа король присутствовал на православной литургии по случаю праздника Св. Александра Невского, совпадавшего с именинами великого князя Александра. Из уважения к иноверным гостям проповедь в этот день не читалась.
Судя по всему, Екатерина не сомневалась в благополучном исходе начатого ею дела. В последние перед обручением дни она относилась к Густаву как к жениху. Однажды, шутя, сама позволила ему поцеловать свою внучку. На торжественном обеде в честь праздника Рождества Богородицы Густав впервые сидел за столом рядом с Alexandrine. Там же, кстати, неподалеку находился и бывший польский король Понятовский, живший после третьего раздела в Петербурге. После 7 сентября Екатерину больше уже занимали формальности свадебного обряда, чем существо дела. Подбирался состав свиты будущей шведской королевы. Священник Андрей Самборский, духовник великой княжны, получил приказание готовиться сопровождать ее в Стокгольм.
С первых чисел сентября Густав и Александра Павловна почти официально считались в Петербурге женихом и невестой.
«Великая княжна была неоднократно лобызаема, по целым часам сиживала у окна, разговаривая с этим коварным Энеем, и делала все, чем только по ее мнению, могла доказать свое расположение к будущему супругу», — сокрушался впоследствии Федор Ростопчин.
Действо пятое
Судьба еще отдаляет время вступить России на степень величия, соразмерную ее могуществу. Ты пожелаешь знать многие причины, удовольствуемся одной: несчастье в избрании людей.
П. В. Завадовский С. Р. Воронцову, 1 июня 1789 г.1
11 сентября, в седьмом часу вечера, в Кавалергардской зале Зимнего дворца начали собираться приглашенные. Помимо императорской фамилии здесь находились персоны двух первых классов и фрейлины. В пригласительных билетах, разосланных утром того же дня, речь шла о бале, дававшемся великим князем Павлом Петровичем, однако накануне императрица дала понять некоторым приближенным, что их ожидает сюрприз. Мужчины явились при орденских лентах и полной кавалерии, дамы — в праздничных нарядах, раздушенные и сверкающие бриллиантами. Все знали, что во внутренних покоях императрицы состоится обручение, что уже назначены свидетели, а в придворной церкви ожидает в парадном облачении митрополит Новгородский.
В семь часов в сопровождении младших сестер и великих князей с супругами появилась Александра Павловна, одетая как невеста. Из Гатчины прибыли Павел Петрович с Марией Федоровной. Члены императорской семьи расположились отдельно, у витрин и стеллажей, в которых на пурпурном бархате были выставлены большая и малая императорские короны и регалии. Великие князья Александр и Константин стояли у ниши в стене, у их ног на низких бархатных табуретах устроились великие княжны, среди которых всеобщее внимание было обращено на бледную от чувств невесту.
С антресолей соседнего зала Св. Георгия, где укрылся оркестр, лилась тихая музыка Сарти. Сам маэстро, задавал такт ритмичными движениями руки. За спинами музыкантов белели лица хористов. На пюпитрах перед ними были закреплены листы с текстом торжественной оды, написанной Гавриилом Романовичем Державиным специально для сегодняшнего вечера. Она начиналась словами:
Орлы и Львы соединились, Героев храбрых полк возрос, С громами громы породнились, Поцеловался с шведом росс.В ожидании прибытия Екатерины и Густава придворные выстраивались шпалерами. Их величества, однако, задерживались. Дамы, утомленные ожиданием, начали перешептываться. Павел Петрович, вытащив из карманчика камзола золоченую луковицу швейцарского брегета, недоуменно поднял брови вверх и посмотрел на жену. Великая княгиня мяла в руках носовой платок и улыбалась.
Наконец, пробило восемь часов. Все истомились в ожидании, не зная, чем объяснить отсутствие главных действующих лиц предстоящей церемонии. Александра Павловна и ее мать волновались все заметнее. Глухой шепот в зале становился неприлично громким, его не заглушали даже рулады итальянского оркестра. Никто не мог понять, что же собственно происходит.
2
А происходило следующее.
В полдень этого дня в комнатах князя Зубова в Зимнем дворце вновь собрались полномочные. Князь Платон ощущал прилив сил. Будучи человеком старательным, он всю ночь штудировал греческих и римских классиков, ища вдохновения в образцах античного красноречия. Устроившись в своем любимом вольтеровском кресле с высокой спинкой, он зорко наблюдал за сидевшими напротив шведами — Штедингом, Рейтергольмом и Эссеном.
Слушая секретаря Штединга, зачитывавшего — статья за статьей — текст трактата, Рейтергольм полуопустил веки. Его сухое лицо аскета с бледными бескровными губами было бесстрастно до такой степени, что порой Зубова покидала уверенность в том, что барон бодрствует. Сидевший несколько поодаль Штединг, напротив, самым заинтересованным образом реагировал на происходящее. После зачтения статьи, признававшей незыблемой линию разграничения владений России и Швеции в Финляндии, он впился глазами в лицо Рейтергольма, будто пытаясь неким месмерическим воздействием вывести первого министра из прострации, в которой тот пребывал. Однако нервы у барона были, надо думать, не слабее, чем у его предков — викингов. Даже после того, как он услышал значительную, надо сказать, сумму субсидий, выделявшихся Швеции, на его лице не дрогнул ни один мускул.
Морков, как и Зубов, предчувствовал близкий триумф. В случае удачного завершения дела Зубову был обещан фельдмаршальский жезл, графу Аркадию Ивановичу — вице-канцлерство. Полагая, что время, остававшееся до обручения, не оставляет шансов для новых дискуссий и препирательств, Морков стремился произвести впечатление на шведов изысканными манерами. С жеманной расслабленностью вельможи двора Людовика XIV, он брал кончиками пальцев из великолепной, усыпанной бриллиантами табакерки маленькую щепотку табака и, оттопырив мизинец, закладывал ее в ноздрю. Его слегка одутловатое чувственное лицо искажалось при этом приятственной судорогой. Чихнув деликатно, по-кошачьи, граф промакивал нос батистовым платком, надушенным из постоянно находившегося при нем серебряного флакона с французским парфюмом.
На гостей, однако, ужимки Моркова заметного впечатления не производили. Граф Эссен, подававший больше признаков жизни, чем первый министр, с надеждой посматривал в сторону Безбородко и Остермана.
Хитроватые глазки Безбородко, притаившиеся под лохматыми хохлацкими бровями, смотрели бесстрастно, да и все выражение его физиономии, украшенной шишковатым лбом и носом бульбочкой, напоминало, что находился он в покоях князя Зубова лишь потому, что его позвали, а статьи договора он слушает, поскольку на то воспоследствовало указание Ее императорского величества. Даже поза, в которой находился Александр Андреевич — вполоборота от Моркова — была выбрана не случайно. Видеть самодовольное лицо графа Аркадия Ивановича было выше его сил. Зубова Александр Андреевич тоже, мягко выражаясь, не жаловал, более того, в душе презирал, называл в переписке с друзьями не иначе, как тварью. Однако, когда взгляд всесильного фаворита, как бы блуждавший по комнате, останавливался на нем, скучающее выражение лица Безбородко мгновенно сменялось заинтересованной сосредоточенностью. Александр Андреевич даже губами начинал пошевеливать, будто повторяя и взвешивая в уме статьи трактата.
И происходило это вовсе не оттого, что Александр Андреевич был трусоват. Просто он знал жизнь.
От внимательного взгляда Безбородко не ускользнуло, что когда секретарь шведского посла начал зачитывать статью о свободе Александры Павловны исповедовать православную апостольскую греческую веру, лицо Рейтергольма переменилось. Пожав плечами, будто поеживаясь, он остановил чтение жестом руки и скрипучим голосом объявил, что не уполномочен обсуждать четвертый артикул.
— Но вы показали проект, который обсуждался на прошлом заседании, Его величеству? — осведомился Зубов.
— Его величество изволил оставить его у себя, — холодно отвечал Рейтергольм.
После короткого совещания с Зубовым Морков твердо сказал, что проект трактата уже одобрен Ее императорским величеством и поэтому вносить в него какие-либо изменения не в их власти.
На это Рейтергольм, пожевав губами, произнес, что ему остается лишь вновь доложить о русской позиции королю. Возражений ни от Зубова, ни от Моркова не последовало. Договорились, что к шести часам Морков приедет в шведское посольство, чтобы забрать одобренный королем текст трактата и брачный договор.
— Если, разумеется, Его величество изволит его одобрить, — оговорился Рейтергольм.
Безбородко промолчал.
3
Когда в шестом часу Морков приехал в здание на Крюковом канале, он сразу же был проведен к Штедингу. На вопрос, просмотрел ли король переданные от князя Зубова бумаги, посол с тяжелым вздохом ответил:
— Просмотрел и весьма внимательно. — С этими словами он протянул Моркову текст трактата.
Граф, холодея от предчувствий, раскрыл сафьяновую папку.
— Но позвольте, Ваше превосходительство, — произнес он неверным голосом, — куда подевалась четвертая сепаратная статья?
— Его величество изволил оставить текст этой статьи у себя, — сказал Штединг.
Морков был настолько ошеломлен, что на какое-то время потерял дар речи.
— Что это значит, барон? — наконец выдавил он из себя. — Объяснитесь.
— Что я могу вам объяснить, — устало сказал Штединг, — когда сам ничего не понимаю. Впрочем, Его величество ждет вас.
В кабинет Густава Морков вошел боком. Густав стоял возле письменного стола, на котором лежали листы веленевой бумаги. Это была злополучная статья о религии. Небрежно кивнув на приветствие Моркова и не предложив ему сесть, король произнес:
— У меня к вам лишь один вопрос, граф. Эта статья, она была внесена в договор по приказанию Ее величества?
— Именно так, — поспешил заверить Морков.
— В таком случае, — медленно произнес Густав, глядя графу в переносицу, — я не могу подписать этот договор.
Морков онемел. Густав, однако, и не ждал ответа. Не глядя на Моркова он принялся медленно прохаживаться вдоль массивного письменного стола, затем, вдруг остановившись, ткнул графа пальцем в грудь и сказал:
— Поезжайте к императрице и передайте ей, что я не намерен отказываться от того, о чем мы с ней договорились. Но только от этого. Я дал честное слово в том, что свобода совести моей супруги не будет ни в чем стеснена. Она сможет исповедовать свою религию, но на официальных церемониях должна следовать установлениям и обычаям Швеции в соответствии с вероисповеданием, господствующим в нашей стране.
Морков открыл было рот, но был остановлен Густавом, сказавшим:
— Езжайте, граф, езжайте. И передайте Ее величеству, что вечером я еще раз хотел бы переговорить с ней.
Дверь Морков выдавил спиной.
Штединг, на которого обрушились первые упреки и мольбы о помощи, под строжайшим секретом поведал графу о том, что во внезапном изменении образа мыслей короля повинен не кто иной, как первый камер-юнкер Флеминг, с которым Густав долго беседовал наедине после прочтения договора.
— Это ужасный человек, — свистящим шепотом говорил Штединг Моркову. — Он чертовски упрям, да что там, просто фанатик. Беда в том, что король ему безраздельно доверяет, они воспитывались вместе. Он сумел внушить королю, я слышал об этом от герцога, что устройство в королевском дворце часовни, коей вы требуете, неминуемо приведет к ниспровержению в Швеции лютеранской веры.
— Что же делать?
— Необходимо личное свидание их величеств, — сказал Штединг. — Не будем терять надежды, мой друг.
К пяти часам Морков был в покоях Екатерины.
— Дурит мальчишка, — задумчиво сказала императрица, выслушав сбивчивый доклад графа. — Какая муха его укусила? О чем говорить, все оговорено-переговорено. Нет уж, брат, теперь отступать поздно.
Зубов, присутствовавший при разговоре, благоразумно помалкивал.
— Вот что, Аркадий Иванович, — обратилась императрица к Моркову, сделай милость, поезжай еще раз в посольство и объясни хорошенько этому roitelet[241], что время рассуждать прошло, пора действовать — весь город, поди, уже знает, что нынче вечером назначено обручение.
Екатерина помолчала и добавила:
— А до того времени встречаться с ним не считаю полезным.
И, глядя на Зубова, который в этот момент согласно кивнул головой, закончила:
— Ну, с Богом, Аркадий Иванович… Самое время тебе показать, какой ты есть дипломат.
4
Дипломатом Морков, как и следовало ожидать, оказался неважным. Когда он во второй раз, уже около семи вечера, вернулся из посольства, Екатерина, едва глянув на его лицо, поняла, что дело плохо. Из сбивчивых объяснений графа явствовало, что битый час и Рейтергольм, и Эссен пытались убедить короля, что союзный трактат и брачный договор должны быть немедленно подписаны. Король, однако, отвечал на все уговоры, что устных заверений в том, что великая княжна никоим образом не будет стеснена в отправлении своей религии, вполне достаточно.
Ситуация складывалась скандальная. Через полуотворенную дверь в секретарскую, выходившую в Кавалергардский зал, доносился возбужденный гул.
Посовещавшись с Зубовым и Безбородко, неотступно находившимися во внутренних покоях, Екатерина по совету Александра Андреевича решила изменить тактику. Безбородко — единственный, кто не потерял присутствия духа в столь неординарных обстоятельствах — предложил четвертый артикул изъять и заменить его отдельным письменным обязательством короля предоставить Александре Павловне полную свободу совести.
Текст его императрица продиктовала Моркову сама.
«Я торжественно обещаю, — повторял Морков, скрипя пером, — предоставить Ее императорскому высочеству великой княгине Александре Павловне, моей будущей супруге и королеве Швеции полную свободу исповедания веры, в которой она была рождена и воспитана. Прошу Ваше императорское величество рассматривать это обещание как абсолютно обязательный акт с моей стороны».
Написав, Морков присыпал лист песком и пугливо показал его Екатерине.
Екатерина приняла бумагу, не глядя на Моркова. Все мытарства, все унижения, связанные с этим сватовством, сосредоточились у нее на графе Аркадии Ивановиче. Прочитав, задумалась на мгновение, потом сказала:
— Ну, более этого ни честь наша, ни достоинство сделать не позволяют. Передай ему, что я удовлетворюсь этим, но только на время. Да проследи, чтобы подпись поставил.
Когда Морков был уже в дверях, императрица остановила его окриком:
— Скажи, что ожидаю его.
К карете граф проследовал рысью.
— Пойдем и мы, Платон Александрович, — кивнула Екатерина Зубову.
Тяжело встала, опираясь на трость, потом, будто вспомнив что-то, повернулась к Безбородко:
— А ты, Александр Андреевич, поезжай, подсоби этому вертопраху. Проследи, чтобы там все ладно было.
С этими словами императрица направилась к дверям кабинета. Справа, чуть сзади от нее, следовал Зубов.
5
А в это время в шведском посольстве полыхал, все разгораясь, неописуемый скандал.
— Подпись, Ваше величество, подпись, — орал, позабыв про дипломатический политес Морков, потрясая листом со словами обязательств, которые требовала Екатерина от короля. — Подумайте о последствиях. Ваш отказ при нынешних обстоятельствах — это не только несносная обида для великой княжны, это оскорбление российского царствующего дома. Вас ожидают во дворце. Весь двор, вся Россия, вся Европа смотрят на вас.
Обессиленного Моркова сменил регент. Взяв под руку Густава, он принялся прогуливаться с ним вдоль дальней стены кабинета, убеждая его в чем-то по-шведски. Отвечая ему, король упрямо тряс головой, лицо его было злым, тон голоса — непреклонным. Рейтергольм, Эссен и другие шведские придворные не скрывали отчаяния.
Появился Безбородко, за ним — Зубов. Битый час прошел в настойчивых уговорах. Густав то запирался на ключ в своей спальне, то вновь появлялся в кабинете. Наконец, объединенными усилиями удалось усадить его за стол. Из ящика был извлечен текст сепаратной статьи. Пробежав ее глазами, Густав несколько минут сидел в абсолютном молчании, затем попросил перо. Обрадованный Зубов сам поспешил ему на помощь. Густав принял перо, но вместо того, чтобы поставить подпись, тщательно перечеркнул весь четвертый артикул. Затем на отдельном листе бумаги написал по-французски следующее:
«Дав уже слово чести Вашему императорскому величеству, что великая княжна Александра никогда не будет стеснена в том, что касается религии, и учитывая то, что Ваше величество, как представляется, были этим удовлетворены, я уверен, что Вы не сомневаетесь, что я в полной мере отдаю себе отчет в священных узах, которые налагает на меня это обязательство с тем, чтобы любое другое письменное заявление с моей стороны не было совершенно излишним.
Густав-Адольф
11 (22) сентября 1796 года».
Поставив подпись, Густав протянул перо Зубову. Князь замешкался, и перо упало на пол.
— Передайте ее величеству, что это мое последнее слово, — сказал Густав.
Может быть, в этот момент он и стал королем Швеции Густавом Адольфом IV. Взглянув в его светлые, как льдинки, глаза, Зубов поднялся и направился к двери. Все было кончено.
6
С появлением императрицы ропот в Кавалергардском зале затих, но напряжение достигло апогея. Екатерине потребовались все ее душевные силы, чтобы сохранить хотя бы внешнее спокойствие. Александра устремила на бабушку полные слез глаза. Шли нескончаемые минуты. Наконец, двери распахнулись. По залу прокатился общий вздох облегчения.
На пороге, однако, появился не Густав, а Морков, в парадном камзоле, с Анненской лентой через плечо. Его лицо ничего не выражало. Странной, скособоченной походкой он просеменил к императрице и прошептал ей на ухо несколько слов.
Екатерина вздрогнула, как от удара, лицо ее побагровело, затем странно побледнело, нижняя челюсть отвалилась, но из полуоткрытого рта не донеслось ни звука. Захар Зотов поспешил к ней со стаканом воды. Она медленно отпила большой глоток, с трудом встала, сделала несколько шагов по направлению к двери, затем обернулась и, погрозив тростью, громко сказала:
— J’apprendrais à ce morveau[242].
К кому относились эти слова, к Густаву или Моркову, осталось неясным.
За кавалергардов Екатерина прошла, опираясь на руку Александра. Собравшиеся получили позволение разойтись — бал отменили по причине нездоровья императрицы.
«Предоставляю вам судить, каковы были в весь этот день смущение и натянутость», — писала через несколько дней Екатерина старшему Будбергу, благоразумно остававшемуся в Стокгольме.
О совещании, состоявшемся в опочивальне Екатерины в тот же вечер, впоследствии рассказывали всякое. Говорили, что Екатерина, находившаяся в необыкновенном возбуждении, винила во всем Моркова, оттягивавшего решительное объяснение с королем до последнего момента. По слухам, графу даже досталось пару ударов тростью, которые в запале нанесла ему разбушевавшаяся императрица.
Морков валил все на Флеминга, сбившего короля с толку. Зубов, который совсем потерял голову, предлагал выкрасть Флеминга и отправить его в Сибирь. Только кстати появившемуся Павлу удалось удержать Екатерину от новых безрассудств.
7
Этой ночью Екатерина пережила приступ, похожий на легкий апоплексический удар, второй по счету. Однако уже утром она взяла себя в руки.
День 12 сентября был праздничным. Отмечали день рождения великой княгини Анны Павловны. Чинам первых четырех классов было предписано присутствовать на торжественной литургии в придворной церкви, затем Константин с супругой под пушечную пальбу, доносившуюся из Петропавловской крепости, принимали поздравления.
Среди поздравляющих были и Густав с регентом, явившиеся в сопровождении свиты. Побывав на половине именинницы, гости были проведены князем Федором Барятинским в покои императрицы.
«Регента я нашла в отчаянии, — вспоминала Екатерина, — что касается короля, я увидела, что он уперся, как кол. Он положил на стол мое письмо; я предложила сделать в нем изменения, как ему было предложено вчера, но ни доводы регента, ни мои не могли склонить его к этому. Он постоянно повторял слова Пилата: что я написал, то написал; я не изменяю никогда того, что я написал. При этом он был неучтив, упрям, не хотел ни говорить, ни слушать того, что я ему втолковывала. Регент часто обращался к нему по-шведски и предупреждал о последствиях его упрямства, но я слышала, что он отвечал ему с гневом. Наконец, через час они удалились, сильно поссорившись друг с другом, регент плакал навзрыд. Лишь только они вышли, я тотчас приказала прервать переговоры, а так как уполномоченные были в сборе, то это и было им объявлено к крайнему их удивлению».
Вечером в галерее Зимнего дворца был дан большой бал. Мария Федоровна не хотела присутствовать на нем по причине нездоровья Alexandrine и просила у Екатерины разрешения остаться дома, ссылаясь на то, что глаза Александры Павловны распухли от слез и покраснели. К тому же у нее начиналась легкая простуда.
Екатерина, сама державшаяся из последних сил, на самолюбии, посоветовала ей протереть глаза и уши дочери льдом и принять бестужевских капель.
«Никакого разрыва нет, — писала она великой княгине. — Вы сердитесь на промедление, вот и все».
Сама императрица, ненадолго появившись на балу, держалась с Густавом подчеркнуто холодно. Король, между тем, вел себя как ни в чем не бывало, танцевал с великими княжнами, разговаривал с Александром.
Регент, напротив, всячески афишировал свое меланхолическое настроение.
— Я не спал всю ночь, — скорбно говорил он Зубову. — Для блага наших государств мы должны найти возможность привести короля в согласие с самим собой.
Ламентации герцога Зубов выслушивал с показным равнодушием, но, прощаясь, как бы невзначай, обмолвился, что в Финляндию и Польшу перебрасывается несколько русских полков.
Регент поспешил к королю.
Надо полагать, что объяснение, состоявшееся между ними в этот вечер, было бурным, поскольку на следующий день, как писала Екатерина Павлу Петровичу, «весь шведский двор, все, начиная с короля и регента и до последнего слуги, с утра до вечера перессорились во всех этажах дома, после чего каждый слег в постель, сказавшись больным».
В воскресенье, 14 сентября, императрица удалилась на весь день в Таврический дворец, чтобы участвовать в освящении вновь построенной Крестовоздвиженской церкви. Выйдя после службы в сад, она медленно подошла к беседке, в которой несколько дней назад Густав просил руки ее внучки. Опустившись на скамейку, императрица задумалась. Так, в полном одиночестве, и просидела она до того, как на Таврический сад опустились густые осенние сумерки.
На следующий день Штединг запросился на срочную аудиенцию.
«Я приняла его в присутствии князя Зубова и графа Моркова. Он бормотал какие-то слова, которые не имели никакого смысла… Мы поняли, что его превосходительство сам не знает, что говорит. Уходя, он много на меня жаловался, но я дала ему высказаться».
С этого дня расположение Екатерины к Штедингу сменилось острым недовольством его действиями. В том, что посол, в отличие от регента и Рейтергольма, встал на сторону молодого короля, она видела обдуманное коварство и хитрый расчет.
Спустя час после отъезда Штединга явился встревоженный регент, просивший возобновить прерванные переговоры.
«Я легко поняла, что это было необходимо для личного оправдания его перед королем, и поскольку полномочия, данные шведским министрам, были подписаны регентом, я согласилась, надеясь, что статья о вероисповедании будет подписана».
Против ожидания, однако, шведы и не собирались капитулировать. На слова Моркова, вновь обретшего наступательный пыл, о том, что оскорбление, нанесенное Александре Павловне, заслуживает если не официальных извинений, то хотя бы объяснений, ответ последовал жесткий:
«Прежняя невеста короля, принцесса Мекленбургская, помолвка с которой была отменена по требованию русского двора, тоже имела все основания чувствовать себя оскорбленной».
Когда же граф, уязвленный таким высокомерием, пустился в препирательства, ему напомнили, что в Петербурге вообще не имели обыкновения особо церемониться с невестами для великих князей. Некоторые из них вызывались на смотрины целыми семьями. Пальцев на руках не хватило, чтобы счесть всех обиженных — двух Дармштадтских, трех Вюртембергских, двух Баденских и трех Кобургских — всего одиннадцать германских принцесс, большая часть из которых была вынуждена довольствоваться обидным для них отказом.
Далее последовало нечто и вовсе удивительное. Регент, уединившись с Зубовым, сказал ему, что по вновь открывшимся обстоятельствам в том, что король не явился на обручение, повинна сама Александра Павловна. Беседуя с ним, она якобы обещала ему переменить религию, в удостоверение чего подала ему свою руку.
Екатерина, всполошившись, затеяла разбирательство. Вспомнили, что великая княжна виделась с королем только в присутствии матери, мадам Ливен, сестер и регента. И только однажды в присутствии великого князя Александра и его супруги.
Александра в сопровождении Шарлотты Карловны Ливен была призвана к императрице. На строгий вопрос Екатерины Александра чистосердечно отвечала, что король действительно дважды говорил ей, что будто бы в день коронации она должна будет причаститься по лютеранскому обряду вместе с ним.
— А ты что же? — вскричала Екатерина.
— Я ответила: «Охотно, если это можно и бабушка согласится».
— Про бабушку точно говорила?
— Конечно.
— А давала ли руку королю в знак согласия?
— Jamais de la vie[243], — воскликнула княжна в испуге.
Екатерина одобрила ее поведение.
17 сентября в Кавалергардской зале Зимнего дворца состоялось подписание брачного договора, с той, однако, оговоркой, что он останется без исполнения, если через два месяца, когда наступит совершеннолетие короля, он не согласится его утвердить. Статья о вероисповедании великой княжны осталась в нем с небольшими изменениями, на которых настояли шведы. Трактат и все четыре сепаратные статьи были подписаны русскими и шведскими полномочными и скреплены — каждая в отдельности — их личными гербовыми печатями.
При подписании присутствовали члены Государственного совета, камер-фрейлины, придворные. Король явился в сопровождении всей своей свиты. Атмосфера в Кавалергардской зале была натянутой, все понимали, что радоваться нечему. Подписанный договор не имел никакой силы до ратификации, относительно которой сохранялись сильные сомнения.
После подписания Густав и регент посетили Екатерину, но в продолжение часовой беседы о только что подписанном трактате не было сказано ни слова.
18 сентября между шестью и семью часами вечера король и регент пришли прощаться.
«Я приняла их в Бриллиантовой зале при закрытых дверях. Как только они вошли, регент сказал мне: «Король желает беседовать с Вашим величеством один, без свидетелей» и в ту же минуту повернулся и поспешно вышел. Когда регент ушел, я пригласила короля сесть со мной на диван; он затруднялся несколько сесть от меня по правую руку, что случалось с ним всегда в подобных случаях. Наконец, он сел и произнес речь, которая показалась мне приготовленной заранее. Он благодарил за прием, который был ему оказан, говорил, что память о нем он сохранит на всю жизнь, что он весьма огорчен тем, что непредвиденные затруднения помешали исполнению его желания сблизиться со мной еще теснее, что он распорядился узнать мнение шведской консистории относительно его брака, однако это нисколько не умаляет его власть, чего я, по-видимому, опасаюсь, что он действовал по совести и вследствие совершенного знания своего народа, преданность коего ему следует сохранить».
Речь Густава, как ее передает Екатерина, выглядит сбивчивой, но искренней. К сожалению, императрица поняла это много позже.
«Я дала ему высказать все, что он хотел. Слушала его с большим вниманием и с самым серьезным видом, сохраняя при этом глубокое молчание. Когда он кончил и замолчал, я сказала, что мне приятно слышать, что он доволен приемом и сохранит о нем память; что касается препятствий к более тесной связи между нами, то мне также они кажутся прискорбными. Я, как и он, действовала сообразно моим убеждениям и обязанностям».
Когда императрица закончила свою речь, Густав принялся расхваливать Александру Павловну, расспрашивал о ее здоровье.
Екатерина ответила, что все четыре великие княжны больны простудой. В ответ король вновь сказал о том, как он огорчен тем, что вопрос о религии воспрепятствовал исполнению его желания.
«Так как вместо речей, приготовленных заранее, начался простой разговор, то я ему сказала между прочим: «Вы должны сами понять, что Вам следует делать и вольны делать все, что Вам угодно; но я не могу переменить моего мнения, а мнение это таково, что Вам вовсе не следовало бы говорить о религии; этим Вы сами себе наносите большой вред, так как если бы когда-нибудь моя внука была настолько слаба, что согласилась бы переменить религию, знаете ли Вы, что из этого вышло бы? Она потеряла бы к себе всякое уважение в России, а вследствие того и в Швеции».
— Напротив, — вскричал король.
— Пусть так, но на что же вам она, если она потеряет уважение в России?
Этот последний аргумент, видимо, смутил Густава. Он замолчал. Пауза была длинной и тягостной для обоих. Наконец, Екатерина спросила о погоде в Швеции. Король ответил, после чего Екатерина предложила пригласить регента. Густав сам подошел к двери, чтобы позвать герцога. Простились, затем все вместе вышли к свите и шведы удалились.
«Во все время разговора моего с королем, — вспоминала Екатерина, — он не произнес ни одного слова о трактате, он сказал только, что полагал достаточным данное им слово. На это я отвечала ему, что на словах можно согласиться о принципе, но что выводы из принципов и их развитие между государствами, делаются на письме. Я сказала ему еще, что до совершеннолетия ему лучше не предпринимать ничего относительно этого дела».
8
20 сентября, в субботу, в день рождения Павла Петровича, графы Гага и Ваза отправились со своей свитой, как записано в хронике их пребывания в России, «обратно в свое отечество».
Ни Екатерина, ни Павел, ни Мария Федоровна прощаться с ними не приезжали. Великие княжны также сказались больными.
Накануне отъезда короля, 19 сентября, Екатерина написала Будбергу в Стокгольм письмо, в котором как бы подвела итог всей этой истории:
«Сообщу Вам некоторые мысли, порожденные в моем уме странными поступками, которые мы видели. Прежде всего, несомненно решено, да и сами шведы в этом сознаются, что герцог и Рейтергольм потеряли доверие короля. Я приписываю это собственному их поведению: они в течение многих лет старались отклонить его от союза с Россией и чтобы достичь того сколь возможно вернее, избрали средство, которое нашли в уме молодого короля. Они выбрали для него ригориста-духовника и постоянно внушали королю, что он потеряет любовь и преданность своих подданных, если женится на женщине не одной с ним веры. Когда в Швеции было объявлено о браке короля с принцессой Мекленбургской, они в своем манифесте об этом браке подробно распространялись о счастье, которое приносит брак между лицами одной веры. Когда вслед за этим король объявил, что не желает этого союза и они решились прибыть сюда и хлопотать о союзе со мной, то поставлены были в крайнюю необходимость проповедовать противное. Король же, пропитанный прежней их моралью, побивал их собственными их словами. Но как в действительности он по многим причинам желал союза со мной, то думал найти к этому средства, избирая выражения двусмысленные, неопределенные, темные и вызывающие сомнения каждый раз, как дело шло о вопросе религии. Это доказывается следующими фактами: великая княгиня-мать думала, что король чувствует сильное расположение к ее дочери, потому что он часто говорил с ней довольно долго шепотом. Я разузнала, каковы были эти разговоры. Оказывается, он говорил вовсе не о чувствах, а беседы его касались исключительно религии. Король старался обратить Александру Павловну в свою веру под величайшим секретом, взяв с нее слово не говорить об этом ни одной живой душе. Он говорил, что хочет читать с ней Библию и сам объяснять ей догматы; что она должна приобщиться вместе с ним в тот день, когда он возложит на нее корону и пр. и пр. Она отвечала ему, что не сделает ничего без моего совета. Но королю всего семнадцать лет и он, будучи занят только своими богословскими идеями, не предвидит важных последствий, которые повлекли бы за собой и для него, и для великой княжны принятие ею другой религии».
С тем же курьером в Стокгольм отправилось следующее указание, написанное собственноручно Екатериной:
«Господин посол генерал-майор Будберг. Предписываю Вам объявить в Швеции, когда представится к тому случай, что с этого времени Швеция должна знать как вопрос государственный и непоколебимый принцип, что великая княжна Александра, если когда-нибудь она сделается королевой Швеции, останется в греческой вере, без чего она будет бесполезна, если не совершенно вредна для Швеции».
30 сентября Будберг сообщил Екатерине, что шведская консистория единогласно решила, что религия будущей шведской королевы не может представлять никакого препятствия к браку.
5 октября король со свитой вернулся в Стокгольм. За три дня до этого, 2 октября, в Выборге регент, Рейтергольм, Штединг и Эсен подписали составленный еще в Петербурге протокол, в котором излагалась шведская версия происшедших событий[244]. Будберг, присутствовавший на церемонии торжественной встречи, проходившей в Дроттингольмском дворце, отмечал, что общее настроение совершенно не походило на то, которое царило в шведской столице при отъезде короля в Россию.
«Господа Рейтергольм и Эссен терялись в толпе и вместо них выдавались вперед другие голубые ленты, которые я видел в первый раз. Все осматривали друг друга, царствовала полнейшая тишина и мне предоставили все время толковать с дамами, так как мужчины не знали, следовало ли им подходить ко мне или же нужно меня избегать. Войдя, король поклонился обществу и оставался с минуту посреди него, не говоря ни слова. Наконец, он подал руку королеве-матери и вместе с нею отправился в грот Зороастра».
Там его встретил облаченный в звездную мантию волшебник, призвавший в пещеру Сибиллу, роль которой исполняла аббатисса Кведлинбургская. Восхищенные стокгольмские дамы шепотом передавали, что Сибилла была намерена предсказать королю его будущее. Затем все трое вернулись в зал, где добродетели в лице статс-дам и придворных во главе с герцогиней Зюдермандляндской, супругой регента, украсили Густава короной и выразили радость по поводу его возвращения танцами, в коих супруга герцога Карла исполняла соло.
«Легко может случиться, что этот праздник для того, чтобы выразить добродетель супружескую, кончится родами, ибо главная танцорка, графиня Мернер, беременна на восьмом месяце», — не без сарказма отписывал в Петербург Будберг.
По окончании танцев Густав подошел к Будбергу и сказал, что был тронут обращением, которое он встретил в Петербурге.
— Я не стану распространяться, — прибавил король, — о том, что произошло в вашей столице, так как предполагаю, что все это вам хорошо известно.
— Да, государь, — ответил Будберг, — но сведения мои простираются до 30 сентября.
На этом разговор короля с послом закончился.
Регент был многословнее. С видимой тревогой он уверял Будберга в том, что сделал все возможное, чтобы побудить короля принять верное решение.
«Рейтергольм также постоянно говорит мне о своем отчаянии, — сообщал Будберг, — он сожалеет, что пребывание короля в Петербурге было слишком продолжительно, поскольку в конце его король совершенно утратил расположение, которое он питал ранее к нему и регенту».
В течение всего вечера король выглядел печальным и утомленным. Придворные заметили изменение его отношения к Рейтергольму, регенту и Эссену, которых в течение вечера он не удостоил ни одним взглядом.
Екатерина, судя по всему, находилась не в меньшем душевном смятении.
«Вы знаете, с какой искренней дружбой я приняла короля Швеции и регента и каким черным вероломством мне за то заплатили, — писала она Будбергу 1 октября. — Они сделали мне честь принять меня за дуру, которую легко обмануть. В то время, когда составлялся трактат, сам король старался в величайшем секрете своротить с пути религии мою внуку. Теперь, говорят, он опечален более всего тем, что с 10 сентября его апостольские труды были прерваны, так как с этого дня он не видел более Александру Павловну… Видя совершенное отсутствие искренности в этих людях, я не только охладела, но даже получила отвращение ко всему, что касается их дел. Мне решительно все равно, подпишет ли король по достижении совершеннолетия или не подпишет договор, заключенный между регентом и мною.
Итак, — заключает императрица, — вы не предпримете решительно ничего, чтобы заставить утвердить договор. Даже не сделаете на то намека».
И тут же вновь шаг назад:
«По крайней мере, покуда с вами не заговорят об этом».
Письмо это в Стокгольм было доставлено Будбергом-младшим. Барону, к сожалению, пришлось заплатить карьерой за недоразумения, происшедшие в Петербурге. К концу октября Екатерина просила Будберга-генерала отправить своего племянника под благовидным предлогом в Россию. Посол приказание, разумеется, выполнил, но принять советника Алопеуса, предложенного на замену Будбергу-младшему, благоразумно отказался, подозревая, что Зубов и Морков навязывали ему своего соглядатая.
Екатерина, впрочем, в очередной раз удивила свой двор. Она приняла всю ответственность за происшедшее на себя, не виня ни в чем русских полномочных, ведших переговоры со шведами, в том числе и Моркова.
«Вы сами можете видеть, — писал Петр Васильевич Завадовский Семену Романовичу Воронцову в Лондон, — до какой степени дошло покровительство нынешней твари».
Напомним, что таким нелестным образом члены «хохлацкой партии» называли князя Платона Александровича.
Между тем в середине октября в Стокгольме произошли важные изменения. Рейтергольм, рассчитывавший на кресло министра иностранных дел после совершеннолетия короля, подал в отставку, которая была принята. Такая же судьба постигла и герцога Карла, лишившегося всех занимавшихся им государственных постов, за исключением командира полка королевской гвардии. Оба приняли удары судьбы без ропота.
1 ноября, в день своего совершеннолетия, Густав был провозглашен королем Швеции Густавом-Адольфом IV. Торжества, прошедшие по этому поводу в Дроттингольмском дворце, были омрачены странным инцидентом. Когда наступило время зачитывать торжественный акт о вступлении короля на престол, выяснилось, что один из служащих забыл его текст в кабинете Густава. Тот, однако, не растерялся и, приказав принести один из текстов акта, розданных публике, подписал его. Тем не менее происшедшее сочли дурным знаком.
В должности великого канцлера был утвержден Спарре, покровитель Штединга. Самого посла прочили одно время на место министра иностранных дел, но назначение не состоялось.
30 октября Будберг с осторожным оптимизмом сообщил Екатерине, что с известием о восшествии короля на престол в Петербург направляется генерал Клингспорр, известный своим добрым отношением к России. Впрочем, хлопоты посла были напрасны. Клингспорр, выехавший в Петербург 5 ноября, за день до скоропостижной кончины Екатерины, застал на российском престоле уже императора Павла.
Стараниями Будберга, остававшегося в Стокгольме, переговоры о браке были продолжены. Большую заинтересованность в этом проявляла Мария Федоровна. В шведскую столицу на помощь послу был отряжен граф Федор Головкин, окончательно запутавший дело о браке. Провал переговоров дал возможность врагам Будберга добиться его отозвания из Стокгольма.
9
Достойную точку в этой трагикомической истории поставил Гавриил Романович Державин. Оду, сочиненную им на обручение Александры Павловны, он несколько переделал и напечатал в 1808 году под заглавием «Хор на шведский мир 8 сентября 1790 года». Первая строфа его не претерпела изменений:
Орлы и львы соединились, Героев храбрых полк возрос, С громами громы породнились, Поцеловался с шведом росс.Постскриптум
Только третье сватовство Густава оказалось удачным. Он женился на Фредерике, дочери маркграфа Баденского, старшей сестре Елизаветы Алексеевны, супруги великого князя Александра Павловича. Ночь после свадьбы Густав провел, вслух читая супруге мрачные пророчества Апокалипсиса.
Брак Густава, как и его царствование, оказался несчастливым. В семье он вел себя как тиран, в государственных делах — как сумасброд, ухитрившийся поссориться со всеми, начиная с Наполеона, к которому питал глубокую личную неприязнь, и кончая традиционными союзниками Швеции — Пруссией и Англией. Его второй визит в Петербург закончился публичным скандалом: Павел приказал не кормить короля и не оказывать ему никаких почестей на всем пути его обратного следования к границе.
Правление Густава-Адольфа IV поставило Швецию на грань национальной катастрофы.
В марте 1810 года он, как и Павел за девять лет до этого, стал жертвой заговора оппозиционно настроенных офицеров и был вынужден отречься от престола.
Королем под именем Карла XIII был избран бывший регент королевства герцог Зюдермандляндский.
Густав же после отречения жил в Швейцарии как частное лицо под именем полковника Густавсона. Жена покинула его сразу же после отречения, вернувшись к родителям в Баден. Полковник Густавсон много путешествовал, побывав в том числе еще раз в Петербурге, написал воспоминания. Умер он в 1837 году.
Судьба Александры Павловны сложилась еще более трагично. В феврале 1799 года она была обручена с австрийским эрцгерцогом Стефаном-Иосифом, палатином Венгерским. По желанию Павла обряд был совершен в том же Кавалергардском зале Зимнего дворца, где три года назад Alexandrine напрасно прождала своего жениха.
За труды по устройству брака Павел пожаловал Безбородко сто тысяч рублей.
Эрцгерцог был старше супруги на десять лет. По долгу службы — он был наместником в Венгрии — молодые поселились в Пеште. Александра Павловна любила мужа и была глубоко привязана к нему.
По условиям брачного контракта она сохранила православную веру. Муж, ревностный католик, уважал ее религиозные чувства. В эрцгерцогском дворце для его супруги была устроена православная часовня, службу в которой отправлял священник Андрей Самборский.
По многочисленным свидетельствам, Александра Павловна пользовалась любовью народа. Православные венгры и сербы видели в ней защитницу и покровительницу. Это вызывало ревность и подозрения со стороны католической церкви. Начались интриги, которые поощрялись императрицей Терезией, невзлюбившей Александру. Посещения Вены, во время которых приходилось встречаться со свекровью, сделались для Александры сущим мученьем. Очень печалили ее и длительные разлуки с мужем, участвовавшим в войне, которую Австрия вела тогда с наполеоновской Францией.
Александра Павловна скончалась 4 марта 1801 года родами.
В последние месяцы жизни она очень тосковала по родине. На открытом рояле, стоявшем в ее комнате, остались ноты русской арии «Ах, скучно мне на чужой стороне».
После кончины Александры Павловны кто-то, возможно, венгерские церковники распустил слух, что перед смертью она тайно обратилась в католичество. Сделано это было, вероятно, для того, чтобы похоронить ее на католическом кладбище — боялись, что ее могила станет местом паломничества.
Восемь месяцев тело ее оставалось непогребенным.
Только в декабре 1801 года прах Александры Павловны был предан земле в специально построенной часовне.
И последнее. В фондах Архива внешней политики России на Серпуховке, таящих еще много неразгаданных тайн, есть пухлая, по-старорежимному добротно изготовленная папка с бумагами павловских времен. В ней среди десятков ставших бессмысленными сегодня гатчинских ордонансов есть связка писем, которыми обменивались Екатерина и Мария Федоровна ранней осенью 1796 года.
Среди писем — конвертик, а в нем игральная карта с выцветшей от времени голубовато-серой рубашкой. Бубновый король. И прядь белокурых волос.
Затмение свыше (ноябрь — декабрь 1796 г.)
Действо первое
Последние годы царствования великих монархов часто оказываются непохожи на их блистательное начало.
Д. Дидро. «Мечтания философа Дени»1
В конце сентября 1796 года дожди, зарядившие было в середине месяца, внезапно кончились. Небо очистилось, заголубело. Липы на Дворцовой набережной роняли тронутые желтизной листья. Медленно кружась, падали они на усыпанные гравием дорожки, на светлые воды Невы, лениво плескавшиеся о гранит. По набережной, в сторону Летнего сада непрерывной вереницей катили экипажи. Обитатели северной столицы спешили воспользоваться последними солнечными денечками, которые дарило им наступившее бабье лето.
Вечером погожего сентябрьского дня Екатерина стояла, тяжело опершись на трость, ставшую ее неизменной спутницей, у окна своей опочивальни. Под лучами заходящего солнца червонным золотом отливал шпиль Петропавловской крепости. У стрелки Васильевского острова покачивались на легкой волне купеческие суда. С прогулочного ялика, сквозь форточку — васисдас, — как называла ее Екатерина, доносился веселый смех.
При взгляде на императрицу сторонний наблюдатель не мог бы не поразиться переменам, произошедшим с ней после тяжелого потрясения, вызванного несостоявшимся сватовством шведского короля. Гармония ее лица, живость которого когда-то очаровывала любого собеседника, как бы распалась. В выражении его, улыбке, во взгляде выцветших светло-серых глаз проявилась какая-то неуверенность. Тембр голоса, прежде грудной, завораживавший богатством интонаций, сел, как садится звук треснувшего фагота. В речи ее еще более явственно стал слышен немецкий акцент, от которого она так никогда и не смогла избавиться.
После отъезда Густава Екатерина почти не покидала свои покои, делая исключение для больших выходов по воскресеньям. К вечеру ноги отекали так, что трудно было ступать, давно мучившие ее приступы колик стали случаться чаще. Доклады, с которыми являлись секретари, принимала в опочивальне. Слушала, однако, равнодушно, вполуха. Оживлялась только, когда поступали депеши от барона Будберга, остававшегося в Стокгольме. Шведскую почту требовала докладывать в первую очередь, однако новости, поступавшие из шведской столицы, не радовали. Обедала за малым столом, к которому приглашались Зубов, Протасова, Строганов, Голенищев-Кутузов, де Рибас, реже — Безбородко, граф Эстергази, Морков. После обеда императрица вновь исчезала в спальне, куда вызывались — нередко в самый поздний час — то Зубов, то Безбородко.
Выходили они оттуда с лицами хмурыми и обеспокоенными.
Причины для этого были, и весьма основательные. Екатерину и раньше посещали приступы меланхолии, но длились они обычно недолго. Императрица умела брать себя в руки. На этот же раз дни шли за днями — а мрачное настроение, овладевшее ею, не развеивалось. Екатерина сделалась мнительной. Особенно беспокоила комета, повисшая в ночном небе над Петропавловской крепостью.
— Кометы, они даром не являются, — скорбно говорила императрица и вспоминала, что незадолго до кончины Елизаветы Петровны над Петербургом была видна точно такая же, но с изогнутым хвостом.
Перекусихина с вечера задвигала шторы на окнах, выходивших на Неву. Принималась болтать с наигранной бодростью, желая отвлечь от печальных мыслей. Однако Екатерину каждый вечер будто тайная сила тянула проверить, на месте ли небесная гостья.
— Здесь, проклятая, — шептала она, и взгляд, устремленный в окно, становился отрешенным.
Встревоженная Марья Саввишна шушукалась с Роджерсоном. Лейб-медик, вздыхая, брал саквояж, в котором позвякивали флакончики со снадобьями, и направлялся в опочивальню, зная наперед, что принимать лекарства Екатерина категорически откажется. К докторам относилась насмешливо. До самой смерти они оставались для нее смешными шарлатанами из пьес Мольера.
— Если мне суждено умереть, я предпочитаю, чтобы это произошло без вашей помощи, — говорила она состарившемуся при ее дворе эскулапу.
Лишь однажды, уступая настояниям лейб-медика, она проглотила принесенную им пилюлю. Роджерсон так развеселился, что захлопал в ладоши. Радость его, однако, была преждевременной. Продолжить лечение Екатерина отказалась. Болезнь она считала проявлением слабости, которую следовало преодолевать.
А воли, решительности и той слепой веры в свою способность повернуть личные и государственные дела в направлении, которое считала нужным, у Екатерины всегда было предостаточно. Даже сейчас, едва оправившись от удара, перенесенного ею в ночь с 11 на 12 сентября, она была озабочена не столько своим нездоровьем, сколько решением вопроса, который почитала наиважнейшим.
Скрытое, но от того не менее острое противостояние с сыном, именем которого она взошла на престол, никогда не составляло секрета для близких к Екатерине лиц. Более того, в значительной — иногда решающей — мере оно было стержнем то утихавшей, то разгоравшейся с новой силой борьбы придворных группировок и честолюбий их лидеров.
Попытки Екатерины наладить отношения с великим князем, предпринимавшиеся ею в середине 70-х годов, после его совершеннолетия, результатов не дали, да и не могли дать. Допуск Павла Петровича к государственным делам так и не состоялся, потому что был крайне нежелателен не только для остававшихся при дворе участников переворота 1762 года (отсюда, кстати, — глубоко укоренившаяся в сознании Павла убежденность в его преступном, узурпаторском характере), но и для самой императрицы: при известной прямолинейности мышления великого князя он непременно, даже помимо своей воли, сделался бы притягательным центром для всякого рода недовольных и искателей счастья.
Не оправдались и расчеты, которые Екатерина связывала со вторым браком сына. Мария Федоровна, хотя и была по характеру антиподом властной, подчинившей мужа своему влиянию первой супруги Павла, имела собственные взгляды на многие вопросы. Особенно раздражало Екатерину то, что великая княгиня, стремясь помочь своей многочисленной немецкой родне, а, может, и по каким другим причинам, поощряла симпатии великого князя к Фридриху II. Пропрусские настроения великокняжеской четы открыто одобрялись Паниным, заявлявшим при каждом удобном случае, что сохранение мира, в котором так нуждалась Россия, возможно только при условии союза с Пруссией, тогда как ориентация на Австрию, к которой под влиянием Потемкина с начала 80-х годов склонялась Екатерина, была чревата неизбежным вовлечением России в новые завоевательные войны. Результатом всего этого было превращение Павла в убежденного политического оппонента матери, питавшего непримиримую враждебность к самим принципам ее политики.
Новое качество антагонизму, давно уже вызревавшему в императорской семье, придала заграничная поездка великокняжеской четы (19 сентября 1781 года — 20 ноября 1782 года), во время которой Павел неоднократно — в Неаполе, Париже — в самых резких выражениях отзывался о царствовании своей матери. К известным свидетельствам на этот счет Леопольда Тосканского и Марии-Антуанетты недавно добавилось еще одно — записка польского короля Станислава Понятовского, принимавшего Павла и его супругу в октябре 1781 года в Вишневце, имении графов Мнишек[245].
В разговоре с Понятовским великий князь признавался, что «страдает от того, что видит себя низведенным до бездействия, до самой унизительной никчемности», говорил, что «страстно желает быть полезным своей родине, вернуть тот долг благодарности и любви, которую испытывает к нему русский народ, пока возраст и здоровье позволяют ему работать». Однако и знания, и природные качества его остаются втуне, намерения и поступки — неправильно истолковываются.
«Кажется, что расстраивать меня и унижать при каждой встрече без всякой на то причины доставляет удовольствие», — говорил Павел, имея в виду мать. Он не был уверен, что ему позволят вернуться на родину, что, кстати, можно было понять, если учесть, что накануне отъезда, сопровождавшегося массой интриг и недоразумений, распространялись и слухи о возможном отстранении Павла от престолонаследия под предлогом его длительного отсутствия за границей. В этом контексте называлось имя Алексея Бобринского, внебрачного сына Г. Орлова и Екатерины, к которому в это время императрица действительно удвоила внимание.
Обстоятельства, предшествовавшие отъезду великокняжеской четы, хорошо известны, в частности, из депеши английского посла Дж. Гарриса от 21 сентября 1781 года[246]. Однако с учетом последствий, которые они имели для взаимоотношений между Екатериной и ее сыном, казалось, что в общей картине все же не хватает какой-то существенной детали, объяснившей бы тот достаточно достоверно установленный факт, что первое свидетельство о планах Екатерины устранить Павла от престолонаследия относится к 1782 году, времени его зарубежной поездки.
Помог случай. Светлана Романовна Долгова, тонкий знаток екатерининского времени, готовя очередную выставку, обнаружила в знаменитом первом фонде РГАДА дело под № 52, содержащее собственноручные бумаги Павла, относящиеся к осени 1781 года Они хранились в имеющемся в деле конверте, на котором рукой Марии Федоровны по-французски написано: «Бумаги, написанные рукой дорогого великого князя, доверенные мне, когда он собирался в большое путешествие. Те же самые бумаги послужили впоследствии основой для новых»[247].
Среди них — начатое, но недописанное распоряжение Павла по случаю его отъезда за границу, в котором, в частности, упоминается, что в случае кончины Екатерины необходимо привести государственные чины и народ к присяге[248]. Имеется набросок закона о престолонаследии, перекликающийся с проектом, представленным Павлу П. И. Паниным по воцарении. В нем, в частности, определено, что возраст совершеннолетия наследника престола должен составлять шестнадцать лет. Интересно, что у Павла были, по-видимому, какие-то сомнения на этот счет, потому что цифра шесть переправлена, похоже, с цифры восемь. Далее следует разъяснение о том, что такой возраст установлен для того, что «сократить срок опеки над несовершеннолетним государем»[249].
Однако наиболее интересно собственноручное письмо Павла Н. И. Панину, написанное 2 сентября 1781 года в Царском Селе. Обращаясь к своему бывшему воспитателю, Павел пишет о том, что, надолго уезжая из России, он не может не принимать во внимание возможность кончины своей матери. «Таковое произшествие былобы истинное на нас посещение Божие»[250], — трудно не констатировать двусмысленность избранной Павлом формулировки.
Распоряжения, отданные Павлом Панину на этом случай, заключались в следующем:
«1-е. Прошу вас и убеждаю, как скоро постиг бы момент нещастнаго произшествия, перейтить во дворец и взять под Ваше главное надзирание и попечение все то, что касаться может до сохранения и безопасности детей моих. С неограниченною доверенностию вручаю вам оное, и хочу, чтоб всё вами по тому предприемлемое и разпоряжаемое имело силу и действие моего собственнаго повеления.
2-е. Перенеся во дворец ваше пребывание, и поставив себя по воле моей попечителем детей моих, поручаю вам созвать немедленно полное собрание Сенату, Синода и прочесть (пред ними к протоколу — зачеркнуто — П.C.) сиё мое к вам письмо, котораго содержание в тот же самой час и возымеет силу моей точной воли и повеления.»
Далее следует самое важное: «Равным образом составьте тогда немедленно и во дворце моем на время моего из отечества отсудствия и до моего возвращения особенной Верховный совет из особ, заслуживших мою доверенность, кои есть: граф Петр Иванович Панин, фельдмаршал князь Голицын, фельдмаршал граф Румянцев, оба брата графы Чернышевы, граф Брюс, князь Репнин, фельдмаршал граф Разумовский, генерал-аншеф кн. Долгорукой, генерал-аншеф Вадковский и Чичерин, коим заседать по старшинству чинов своих.
Симу Совету прочтите также сие письмо, содержащее в себе точную волю мою и объявите ему моим именем, что до возвращения моего вверяю вам обще с ними сохранение ненарушимости государственнаго уже заведеннаго порядка и общей тишины, вследствие чего …».[251]
Оба последних абзаца перечеркнуты крестом, из чего, как и из надписи Марии Федоровны на конверте, можно сделать заключение, что мы имеем дело лишь с черновиком. Неясно, решился ли в конечном итоге передать его Павел Панину, однако несомненно, что именно этот круг вопросов обсуждался во время таинственных разговоров великого князя со своим бывшим воспитателем, о которых сохранились многочисленные упоминания очевидцев отъезда великокняжеской четы.
Не менее интересны и остальные распоряжения Павла:
«3-е. Сенат, Синод, три первые коллегии, все протчие гражданские, военные и судебные места, шефы разных команд и установлений, словом сказать все места и все шефы без изъятия, должны без малейшей остановки отправлять по их званиям все обыкновенные текущие дела…
4-е. вам мой искренний друг поручаю особенно в самой момент предполагаемого нещастия, от котораго храни нас Бог, весь собственной кабинет и бумаги Государынины собрать при себе в одно место, запечатать Государственною печатью, приставить к ним надежную стражу, и сказать верховному Совету волю мою, чтобы наложенные Вами печати оставались в целости до моего возвращения.
5-е. Буде в каком ни будь правительстве, или в руках частнаго какого человека, остались мне неизвестные какие бы то ни было повеления, указы или распоряжения в свет не выданные, оным до моего возвращения остаться не только без всякаго и малейшаго действия, но и в той же непроницаемой тайне, в какой по тот час сохранялись.
Со всяким же тем, кто отважится сие нарушить, или подаст на себя справедливое подозрение в готовности преступить сию волю мою, верховный совет имеет поступить по обстоятельствам как с сущим, или же с подозреваемым государственным злодеем, представляя конечное судьбы его решение самому мне по моем возвращении. За сим пребываю Вашим верным и благожелательным
Павел»[252].
Если предположить, а для этого есть вполне весомые основания, что письмо или даже факт его написания стали известны Екатерине, то логичные объяснения обретают и отставка Н. И. Панина с поста руководителя Коллегии иностранных дел, последовавшая сразу же вслед за отъездом Павла, и утвердившееся среди историков екатерининского царствования мнение о том, что первые достоверные свидетельства о планах Екатерины передать корону всероссийскую, минуя Павла, любимому внуку Александру, относятся к 1782 году, времени возвращения графа и графини Северных из путешествия по Европе.
2
Казалось, обстоятельства благоприятствовали перевороту, задуманному Екатериной. Порядок престолонаследия по прямой мужской линии был отменен еще Петром после дела царевича Алексея. Принятый им закон 1722 года отдавал решение вопроса о судьбе престола на полное усмотрение царствующей императрицы, несмотря на то, что в манифесте 1762 года о восшествии Павел был объявлен наследником-цесаревичем.
Сразу после окончания шведской войны Екатерина начала готовить почву для переворота. В переписке с Гриммом она сначала полунамеками, а затем вполне откровенно изложила свои планы: «Сперва мой Александр женится, а там, со временем, и будет коронован со всевозможными торжествами и народными празднествами. Все будет блестяще, величественно и великолепно. О, как он сам будет счастлив, и как с ним будут счастливы другие!» Имеются и другие указания на то, что к этому времени намерение устранить Павла от престола перестали составлять тайну для близких императрицы.
Судя по всему, первая реакция собеседников была понята Екатериной как достаточно благоприятная. Казалось, общественное мнение и в России, и за рубежом формируется согласно ее плану, тем более что Павел своим безрассудным поведением, подозрительностью и жестокостью настраивал против себя всех, кто с ним соприкасался. Сам он называл гатчинский период своей жизни «упражнением в терпении», однако проявлялось оно весьма своеобразно. Дня не проходило, чтобы из Гатчины не привозили новых анекдотов о творившихся там «нелепах». В любой оплошности своих сотрудников великий князь видел признаки неуважения к себе, косица неуставной длины или дурно застегнутый мундир казались ему покушением на государственные устои.
Нехорошо влияло на Павла и общение с французскими монархистами, наводнившими после казни Людовика XVI Петербург и Павловск. «Вы увидите впоследствии, сколько вреда наделало здесь пребывание Эстергази, — писал близкий к Павлу Ф. В. Растопчин в Лондон С. Р. Воронцову, — он так усердно проповедовал в пользу деспотизма и необходимости править железной лозой, что государь наследник усвоил себе эту систему и уже поступает согласно с нею. Каждый день только и слышно, что о насилиях, мелочных придирках, которых постыдился бы всякий честный человек». Граф Валентин Эстергази представлял в Петербурге французских эмигрантов.
Для успеха задуманного предприятия следовало заручиться согласием Александра. Зная доверие, с которым тот относился к своему воспитателю швейцарцу Фридриху-Цезарю Лагарпу, Екатерина 18 октября 1793 года, спустя три недели после свадьбы внука, пригласила к себе старого республиканца. Расчет при этом, надо думать, делался и на то, что Лагарп, не скрывавший своих республиканских убеждений и воспитавший Александра в уважении к ним, не захочет способствовать воцарению тирана. Кроме того, было прекрасно известно, что Павел терпеть не мог Лагарпа, называл его не иначе как якобинцем, а при встрече отворачивался, не желая подавать руки. Всего этого, казалось, было достаточно для того, чтобы рассчитывать на сочувственное отношение Лагарпа к ее плану.
Ошибка и ошибка жестокая. Два часа, проведенные в беседе с императрицей, честный швейцарец называл впоследствии нравственной пыткой. За все время разговора Екатерина так и не сказала прямо, чего она ожидала от наставника своего внука, хотя ее мрачные предсказания печального будущего России в эпоху Павла были прозрачны. «Догадавшись, в чем дело, — пишет Лагарп, — я употребил все усилия, чтобы воспрепятствовать государыне открыть мне задуманный план и вместе с тем отклонить в ней всякое подозрение в том, что я проник в ее тайну».
Ровно через год, 23 сентября 1794 года, граф Салтыков, вызвав Лагарпа с урока, который он давал Александру, заявил, что в его услугах больше не нуждаются и он может ехать на родину.
Александр пришел в отчаяние.
Оставшиеся до отъезда месяцы Лагарп посвятил попыткам примирения Павла с сыновьями. После долгого ожидания он добился личной аудиенции у великого князя, во время которой торжественно заклинал его иметь к ним полное доверие, общаться «лично, а не через третье лицо». Павел благосклонно выслушал наставления Лагарпа, и с этого момента началось его сближение с Александром и Константином.
Это, впрочем, не помешало Павлу, став императором, дать накануне Швейцарского похода тайное приказание Суворову о розыске и аресте Лагарпа. Узнав об этом, Лагарп направил ему письмо, в котором прямо напомнил, что он — тот «человек, неподкупности которого Вы, по всей вероятности, обязаны своим существованием, подвергавшимся сильной опасности в 1793 и 1794 годах».
Детали этой истории хранит пара тонких лайковых перчаток из московского Архива древних актов.
В том же деле — записка, написанная по-французски, как установлено, Лагарпом.
Вот ее текст.
«Эти перчатки дал мне Его Императорское Высочество Великий Князь Павел Петрович в Гатчине в мае 1795 года, в день рождения его сына Константина, бывший за несколько дней до моего отъезда из Петербурга.
Во время бала в Гатчине Ее Императорское Величество Великая Княгиня Мария Федоровна оказала мне честь, пригласив на полонез. Я попал в неловкое положение, так как не имел перчаток, и Великий Князь, с которым я беседовал в это время, предложил мне свои.
Я сохранил их как память о счастливых часах, когда я пользовался его благоволением и, прежде всего, как воспоминание о дне, когда я выполнил свой великий долг.
В течение нескольких лет государь демонстрировал по отношению ко мне весьма неприятное для меня охлаждение, но я решился не покидать Россию, не узнав причины этого.
Такая возможность представилась в связи с моим отъездом. Я имел с этим несчастным принцем, которого так мало знали, беседу, продолжавшуюся два часа в его кабинете. Во время ее я снял груз со своего сердца. Глубоко тронутый этим, он засвидетельствовал мне это столь сердечным образом, что я сохранил воспоминания о ней навсегда. Он особенно оценил те предостережения, которые я считал важным ему сделать.
Когда он взошел на трон, я принимал участие в деятельности, которая дала Швейцарии новое государственное устройство. Не составило труда представить эту деятельность в дурном свете. Вследствие этого, я был лишен моего ордена и пенсии, но был неизменно уверен в том, что когда-нибудь это будет исправлено. Я не ошибся: Император Павел I, вспомнив обо мне за несколько дней до смерти, сказал своему сыну Александру, что он никогда не забыл то, как я с ним попрощался перед отъездом, и проявил ко мне самый живой интерес, который этот прекрасный принц не мог удовлетворить, поскольку переписка между нами была прекращена вследствие данного ему на этот счет приказания.
Когда я вернулся в Петербург в 1801 году, император повторил мне слова своего отца, попросив меня объяснить их смысл. Мои объяснения весьма его удивили: он и не подозревал о тех потрясениях, которые мне тогда пришлось пережить.
Эти перчатки, на мой взгляд, стоят самой высокой награды; они свидетельствуют, что тот, ради которого я мужественно выполнил свой великий долг, оценил это. Удел государя — быть окруженным льстецами; ему редко случается иметь в своем окружении людей, для которых превыше всего выполнение своего долга, несмотря на все опасности, которым им при этом приходится подвергаться»[253].
С 1795 года Александр начал ездить в Павловск вместо одного — четыре раза в неделю, занимаясь там маневрами, учениями, парадами. Командуя батальоном своего имени, он мало-помалу увлекался фрунтом, муштрой и прочими мелочами военной службы, приводя в отчаяние бабку, вынужденную следить, как отдаляется от нее любимый внук.
В конце 1794 года после отъезда Лагарпа Екатерина, судя по всему, завела разговор о необходимости устранения Павла от наследования престола в Государственном совете. Ответом ей было тяжелое молчание, хотя большинство членов совета в душе разделяли опасения императрицы. Слишком свежи еще были воспоминания о несчастьях, которыми оборачивался для России беспорядок в вопросе престолонаследия.
Впрочем, Совет, кажется, был готов подчиниться воле императрицы, если бы не граф Валентин Платонович Мусин-Пушкин, предположивший, что «нрав и инстинкты престолонаследника могут перемениться, когда он сделается императором». Мусина-Пушкина неожиданно поддержал дальновидный Безбородко, напомнивший, что имя Павла Петровича возглашается по всей России на церковных ектеньях в качестве законного наследника престола. Народ привык считать его цесаревичем, и если Александр будет провозглашен императором в обход отца, это может вызвать возмущение. Екатерина была вынуждена смириться.
Но не отказаться от владевшей ею мысли.
25 июня 1796 года, в четвертом часу утра, в Царском Селе Мария Федоровна дала рождение третьему сыну Павла. Появление на свет «рыцаря Николая», как сразу же назвала его бабка, побудило Екатерину еще раз попытаться заручиться поддержкой в деле отстранения Павла от престола, обратившись на этот раз непосредственно к Марии Федоровне. Воспользовавшись тем, что сразу же после рождения сына Павел отбыл в Гатчину, а Мария Федоровна оставалась в Царском Селе до начала августа, она передала ей на подпись бумагу с требованием к Павлу отречься от престола в пользу Александра.
Трудно сказать, на что рассчитывала Екатерина на этот раз. Она, конечно, знала, что после появления в 1785 году при гатчинском дворе Екатерины Ивановны Нелидовой супружеская жизнь великого князя дала трещину. Доводили до ее сведения и то, что Мария Федоровна, в отличие от мужа, всегда была осторожна в своих оценках того, что происходило при большом дворе, и вообще стремилась смягчить или загладить неловкость и грубость его поведения.
Сохранившиеся письма Марии Федоровны С. И. Плещееву, опубликованные Е. С. Шумигорским через сто лет после того, как они были написаны, наводят, однако, на мысль о том, что Екатерина плохо представляла себе, что творилось в душе ее неизменно вежливой и любезной невестки. «Настоящее жестоко, но будущее внушает мне чрезвычайный ужас, — признавалась великая княгиня своему ближайшему другу еще летом 1794 года, — потому что, если мужа моего постигнет несчастье, то не он один подвергнется ему, но и я вместе с ним»[254].
Спасение Мария Федоровна видела только в демонстрации полной покорности воле императрицы. Павлу она советовала «быть почтительным и послушным сыном», чтобы не «вооружать» против себя императрицу и ее окружение. Самое любопытное заключается в том, что и Нелидова, которую великая княгиня подозревала в дурном влиянии на мужа, как выяснил тот же Шумигорский, не хуже ее понимала опасность, грозящую Павлу, и пыталась примирить его с матерью[255].
Словом, и на этот раз Екатерину ждало горькое разочарование. Невестка не только отказалась скрепить своей подписью предъявленный документ, но и не скрыла своего негодования.
Оставалось последнее: обратиться непосредственно к Александру. Решиться на подобную крайнюю меру Екатерину побудило то подавленное, близкое к отчаянию состояние, в которое повергла ее неудачная помолвка шведского короля.
3
16 сентября, во вторник, всего через пять дней после того, как Густав не явился в Зимний дворец, Екатерина пригласила к себе Александра. На этот раз было не до экивоков. Глядя внуку прямо в глаза, она предельно ясно и, как ей казалось, логично, разъяснила необходимость задуманного переворота.
— Я не могу быть безучастной к тому, в какие руки попадет империя после моей смерти. Не желаю и не могу допустить, чтобы из России сделали страну, зависящую от воли Пруссии, — говорила Екатерина. Красные пятна, проступившие на ее щеках, выдавали огромное внутреннее волнение.
На глазах Александра выступили слезы.
— Я знаю, как мучительно для вас то, о чем я говорю, — продолжала императрица, — но вы уже взрослый человек и должны понять горькую необходимость моих требований. Поддержать меня — ваша священная обязанность перед Россией.
— А что будет с батюшкой? — наконец выдавил из себя Александр.
— Это уже не ваша забота, я все беру на себя. Возможно, какое-то время, пока не охолонет, придется пожить вдали от Петербурга.
— Я подумаю, — еле слышно произнес Александр.
Дни, последовавшие за этим разговором, были наполнены для него горькими и мучительными раздумьями.
24 сентября секретарь подал Екатерине запечатанный конверт.
«Ваше императорское величество, — писал Александр, — я никогда не буду в состоянии достаточно выразить свою благодарность за то доверие, которым Ваше величество соблаговолили почтить меня, и за ту доброту, с которой изволили дать собственноручное пояснение к остальным бумагам. Я надеюсь, что Ваше величество, судя по усердию моему заслужить неоцененное благоволение Ваше, убедитесь, что я вполне чувствую все значение оказанной милости. Действительно, даже своею кровью я не в состоянии оплатить за все то, что Вы соблаговолили уже и еще желаете сделать для меня. Эти бумаги с полной очевидностью подтверждают все соображения, которые Вашему величеству благоугодно было недавно сообщить мне, и которые, если мне позволено будет высказать это, как нельзя более справедливы. Еще раз повергая к стопам Вашего императорского величества чувства моей живейшей благодарности, осмеливаюсь быть с глубочайшим благоговением и самою неизменною преданностью.
Вашего императорского величества всенижайший, всепокорнейший подданный и внук
Александр»
Двусмысленность выражений этого письма, обнаруженного после смерти Екатерины в бумагах Платона Зубова, скорее всего, и уберегла его от массового уничтожения, которому подверглись документы конца екатерининского царствования при Павле.
Страшная тяжесть легла в эти дни на плечи Александра. Тайные замыслы Екатерины неведомым образом докатывались до Москвы, где еще весной 1796 года императрицу ожидали для «сложения короны и отдания оной наследнику, ею назначенному», и даже до далекой Тулы, где славный Андрей Тимофеевич Болотов записал в свой дневник: «Слухи о несогласии в Петербурге: что великий князь Александр Павлович формально и почти на коленях от наследства отказался и что императрица за то на него гневается».
По этой записи можно представить, как широко обсуждалось дело с престолонаследием. Вся страна пересказывала тайны Зимнего дворца и, что самое важное, «народ во мнении своем содрогался от одного помышления о том, что законный порядок вещей будет нарушен».
Вряд ли стоит сомневаться в том, что Александр если и не знал, то угадывал мнение народное. Еще 10 мая 1796 года он признавался в письме к своему другу В. П. Кочубею: «Я сознаю, что не рожден для того высокого сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или иным образом». Осенью же 1796 года от него слышали такие высказывания:
«Если верно, что хотят посягнуть на права моего отца, то я сумею уклониться от такой несправедливости. Мы с женой спасемся в Америку и будем там свободны и счастливы, и про нас больше не услышат».
Владевшими им сомнениями Александр, скорее всего, поделился с матерью. Сохранилось написанное в эти дни письмо Марии Федоровны к сыну, в котором имеются следующие строки: «Во имя Господа, придерживайтесь избранного слова. Мужество и твердость, мой сын. Господь никогда не покинет невинность и добродетель». И выразительный эпиграф: «Сожгите мое письмо, как я сжигаю ваше».
Надо отдать должное удивительному присутствию духа и твердости характера, которые проявила в этот критический момент Мария Федоровна. Зная нрав своего супруга, она, по крайней мере, до октября ни словом не обмолвилась ему ни об июньском разговоре с императрицей, ни о признаниях Александра.
Единственными своими советчиками Мария Федоровна избрала Сергея Ивановича Плещеева и его молодую супругу Наталью Федоровну, которым доверяла безраздельно. В архиве Плещеева сохранилась следующая записка великой княгини, доказывающая, что она общалась в эти дни с сыном при посредстве Сергея Ивановича.
«Je ne pourrai vous voir que ce soir tard. Ainsi, mon enfant, dites par quelques mots ce qui vous arrive de nouveau. Tenez-vous au nom de Dieu au plan arrêté, du courage et de la fermeté, mon enfant. Dieu n’abandonne l’innocense et la vertue. Berthaume vous enverra seci de chez-lui, comme une lettre que vous est arrivée de la Crävenitz, et vous répondez moi en mettant sur le couvert l’adresse à Mad. de Grävenitz et envoyez la à Berthaume chez lui. Brulez mes billets, je brule les vôtres»[256].
Екатерина не знала о содержании их бесед, однако, интуицией, тем шестым чувством, которое получает особенное развитие у стареющих политиков, понимала, что пришло время решительных действий.
4
…Вечером в опочивальню был призван граф Николай Иванович Салтыков, воспитатель великих князей Александра и Константина.
При входе в апартаменты императрицы граф не мог скрыть своего удивления.
Екатерина сидела у окна, опершись на край резного рабочего столика. Юбка ее была подоткнута до колен, а ноги опущены в запотевший таз с зеленоватой водой, на поверхности которой плавали кусочки льда.
Усадив Салтыкова, Екатерина усмехнулась.
— Извини, Николай Иванович, что принимаю тебя, — императрица помедлила, — так, по-домашнему. Но мы свои люди. Этот неаполитанец, знаешь, который служит у Рибаса, прознал, видно, что у меня на ногах открылись язвы, и передал через Осипа Ивановича старинное средство, которым пользуются в их местах, чтобы лечить мою болезнь. Приказала привезти из Петергофа морской воды и сижу теперь каждый вечер. Кажется, помогает.
Екатерина приподняла опухшую, посиневшую от холода ногу, наклонилась, внимательно рассматривая ее.
— Ну все лучше, чем пилюли эти, которыми Роджерсон потчует.
Салтыков был того же мнения. Он любил рассказывать, что вылечился от почечных колик, глядя несколько часов в кадушку с водой, в которой плавала щука.
Императрица повернулась к сидевшей рядом Перекусихиной:
— Ты, пожалуй, ступай, Мария Саввишна, нам потолковать надо.
— А ледку не добавить ли, матушка? — осведомилась Перекусихина.
— Не надо, и так еле терплю.
Когда дверь за Перекусихиной затворилась, Екатерина медленно повернулась к Салтыкову.
— Ну что, Николай Иванович, какие новости из болот гатчинских? Я чаю, ты ездил туда сегодня.
— Точно так, Ваше величество, ездил. Все маршируют, из пушек по воробьям палят, словом, забавляются.
— А сам-то monsieur le Secondat[257] как, каково настроение? Ты с ним говорил?
— Как всегда, не в духе. Во втором батальоне у Константина Павловича у солдата пуговицу обнаружил незастегнутую, а у офицера, не помню его фамилию, молоденький такой, плюмаж на шляпе не того цвета показался, желтоват. Очень гневаться изволил.
— Ну и что, наказал?
— Шпицрутенами. И при экзекуции лично присутствовал.
— Что за гнусность, — возмутилась Екатерина, — совсем сдурел.
Салтыков тяжело вздохнул и поиграл глазами, показывая, что разделяет негодование гатчинскими порядками.
— А что Александр, видел он это безобразие?
— Как не видеть. Все тамошнее воинство при сем присутствовало.
— Бедный мальчик, — вздохнула Екатерина, — за что ему такие испытания?
Салтыков кашлянул. Взгляд его на секунду сделался отсутствующим. Графу, ежедневно наблюдавшему гатчинские нравы, лучше, чем кому-либо другому было известно, что Александр все более проникается поэзией вахтпарадов и шагистики, видя в них верное средство восстановить дисциплину в разнеженных гвардейских полках.
— Ну ладно, — Екатерина позвонила в колокольчик. Немедленно, будто она все это время стояла за дверью, появилась Перекусихина.
— Добавь-ка ледку, Саввишна, — сказала Екатерина. — Что-то вода тепла стала.
Когда Перекусихина, бултыхнув льду в таз, исчезла, Екатерина повернулась к Салтыкову.
— Теперь о наших делах. Я здесь поразмыслила, посоветовалась с князем Платоном Александровичем и думаю, что не стоит откладывать оглашение известного тебе манифеста до 1 января. Сделаем это в Екатеринин день, 24 ноября. Бумагу, которую князь Платон подготовил, я посмотрела, да и ты посмотри. Все, что там про колобродства и дурные инстинкты великого князя понаписали, вычеркнула. Это наше дело, семейное, публике знать о том необязательно. Провозглашение Александра наследником-цесаревичем — акт необходимый для счастья и благополучия государства российского, об этом и надо писать в манифесте, а не о том, что отец его сумасшедший.
Слушая, Салтыков кивал головой.
— Завтра князь Платон эту бумагу Безбородко покажет. Может, тот еще чего удумает, голова у него крепкая.
Салтыков не мог скрыть изумления.
— Как, и хохол согласен? Помнится, он был другого мнения.
— Все вы другого мнения, когда вместе соберетесь, а поодиночке куда деваться? Я его характер уже двадцать лет знаю. Да, вот еще, пошли курьера к графу Орлову, в Москву, скажи, что хочу его видеть в столице. Его да Румянцева, как героев прошлой войны, народ любит. Их подписи под манифестом не помешают.
Салтыков согласно наклонил голову.
— Кстати, — вспомнила вдруг Екатерина, — а Мари где сейчас, в Гатчине или Павловске?
— В Павловске, — ответил Салтыков. — Занимается делами воспитательного дома для солдатских сирот.
— Вот и хорошо. Чем меньше она в эти дни в Гатчину ездить будет, тем лучше. Понял?
— Точно так, матушка, — поклонился Салтыков.
Когда он выходил из спальни императрицы, на лицо его вернулось обычное выражение тревожной озабоченности. Старый куртизан уже обдумывал, что будет говорить при завтрашней встрече с Павлом.
Больно и печально видеть, в чьи руки попадают порой судьбы империи.
Павел, судя по всему, знал все или почти все. С 12 сентября, когда он давал бал по случаю дня рождения Анны Павловны и вплоть до самого дня смерти Екатерины он ни разу не был в Петербурге.
5
Во второй половине октября здоровье Екатерины настолько окрепло, что она вновь стала появляться на публике. На бал по случаю тезоименитства великого князя Александра дамы явились в трауре — накануне пришло известие о смерти королевы Португалии. Императрица также была одета в черное, что случалось с ней чрезвычайно редко. За исключением весьма немногочисленных случаев она носила лишь полутраур.
— Не праздник, а немецкие похороны — черные платья, белые перчатки, — сказала Екатерина, присаживаясь подле графини Варвары Николаевны Головиной. Лицо императрицы было бледно, взгляд рассеян.
В окне двухсветной танцевальной залы всходила луна. Императрица сказала:
— Какая красивая луна сегодня, надо бы посмотреть на нее в телескоп. Я обещала шведскому королю показать его, когда он вернется.
Описывая этот вечер в своих знаменитых «Записках», Головина вспоминает, что когда английский король подарил Екатерине телескоп, изобретенный астрономом Гершелем, императрица велела привезти его в Царское Село немецкому профессору, служившему в Академии наук, в сопровождении Ивана Петровича Кулибина. Телескоп установили в зале, Екатерина смотрела через него на Луну. Стоя за креслом императрицы, Головина слышала, как та спросила у немца, удалось ли ему сделать какие-то новые открытия при помощи этого телескопа.
— Нет никакого сомнения, — с важностью ответил тот, — что Луна обитаема. Ее поверхность пересечена долинами и горами, можно разглядеть и деревянные сооружения.
Екатерина выслушала этот ученый ответ, с трудом сохраняя серьезное выражение лица. Когда немец удалился, она подозвала Кулибина и спросила у него вполголоса:
— А ты, Кулибин, открыл на Луне что-нибудь?
— Я не так учен, как господин профессор, — ответил тот, — и не увидел там ровно ничего.
Императрица с удовольствием вспоминала потом этот ответ.
После бала был накрыт ужин. Екатерина, никогда не садившаяся за стол вечером, на этот раз изменила своей привычке, прошла в столовую и незаметно устроилась за спинами Головиной и ее приятельницы графини Толстой. Варвара Николаевна, закончив есть, подала, не оборачиваясь, свою тарелку через плечо. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что тарелку приняла красивая белая рука с великолепным солитером на пальце. Головина вскрикнула в крайнем смущении от допущенной ошибки, но Екатерина успокоила ее, сказав:
— Что же, вы боитесь меня?
— Я в растерянности, Ваше величество, — отвечала графиня, — что заставила вас убирать мои тарелки.
— Пустое, я пришла, чтобы на вас полюбоваться.
Она еще немного пошутила с Головиной и Толстой, заметив, что пудра с шиньонов падает им на плечи точно так же, как у графа Матюшкина, весьма забавного персонажа, который, вернувшись из Парижа, приказывал припудривать себе спину, считая, что это было последним криком моды во Франции.
Перед тем как подняться, Екатерина оперлась о плечо Головиной. Та поцеловала ей руку, будто предчувствуя, что это была их последняя встреча.
В воскресенье, 2 ноября, Екатерина в последний раз появилась на большом выходе. В ожидании императрицы публика собралась в кавалергардском зале, а двор — в примыкавшей к ней секретарской комнате. Направляясь к заутрене, Екатерина обычно проходила прямо через секретарскую и столовую в примыкающее к внутренней церкви Зимнего дворца помещение, через окно которого она могла следить за службой. Окно было устроено, чтобы избавить императрицу от утомительных спусков и подъемов по лестнице, которая вела в церковь. На обратном пути Екатерина тем же путем возвращалась в секретарскую, посылая показаться публике Павла Петровича или кого-нибудь из внуков.
На этот раз Екатерина направилась в церковь через кавалергардский зал. Она все еще носила траур, но выглядела намного лучше, чем раньше. Лицо ее светилось улыбкой, седые волосы были убраны под черный платок, ниспадавший до середины лба. Приветствуя легким наклоном головы знакомые лица, встречавшие ее в огромной толпе, императрица прошествовала в церковь. За ней шли великие князья Александр и Константин, Зубов, Салтыков и Алексей Орлов, только что приехавший из Москвы.
Увидев в толпе австрийского посла графа Кобенцеля, Екатерина остановилась около него. Накануне пришло известие о том, что Суворов в союзе с австрийскими войсками разбил на Рейне французского маршала Моро. Кобенцель, грузный, рыжеватый, страстный любитель театра в жизни и политике, изобразил на лице приличное случаю выражение глубокого удовлетворения.
После службы Екатерина долго оставалась в секретарской, где был выставлен только что законченный портрет великой княгини Елизаветы Алексеевны, выполненный заезжей французской художницей Элизабет Виже-Лебрен. Екатерина, недолюбливавшая европейскую знаменитость, придирчиво рассматривала полотно, стоявшее в подрамнике на мольберте. Елизавета была изображена на нем в пышном придворном платье с фижмами и длинными рукавами. Лицо ее было чуть повернуто в сторону стоявшей рядом корзины с цветами.
— Ну это еще куда ни шло, — сказала, наконец, императрица стоявшему рядом Зубову. — Хоть рук не заголила и декольте вполне приличное. Стало быть, урок пошел впрок.
Зубов чуть приподнял левую бровь, изобразив, что и он скандализирован давним инцидентом с последовательницей Анжелики Кауфман, на который намекала императрица.
Виже-Лебрен жила в Петербурге уже год, но Екатерина все еще не могла забыть впечатление, которое оказала на нее первая работа художницы: портрет великих княжон Александры и Елены, дочерей Павла Петровича. Художница изобразила их в легких муслиновых платьях с обнаженными руками. Сочтя это верхом легкомыслия и угрозой нравственности, Екатерина не могла скрыть своего возмущения. Виже-Лебрен, обливаясь слезами, — руки великих княжон, по ее мнению, ей особенно удались — быстро пририсовала рукава. Екатерина, удовлетворенная ее покорностью, сменила гнев на милость.
— Особенно удались розы, — сказал между тем Зубов, произнося слова, по своему обыкновению, ни громко, ни тихо, но внушительно, — будто прямо от мсье Поммара.
Поммар был модным французским цветочником, державшим магазин на Невском.
Присутствующие понимающе заулыбались. Виже-Лебрен была обворожительной женщиной. Среди петербургского высшего света многие, в том числе и Александр Андреевич Безбородко, настойчиво добивались ее благосклонности.
Правда, без видимых результатов.
Безбородко, по слухам, каждое утро посылал в ателье французской знаменитости, находившееся напротив Зимнего дворца, роскошные букеты роз, заказывая их у Поммара.
Из Тронной залы прошли в столовую, где, как было принято по воскресеньям, был сервирован стол. В числе приглашенных находились великие князья Александр и Константин с супругами. В этот день они видели свою державную бабку в последний раз.
Вечером 4 ноября в опочивальне императрицы собрался узкий круг приближенных. Несмотря на полученное из Неаполя от посланника Андрея Кирилловича Разумовского известие о кончине сардинского короля, Екатерина была в прекрасном настроении. Она стращала смертью Левушку — Льва Александровича Нарышкина, — который в ответ привычно дурачился: делал круглые глаза, бил по бокам руками и кудахтал, как толстая неопрятная наседка.
На протяжении четырех десятилетий Нарышкин оставался одной из наиболее влиятельных фигур в екатерининском окружении. Императрица доверяла ему безраздельно. Еще до ее воцарения он и его прекрасная и ветреная Прасковья Брюс, были поверенными сердечных тайн Екатерины. Они устраивали свидания с Понятовским, предупреждая Екатерину о его появлении у дверей ее комнаты кошачьим мяуканьем.
Барин и сибарит, каких немного было при екатерининском дворе, Нарышкин занимал официальную должность обер-шталмейстера. Однако, заведуя императорской конюшней, он с гордостью говорил, что в жизни не ездил верхом. В присутствие перестал ходить после того, как явившись однажды поутру, увидел, что на его столе сидит кошка. Объявив публично, что считает себя смещенным, поскольку место его занято, отправился домой, и на службе его больше никогда не видели. В свое время много говорили о судебном процессе, затеянном им с соседкой — княгиней Дашковой, приказавшей рубить нарышкинских свиней, случайно забредших в ее огород.
Призвание Нарышкина состояло в другом. Он был достойным преемником елизаветинских карлиц, приживалок и чесательниц пяток, при той только разнице, что те чудили по наитию, от природного таланта, а Нарышкин тщательно готовил свои шуточки, подолгу репетируя.
Нарышкин был веселым гением эрмитажных собраний, душой интимного кружка Екатерины. Излюбленной мишенью его острот была собственная жена, простая казачка, родственница Разумовских, открыто жившая с камердинером.
В тот вечер Нарышкин явился в опочивальню императрицы переодетым в костюм бродячего торговца: красная рубаха с кушаком, шаровары, приспущенные на смазанные дегтем сапоги. Расхаживая между веселившимся от души обществом, с лотком на груди, он предлагал императрице моря, горы, реки, короны.
— А вот кому город басурманский, — кричал он голосом рыночного зазывалы. — А зовут его Стамбул, Святослав еще там бул. Теперь время Константина, внука свет-Екатерины. А как сядет он в Царьграде, к вящей Франции досаде, и почнет он там княжить, то-то славно будем жить.
У Екатерины от смеха случились колики, пришлось послать за Роджерсоном.
6
5 ноября, в среду, Мария Саввишна Перекусихина вошла в императорскую спальню как обычно в восьмом часу утра. Заглянув за полуспущенный полог, Перекусихина обнаружила, что императрица только что проснулась.
— Каково почивали, матушка? — спросила она приятным голосом.
— Давно такой спокойной ночи не проводила, — ответила Екатерина, улыбаясь.
Перекусихина привычно засновала по комнате, пересказывая придворные новости. Похвалила погоду — с утра ударил крепкий здоровый морозец, — подала пеньюар.
Одевшись, Екатерина пила кофе и, пробыв несколько минут в кабинете, удалилась в гардеробную.
Захар Зотов, по минутам знавший утренний распорядок императрицы, ждал приказаний, кого из явившихся с докладами первым провести в кабинет.
Ожидание, против обыкновения, затянулось. Когда прошло полчаса, Захар, привыкший к тому, что императрица никогда не оставалась в гардеробной более десяти минут, обеспокоился. Камердинер Иван Тюльпин, — суетливый недотепа, вообразил, что государыня пошла гулять в Эрмитаж. Однако недоверчивый Захар, заглянув в шкаф, обнаружил, что все шубы и муфты императрицы, которые она всегда вынимала и надевала самолично, были в наличии. Зотов пришел в еще большее беспокойство и, помедлив несколько минут, решился зайти в гардеробную.
Он осторожно поскребся в затворенную дверь, покашлял деликатно, но изнутри не доносилось ни звука. Подергал за ручку, приналег плечом — дверь не поддавалась. Кликнул на помощь Марию Саввишну, Тюльпина и Ивана Чернова, тоже камердинера. Поднажали всем миром — и дверь тихо, как бы нехотя приотворилась. В темном полумраке коридора они увидели императрицу, сидящей на полу. Спина ее была прислонена к стене, а неестественно вывернутая нога упиралась в дверь.
Перекусихина страшно закричала. Зотов, упав на колени подле государыни, приподнял ее бессильно склонившуюся на грудь голову. Глаза Екатерины были закрыты, цвет лица багровый, дыхание вырывалось из горла с резким хрипом. Попытались было, толкаясь и мешая друг другу, приподнять тело императрицы, но не смогли из-за необыкновенной его тяжести. Понадобилось шесть человек комнатной прислуги, чтобы перенести Екатерину в спальную комнату. Однако, как ни старались, поднять Екатерину на кровать — не смогли. Устроили на полу, на сафьяновом матраце. Здесь она и пролежала в течение тридцати семи долгих часов начавшейся агонии.
Тотчас послали за докторами и за князем Зубовым. Зубов, как вспоминает Ростопчин, оставивший описание последнего дня жизни Екатерины, по близости его апартаментов прибежал первым, первым же и потерял рассудок. Простоволосый, в шелковом шлафроке, распахнутом на груди, он метался по комнате, мешая всем. Дежурный лекарь, стоявший на коленях у одра императрицы, просил позволения пустить ей кровь. Зубов замахал руками и визгливо закричал:
— Извольте ждать Роджерсона!
Несмотря на мольбы Перекусихиной и Зотова, он так и не дал лекарю пустить в ход свой ланцет.
Прошел час, прежде чем появились доктора. Первым приехал Роджерсон.
Присев у изголовья простертой на полу Екатерины, лейб-медик дотронулся кончиками своих длинных сухих пальцев до покрытого испариной лба, приподнял веко, глянул на пожелтевший, с синевато-розовыми прожилками глаз, и приказал подать ланцет, таз и жгут. Кровь, черная и густая, медленно потекла из отворенной вены. По приказанию лейб-медика Екатерине всыпали в рот рвотных порошков, поставили шпанские мушки, но облегчения не последовало.
Отозвав Зубова в угол комнаты, Роджерсон прошептал:
— Готовьтесь к худшему, князь, надежды нет, удар последовал в голову.
Глаза Зубова остекленели.
Немедленно послали за отцом Саввою, духовником Ее величества, «чтобы он исполнил над Ней обязанности своего служения; но так как не было никакой возможности приобщить Ее Святых тайн по причины пены, которая выходила изо рта, то упомянутый отец Савва ограничился чтением отходных молитв», — сообщает «Запись о кончине Высочайшей, могущественнейшей и славнейшей государыни Екатерины II, императрицы Российской», сохранившаяся в архиве канцелярии церемониальных дел.
Между тем за пределами опочивальни начались шевеления. Тихо, как мыши, в комнате заседаний Государственного совета собрались братья Зубовы, Безбородко, Салтыков, генерал-прокурор Самойлов, Алексей Орлов и митрополит Гавриил.
За плотно притворенными дверями решалась судьба империи.
Можно лишь предполагать, о чем шла речь на этом совещании. Достоверно известно одно: первым немедленно уведомить Павла о случившемся предложил Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский.
Вскоре по парадной лестнице резво сбежал брат князя Зубова граф Николай Александрович в медвежьей шубе, накинутой поверх генеральского мундира. Рванув на себя дверцу придворного экипажа, он крикнул:
— Гони в Гатчину! — И из-под взвизгнувших полозьев взметнулось бриллиантовое крошево чистого первого снега.
Действо второе
Тихое правление Екатерины становилось в тягость, многие желали бури, чтобы испытать прочность своих кораблей.
Ф. Ростопчин, 9 ноября 1796 года1
Гатчину, бывшее имение Григория Орлова, Екатерина подарила Павлу в августе 1783 года по случаю появления на свет великой княжны Александры Павловны. При дворе, правда, поговаривали, что Гатчинская мыза была отдана Павлу не без скрытого умысла. Павловск, другое загородное владение великокняжеской четы, был расположен совсем рядом с Царским Селом. После заграничной поездки, открывшей для широкой публики всю степень неприязни, которую питал Павел и к матери, и к порядкам, заведенным ею на Руси, жить по соседству с ним сделалось для Екатерины тягостным. Когда двор жил в Царском, Monsieur et Madame Secondat могли нагрянуть в любой момент. Из Гатчины же, находившейся на отшибе, ездить в Царское Село каждый день, даже для Марии Федоровны, скучавшей по сыновьям, было не по силам. Общение малого двора с большим поневоле сократилось.
Павел, и сам тяготившийся необходимостью регулярных поездок к матери, был рад подарку. Он полюбил Гатчину с ее живописными окрестностями, лесами и перелесками, раскинувшимися на округлых пригорках по берегам речки Теплой, притока Ижоры. Здесь, в сельской тиши, где в глади озер отражались северные ели, как бы бродил дух Руссо, которого Григорий Орлов в одно время приглашал поселиться в Гатчине.
Орлов устроился в Гатчине по-царски. Дворец его был построен по проекту знаменитого Ринальди. Особую величавость этому обширному зданию, сооруженному из желтоватого известняка, придавали четыре башни по углам и бельведер в центре главного фасада с громоотводом, который был устроен знаменитым Эйлером. С боковыми флигелями и службами дворец соединялся стройной колоннадой. К заднему фасаду примыкал регулярный английский сад, устроенный лучшими мастерами садового искусства, приглашенными из Англии. На лесных островках, расположенных в бесчисленных заливах и извилистых рукавах Ижоры, они устроили высокие ротонды и стройные павильоны на массивных мраморных столбах, называвшиеся в духе входившего в моду сентиментализма Островами и Храмами любви. Здесь же высился стройный Чесменский обелиск, воздвигнутый Орловым в память великой победы, одержанной его братом над турецким флотом.
В отделке внутренней части дворца чувствовалась заботливая рука Екатерины. Множество старинных бюстов, барельефов, огромная библиотека, делали честь гатчинскому помещику, как называли Орлова. В Чесменской галерее взор останавливали большие полотна живописца Геккера, изображавшие знаменитое сражение между русским и турецким флотами.
Обосновавшись в Гатчине, Павел принялся тотчас же перестраивать и переделывать все на свой лад. Перед дворцом был устроен обширный плац, засыпанный гравием. Каждое утро великий князь принимал здесь вахтпарады гатчинского гарнизона. С внешней стороны плац ограничивал кронверк, укрепленный массивными гранитными глыбами, и ров, через который были перекинуты два каменных мостика. Архитектор Бренна, приглашенный для перестройки дворца, нарастил башню и удлинил галерею в соответствии с рыцарско-романтическим вкусом нового владельца.
В Гатчине Павел провел самые тяжелые годы своей жизни. Часами сидел он в своем овальном кабинете, погруженный в чтение Библии, в особенности Псалмов и Пророков. Особенно трогали его истории о древних израильских царях, несправедливо отрешенных от престола, об обиженных и коварно обманутых героях. Предаваясь тяжелым размышлениям о прошедшем, настоящем и будущем, «русский Гамлет» с все возраставшим нетерпением ожидал минуты воцарения, опасаясь ежедневно, чтобы власть не ускользнула из его рук.
К середине 80-х годов дремавшее в его душе подозрение в том, что мать собирается отрешить его от престола, превратились в уверенность. Собираясь зимой 1788 года в финляндский поход, он составил завещательное письмо и оставил его жене, великой княгине Марии Федоровне. Этот редкий по откровенности документ приоткрывает завесу над тем, что творилось в душе Павла Петровича. Находясь во власти тяжелых предчувствий, вызванных преувеличением опасностей, которые ждали его в Финляндии, он (как в 1781 году Панину) поручил жене на случай внезапной кончины Екатерины «собрать при себе в одно место весь собственный кабинет и бумаги государыни, запечатать их государственной печатью, приставить надежную стражу и сказать волю мою, чтобы наложенные печати оставались в целости до моего возвращения. Буде бы в руках правительства или какого-нибудь частного человека остались мне неизвестные какие бы то ни было повеления, указы или распоряжения, в свет не изданные, оным до моего возвращения остаться не только без всякого и малейшего действия, но и в той же непроницаемой тайне, в какой по тот час сохранялись».
Впрочем, предусмотрительность, проявленная Павлом, оказалась напрасной. Пребывание его в действующей армии было, как известно, недолгим. В Финляндии Павел чувствовал себя таким же лишним и ненужным человеком, как и в Петербурге. Это окончательно надломило его. Обида несносная коверкала душу, затмевала разум.
Возвращенный из армии строгим приказом Екатерины, Павел зажил в Гатчине анахоретом. Почитая себя несправедливо отстраненным от государственных дел, он не стеснялся отныне открыто критиковать действия Екатерины. Слова его, нередко в искаженном и преувеличенном виде немедленно становились известными, благодаря стараниям находившемуся при малом дворе множеству штатных и добровольных шпионов и наушников. При большом дворе Павел появлялся теперь чрезвычайно редко, приезжая в Петербург только на зиму — к Екатерининому дню — 24 ноября. Когда, обычно в начале февраля, он покидал столицу, все, начиная с камер-лакеев и кончая императрицей, вздыхали с облегчением.
Особенно пагубными оказались 90-е годы. Французская революция перевернула весь склад мышления и психики Павла. Не понимая ни логики, ни смысла происходившей на его глазах грандиозной ломки мира, он принялся строить в Гатчине модель новой России, в которой не было места либерализму, гнилой распущенности екатерининского двора.
Примером служила Пруссия, казавшаяся Павлу единственным оставшимся в Европе незыблемым бастионом порядка и дисциплины. Гатчина превратилась в огромный военный лагерь, где все было устроено по прусскому образцу: казармы, кордегардии, гауптвахты. На каждом шагу путь преграждали шлагбаумы, окрашенные в черный, оранжевый и белый цвета, как в Потсдаме. Возле них свечками стояли часовые, обряженные в странную, будто срисованную со старых картинок, форму эпохи Фридриха-Вильгельма I. В 1796 году гатчинские войска состояли из шести батальонов пехоты, егерской роты, четырех кавалерийских полков, пешей и конной артиллерии при 12 орудиях. Имелся и морской батальон. Всего в гатчинском гарнизоне числилось две с половиной тысячи человек, в том числе девятнадцать штабов и сто девять обер-офицеров.
Новая Россия строилась под дробь барабана и заунывный свист флейты. По средам — маневры, на которых обязательно присутствовали великие князья Александр и Константин, ставшие командирами гатчинских батальонов. В жару и стужу, зной и зимнюю слякоть солдаты в темно-зеленых длиннополых мундирах с синими обшлагами, отбивали шаг на плацу. Офицеры в непомерной величины шляпах, сапогах, с голенищами выше колен и перчатках, закрывающих локти, с казарменным вдохновением задавали ритм коротенькой тростью.
Гатчинское воинство было достойно своих командиров. Изгнанные из полков за дурное поведение, пьянство или трусость, многие из гатчинцев из-за куска хлеба готовы были безропотно сносить унижения, а иногда и побои. Досада на злую судьбу, зависть безмерная к петербургским барчукам — надушенным и изнеженным гвардейским офицерам — питала их души. Верили гатчинские капралы, что настанет их час и полетят они в рессорных экипажах по Луговой-Миллионной, привлекая благосклонные взоры столичных барышень.
Павел Петрович был их кумиром.
— Ракальи, — говорил он сыновьям добродушно после очередной экзекуции. — Сто шомполов получил, а глядит молодцом. Видите, дети мои, что с людьми следует обращаться как с собаками. Из любого Робеспьера или Марата шпицрутенами хорошего солдата сделать можно.
Александр и Константин внимали поучениям отца не без некоторого внутреннего дискомфорта. Изредка преодолевая трепет, который вызывало у них вечно недовольное лицо великого князя, вступались они за обиженных. И Павел, случалось, сменял гнев на милость. При этом суровое лицо гатчинского губернатора Алексея Андреевича Аракчеева, верной тенью стоявшего за Павлом на вахтпарадах, смягчалось от умиления. Во взгляде его, обращенном к молодым великим князьям, прочитывалось чувство столь глубокое, что они невольно подтягивались, расправляя плечи и топорща длинные краги. Закипала кровь, шевелилось в душе сокровенное — и гатчинский воздух казался им несравненно чище петербургского.
Аракчеев был злым гением Гатчины. Высокий, сутулый и жилистый, с нечистым лицом, оттопыренными мясистыми ушами упыря, он был нем, невероятно точен и вездесущ. Свинцово-серые глаза его видели все, от тяжелого взгляда их каменели и новобранцы-рекруты, и испытанные в боях гренадеры. Там, где появлялся Аракчеев, мгновенно воцарялся мертвящий порядок. Даже Павел никогда не повышал голос в его присутствии.
Сын бедного сельского дворянина, волею случая принятый на казенный кошт в кадетский корпус, всем, чего добился в жизни, был обязан только самому себе. Обладавший способностями к артиллерийскому делу и невероятной усидчивостью, после выпуска из корпуса Аракчеев был произведен в офицеры и оставлен преподавателем геометрии. И в корпусе, и в артиллерийском полку, куда он вскоре был переведен, Аракчеев возбуждал всеобщую ненависть своими замашками тирана.
Прибыв в распоряжение великого князя осенью 1792 года в чине капитана, Аракчеев за четыре года сделал карьеру. К лету 1796 года он был уже полковником, инспектором пехоты, начальствовал и исправлял должность гатчинского губернатора и заведовал военным департаментом. Павел нашел в нем незаменимого исполнителя, службиста по складу своей натуры, слепо, но без раболепия преданного начальству, жесткого и требовательного по отношению к подчиненным.
Аракчеев был рожден солдатом, служба государева являлась смыслом его существования. Усердие к ней, однако, сухим огнем выжгло в нем все человеческое. Такие характеры рождаются раз в столетие, когда, говоря словами принца датского, распадается связь времен.
Фигурой шекспировского масштаба на гатчинской сцене был и Иван Павлович Кутайсов, великокняжеский брадобрей, затем камердинер. Родом турчонок, попавший в Россию во время войны с османами, он обладал редким талантом использовать слабости Павла Петровича в личных видах.
Возвышение Кутайсова стало следствием — а, если вдуматься, то и одной из причин — неурядиц, обнаружившихся в семье великого князя в конце 80-х годов. Павел был сентиментален и влюбчив, под его прусским мундиром билось рыцарское сердце. Однако многочисленные амурные истории великого князя были окрашены некоей ребячливостью, незрелостью ума и натуры. На протяжении нескольких лет он афишировал страсть к Екатерине Ивановне Нелидовой, фрейлине великой княгини Марии Федоровны. Нелидова была немолода — тридцати семи лет, нехороша собой, petite monstre[258], как называла ее Екатерина. Маленькая, сухая, излишне смуглая, она походила на неуклюжего галчонка с задатками мадам де Ментенон. Тем не мнее остроумная и блестящая causer’ка[259], легкая в обращении, к тому же воспитанная в Смольном институте, она обладала способностью очаровывать.
В обществе Нелидовой Павел преображался, становясь галантно-вежливым и непринужденно-веселым. На балах в Павловске и Гатчине свой любимый танец — менуэт — он танцевал только с ней — оба были превосходными танцорами. Зная, что перед свиданиями с Нелидовой он становился мягким как воск и охотно расточал милости направо и налево, этими не слишком частыми минутами просветления великого князя многие пользовались.
Впрочем, ряд персонажей из ближнего круга Павла и первый из них — Кутайсов, научились гораздо более действенно пользоваться посещавшими его периодами затмения. Гейлинг, остроумный летописец будней гатчинского двора, следующим образом реконструировал сложный механизм, приводивший в действие потаенные пружины этого причудливого мирка. «Орудием, которым агитаторы всегда пользуются столь же ловко, как и успешно, всегда служили дураки, — вполне справедливо замечает он в своих воспоминаниях. — Для привлечения их на свою сторону агитаторы начинают с того, что сверх меры превозносят их честность; дураки хотя внутренне и удивляются этим незаслуженным похвалам, но так как они льстят их тщеславию, то они беззаветно отдаются в руки коварных льстецов. Таким-то порядком произошло и то, что Кутайсов вдруг оказался образцом преданности своему государю, стали приводить примеры его бескорыстия; стали даже приписывать ему известную тонкость ума и выражать притворное удивление, как это государь не сделает чего-нибудь побольше для такого редкого любимца. Кутайсов, в конце концов, сам начал верить, что его приятели правы».
Подобно Яго, Иван Павлович, поощряемый гатчинским обществом, сделался наперсником в сердечных делах великого князя. Стремясь усилить свое влияние, он не остановился даже перед тем, чтобы поссорить Павла с супругой. Как-то утром, заботливо поправляя парик у сидевшего под пудромантелем Павла Петровича, сказал невнятно, будто ни к кому не адресуясь, что великая княгиня позволяет себе без должного уважения отзываться о Нелидовой. Мария Федоровна, женщина строгих правил и немецкого воспитания, к тому же преданная мужу безоглядно, до полного самоотречения, действительно восприняла появление Нелидовой около своего мужа как тяжелую, незаслуженную обиду и на первых порах не могла скрывать обуревавших ее чувств.
Павел вспылил. Своеволие даже со стороны жены делало его невменяемым. Вопреки законам логики и морали, он не только сам прекратил общение с нею, но и потребовал того же от своих сотрудников. Возле Марии Федоровны остались только самые близкие — Плещеев, Лафермьер, чета Бенкендорфов.
К чести великой княгини надо сказать, что она, в конце концов, сумела справиться с семейными неурядицами. Вполне достойно вела себя и Нелидова, сделавшая первый шаг навстречу Марии Федоровне. Женщины объяснились, поплакали — и договорились о том, чтобы вместе «помогать великому князю, вопреки ему самому». В сентябре 1793 года Нелидова с разрешения Екатерины удалилась в Смольный монастырь, но жизнь продолжала вести вполне светскую. Вместе с Марией Федоровной, ставшей ее близкой подругой, они стремились, как могли, смягчить необузданную натуру Павла Петровича, удерживать его от новых безумств.
Впрочем, со временем размолвки с мужем великая княгиня еще не раз имела случай убедиться в том, что даже с помощью Нелидовой она не может оградить Павла от дурного влияния Кутайсова. Возможно, поэтому она ни словом не обмолвилась о признании Александра, посвятившего ее в тайну предложения, сделанного ему бабушкой. Мария Федоровна полагала, и не без оснований, что в сложившихся обстоятельства только сама она в состоянии понять и защитить мужа.
2
Были, однако, в гатчинской жизни и другие, светлые стороны. Готовясь стать государем «одинаково добрым и справедливым» для всех своих подданных, Павел заботился о гатчинских обывателях и крестьянах близлежащих сел. Среди бумаг, оставленных им Марии Федоровне перед отъездом на шведскую войну, был и Наказ об управлении государством, в котором имелись и следующие знаменательные строки: «Крестьянство содержит собой все прочие части своими трудами, следственно, особого уважения достойно»…
Свое гатчинское хозяйство Павел вел таким образом, будто хотел дать пример дворянам всей империи, как следовало заботиться о благе своих крепостных. Крестьяне «гатчинского помещика» были переведены на оброк, тем из них, кто исправно работал, великий князь помогал и денежными ссудами, и прирезкой земли. Заведенные в Гатчине стеклянный и фарфоровый заводы, суконная фабрика и различные мастерские обеспечивали крестьянам дополнительный заработок.
Школы и больницы, устроенные в Гатчине заботами Павла, находились в образцовом состоянии. Замечательна была веротерпимость великого князя, выстроившего за свой счет православную, лютеранскую, католическую и финскую церкви. Содержание священников и церковного причта он осуществлял из личных средств. Павел одобрял и всячески поддерживал благотворительные дела, в которые с увлечением погрузилась Мария Федоровна. Устроенные великокняжеской четой госпиталь, солдатские и сиротские дома, школы — все это рождало и в среде простого гатчинского люда, и в окружении Павла самые благоприятные ожидания в отношении будущего царствования.
Среди тех, прямо скажем, немногочисленных персонажей малого двора, кто связывал с воцарением Павла надежды на перемены к лучшему не только из личных видов, но и ради пользы государственной, выделяется самобытная фигура Федора Васильевича Ростопчина. Этот человек, сыгравший столь яркую роль в павловском и александровском царствованиях, заслуживает того, чтобы о нем было сказано особо.
«Русский Герострат», чьим именем после Ватерлоо была названа площадь в Ливерпуле, — в конце жизни публично отрекся от своей роли в поджоге Москвы в 1812 году. Архитектор недолгого, но яркого альянса Павла с Наполеоном — и автор «Мыслей вслух на Красном крыльце», отзывавшийся накануне Аустерлица устами своего героя «старого русского» дворянина Силы Андреевича Богатырева о Бонапарте как о «мужчинишке, в рекруты не годящемся: ни кожи, ни рожи, ни видения» — эти и многие другие противоречивые — но всегда, хотя бы по видимости, искренние — мнения уживались в голове Ростопчина легко и естественно.
Впрочем, начнем по порядку.
В Гатчине Федор Васильевич появился летом 1796 года, в возрасте Христа — в марте ему исполнялось тридцать три года. Выше среднего роста, плотного сложения, он обладал запоминающейся внешностью: выразительные голубые глаза, лоб обширный, голова, покрытая шапкой курчавых волос, с намечающимися залысинами. Вздернутый нос придавал ему некоторое сходство с великим князем.
«Я был рожден татарином, но в душе всегда оставался римлянином», — писал впоследствии Ростопчин в своей шутливой автобиографии. Происхождение из крымских татар, от Чингисхана, было предметом его особой гордости. Отец Ростопчина дослужился в Семилетнюю войну до майорского чина и, выйдя в отставку, проживал в своем имении Ливны Орловской губернии.
Будучи записан десяти лет от роду в Преображенский полк, Ростопчин получил обычное по тем временам домашнее образование. «Меня обучали сразу целой куче вещей и разным языкам. Благодаря тому, что я обладал некоторой долей бесстыдства и шарлатанства, меня принимали порой за мудреца. Моя голова скоро превратилась в библиотеку, ключ от которой хранился у меня», — в этих словах, написанных, правда, в зрелом возрасте, весь Ростопчин, всегда готовый посмеяться над собой, но никогда не позволявший это делать другим.
Окончив кадетский корпус в 1782 году, Федор Васильевич за семь лет дослужился до скромного чина капитан-поручика преображенцев. Служба в гвардии его, однако, мало прельщала: не располагая ни состоянием, ни влиятельными знакомствами в столичных кругах, он не мог рассчитывать на быструю карьеру. В 1786 году последовала заграничная поездка — Берлин, Париж, Лондон. Во французской столице Ростопчин, как Наполеон, изучал математику и фортификацию, в Лейпцигском университете слушал лекции по философии, в Лондоне осваивал приемы бокса. В Англии он познакомился с российским послом Семеном Романовичем Воронцовым, который на долгие годы стал его старшим другом и покровителем.
Вернувшись в Россию в 1786 году, Ростопчин предпочел продолжению службы в гвардейском полку действующую армию, участвовал в шедших тогда войнах со шведами и турками. Воевал отменно (одно время — под началом Суворова, с похвалой отзывавшегося о его храбрости), но когда доходило до наград, его как будто начинал преследовать какой-то злой рок. Один за другим безвременно ушли из жизни его покровители — сначала принц Ангальт-Беренбургский, затем — принц Вюртембергский. После знаменитого морского сражения со шведами летом 1790 года принц Нассау-Зиген представил Ростопчина, командовавшего гренадерским батальоном, к Георгиевскому кресту. Однако и это представление хода не получило, возможно, из-за неудачного для России исхода сражения. Столь же печально закончилась и попытка стать с помощью Нассау-Зигена камер-юнкером. (В обмен на камер-юнкерство Нассау, как утверждал Ростопчин, предлагал ему жениться на его незаконнорожденной дочери. Тот, однако, не только отказался, но и публично назвал это предложение «бесчестным».)
Ростопчин совсем было пал духом под ударами судьбы. Однако именно в этот критический момент, как это часто случалось в его жизни, фортуна ему улыбнулась. Безбородко, взявший его по рекомендации Воронцова на Ясский мирный конгресс, сумел по достоинству оценить таланты молодого офицера и направил его в Петербург с последними тремя протоколами переговоров, открывших дорогу для завершения войны с турками. Награда не заставила себя ждать. 14 февраля 1792 года Ростопчин был произведен в камер-юнкеры «в ранге бригадира», что давало ему в двадцать девять лет генеральский чин V класса.
С. П. Румянцев, сын фельдмаршала, с которым Ростопчин сблизился в Берлине, представил его ко двору. Императрица по достоинству оценила остроумие и широкую образованность молодого камер-юнкера. Однако особым успехом в ее кругу пользовались незаурядные, сравнимые с потемкинскими способности Ростопчина к имитации. Особенно удачно подражал он нудным интонациям немецкого пастора, бывшего объектом постоянных насмешек в окружении императрицы.
Служил Федор Василевич из принципа, старался не прислуживаться, но наград жаждал. Однако, к чести его будет сказано — делать карьеру в шутовском колпаке погнушался. Во всяком случае, Воронцову в Лондон отписал, как обычно, не без некоторого самолюбования, что боится «известности, заслуженной ремеслом комедианта».
Зная эти обстоятельства беспокойной жизни Федора Васильевича, нетрудно представить себе его душевное состояние, когда с середины 1793 года он вынужден был по должности своей приступить к дежурствам в Гатчине. Павел быстро почувствовал расположение к новому камер-юнкеру, с исключительной серьезностью относившегося к своим обязанностям. Люди, обиженные на судьбу, с червоточинкой в душе, быстро находили путь к его сердцу. Сам Ростопчин, однако, на первых порах с трудом адаптировался к гатчинским порядкам. «Для меня нет на свете ничего страшнее, кроме бесчестья, как благодарность Павла», — так излагал он свои первые впечатления от общения с великим князем в письме Воронцову.
И тем не менее Федор Васильевич с демонстративной исправностью нес службу в Гатчине, называя, а возможно, и считая ее «исполнением долга».
Долг — здесь ключевое слово, этим многое объясняется.
Благородство, проявляемое из чувства долга, это не то же самое, что благородство природное.
Трудно сказать, в силу каких соображений Ростопчин решился вступить в ряды гатчинцев. Видимых причин для этого вроде бы не было, если не считать последовавшего осенью 1793 года отказа в давно ожидаемой награде — ордене Св. Владимира. В феврале 1794 года Екатерина присутствовала на венчании Ростопчина с Екатериной Петровной Протасовой, свершившемся в домашней церкви Зимнего дворца. Она, как правило, не опускалась до преследований инакомыслящих в чине камер-юнкера.
Ростопчин женился на племяннице любимой камер-фрейлины императрицы графини Анны Степановны Протасовой. Екатерина Петровна была очень красива — высокая, стройная, с черными живыми глазами. Завистники видели в женитьбе Ростопчина тонкий расчет: брак с Протасовой обеспечивал ему иммунитет к интригам недоброжелателей при большом дворе. Сам Федор Васильевич говорил, что женился по страстной любви. В браке был счастлив, если не считать, что Екатерина Петровна под конец жизни, уже проживая в Париже, обратилась в католичество, не спросившись у мужа. Как сама признавалась — «боялась прогневить».
Изменения в семейной жизни заметно повлияли на служебное рвение Ростопчина. Если до свадьбы он охотно оставался при великом князе безотлучно, то теперь начал тяготиться внеочередными дежурствами, на которые ему приходилось заступать по несколько раз в неделю. Дело в том, что камер-юнкеры, дежурившие при малом дворе, искали — и находили — любой повод, чтобы увильнуть от поездки в Гатчину. Это страшно раздражало Павла, видевшего в пропусках дежурств покушение на свое достоинство, хотя справедливости ради надо сказать, что дворец в Гатчине был маленьким, «непоместительным», как говаривала Мария Федоровна. Отдельных комнат дежурным не полагалось, что, разумеется, не поощряло их рвения к службе.
Добром это кончиться, конечно, не могло. В один прекрасный день князья Гагарин и Барятинский, будто сговорившись, не пришли на назначенное дежурство. Ростопчин, вынужденный дежурить в не очереди, вспылив, пожаловался обер-камердинеру И. И. Шувалову. В адресованном ему письме он в колких и даже обидных для самолюбия его товарищей выражениях писал: «Что касается до меня, то так как у меня нет секретной болезни, чтобы лечиться, ни итальянской певицы на содержании, чтобы заниматься ею, то я с удовольствием буду продолжать нести за них службу при великом князе».
Письмо это стало известно. Его читали во всех салонах Петербурга. В результате обиженные послали Ростопчину картель. Дуэль по каким-то причинам не состоялась.
История с письмом, однако, имела продолжение. Пошел слух, что Ростопчин, испугавшись, просил прощения у Гагарина и Барятинского. Узнав об этом, Федор Васильевич немедленно вызвал на дуэль камер-юнкера Всеволжского, которого считал распространителем этих слухов. Вмешалась Екатерина, приказавшая расследовать это дело. В результате Ростопчин был вынужден на год покинуть столицу и уехать к отцу в Орловскую губернию.
Надо ли говорить, что через год Федор Васильевич вернулся в Гатчину героем? Павел, считавший, что тот вступился за его честь, всячески отмечал Ростопчина. Он был удостоен особой милости — пожалован капралом Гатчинских войск с правом ношения мундира.
Труднее оказалось обрести душевное равновесие. «Чувство благодарности за дружеское расположение великого князя внушало мне решимость доказать ему, в какой мере я ценю это расположение, — писал он Воронцову. — Видя, что он всеми забыт, унижен и оставлен в пренебрежении, не хочу видеть его недостатков, происходящих от характера, ожесточенного обидами… Я слишком чужд расчетов честолюбия, чтобы предаваться каким-либо мечтам о будущем, но нахожу, что доказывая ему мою благодарность усердием и живым вниманием, что до него касается, я только исполняю мой долг».
Опять долг. Какое все-таки это емкое слово.
2 ноября 1796 года, за четыре дня до смерти Екатерины, Федор Васильевич получил свою первую награду — Голштинский орден Св. Анны III степени.
И последний штрих к портрету гатчинского любимца. Ростопчин был не только блестящим говоруном, но и обладателем несомненного литературного дара. Дочь его, Софья, вышедшая замуж уже после Отечественной войны 1812 года за графа Сегюра, сына бывшего французского посла в Петербурге, считала, что если бы ее отец избрал своим поприщем литературу, то его ждала бы слава, сравнимая со славой Пушкина. Сама она, кстати сказать, приобрела во Франции огромную известность, став первой детской писательницей в этой стране. Что же касается Федора Васильевича, то после него осталось несколько очерков, памфлетов и пьес. Остальные свои произведения он после прочтения их приятелям, бросал в огонь камина — лист за листом. Злые языки утверждали, что он делал это не из презрения к литературному ремеслу, а из благоразумной осторожности.
Рукописи горели.
К счастью, обширнейшая переписка Ростопчина сохранилась. Среди писем Федора Васильевича С. Р. Воронцову для нас особую значимость имеет то, в котором он обстоятельно описывает события, происходившие в Петербурге в начале ноября 1796 года. Неоднократно публиковавшееся под названием «Последний день царствования императрицы Екатерины II, первый день царствования императора Павла I», оно остается бесценным свидетельством очевидца трагического конца славного Екатерининского царствования.
3
День 5 ноября начался для Павла по раз и навсегда установленному распорядку.
Ровно с седьмым ударом часов на Арсенальной башне он появился на освещенном смоляными факелами плацу, где уже были выстроены сводные батальоны гатчинской пехоты. Принимая вахтпарад, великий князь был хмур и рассеян. Не заметил, что первый батальон сбился с шага. Капитан Кольцевич, будучи нетрезв, при отдаче пароля едва не уронил эспантон.
Второй батальон маршировал безупречно. Его сомкнутые ряды печатали шаг по хрустящему гравию с равномерностью метронома.
— Ты не находишь, Николаша, что в Paradeschritt[260], который мы так успешно перенимаем у прусских капралов, есть нечто философическое? — заметил вполголоса Федор Васильевич Ростопчин, обращаясь к графу Николаю Николаевичу Головину, гофмаршалу двора великого князя Александра. Приятели стояли у колоннады, подальше от строгого взора императора, и потому могли общаться относительно свободно.
Головин, вальяжный, раздушенный, в шелковом французском галстуке, закрывавшем подбородок, каждый раз, попадая в Гатчину, как бы утрачивал чувство реальности происходящего.
— Ты шутишь? — протянул он хорошо поставленным баритоном.
— Ничуть, — отвечал Ростопчин, по привычке то ли имитируя, то ли передразнивая по-барски капризную интонацию Головина, всеобщего любимца. — Ты человек штатский и потому не можешь оценить всего совершенства выучки этих, как ты говоришь, манекенов. Знаешь, сколько шагов они делают в минуту? Ровно шестьдесят пять в точном соответствии с уставом строевой службы.
— Почему же шестьдесят пять, а не, скажем, шестьдесят или семьдесят?
— Шестьдесят пять шагов в минуту — идеальный темп для марша. За этой цифрой, брат, — вековой военный опыт, от римских легионеров до Фридриха Великого. Не слишком быстро, чтобы солдат не уставал, и не слишком медленно, а в самый раз. Шаг в армии, Николаша, это истинная философия, высшая правда, если хочешь. Здесь все продумано — видишь, как тянут носок, ногу задирают до горизонтального уровня, а для равновесия руками отмашку дают, как ветряные мельницы. Рожи зверские — не от усталости, это, как и глаза выпученные, челюсти вперед — чтобы врага в трепет привести. Фридрих, говорят, требовал от своих солдат перед зеркалом рожи корчить — чем страшнее, тем лучше.
Головин хмыкнул недоверчиво.
— Кто научился так ходить, — продолжал поучать своего друга Ростопчин, — тот любой приказ выполнит, не задумываясь. Для генералов — радость, для врага — ужас, а для штатских вроде тебя, — наука и намек.
— На что? — удивился Головин.
— Чтобы не больно либеральничали, — кратко, но весомо ответствовал Ростопчин. — Французские вольности, брат, до добра не доведут.
Головин выпростал подбородок из своего пышного галстука.
— Французы, они что, — продолжал между тем Федор Васильевич, — они гордятся тем, как быстро идут, почти бегут, как боевые петухи. Их легкая пехота в стальных киверах — это порыв, élan, так сказать, но порыв этот легкомысленный от гонора их природного. Основательности в нем нет.
Англичане — Foot Guards — идут солидно, но медленно, как замороженные. И к тому же подошвами по земле шаркают, прежде чем ногу поставить. Этак сапог не напасешься.
Польские уланы — истинные кентавры, на всем скаку за шаг до командира останавливаются и — пыль в глаза.
Но пруссаки лучше. Их Paradeschritt еще гусиным шагом называют. Но это неверно. Это лучшее, что есть в этом роде. Балет, но не как у мосье Пика, это, брат, военный балет. Дух нации, если желаешь знать мое мнение.
— Сам ты, однако, не больно охоч до балета этого, — произнес Головин.
Ростопчин помолчал, потом сказал скучным голосом:
— Я созерцатель, Николаша. Мое место — в партере, а не на сцене. Впрочем, и твое тоже…
После зачтения ежедневного приказа, который, против обыкновения, остался без комментариев, великий князь отправился в манеж. У входа его встречал исполнявший должность инспектора кавалерии полковник Федор Иванович Линденер, поляк, сменивший в угоду Павлу свою природную фамилию Липинский на прусскую. При взгляде на своего любимца, Павел посветлел лицом. Линденер, похожий на ожившую марионетку, одетую в старопрусский мундир, действовал на великого князя успокаивающе. Повинуясь гортанным, отрывистым командам, исторгавшимся им с фельдфебельским шиком, гусары, усатые, при лакированных касках и палашах, переходили с рыси на галоп, строились в боевые порядки по артикулу. Не в силах сдержать восхищения, Павел взмахнул тростью и воскликнул:
— Прекрасно, прекрасно, экие молодцы!
Угрюмое лицо Линденера осветилось казарменным восторгом.
4
Утренние прогулки по живописным окрестностям Гатчины успокаивали Павла. Ижора еще не встала, от черной воды поднимался пар. Круглые холмы, рощи, встававшие из-за поворота дороги, были покрыты первым пушистым снегом.
Павел сидел на задней лавке, покрытой медвежьей дохой, запахнувшись в черный шерстяной плащ. Треуголка с серебряным позументом была надвинута на лоб. Взгляд его привычно следил за проносившимися вдоль дороги картинами, но мысли его были далеко. Прошедшая ночь была тревожной. Во сне Павлу чудилось, что некая сверхъестественная сила возносила его к небу. Сердце начинало биться тяжело, глухими толчками, он вскрикивал, просыпался весь в испарине — и снова погружался в тяжелую дремоту. Самое удивительное заключалось в том, что Мария Федоровна в эту ночь также несколько раз просыпалась, разбуженная тем же сновидением.
Граф Ильинский, сидевший рядом с ним в санях, угадав ход размышлений великого князя, сказал:
— Сон пророческий. Вероятно, Ваше высочество скоро будете императором, — и помедлив добавил, — и тогда я выиграю мою тяжбу с казною.
Ильинский вел в сенате тяжелый процесс о возвращении заложенного имения.
Стоявшие на запятках саней капитаны Копцевич и Котлубицкий переглянулись.
Между тем в конце просеки, по которой легко мчались сани, показался силуэт громоздкого сооружения, будто по мановению волшебной палочки перенесенного из далекого Сан-Суси[261] сюда, в северные снега, на берег речки Непрядвы. Это была ветряная мельница, построенная по приказу великого князя, желавшего придать Гатчине сходство с Потсдамом, где он побывал в 1776 году. Хозяином мельницы был немец Штакеншнейдер, устроивший свое хозяйство в точности так, как было принято на его родине.
В большом зале, декорированном под сельскую корчму, был накрыт обеденный стол, за которым кроме Марии Федоровны, прибывшей раньше, находились свитские: Плещеев, Кушелев, граф Виельгорский и камергер Бибиков. Обед в Гатчине подавали всегда в одно и то же время — в час пополудни.
Все еще находясь в состоянии тревожного возбуждения, Павел рассказал о странном сновидении, привидевшемся ему той ночью. Общество терялось в догадках, пытаясь разгадать смысл таинственного сновидения.
Все присутствовавшие в той или иной степени — кто более, кто менее — баловались мистикой и оккультными науками, вошедшими в моду в Европе в конце века. Бибиков был знаком с Месмером, открывателем животного магнетизма и рассказывал о его способности приводить людей в состояние сомнамбулизма с более живописными подробностями, чем гамбургские газеты. Виельгорский, будучи в Париже, сделался завсегдатаем спиритических салонов, на которых вызывались духи великих людей.
Павел, обладавший чрезвычайно живым воображением, верил прорицателям и ясновидцам, которых немало расплодилось в ту пору и в России. Особенно укрепилась его вера в сверхъестественное после того, как Лагарп (Луи-Филипп, драматург, однофамилец воспитателя великих князей Александра и Константина) прислал ему знаменитое пророчество Казотта, предрекавшее гибель французской королевской семье — оно ходило по Парижу в десятках списков. Когда пророчество сбылось с неумолимой точностью, Павел был потрясен до глубины души.
— В этом что-то есть, — говорил великий князь возбужденно, забыв о лежавшем на тарелке куске холодной телятины. — Решительно что-то есть. Вообразите, один и тот же сон приснился одновременно двум разным людям. Вот и не верь после этого всему, что говорят о Сан-Мартене и Сведенборге.
— А ты помнишь, Павел, — вмешалась Мария Федоровна, — Анель мне писала, ну разумеется, когда письма из Монбельяра еще доходили, что и маркиз де Пюисегюр сделался почитателем спиритизма.
— И Пюисегюр, и здешние французы, разумеется, из порядочных, верят, а вот Плещеев сомневается, — сказал Павел.
Сергей Иванович Плещеев, один из самых близких к великокняжеской чете людей, был для Марии Федоровны непререкаемым авторитетом, в том числе и в том, что касалось загадок мироздания. В молодые годы ему, морскому офицеру, пришлось порядочно постранствовать по свету: учился в Англии и на Мальте у рыцарей ордена Св. Иоанна Иерусалимского, считавшихся самыми искусными моряками Средиземноморья. В Авиньоне был принят в масонскую ложу. Заносила его судьба и в Святые места Палестины — словом, повидал немало. Выйдя в отставку с военной службы, преподавал географию великим князьям.
— Я ничуть не сомневаюсь в том, что есть на свете вещи, недоступные нашему разуму, — отвечал Плещеев. — Большинство из тех, кому приходилось жить на Востоке, возвращаются мистиками. Да и в Греции оракулов-предрекателей предостаточно. Занятие это там, можно сказать, наследственное. И результаты удивительные. На Мальте, у рыцарей Святого Иоанна сохранились весьма любопытные ритуалы, думаю, что еще со времен крестовых походов.
Плещеев помедлил, но, убедившись, что великий князь слушает его внимательно, продолжал:
— Смущает, однако, то, что среди всех этих пифий и оракулов немало мошенников. Вот, помнится, в первую турецкую войну мы с маркизом де Вигуру были посланы адмиралом Спиридовым в Сайду, где стоял тогда лагерем Али-Бей Египетский. Был там один предсказатель, знаменитый на всю Палестину, армянин по национальности. Так у него всё записочки с потолка сыпались. Не сразу, конечно, а как окурит комнату благовониями, заставит всех, по обычаю спиритов, за руки взяться, чтобы цепь создать, как они это называют. А как тарелочка на столе задребезжит, задвигается — тут и начинают эти записочки сыпаться. То от Людовика XV, то от самого Фридриха Великого. И все, знаете, писаны по-итальянски, к тому же безграмотно. Но, натурально, взяло нас с маркизом сомнение, с чего бы это Фридриху по-итальянски писать. Встали мы незаметно из-за стола, благо в комнате темно было, поднялись по лестнице, а там, наверху, в потайном чулане слуга этого армянина сидит и через дырку в потолке записочки просовывает. Словом, большой конфуз случился.
Павел, внимательно слушавший Плещеева, живо обернулся к нему и сказал:
— Ты прав, Плещеев, на предрассудках всегда много нечестных людей кормится. Вспомни хоть Калиостро с его магическим шаром. Мне кажется, он был просто ловкий фокусник. Но скажи, ведь ты немало по свету поездил и порой бывал в местах заповедных, неужели с тобой никогда не приключалось чего-то такого, что показалось бы тебе сверхъестественным?
— Был один случай, — отвечал Плещеев. — В Ливорно, где была во время Архипелажской кампании штаб-квартира графа Орлова, объявился вдруг чревовещатель, звали его Висконти, и о точности его предсказаний шла слава по всей Южной Италии. А граф Алексей Григорьевич большой любитель всяких курьезов. Как-то вечером доставили в его роскошный палаццо, а жил он в Италии на широкую ногу, этого Висконти. Кстати, при этом были брат его, Федор Григорьевич, Спиридов, де Рибас и еще кое-кто из морских офицеров. И вот этот Висконти в их присутствии, еще задолго до славной Чесменской победы, предсказал полную гибель турецкого флота. Граф Орлов потом уже после Чесмы искал его повсюду, хотел при себе оставить, да не вышло, как след простыл.
При упоминании имени Орлова будто тучка набежала на чело великого князя. Он глубоко задумался, затем, будто очнувшись, произнес:
— Эх, жаль, нет среди нас Куракина. Он бы подтвердил, что и со мной когда-то приключилось нечто странное[262].
5
Случай, который вспомнился Павлу, произошел с ним в Петров день, 28 июня 1782 года, когда он вместе с Марией Федоровной совершал поездку по Европе под именем графа Северного. Вернувшись из брюссельской оперы, он ужинал у себя в резиденции. Великая княгиня, утомленная переездом, удалилась в свои покои. За столом остались Павел Петрович, баронесса Оберкирх — подруга юности Марии Федоровны, принц де Линь, князь Куракин и несколько других приглашенных лиц. Разговор перешел на предчувствия, сны и предзнаменования, причем каждый рассказал какой-то случай из своей жизни, подкрепляя рассказ казавшимися ему убедительными доказательствами. Великий князь за весь вечер не проронил ни слова. Тогда де Линь обратился к нему с вопросом:
— Разве вам нечего рассказать, ваше высочество? Или в России нет ничего чудесного? Неужели колдуны и чудесники обошли вас своим вниманием?
Великий князь покачал головой:
— Куракин знает, что и мне есть что рассказать, но я стараюсь удалять подобные мысли, они меня когда-то мучили.
Куракин, почувствовав на себе взгляд Павла, сказал:
— При всем уважении к вашим словам не могу приписать случай, который, как мне кажется, вы имеете в виду, лишь вашему воображению.
— Нет, это правда, сущая правда, и если вы, господа, даете слово не открывать мою тайну никому, в том числе моей жене, я расскажу вам, как было дело.
Все дали слово. Великий князь начал свой рассказ.
— Однажды светлой июньской ночью, которые бывают только у нас в Петербурге, мы называем их белыми ночами, я в сопровождении Куракина и двух слуг вышел прогуляться. Вечер мы провели в прокуренных апартаментах и испытывали потребность подышать свежим воздухом, полюбоваться городом при лунном свете. Я шел впереди, предшествуемый слугой, за мной в нескольких шагах следовал Куракин, замыкал процессию другой слуга. Куракин, помнится, по своему обыкновению, шутил на счет немногочисленных прохожих, встречавшихся нам по пути. Луна светила так ярко, что было можно читать. Тени ложились длинные и густые.
И вот, представьте, господа, в одной из улиц замечаю я высокого худого человека, запахнутого в плащ, на манер испанского, в военной, надвинутой на глаза треугольной шляпе. Он стоял, прислонившись к стене, и казалось, ждал кого-то. Как только мы поравнялись с ним, он пошел рядом, не говоря ни слова. Шаги его по тротуару производили странный звук, будто камень ударялся о камень. И, самое удивительное, я вдруг ощутил страшный могильный холод в моем левом боку, к которому время от времени прикасался незнакомец. Не в силах сдержать охватившей меня дрожи, я сказал, обернувшись к Куракину: «Мы имеем странного спутника!» «Какого спутника?» — спросил Куракин. «Как, ты не видишь человека в плаще, идущего с левой стороны, между мной и стеной?» «Ваше высочество, ваше плечо почти касается стены, — ответил Куракин, — здесь нет места ни для кого другого». Я протянул руку, и она сразу уперлась в стену. Тем не менее, я ясно видел, что странный человек продолжал идти с нами в ногу, причем шаги его по-прежнему издавали звук, подобный удару молота по граниту. Какое-то странное чувство постепенно овладело мной, проникло в самое сердце. Вдруг, из-под плаща, которым мой таинственный спутник прикрывал лицо, раздался глухой и грустный голос: «Павел!»
«Что тебе нужно?» — отвечал я, побуждаемый какой-то неведомой силой. Незнакомец остановился и повторил с еще более грустной интонацией: «Павел, бедный Павел, бедный князь!» Я вновь обратился к Куракину, который тут же остановился. «Слышишь?» «Ничего, государь, решительно ничего».
Сделав над собой отчаянное усилие, я спросил незнакомца, кто он и что он желает. «Бедный Павел! Кто я? Я тот, кто принимает в тебе участие. Чего я желаю? Я желаю, чтобы ты не особенно привязывался к этому миру, ты не останешься в нем долго. Живи как следует, если желаешь жить спокойно, и не презирай укоров совести: это величайшая мука для великой души».
При этих словах шляпа незнакомца приподнялась как бы сама собой, будто бы он прикоснулся к ней; в лунном свете проступили черты лица, которые невозможно было не узнать — это был, господа, мой великий предок Петр I. Орлиный взор, смуглый лоб и строгая улыбка моего спутника не оставляли в этом ни малейшего сомнения.
Он двинулся снова, не отрывая от меня пронзительного взора, который как бы отделялся от его головы, и как прежде я должен был остановиться, следуя его примеру, так и теперь вынужден был следовать за ним. Он перестал говорить, и я не чувствовал потребности обратиться к нему. Я шел за ним, потому что теперь он давал направление нашему пути. Это продолжалось еще около часа, и я не могу припомнить, по каким местам мы проходили.
Мы подошли к большой площади между мостом и зданием Сената. Только много позже я понял, что незнакомец вывел нас к тому месту, на котором сейчас стоит памятник Петру на коне, вздыбленном над гранитной скалой. Мельчайшие подробности этого происшествия навсегда сохранились в моей памяти, и я продолжаю утверждать, что это было видение, ниспосланное свыше.
Я возвратился во дворец в полном изнеможении, как после долгого пути, и с буквально отмороженным левым боком. Потребовалось несколько часов, чтобы отогреть меня в теплой постели.
Павел помолчал и добавил:
— Надеюсь, я недаром занял ваше время.
— Знаете ли вы, государь, что означает эта история? — спросил принц де Линь.
— Она означает, что я умру в молодых летах, — ответил Павел.
6
Кофе был подан в розовой беседке. Кутайсов готовил кофе для Павла по старинному турецкому рецепту — с кардамоном, внушив тому, что этот напиток намного лучше крепкого левантийского кофе, который подавали по утрам Екатерине. Приняв изящную, в форме тюльпана чашечку в серебряном подстаканнике, Павел осторожно поднес ее ко рту и медленно отпил глоток.
Кофе пили в полном молчании. Это был один из ритуалов, который свято сохранялся в великокняжеской семье.
Павел и Мария Федоровна сидели в больших покойных креслах у окна, выходившего на убранный в немецком вкусе дворик. Остальное общество расположилось за полукруглым столиком, стоявшим около изразцовой печи. Кутайсов стоял за креслом великого князя.
Только он один и заметил, что рука великого князя, державшая финджан, дрогнула и несколько капель ароматного напитка упали на мундир. Лицо Кутайсова одеревенело от ужаса. По турецкому поверью, о котором он не раз рассказывал великому князю, кофе, пролитый на одежду, считался знаком ужасного и неминуемого несчастья.
Павел вздрогнул, поднял голову — и лицо его исказилось в сильнейшем волнении. Повернувшись в сторону окна, куда был устремлен взгляд великого князя, Кутайсов увидел только что въехавшего во двор гусара верхами. Спешившись и привязав лошадь, он бегом устремился ко входу в беседку.
В мертвой тишине Павел встал на негнущихся ногах навстречу вошедшему и спросил, запинаясь:
— Что, что такое?
Гусар, смахнув с головы кивер, переломился в поклоне.
— Граф Зубов приихали, Ваше высочество, — сказал он с сильным украинским акцентом. — Просили передать, что ждут вас во дворце по весьма срочному делу.
— Который Зубов?
— Граф Николай Александрович, шталмейстер.
Из дальнейших расспросов выяснилось, что Зубов, прискакавший в Гатчину на полузагнанной тройке, узнав, что великий князь обедает на мельнице, находившейся в пяти верстах от дворца, послал известить о своем приезде двух нарочных. На мельницу вели две дороги, и Зубов не знал, по которой Павел будет возвращаться.
Считая всех Зубовых своими смертельными врагами, Павел не ждал ничего хорошего от внезапного появления одного из них.
— Achève ton café, Marie[263], — сказал он, повернувшись к жене и склонившись к ней, добавил шепотом: — Nous sommes perdus[264].
Тем временем Котлубицкий, бывший у гусар командиром, спросил гонца, кто еще приехал с Зубовым.
— Да никого, — пропел гусар, выразительно поведя очами. — Один, як пес.
Только много позже Котлубицкий сообразил, что гусар, явно бывший не в ладах с русским языком, хотел сказать «один, как перст».
— Ну, с одним можно справиться, — сказал Павел с некоторым облегчением, снял шляпу и перекрестился.
На обратном пути Павла снова охватило сильное волнение. Перебирая причины приезда Зубова, он останавливался на одной: Екатерина решила сослать его в замок Лоде. Он едва мог владеть собой.
Мария Федоровна, пытаясь успокоить его, предположила, что, возможно, прибыл гонец из Стокгольма. Она не теряла надежду на то, что сватовство шведского короля к великой княжне Александре Павловне закончится благополучно.
Павел, впавший в прострацию, повторял одно:
— Nous sommes perdus, ma chère, Nous sommes perdus[265].
Лица офицеров, стоявших на запятках саней, были суровы.
Великокняжеская чета приняла Зубова в гостиной Марии Федоровны. Павел, бледный, как полотно, с искаженным болезненной судорогой лицом, стоял, опираясь на спинку обитого голубым штофом стула. За его спиной, на мраморной стене был виден привезенный из Франции гобелен, изображавший Дон Кихота — рыцаря печального образа.
Приблизившись на несколько шагов, Зубов упал на колено и сказал изменившимся от волнения голосом:
— Крепитесь, Ваше величество, я привез дурные вести. Государыня при смерти.
Глаза Павла широко открылись. Он попытался сказать что-то, но не смог. Горло его сковала конвульсия, лицо сделалось багровым. Подскочив к Зубову, он принялся поднимать его с колен, потом обнял, отстранил от себя и, ударив себя характерным жестом в лоб, воскликнул осипшим от волнения голосом:
— Какое несчастье, какое несчастье!
Вслед за этим Павел принялся метаться от великой княгини к Зубову, нервно потирая руки и спрашивая как бы сам себя: «Застану ли я ее в живых?» Ростопчин вспоминал, что он производил впечатление человека, сошедшего с ума, — и нельзя было сказать от горя или от радости.
Впрочем, в Петербург решили отправиться только после того, как прискакал курьер от Салтыкова, подтвердившего сообщение, привезенное братом фаворита. Есть основание полагать, что сборы в дорогу заняли довольно значительное время. В хранящемся в фондах РГАДА деле 72 «Письма к покойному государю (Павлу I — П.C.) от покойной матери его. 1792–1796 гг.» есть раздел, озаглавленный «Бумаги, порученные мне от Его императорского величества при восшествии на престол для их хранения до востребования». В нем — одиннадцать записок от разных лиц, полученных Павлом 5 ноября в Гатчине. Две, подписанные, — от Александра. Текст первый: «On est très mal. S’il y a quelque chose de plus je vous enverrai tout de suite»[266]. Второй: «Elle est à la dernière éxtremité. Il n’y a plus aucun espoir»[267]. Судя по рассказу Ростопчина, эти записочки были переданы Павлу, когда он находился по пути в Петербург.
Но, что самое поразительное — в конце этой подборки есть письмо самого Павла матери, датированное тем же числом:
«Ma très chère Mère,
Je prends la liberté de présenter mes hommages et ceux de ma femme à Votre Majesté Impériale.
De Votre Majesté Impreiale le très humble, très obeïssant fils et serviteur
Paul»[268]
Письмо это, на первый взгляд, — одно из тех, что Павел ежедневно отправлял матери. Но если оно написано с утра, до вахтпарада, то почему оказалось неотправленным? Для Павла, с его страстью к порядку и дисциплине, это весьма необычный поступок.
Похоже, что оно все же родилось в те часы, когда Павел и Мария Федоровна пребывали в мучительных колебаниях, боясь поверить вестям, привезенным Зубовым, и, возможно, подозревая, что его приезд — не более, чем очередная проверка на лояльность.
Наконец, решили ехать.
Зубов, проявлявший чудеса распорядительности, вызвался ехать вперед, чтобы готовить лошадей на перегонах. Его сани уже успели спуститься с мостика, перекинутого через ров, когда Павел распахнул дверцу своей кареты и страшно закричал вслед Зубову:
— А Александр, где Александр?
7
Утром 5 октября Александр по обыкновению вышел прогуляться на набережную, где встретил князя Константина Чарторыйского. Около дома, занимаемого братьями Чарторыйскими, к ним присоединился князь Адам. Они втроем мирно беседовали, когда появился скороход из дворца, сообщивший Александру, что Салтыков требует его немедленно к себе.
Александр поспешил во дворец. Общее волнение подсказало ему, что происходит нечто чрезвычайное. Салтыков, встретивший своего воспитанника у входа на личную половину, провел его в кабинет.
Объявив Александру неожиданно официальным тоном о болезни императрицы, Салтыков просил его немедленно пройти к великой княгине Елизавете Алексеевне и оставаться там до тех пор, пока он не пошлет за ним. Александр в слезах бросился к жене, а Салтыков отправился на Совет, спешно собравшийся у одра умиравшей Екатерины. Только в пятом часу пополудни, рассчитывая, что уже приближается время прибытия Павла в Петербург, допустил он Александра в спальню к императрице.
Предосторожность, проявленная Салтыковым, была, однако, излишней. Александр и не помышлял о том, чтобы воспользоваться обстоятельствами. Федору Васильевичу Ростопчину, за которым он послал тотчас же, как вышел с личной половины, даже показалось, что при всем смятении, которое читалось на лице великого князя, он испытывал невольное облегчение от того, что невыносимо трудная для него ситуация разрешалась как бы сама собой.
Ростопчин узнал о болезни императрицы от своей свояченицы, дочери Анны Степановны Протасовой, неотлучно остававшейся вместе с Перекусихиной возле Екатерины с первых минут случившегося с ней удара. Камердинер Павла Петровича Парлант, встретивший его в комнатах Александра, прибавил, что у императрицы сделался сильный параличный удар и что, быть может, она уже отошла.
Обняв Ростопчина, Александр подтвердил, что надежды не было никакой.
— Прошу тебя, душа моя, — говорил он, просительно заглядывая в глаза Ростопчину, — поезжай скорее к государю в Гатчину. Я знаю, туда уже послан Николай Зубов, но ты лучше от моего имени можешь рассказать батюшке о постигшем нас несчастье.
В шесть часов вечера Ростопчин был в Софии, находившейся на полпути в Гатчину. Первый человек, которого он увидел, въехав во двор почтовой станции, был Зубов. Находясь в страшном возбуждении, тот наседал на станционного смотрителя, приказывая ему скорее выводить лошадей из конюшни.
Чиновник, по лицу которого было видно, что он редко находился в трезвом состоянии, бессмысленно улыбался.
— Лошадей, лошадей! — кричал Зубов, не церемонившийся с гражданскими лицами. — Коль сей момент лошадей не будет, я тебя самого запрягу под императора!
Смотритель, привыкший к куражу проезжего петербургского начальства, отвечал, соскальзывая из учтивости в грубость:
— Запрячь меня, Ваше сиятельство, немудрено, но какая польза от этого будет? Ведь я не потяну, хоть до смерти извольте убить-с.
Затем после некоторого размышления добавил:
— А если, как вы изволили говорить, что Павел Петрович стали российским императором, то ему виват! — и добавил тихо, — а буде матери нашей не стало, то светлая ей память.
Пока Зубов препирался со смотрителем, в воротах станционного двора появился конюшенный офицер майор Бычков. Едва он остановил своего коня, как в темноте засветились фонари экипажа в восемь лошадей, в котором ехал Павел.
Ростопчин живо выскочил из своих саней и подбежал к экипажу великого князя.
— Ah, c’est vous, mon cher Rostoptchin[269]!
С этими словами Павел вышел из экипажа и, взяв под руку Ростопчина, принялся быстрым шагом прогуливаться с ним у станционных ворот, у которых немедленно началась невообразимая суета. Лошади, разумеется, нашлись, а смотритель, очнувшись от первоначального изумления, проявлял чудеса распорядительности.
Павел, гримасничая и перебивая сам себя, расспрашивал о подробностях происшедшего. Ростопчин был вынужден несколько раз повторить то немногое, что он узнал от Александра, всякий раз повторяя, что тот послал его уже не как к отцу, а к государю.
Наконец появился, путаясь в полах шинели, Зубов. Садясь в карету, Павел порывисто пожал руку Ростопчина и бросил ему, обернувшись:
— Faîtes-moi le plasir de me suivre; vous arriverons ensemble. J’aime à vous voir avec moi[270].
Сев в сани с Бычковым, Ростопчин последовал за экипажем великого князя.
Навстречу то и дело попадались посланные из Петербурга курьеры. Все они были с записками, которые Ростопчин читал тут же, при свете взятого из Софии фонаря. Казалось, в Петербурге не осталось ни одного мало-мальски значительного лица, которое в эти часы не направило бы нарочного в Гатчину. Всех их разворачивали назад, и на подъезде к столице за экипажем великого князя выстроилась свита из двадцати с лишним саней. Между ними, как вспоминал Ростопчин, были курьеры, посланные придворным поваром и рыбным подрядчиком.
При подъезде к Чесменскому дворцу Павел велел остановиться и вышел из кареты. Ночь была тихая и светлая, с сиреневых небес на зубчатые башни путевого дворца падали снежинки. Сосновая роща, окружавшая Чесменскую церковь, стояла в недвижном глубоком молчании, бледный диск луны то показывался из-за бегущих облаков, то вновь за ними скрывался.
Подойдя к Павлу, Ростопчин заметил, что великий князь устремил свой взгляд к небу. Лицо его с коротким, словно переломленным носом искажало волнение. В неверном свете луны Ростопчин заметил, что глаза Павла были полны слез. В невольном душевном порыве он, забыв субординацию, шагнул навстречу великому князю и, схватив его за руку, сказал:
— Ah, Monsegneur, quel moment pour Vous[271]!
Лицо Павла просветлело, осветившись по-детски доверчивой улыбкой. Смахнув треуголку с головы, он повернулся в ту сторону, где за покрытыми пушистым снегом соснами проглядывался готический силуэт Чесменской церкви, и, широко перекрестившись, сказал:
— Attandez, mon cher, attandez. J’ai vecu quarante-deux ans, Dieu m’a soutenu; peut-être, donnera-t-Il la force et la raison pour supporter l’état, auquel Il me destine. Espérons tout de Sa bonté[272].
До трона российского Павлу оставалось полшага.
Действо третье
Les morts n’ont point de volonté[273].
Николай I, декабрь 1825 г.1
Было уже около десяти часов вечера, когда карета, в которой сидели Павел с Марией Федоровной, въехала во внутренний двор Зимнего дворца. На угловом крылечке, под фонариком, Павла уже ждал камердинер со свечей в руке. За его спиной стояли великие князья Александр и Константин, одетые в мундиры гатчинских полков.
Заглянув на минуту в свою комнату, Павел в сопровождении жены быстрым шагом прошествовал на половину Екатерины. Придворные, встречавшиеся на пути, склонялись в поклонах, приветствуя уже не наследника престола, а государя. Павел отвечал самым учтивым образом. Казалось, он вполне владел собой.
Лишь однажды в эти первые минуты во дворце бледное лицо великого князя исказила гримаса раздражения. У кавалергардской ему имел неосторожность попасться на глаза обер-гофмейстер князь Федор Барятинский, известный своим участием в ропшинском деле. За глаза его называли régicide[274]. Вздернув заносчиво подбородок, Павел проследовал мимо окаменевшего Барятинского. Следовавшему за ним Ростопчину Павел бросил на ходу:
— Передайте этому человеку, что я больше не хочу его видеть.
И, прочитав немой вопрос в глазах Федора Васильевича, добавил повелительно:
— Никогда.
Екатерину они нашли распростертой в полумраке опочивальни на том же матраце, на который ее уложили Зотов с Тюльпиным. С первого взгляда не оставалось сомнений, что она находится в глубокой агонии. Императрица, покрытая до подбородка белой простыней, лежала неподвижно, с закрытыми глазами. Дыхание выходило из ее горла с таким сильным хрипом, что слышно было в другой комнате. Временами кровь поднималась в голову, и тогда цвет ее лица становился багровым. Когда же наступало короткое облегчение, грудь Екатерины начинала дышать ровнее, лицо бледнело на глазах, только на щеках играл зловещий румянец, будто придворный куафер уже начал гримировать труп отошедшей в иной мир императрицы.
В комнате находились лишь врачи и несколько ближайших слуг. Возле тела стояла на коленях погруженная в глубокое горе камер-фрейлина Анна Степановна Протасова. Взгляд «королевы Таити», прозванной так за смуглый цвет лица и редкое, туземное безобразие, ни на минуту не отрывался от искаженного страданием, отекшего лица ее благодетельницы.
Свою искреннюю преданность императрице в эти трагические часы доказала и другая любимица Екатерины — Мария Саввишна Перекусихина. Во все время болезни Екатерины она служила ей так же, как и при жизни. Перекусихина сама поминутно подносила платки, которыми лекари утирали вытекавшую изо рта императрицы темную жидкость, поправляла ей то руку, то голову, укрывала пуховым одеялом остывающие ноги.
Войдя в спальню матери, Павел на мгновение застыл на пороге, пораженный открывшейся ему картиной. Через мгновение он уже стоял на коленях у сафьянового матраса, прижавшись губами к руке Екатерины. Только в этот момент он, должно быть, осознал в полной мере, что императрица находится на смертном одре и заветная мечта его о царствовании близка к исполнению. Бог весть, какие мысли проносились в его голове, но когда он, наконец, сгорбившись, будто поднимая неимоверную тяжесть, встал на ноги, на лице его читалось сильнейшее душевное волнение.
— Крепитесь, государь, — сказал подошедший Роджерсон.
Отойдя с лейб-медиком к окну, Павел расспросил его о подробностях произошедшего с императрицей. Тем временем Мария Федоровна, прижимая к глазам батистовый платок и причитая что-то по-немецки, принялась хлопотать вокруг умирающей. Протасова и Перекусихина как могли помогали великой княгине, глядя на нее с умилением и надеждой.
В опочивальне Павел оставался не более получаса. Ростопчин, призванный в кабинет великого князя, нашел его стремительно расхаживавшим из угла в угол с руками, заложенными за спину.
— Что нового? — спросил он, резко остановившись перед Ростопчиным и принявшись раскачиваться с пятки на носок. Это было верным признаком владевшего им гнева.
— Ничего, что заслуживало бы вашего внимания, — ответил Ростопчин.
— Как так? — Павел отпрянул от Ростопчина, глядя на него с подозрением. — О чем говорят, наконец?
— Скорбь не располагает к болтовне, Ваше величество, — Ростопчин, когда волновался, начинал говорить афоризмами. — Впрочем, — он помедлил, подыскивая слова, — мне показалось, что никто пока толком ничего не знает. Известно, разумеется, что Ее величество больны, но подробности мало кому известны. Это естественно, до приезда Вашего величества обсуждать это было неприлично.
Лицо Павла мгновенно просветлело.
— Молодец, Салтыков, — вскричал он, хлопнув себя по ляжкам, — я всегда говорил, что этот человек умеет носить панталоны.
Николай Иванович Салтыков ожидал в приемной вместе с великими князьями. В кабинете он оставался долго и, когда вышел, лицо его имело выражение государственной озабоченности. Направившись прямо к Ростопчину, Салтыков отвел его в сторону и прошелестел на ухо:
— Взятые мною меры одобрены, — он помолчал, посмотрев на Федора Васильевича со значением. — Государь изволил пожелать, чтобы войска гатчинского гарнизона незамедлительно, — он поднял костлявый палец, обращая внимание на это слово, — незамедлительно походным порядком прибыли бы в Петербург.
Ростопчин молча поклонился и вышел, чтобы отдать необходимые распоряжения.
Ближе к полуночи в приемной появился Аракчеев в полевом гатчинском мундире, забрызганном грязью. Его тут же пригласили в кабинет. Сорок верст от Гатчины до Петербурга Аракчеев проделал верхом, и грудь его вздымалась, обнаруживая стесненное дыхание.
Павел, тронутый преданностью своего любимца, поманил к себе Александра, соединил его руку с рукой Аракчеева и сдавленным голосом произнес: «Будьте друзьями и помогайте мне».
Аракчеев, больше обычного похожий на упыря, заклекотал от чувств. Огромный подвижный кадык на его длинной жилистой шее ходил ходуном. Всхлипнув, он странно наморщил подбородок, подбирая к самому носу складки кожи из-за ушей.
Павел смотрел на него с нежностью.
Александр, узнав, что Аракчеев прискакал из Гатчины, не имея с собой никаких вещей, провел его к себе и дал собственную рубашку. Аракчеев хранил ее до конца жизни как драгоценную реликвию, в ней он спустя тридцать восемь лет и был похоронен.
Только расставшись с Аракчеевым, Александр смог, наконец, пройти к жене. Великие княгини по приказу Салтыкова весь день оставались в своих комнатах. При виде Александра в ботфортах, крагах и длиннополом мундире, Елизавета Алексеевна разрыдалась. Она впервые видела мужа в форме гатчинских войск.
2
Несмотря на все тревоги и волнения минувшего дня, с рассветом 6 ноября Павел был уже на ногах. Пройдя в спальню, он осведомился у докторов о течении болезни. Получив ответ, что надежды нет никакой, он распорядился призвать митрополита Гавриила с духовенством читать глухую проповедь и причастить императрицу Святых Тайн. Сам же прошел в смежный с опочивальней угловой кабинет, где Екатерина по утрам принимала доклады.
Когда из-за притворенных дверей соседней комнаты раздалось тихое пение, Павел почувствовал себя наконец самодержцем. В кабинет были немедленно призваны те, с кем он желал разговаривать.
Должность обер-гофмейстера, важная в свете предстоящих печальных хлопот, была поручена графу Николаю Петровичу Шереметеву, сменившему Барятинского, проведшего ночь под домашним арестом.
Ростопчину Павел сказал:
— Зная мой прямой характер, я хотел бы, чтобы ты сам сказал, кем ты при мне быть желаешь?
— Секретарем для принятия прошений.
— Э, брат, да какой же мне из этого интерес? — отвечал ему, немного подумав, Павел. — Просьбы и жалобы я могу принимать лично. Назначаю тебя генерал-адъютантом, но не так, чтобы гулять по дворцу с тростью, изволь теперь же принять на себя распоряжения по военной части.
Ростопчин, мечтавший о гражданской карьере, вынужден был покориться.
Между тем в угловой кабинет был приглашен камер-паж Нелидов, брат Екатерины Ивановны. Через четверть часа он вышел. Увидев его смущенное и счастливое лицо, Ростопчин поздравил его с милостью императора.
Среди множества новых назначений, сделанных в первые дни павловского царствования, взлет Нелидова был самым стремительным и возбудил наибольшие толки. 8 ноября он был пожалован в адъютанты к императору. 9 ноября сделан подполковником. 1 января 1797 года возведен в следующий чин и в тот же год сделался генерал-майором, получив Аннинскую ленту и звание генерал-адъютанта.
Все его заслуги исчерпывались тем, что он был ближайшим родственником Нелидовой.
Угловой кабинет был расположен таким образом, что каждый, кого вызывал Павел, должен был пройти через опочивальню. Большинство задерживалось у еле дышащей Екатерины, повторяя вопросы то о часе кончины, то о действии лекарств. Однако немало было и тех, кто пролетал мимо смертного одра императрицы, уже и не вспоминая о той, чей еле заметный кивок мог составить счастье всей жизни.
«Эта профанация императорского достоинства, это неуважение к религии многих шокировало», — вспоминала через долгие годы графиня Варвара Головина.
С приездом Павла доступ во дворец был открыт для каждого, но у всех дверей появились солдаты с ружьями. Приемные залы быстро наполнились людьми. Вчера еще знаменитые вельможи стояли как бы уже лишенные своих должностей, с поникшими головами, утратив весь свой блеск и величавость. Среди них бегали, суетились люди малых чинов, наглые и хамоватые. Еще день тому назад многие из них и помыслить не могли бы оказаться не то что во дворце, а в мало-мальски приличном петербургском доме. Сегодня же они становились хозяевами жизни, и головы их кружились от предчувствия перемен.
Их называли гатчинцами, и в словечке этом, часто произносившемся в этот день, слышались и презрение, и насмешка, и тоска щемящая. Ну и, разумеется, зависть.
Среди этой разношерстной толпы выделялась фигура Безбородко. Понимая, что в эти часы решается его судьба, он не выезжал из дворца более суток. Осыпанный бриллиантами мундир вице-канцлера можно было увидеть повсюду: на подступах к угловому кабинету, в приемных залах, у парадной лестницы, по которой поднимались новые люди. Неизвестность судьбы, страх, что он под гневом нового государя, и живое воспоминание о Екатерине прочитал Ростопчин на его некрасивом лице.
Дважды он подходил к Ростопчину и задушевным голосом, в котором, несмотря на двадцать лет, проведенные при дворе, слышался распевный украинский акцент, говорил, что просит одной лишь милости — быть отставленным от службы без посрамления.
Ростопчин знал, что Безбородко, имевший до двести пятьдесят тысяч годового дохода, мог особо не беспокоится о своем благополучии. Помня, однако, о роли, которую сыграл тот в его карьере, он обещал незамедлительно переговорить на его счет с великим князем.
Однако Безбородко и в этих критических обстоятельствах оставался самим собой.
— Не забудьте заодно замолвить словечко и о Трощинском. Уже восьмой день, как подписан приказ о пожаловании его в действительные статские советники, но Грибовский от зависти до сих пор не отослал его в Сенат.
Трощинский был камер-секретарем Екатерины и креатурой Безбородко.
При первом удобном случае Ростопчин описал Павлу отчаяние графа и положение Трощинского. Ростопчину было тут же поручено уверить Безбородко, что его просят забыть прошлое и надеются на усердие, зная о его удивительных способностях в административных делах. Относительно Трощинского было приказано отослать в Сенат бумаги, что и было тотчас же исполнено. Грибовский, принесший их на подпись, оправдывался тем, что виноват не он, а князь Зубов, приказавший не отсылать приказа в Сенат. Грибовский имел вид человека, желающего исчезнуть.
Тут же в кабинет был призван Безбородко, который одной из своих излюбленных мистификаций произвел сильное впечатление на Павла. Докладывая донесения, поступившие от губернаторов, он по одному почерку на конвертах определял с абсолютной точностью, откуда они поступили, и сообщал мельчайшие подробности о текущих делах. Память у графа была слоновья.
— Этот человек для меня находка. Спасибо тебе, друг мой, что ты примирил меня с ним, — проникновенно благодарил Павел Ростопчина.
Тут же Безбородко было приказано заготовить манифест о начале нового царствования. Подвернувшегося под руку Головина Павел просил написать князю Александру Борисовичу Куракину, удаленному от двора, чтобы он поспешил со своим приездом в Петербург.
После Безбородко наступил черед Зубова. Ростопчин нашел его сидящим в углу комнаты, где дежурили секретари. Вид у него был самый жалкий. Лицо, утратившее надменность, выражало отчаяние, и во всей его фигуре выступало наружу совершенное ничтожество, которого вчера еще не видели или старались не замечать. Несколько раз робко заглядывал он в спальню императрицы, но войти не осмеливался и только отворачивал лицо, давя рыдания. Толпа придворных отворачивалась от него. Слуги, вчера еще пытавшиеся угадать малейшие его желания, проходили мимо с равнодушными лицами. Терзаемый жаждою, он не мог выпросить себе стакана воды. Ростопчин, возмущенный до глубины души всеобщей низостью, выбранил лакея, послал его на кухню и сам подал питье бывшему фавориту.
Войдя в угловой кабинет, Зубов повалился в ноги великому князю, протягивая ему трость — отличительный знак дежурного генерал-адъютанта.
Реакция Павла озадачила Ростопчина.
— Встаньте, — сказал он Зубову и насильно поставил его на ноги. — Друг моей матери будет и моим другом.
Затем, отдавая Зубову трость, он прибавил:
— Продолжайте исполнять ваши служебные обязанности при теле моей матери. Надеюсь, что и мне вы будете служить так же верно, как и ей.
Зубов не мог поверить своему счастью.
В течение дня Павел вызывал его к себе четыре или пять раз. Беседовали они наедине.
3
В час пополудни в коридоре за спальной комнатой был накрыт стол, за которым наследник и его супруга обедали вдвоем. Предупрежденный Роджерсоном, что кончина императрицы может наступить в любую минуту, Павел боялся отлучаться далеко.
В три часа к Павлу были вызваны Ростопчин и генерал-прокурор Самойлов. Войдя в угловой кабинет, они нашли великого князя сидящим за столом Екатерины, на нем грудой были навалены различные бумаги, пакеты, которыми любила пользоваться императрица. Александр и Константин просматривали находившиеся в стенных шкафах документы. Некоторые они оставляли в шкафах, а другие, более важные, откладывали в сторону.
Завершить разборку бумаг в рабочем столе Екатерины Павел поручил Ростопчину.
— В рассуждении лучшего и точнейшего выполнения приказа Его императорского величества почитаю за нужное сделать опись всех документов покойной императрицы, — сказал Самойлов, отряженный ему в помощь.
Поспешность генерал-прокурора, начавшего обращаться к Павлу как к императору при еще живой Екатерине, покоробила Ростопчина, и он возразил, что на подробную опись потребно несколько недель и писцов. Завязав в салфетки беспорядочно сваленные на столе бумаги, Ростопчин и Самойлов сложили их в большой сундук, опечатав его личной печатью Павла. Копаясь в ящиках стола, Самойлов, племянник Потемкина, рассказывал о гонениях, которые он претерпел за то, что представил к награде гатчинского лекаря. Ростопчин отмалчивался, размышляя о низости души человеческой. Когда последняя салфетка была увязана, он запер и опечатал кабинет, отдав ключ от него великому князю Александру, отправившемуся изымать служебные документы, находившиеся в кабинете Зубова.
Той же участи подверглись и бумаги графа Моркова, опечатать которые было поручено вице-канцлеру графу Остерману. Остерман выполнил поручение с усердием, смутившим многих. Он появился во дворце, волоча по полу два огромных тюка. Задыхаясь и ковыляя на подагрических ногах, Остерман проволок эти две кипы бумаг, как ребенок, тянущий салазки, нагруженные не по его силам.
Между тем среди бумаг, находившихся в столе императрицы, был найден указ о пожаловании графу Безбородко имения, ранее принадлежавшего графу Бобринскому. Слова, произнесенные Павлом после того, как он прочитал этот документ, поразили Ростопчина сильнейшим образом.
— Это собственность моего брата. Осмелиться распоряжаться ею в пользу другого было бы преступлением.
Алексей Бобринский был сыном Екатерины и Григория Орлова. Тайна его происхождения была секретом Полишинеля. Он рос в семье камер-лакея Шкурина, воспитывался в кадетском корпусе, долго путешествовал за границей, где, будучи человеком ветреным и азартным, наделал огромных карточных долгов. Екатерина, возмущенная его поведением, отказалась их платить.
Безбородко, которому Ростопчин передал историю с указом, воспринял это известие с философским спокойствием. Мысли его были явно заняты чем-то другим. Наконец он решился.
На вопросительный взгляд, которым его встретил Павел, Александр Андреевич с проворством, неожиданным для его грузной комплекции, проследовал к бюро, стоявшему в простенке между окон. Инкрустация на крышке изображала константинопольский храм Св. Софии, над которым восходила звезда. Присев не без труда на корточки, Безбородко дважды повернул по часовой стрелке латунное кольцо, затем, открыв крышку бюро, выдвинул один из его многочисленных ящичков и, пошарив внутри, надавил невидимую кнопку. Послышался мелодичный звон — и панель с изображением Св. Софии распахнулась на две половинки. За ним открылось углубление, в котором лежал пакет, перевязанный муаровой лентой цветов ордена Св. Георгия.
Полуобернувшись к великому князю, Безбородко показал глазами на пакет. Павел, как завороженный, подошел к бюро. Приняв поданые Безбородко бумаги обеими руками, он медленно поднял голову на графа. Тот с лицом суровым и важным указал в сторону топившегося камина. Повинуясь магнетической уверенности, исходившей от Безбородко, Павел на негнущихся ногах подошел к каминной доске и бросил пакет в огонь. Первой занялась муаровая лента, по которой весело побежала струйка пламени. Затем пакет стал взбухать и корчиться, как живой. Обуглившийся рай его раскрылся, обнажив края исписанных аккуратным канцелярским почерком бумаг, занимавшихся оранжевым пламенем. Они заворачивались одна за другой, будто какая-то неведомая, но страшная сила перелистывала в последний раз страницы, сохранившие волю умирающей императрицы.
Вскоре пакет превратился в груду пепла. Павел нагнулся и поворошил ее медной кочергой. Лицо его, на котором играли отблески пламени, выражало безмерную усталость и — удовлетворение. Повернувшись к Безбородко, Павел порывисто взял его за руку и пожал ее.
За все это время ни Павел, ни Безбородко не произнесли ни слова.
Главные государственные дела свершаются в молчании[275].
4
Ровно в девять часов вечера Роджерсон объявил, что императрица кончается. Послали за великими княжнами, которые с утра еще получили приказание облачиться в официальные русские платья. Явились Зубов, Остерман, Безбородко и Самойлов. Императорская семья встала по правую сторону от простертого на матрасе тела Екатерины, по левую — доктора и все остальные, включая Ростопчина. Дыхание Екатерины становилось все реже, при слабом свете свечей лицо ее казалось темным, почти черным. Наконец, в 9 часов 45 минут императрица вздохнула в последний раз и отошла. Рыдания огласили комнату.
Екатерина Великая скончалась, имея от роду шестьдесят семь лет, шесть месяцев и пятнадцать дней.
5
Как ни странно, но время смерти Екатерины указывается в различных источниках по-разному. Ростопчин говорит, что императрица скончалась, когда наступила первая четверть одиннадцатого, в камер-фурьерском журнале называется три четверти десятого. Иоанн Масон, преподававший математику великим князьям, называет другое время. Он, кстати, сообщает одну подробность кончины Екатерины, которой нет в других воспоминаниях современников: «Около десяти часов она, казалось, пришла в сознание и начала страшно хрипеть, пытаясь что-то сказать. Наконец, Екатерина издала жалобный крик, который было слышно во всех соседних комнатах, и испустила последний вздох».
6
Первые поздравления с восшествием на престол Павел принял прямо у смертного одра. Склонившись перед мужем в поклоне, Мария Федоровна почтительно поцеловала его руку. Павел обнял ее. Подходя к отцу, великие князья преклонили колена.
Одна Елизавета Алексеевна, когда пришел ее черед, казалось, не знала, что ей делать.
— Встаньте же на колени, непременно встаньте на колени, — прошептал ей на ухо Александр.
Великая княгиня начала было опускаться на одно колено, но была поднята Павлом, который взял ее за плечи и троекратно облобызал. Лицо его имело выражение растроганное.
Остерман, Безбородко, Самойлов и другие подворные, присутствовавшие при кончине, принесли присягу по всей форме.
Тем временем Мария Федоровна приняла на себя заботу о покойной государыне. По ее распоряжению тело было перенесено на кровать, поставленную посреди спальни. Предварительно его обмыли в той же комнате за ширмой, облачили в шелковый шлафрок. Священники начали чтение Евангелия.
Почетная миссия возвестить начало нового царствования выпала на долю Салтыкова. Выйдя из опочивальни, он торжественно объявил:
— Императрица Екатерина скончалась. Государь Павел Петрович изволил взойти на престол.
Собравшиеся в приемных залах придворные принялись поздравлять Самойлова и друг друга с новым императором. Многие плакали, но еще более было лиц, освещенных смутной надеждой и даже радостным ожиданием. «Казалось, все были в положении путешественника, сбившегося с дороги, но всякий надеялся попасть на нее скоро. Любя перемену, думали найти в ней выгоду. Всякий, закрыв глаза и уши, пускался без души разыгрывать лотерею безумного счастья», — исповедывался Ростопчин.
В четверть двенадцатого обер-церемониймейстер доложил, что в придворной церкви все готово к присяге. В храме, освещенном сотнями свечей, Павла с семьей встретило стройное пение. «Днесь благодать Святаго Духа нас собра», — со строгим вдохновением выводили с хоров придворные певчие.
Манифест о кончине Екатерины и вступлении Павла на царствование огласил генерал-прокурор Самойлов. Наследником был объявлен Александр Павлович.
К присяге первой приступила Мария Федоровна. Поцеловав крест и Евангелие, она прошла на императорское место, нежно облобызав супруга в уста и очи. За ней последовали Александр и Константин, великие княжны, вереница высших государственных чинов.
Протодьякону, густым басом возгласившему ектенью, в которой Павел в первый раз именовался императором, была пожалована тысяча рублей.
В ту же ночь в Петербурге присягнули все расквартированные в столице гвардейские и армейские полки.
С присягой из-за спешки и ночного времени вышло, однако, много бестолковщины. Полковым командирам было приказано не выводить гвардию из казарм, послав во дворец лишь роту гренадер за знаменами. Измайловцы тем не менее направились было на Дворцовую площадь. Остановивший их великий князь Константин недоумевал, кто мог отдать столь странное распоряжение и нет ли здесь какой каверзы.
Священник Измайловского полка, принимавший присягу, был заметно нетрезв.
— Отчего отец Прохор пьян, от радости или от печали? — поинтересовался великий князь у своего адъютанта Комаровского.
— И от того, и от другого, Ваше высочество, — отвечал находчивый Комаровский.
Константин задумался.
Чиновники гражданских ведомств присягали в Сенате, служащим которого предусмотрительный Самойлов приказал не отлучаться домой две ночи кряду.
В губернии были посланы нарочные с известием о восшествии на престол нового государя и с повелением о присяге ему. Капитан Митусов, «гатчинский», ездивший с таким повелением в Москву, вернулся генерал-майором с подарками от московского начальства на тридцать тысяч рублей.
По окончании присяги Павел проследовал к телу Екатерины, где митрополитом Гавриилом была отслужена панихида. Отдав поклон покойной, государь удалился.
Была уже полночь, когда император Павел отдал свой первый приказ.
Вот он:
1) Пароль «Полтава»;
2) Его императорское высочество император Павел Петрович принимает на себя шефа и полковника всех гвардии полков;
3) Его императорское высочество великий князь Александр Павлович в Семеновский полк полковником;
4) Его императорское высочество великий князь Константин Павлович в Измайловский полк полковником;
5) Его императорское величество великий князь Николай Павлович в конную гвардию полковником;
6) Полковник Аракчеев комендантом в городе;
7) Адъютантами при Его величестве императоре Павле Петровиче назначаются: генерал-майор Плещеев, генерал-майор Шувалов, бригадир Ростопчин, полковник Кушелев, майор Котлубицкий и камер-паж Нелидов, который жалуется в майоры;
8) Полковник Аракчеев в Преображенский полк штабом;
9) Подполковнику Кологривову быть в эскадроне гусар, как в лейб, так и в его полку и казачьем, что и будет составлять полк, прочее ж по уставу;
10) Господам генералам служащим другого мундира не носить, кроме того корпуса, которому принадлежат; вообще, чтоб офицеры не носили ни в каком случае иного одеяния, как мундиры.
Среди первых распоряжений нового императора, сделанных в эту ночь, был и приказ об освобождении Николая Ивановича Новикова, содержавшегося с 1791 года в Шлиссельбургской крепости. Впоследствии говорили, что эту мысль Павлу внушил С. И. Плещеев, масон, сочувствовавший пострадавшим по делу о московских мартинистах.
Впрочем, уже в первые часы царствования Павла в полной мере проявилась и другая сторона его натуры — болезненная подозрительность. Вспомнив, что назначенный к нему Екатериной духовник отец Савва спросил его как-то на исповеди (скорее всего, безо всякого дурного умысла), не имеет ли он чего-либо на душе против государыни-матери, Павел приказал отвезти Савву под строгим присмотром в Александро-Невский монастырь и предать консисторскому суду. Суд, однако, оправдал Савву, и перед ним пришлось извиняться.
Шел уже третий час ночи, когда к императору был вызван Ростопчин. В кабинете находился и петербургский полицмейстер Николай Петрович Архаров. Взяв за руку Ростопчина, Павел сказал ему ласково:
— Я знаю, ты устал. Мне совестно просить тебя, но потрудись, пожалуйста, съездить с Архаровым к графу Орлову и привести его к присяге. Его не было сегодня во дворце, но я не хочу, чтобы он забывал 28 июня.
7
Вторые сутки напролет Ростопчин был на ногах, находясь неотлучно при Павле. Лишь пару раз удалось ему заглянуть через Эрмитаж в комнаты Анны Степановны Протасовой, где под присмотром докторов лежала его жена. Глубоко преданная Екатерине, она находилась в полубессознательном от горя состоянии.
Дорого дал бы Ростопчин, чтобы избавиться от поручения привести к присяге Орлова. Для гвардии, где он начинал службу, чесменский герой был живой легендой. К тому же теща его, Протасова, попала в камер-фрейлины по ходатайству старшего из братьев Орловых, Григория, приходившегося ей дальним родственником. Стоит ли говорить, что мысли Ростопчина были заняты тем, как бы поделикатнее выполнить это поручение.
Архаров, напротив, во все время пути до Васильевского острова, где находился дом Орлова, говорил мерзости насчет balafré[276]. Ростопчин, не терпевший привычки называть друг друга за глаза прозвищами, вспылил:
— Мы имеем приказ привести графа Орлова к присяге, а прочее — дело Бога и государя, — оборвал он Архарова с нарочитой резкостью.
Архаров начинал службу под началом Алексея Орлова, участвовал в чесменском бою. Местом столичного обер-полицмейстера он был обязан особенному благоволению императрицы, обратившей на него внимание после казни Пугачева, которой он руководил лично. Архаров служил в Москве, затем в Твери, где оставил после себя дурную славу. Огромный рост, бесцеремонные манеры внушали ужас как обывателям, так и подчиненным. Тем не менее незадолго до кончины Екатерина призвала его в Петербург, имея, надо думать, на это свои причины. Жители столицы в знак признания особых качеств обер-полицмейстера называли вверенных его попечению полицейских архаровцами. Особенно замечательным был голос Архарова — тяжелый и зычный, как посвист Соловья-разбойника, от звука которого, как известно, гнулись деревья. Говоря с Екатериной, он по ее просьбе, переходил на шепот.
Удивленно покосившись на Ростопчина, Архаров переменил тему для разговора, пустившись сиплым шепотом в воспоминания о притеснениях, которым подвергался при Екатерине. Ростопчин страдал.
Наконец карета остановилась. Архаров, проворно соскочив с подножки, принялся повелительно колотить в запертые ворота. Явившемуся на стук заспанному малому он с трудом растолковал, что хочет видеть камердинера графа. Архаров от нетерпения или по каким-то своим полицейским причинам Архаров последовал за камердинером, ворчавшим по дороге, что Его сиятельство нездоровы и не велели никого принимать.
— Придуривается, — просипел Архаров на ухо Ростопчину. — Вчера еще был здоровехонек, все утро по дворцу шастал. А как услышал о приезде государя императора из Гатчины, так сразу, видишь ты, поехал домой и слег в постель.
В спальню Орлова вошли втроем.
Камердинер, с трудом растолкав графа, спавшего богатырским сном, сказал:
— Ваше сиятельство, Николай Петрович Архаров приехали.
— Что надо? — донесся из-под перины хриплый со сна бас.
— Не могу знать, они желают говорить с вами лично.
Орлов, выпростав голову, посмотрел шальным взором на вошедших. Затем молча сел, велел подать себе туфли и, накинув на плечи медвежью доху, в которой любил ходить дома, спросил у ожидавшего с грозным видом Архарова:
— Ну-с, милостивый государь, почто ко мне в такую пору пожаловали?
Архаров, подступив к нему, объяснил, что он и Ростопчин присланы по повелению государя императора привести его к присяге.
— А что, императрицы разве уже нет? — спросил Орлов после долгой паузы. И, услышав, что она скончалась в одиннадцатом часу, повернулся к стоявшему в углу иконостасу, осенив себя крестным знамением, сказал:
— Господи, помяни ее в царствии твоем, вечная ей память!
Затем, вздыхая и утирая слезы, он принялся сетовать, как мог государь усомниться в его верности.
— Служа матери его и Отечеству, служил и наследнику престола, — говорил он. — И ему как императору буду присягать с тем же чувством, как присягал наследнику Екатерины.
Эти слова заключил он намерением немедленно идти в домашнюю церковь. Архаров обрадовался было, но Ростопчин остановил его твердым движением руки.
— Не беспокойтесь, граф, я привез текст присяги. Достаточно будет личной подписи под ней Вашего сиятельства.
— Нет, милостивый государь, — возразил Орлов, поднимаясь. — Я буду присягать государю пред образом Божиим.
Подойдя с зажженной свечой в руке к старой, потемневшей от времени иконе Николая Чудотворца, он по печатному тексту, переданному ему Ростопчиным, громко и отчетливо произнес слова присяги. Орлов стоял перед Ростопчиным и Архаровым простоволосый, в медвежьей дохе, пламя свечи освещало огромный багровый рубец, напоминавший о бурной молодости чесменского героя. Закончив чтение, Орлов сел за стол и четко расписался под текстом присяги. Исполненный глубокого уважения к этому легендарному человеку, в котором он «не приметил ни малейшего движения трусости или подлости», Ростопчин поклонился и вышел вон.
Притихший Архаров последовал за ним.
Действо четвертое
Допустим, он помешан. Надлежит
Найти причину этого эффекта,
Или дефекта, ибо сам эффект
Благодаря причине дефективен.
В. Шекспир. Гамлет1
Только войдя в спальню, Павел почувствовал, как он устал. Поясницу ломило, ноги налились тяжестью, в висках пульсировала боль.
Камердинер принял мундир, стянул ботфорты. Медленно, одну за другой расстегнув пуговицы камзола, Павел сделал жест рукой. Камердинер исчез.
Зябко поеживаясь, император подошел к камину. Багровые отблески пламени играли на темной бронзе часов, стоявших на каминной полке. Часы, подарок Людовика XVI, представляли собой двух ангелов, державших на вытянутых руках полусферу. Правый ангел указывал перстом на циферблат, стрелки которого показывали четверть третьего. Левый устремлял руку к постаменту с надписью: «Sic transit gloria mundis»[277].
Взгляд Павла, скользнувший по надписи, вдруг приобрел осмысленность.
— Sic gloria mundis advenit[278], — прозвучал ангельский голос у него в голове, и воспаленные веки императора дрогнули. Повернувшись к образу Спасителя, строго смотревшего с небольшого иконостаса, под которым тлела негасимая лампадка, Павел медленно перекрестился. Будто сами собой сложились слова молитвы:
— Свершился промысел Твой, дай силы исполнить долг, укрепи душу, раскрой сердце горестям подданных, — как по наитию шептал Павел. В глазах его сгущалась тоска.
Наконец, он очнулся, поднялся с колен. Несмотря на поздний час и владевшую им усталость, спать не хотелось. Шагнул к бюро, на котором стоял не потушенный еще на ночь канделябр с пятью свечами. Рядом — письменный прибор: чернильница с серебряной крышкой, мраморный стаканчик, наполненный искусно заточенными гусиными перьями. Только подойдя вплотную, Павел заметил, что на просторном кожаном пюпитре лежит большой пакет, перевязанный лентой. На лицевой стороне его хорошо знакомым Павлу размашистым почерком было написано: «A mon fils Paul, après ma morte»[279].
Лицо императора одеревенело. Упав в полукресло, стоявшее подле бюро, он надорвал пакет. В нем оказалась стопка исписанных листов, к первому из которых был пришпилен клочок пожелтевшей от времени бумаги.
Поставив канделябр так, чтобы свет его падал на вынутые из конверта листы, Павел потянулся было к записке, но будто остановленный кем-то, отодвинул ее в сторону и пробежал глазами начало рукописи. Буквы прыгали перед его глазами.
«La fortune n’est pas aussi aveugle qu’on se l’imagine; — медленно разбирал он — elle est souvent le résultat d’une longus suite de mesures justes et précises, non aperçues par le vulgaire, qui ont précédé l’évènement; elle est encore dans les personnes plus particulièrement un résultat des qualités, du caractère et de la conduite personnelle»[280].
Прочитав первый пассаж, Павел нахмурился, недовольно пожевал губами и пробормотал про себя:
— Вечно эти фантазии.
Взгляд его упал на конец страницы, где значилось:
«Et voici deux exemples frappans. Catharine II. Pierre III»[281].
Лицо Павла исказилось болезненной гримасой. Громко сопя, он придвинул к себе рукопись и погрузился в чтение.
Странная история разворачивалась на исписанных крупным разборчивым почерком шершавых страницах[282]. История тринадцатилетней девушки, почти девочки, занесенной ветрами судьбы в начале 1744 года из маленького померанского городка Штеттин в столицу северной империи. Взбалмошная мать, отец — полуразорившийся немецкий князек, фанатик-лютеранин и вассал Фридриха II, императрица Елизавета Петровна, ее вельможи и приближенные — полуазиаты-полуевропейцы. Императрица каждый день меняет платья и правит огромной империей, как помещица, не знающая толком, что делать с доставшимися ей по наследству владениями. Вокруг нее — сонм наушников, чесательниц пяток, интриганов, заезжих авантюристов, управляют всем два-три фаворита, и судьбы многомиллионного государства порой зависят от того, насколько ладят между собой ее приближенные. К счастью, фавориты императрицы — Разумовский и Шувалов — дружны между собой, а среди вельмож есть люди дальновидные и деловитые.
Нелегко понять логику этого странного мира, еще труднее к ней приспособиться, однако штеттинская принцесса наделена огромным честолюбием и стальной волей. С поразительным здравомыслием она составляет тройной план — понравиться императрице, своему мужу и русскому народу и выполняет его, не оставляя ничего на волю случая. Опасно заболев, она отказывается от помощи лютеранского священника, которого приводит к ней мать. Не пропускает ни одной службы в церкви, прилежна и трудолюбива, услужлива и внимательна. Терпеливо выслушивает и досужие сплетни, и добрые советы. Всегда и во всем эта девочка оказывается выше обстоятельств.
Чтение все более захватывало Павла. На щеках его выступили пятна румянца, лоб увлажнился. Со страниц манускрипта ему открывалась история, вернее предыстория его собственной жизни. Откровенность, с которой она была рассказана, невольно подкупала. Временами Павлу казалось, что он явственно слышит голос матери, ведущий с ним тот разговор, которого он так долго ждал.
Как завороженный, вчитывался император в строки открывавшейся перед ним исповеди. Он знал, что мать его отца, Анна Петровна, дочь Петра Великого и сестра императрицы Елизаветы, скончалась от чахотки через два месяца после его рождения в городе Киле, столице Голштинии. Однако то, что «сокрушила ее тамошняя жизнь и несчастное супружество» было для него откровением.
«Отец Петра III, голштинский герцог Карл-Фридрих — племянник шведского короля Карла XII, был государь слабый, бедный, дурен собой, небольшого роста и слабого сложения, — читал он. — Он умер в 1739 году, и опеку над его сыном, которому тогда было около одиннадцати лет, принял его двоюродный брат герцог Голштинский и епископ Любекский Адольф-Фридрих, вступивший потом вследствие Абосского мира и по ходатайству императрицы Елизаветы на шведский престол… Принца воспитывали как наследника шведского престола. Двор его, слишком многочисленный для Голштинии, разделялся на несколько партий, ненавидевших друг друга. Каждая партия старалась овладеть душою принца, воспитать его по-своему и, разумеется, внушить ему отвращение к своим противникам… С десятилетнего возраста Петр обнаружил склонность к пьянству. Его часто заставляли являться на придворные выходы и следили за ним неусыпно».
Впервые своего будущего супруга Екатерина увидела в 1739 году по случаю кончины отца его, герцога Карла-Фридриха. Ей было тогда десять лет. Карлу-Ульриху — на год больше. По характеру он был «прям и вспыльчив, нраву довольно живого, телосложения слабого и болезненного». Он еще не вышел из детского возраста, но придворные хотели, чтобы принц держал себя как совершеннолетний. Натянутость и неискренность — следствия дурного воспитания и несчастных обстоятельств — сделались чертами его характера.
Во второй раз София-Фредерика увидела своего двоюродного брата (уже ставшего русским великим князем и нареченного Петром Федоровичем) в Москве, где зимой 1744 года находилась Елизавета. Брак ее с российским великим князем был устроен Фридрихом II и французским послом в Петербурге маркизом де ля Шетарди — Франция тогда находилась с Пруссией в союзнических отношениях.
Петр отнесся к своей будущей невесте приветливо: «Помню, как между прочим он сказал мне, что ему всего более нравится во мне то, что я его двоюродная сестра[283], и что по родству он может говорить со мной откровенно; вслед за тем он открылся мне в любви к одной из фрейлин императрицы, удаленной от двора по случаю несчастья ее матери, госпожи Лопухиной, которая была сослана в Сибирь; он мне объяснил, что желал бы жениться на ней, но что готов жениться на мне, так как этого желает его тетка. Я краснела, слушая эти излияния родственного чувства и благодарила его за предварительную доверенность; но в глубине души я не могла надивиться его бесстыдству и совершенному непониманию многих вещей».
Елизавете понравилась рассудительность четырнадцатилетней Ангальт-Цербстской принцессы, она полагала, что, вступив в брак, великий князь повзрослеет и начнет оправдывать надежды, которые на него возлагались.
Свадьба Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны — так была наречена София-Фредерика после перехода в православие — была отпразднована 21 августа 1744 года. «По мере того, как приближался этот день, меланхолия все более и более овладевала мною. Сердце не предвещало мне счастья; одно честолюбие меня поддерживало. В глубине души моей было, не знаю, что-то такое, ни на минуту не оставлявшее во мне сомнений, что рано или поздно я добьюсь того, что сделаюсь самодержавною русскою императрицей…»
Эти слова Павел перечитал несколько раз. «Рано или поздно я добьюсь того, что сделаюсь самодержавною русскою императрицей…»
— «Самодержавною русскою императрицей…» — повторил он тихо, не замечая, что говорит вслух.
2
Далее Павел уже не мог читать спокойно. Фыркая и сопя, он нетерпеливо перелистывал страницы рукописи. Вся история жизни Екатерины и Петра Федоровича после свадьбы была представлена как череда непрерывных интриг. Окружение великокняжеской четы кишело шпионами, наушниками и провокаторами, подсылавшимися императрицей и Шуваловым. Лишь ум, осмотрительность и умение ладить с людьми его молодой жены не раз спасали великого князя от гнева императрицы, для которого сам он давал предостаточно поводов.
Дни свои великий князь проводил в праздности и дурацких забавах, муштруя лакеев, отданных ему в услужение. Он наряжал их в военные мундиры прусского образца, возводил в офицерские звания, жаловал и наказывал, как ему вздумается. У себя в комнатах он устроил театр марионеток — деревянных солдатиков в военной форме, с которыми разыгрывал целые сражения. Учился будто из-под палки, страну, которой должен был управлять, открыто презирал. Страстно любя охоту, свою спальню превратил в псарню. Однако, впадая временами в беспричинный и необузданный гнев, бил безжалостно любимых собак. Впрочем, еще более чем собачий визг и лай донимал Екатерину звук скрипки, до игры на которой Петр Федорович был большой охотник.
Павел озадаченно поднял голову над рукописью, пытаясь совместить это признание с пристрастием к музыке, которую Екатерина всячески афишировала.
— Верх лицемерия, — прошептал он.
Эпизод с подглядыванием за интимным обедом Елизаветы с ее фаворитом графом Алексеем Разумовским, развеселил Павла. Неосторожное любопытство Петра Федоровича, просверлившего дыры в двери и созвавшего целое общество, чтобы подглядывать, не показалось ему неуместным. Одобрительно хмыкнул, узнав, как вел себя великий князь после того, как его дерзкая выходка стала известна императрице. Не испугавшись напоминания о том, как Петр I поступил со своим неблагодарным сыном, великий князь начал сердиться и возражать. Дело, разумеется, закончилось грандиозным скандалом.
Дойдя до места, где камер-фрау Крузе советовала молодым повиниться перед императрицей, Павел поднял голову от рукописи и задумался.
Если верить рукописи, вся вина за случившееся целиком лежала на великом князе. Екатерина отказалась подглядывать за императрицей, когда Петр Федорович ей это предложил. Что это, благоразумие или коварство? Конечно, коварство.
— Эта женщина всегда считала себя умнее остальных, — Павел не заметил, что говорит о матери в третьем лице.
Дальнейшее чтение, казалось, подтверждало эти подозрения. Что бы ни приключалось с великим князем — напьется ли допьяна в присутствии Елизаветы, заведет ли амуришко на стороне, сначала с фрейлинами, затем с принцессой курляндской, потом с Елизаветой Воронцовой, ставшей его постоянной метрессой, — Екатерина все сносит терпеливо. Может, только всплакнет невзначай или остановит умоляющий взгляд на императрице, когда великий князь совсем распояшется. Мужа своего неразумного, когда нужно, утешит, когда нужно — побранит. Великий князь называл ее Madame la Resourse[284].
А в помощи великий князь нуждался частенько. «Раз после обеда он достал себе предлинный кучерский кнут и начал над ним свои упражнения. Он хлестал им направо и налево, а лакеи, чтобы спастись от удара, должны были перебегать из одного угла в другой. Не знаю, по неловкости или по неосторожности, но только он хлестнул в щеку самого себя и так сильно, что с левой стороны лица образовался большой рубец, очень красный. Это очень встревожило его, он боялся, что ему нельзя будет показаться на Святую, что императрица по случаю окровавленной щеки опять не позволит ему причащаться и как скоро узнает об упражнении с кнутом, то ему опять будут выговоры и какие-нибудь неприятности».
Что делать? Конечно же — обратиться к жене. Екатерина сразу находит способ, чтобы избежать неприятностей. Она замазывает пораненную щеку великого князя помадой из свинцовых белил, позаимствованной у лейб-хирурга. Все сходит как нельзя лучше. Великий князь не знает, как благодарить Madame la Resourse.
3
Имя Сергея Салтыкова появилось в середине манускрипта, когда Екатерина описывала события 1751 года.
«При дворе нашем было два камергера Салтыкова, сыновья генерал-адъютанта Василия Федоровича Салтыкова, жена которого, Мария Алексеевна, урожденная княжна Голицына, мать этих двух молодых людей, пользовалась особенной милостью императрицы за необыкновенную верность, преданность и отличные услуги, оказанные ею во время восшествия на престол Ее величества».
Младший из братьев Салтыковых, Сергей, женатый на фрейлине императрицы Матрене Павловне Балк, начал с осени 1751 года чаще обычного приезжать ко двору. «Он был прекрасен, как день, и без сомнения никто не мог с ним равняться и при большом дворе, тем менее при нашем. Он был довольно умен и владел искусством обольщения и тою хитрою ловкостью, которая приобретается жизнью в свете, особенно при дворе; ему было 26 лет, со всех сторон — и по рождению, и во многих других отношениях он был лицо замечательное. Недостатки свои он умел скрывать; главнейшие заключались в наклонности к интригам и в том, что он не держался никаких положительных правил».
При первом же упоминании имени Салтыкова выражение лица Павла изменилось. Видно было, что все, связанное с этим человеком интересует его чрезвычайно.
С растущим удивлением великий князь вчитывался в историю о том, как Салтыков вместе со своим приятелем Львом Нарышкиным втерся в доверие к камергеру Чоглакову, определенному Елизаветой гофмаршалом при великокняжеском дворе. Чтобы отвлечь внимание Чоглакова от выполнения своих прямых обязанностей, которые состояли в присмотре за молодым двором, Салтыков воспользовался весьма своеобразным средством, возбудив в Чоглакове, человеке тучном, лишенном ума и воображения страсть к стихотворству. «Чоглаков стал беспрестанно сочинять песни, разумеется, лишенные человеческого смысла. Как только нужно было отделаться от него, тотчас к нему обращались с просьбой написать новую песенку: он с большой готовностью соглашался, усаживался в какой-нибудь угол, большей частью к печке, и принимался за сочинение, продолжавшееся целый вечер». Тем временем молодежь делала, что ей вздумается.
И вот однажды, в один из таких вечеров, «Салтыков дал мне понять, какова была причина его частых появлений при дворе. Сначала я ему не отвечала. Когда он другой раз заговорил о том же предмете, я спросила, к чему это приведет. В ответ на это пленительными и страстными чертами начал он изображать мне счастье, которого добивается. Я сказала ему: «Но у Вас есть жена, на которой вы всего два года как женились по страсти. Про вас обоих говорят, что вы до безумия любите друг друга. Что она скажет об этом?» Тогда он начал говорить, что не все то золото, что блестит, что он дорого заплатил за минуты ослепления».
Так прошла весна и начало лета. «Я видела его почти ежедневно и не меняла моего обращения; я была с ним, как и со всеми, видаясь с ним не иначе, как в присутствии двора или вообще при посторонних. Однажды, чтобы отвязаться от него, я придумала сказать, что он действует неловко; почем Вы знаете, — прибавила я, — может быть, мое сердце уже занято. Но это нисколько не подействовало; напротив, его преследование сделалось еще более неутомимым. О любезном супруге тут не было и помину, потому что всякий знал, как он приятен даже и тем лицам, в кого бывал влюблен; а влюблялся он беспрестанно и волочился, можно сказать, за всеми женщинами. Исключение составляла и не пользовалась его вниманием только одна женщина — его супруга».
4
Странная рукопись все более завораживала Павла. Скорее интуицией, чем разумом, он начинал сознавать, что приближается к тому главному, ради чего она была написана. Однако, чем более чтение захватывало его, тем острее становилось ощущение, что перед ним — не дневник его матери, а захватывающий роман.
Кульминация его была выдержана в законах жанра. Во время заячьей охоты на островах, на даче у Чоглакова Салтыков уединился, наконец, с великой княгиней и раскрыл ей свое сердце. «Я не говорила ни слова; пользуясь моим молчанием, он стал убеждать меня в том, что страстно любит меня, и просил, чтоб я позволила ему быть уверенным, что я по крайней мере не вполне равнодушна к нему. Я отвечала, что не могу мешать ему наслаждаться воображением, сколько ему угодно. Наконец, он стал делать сравнения с другими придворными и заставил меня согласиться, что он лучше их; отсюда он заключал, что я к нему неравнодушна. Я смеялась этому, но в сущности он действительно довольно нравился мне. Прошло около полутора часов, и я стала говорить ему, чтобы он ехал от меня, потому что такой продолжительный разговор может возбудить подозрения. Он отвечал, что не уедет до тех пор, пока я не скажу, что неравнодушна к нему.
— Да-да, — сказала я, но только убирайтесь.
— Хорошо, я буду это помнить, — отвечал он и погнал лошадь, а я закричала ему вслед: нет-нет. Он кричал в свою очередь: да-да и так мы разъехались».
В тот же миг, разумеется, ударил гром, сделалась сильная буря. «Волны были так велики, что заливали ступеньки лестницы, находившейся у дома, и остров на несколько футов стоял в воде…
Он уже считал себя очень счастливым, но у меня на душе было совсем иначе: тысячи опасений возмущали меня; я была в самом дурном нраве в этот день и вовсе не довольна собой. Я воображала прежде, что можно будет управлять им и держать в известных пределах как его, так и самою себя, и тут поняла, что и то, и другое очень трудно или даже совсем невозможно».
5
Часы на камине гулко пробили четыре раза. Дверь со стороны секретарской с тихим скрипом полуотворилась, и в нее глянуло недоумевающее лицо камердинера Брессана. Не говоря ни слова, Павел сделал знак рукой, и дверь затворилась. Император был не в силах оторваться от рукописи, на страницах которой — он это чувствовал — вот-вот должна была открыться тайна его рождения.
Впрочем, об этом деликатном предмете говорилось осторожно, намеками, понять которые было возможно далеко не всегда. Павел внимательно вчитывался в строки, написанные размашистым решительным почерком, холодея от предчувствий, возвращаясь к уже прочитанным листам по несколько раз.
Адюльтер с Салтыковым был описан с откровенностью, которую можно было бы считать наивной, если не принимать во внимание, что автору манускрипта ко времени его написания было уже не двадцать лет. Разумеется, ухаживания Салтыкова не могли оставаться долго тайной для великого князя. Тот, впрочем, кажется, был не в претензии, будучи в то время влюблен во фрейлину Марфу Исаевну Шафирову, которая вместе со своей сестрой по приказанию императрицы была определена в свиту великой княгини. Салтыков, умевший вести интригу «словно бес», сдружился с этими девушками и через них выведывал, что великий князь говорит о нем, употребляя затем полученные сведения в свою пользу. Девушки были бедны, глупы и очень интересливы. В самое короткое время они обо всем стали рассказывать Салтыкову.
Впрочем, наверное, не только ему. В результате Салтыкову с Нарышкиным под предлогом болезни пришлось на некоторое время исчезнуть из столицы.
Досталось и Чоглаковым: брак великокняжеской четы длился уже семь лет, а детей у них все еще не было. Оправдываясь, Чоглакова вполне разумно отвечала, что «дети не могут родиться без причины». Это еще более распалило гнев императрицы, «ставшей браниться и сказавшей, что она взыщет с нее, почему она не позаботилась напомнить об этом предмете обоим действующим лицам».
Та немедленно принялась действовать. В Ораниенбауме была найдена хорошенькая вдова немецкого живописца мадам Гроот. «Ее в несколько дней уговорили, обещали ей что-то, потом объяснили, чего именно от нее требуется и как она должна действовать». Уяснив важность задачи, вдовушка согласилась, и ее познакомили с великим князем. Достигнув после многих трудов своей цели, Чоглакова доложила императрице, что «все идет согласно ее воле».
Между тем свидания Екатерины с Салтыковым продолжались, хотя он стал не так предупредителен, как прежде, сделался рассеян, взыскателен и легковерен.
В середине декабря 1752 года двор выехал в Москву. В дороге Екатерина почувствовала признаки беременности, оказавшейся, однако, неудачной — в феврале 1753 года у нее случился выкидыш.
Положение великой княгини стало опасным. Бесплодие супруги наследника престола считалось достаточным предлогом для расторжения брака. Тому было немало примеров.
В этих критических обстоятельствах Екатерина берет инициативу в свои руки. Следует сближение с могущественным канцлером Бестужевым-Рюминым, тот беседует с Салтыковым, Чоглаковой — и та возобновляет свои попечения о престолонаследии. Как-то, отведя великую княгиню в сторону, она откровенно говорит ей, что бывают положения, в которых интересы государственной важности обязывают переступить через благоразумие и привязанность к мужу.
«Я была несколько удивлена ее речью и не знала, искренне ли говорит она или только ставит мне ловушку. Между тем, как я мысленно колебалась, она сказала мне: «Вы увидите, как я чистосердечна и люблю ли я мое отечество; не может быть, чтобы кое-кто Вам не нравился; предоставляю Вам на выбор С. Салтыкова и Льва Нарышкина; если не ошибаюсь, Вы отдадите преимущество последнему». — Нет, вовсе нет, — закричала я. — Но если не он, — сказала она, — так наверное Салтыков. — На это я не возразила ни слова, и она продолжала говорить: «Вы увидите, что от меня Вам не будет помехи». — Я притворилась невинною, и она несколько раз бранила меня за это как в городе, так и в деревне, куда мы отправились после Святой недели».
6
В феврале 1754 года Екатерина почувствовала признаки новой беременности. В среду, 20 сентября, около полудня у нее родился сын, нареченный по воле Елизаветы Петровны Павлом. Ребенок был тут же забран бабушкой. Екатерина впервые увидела сына лишь на сороковой день после родов. После крещения новорожденного Елизавета сама пришла в комнаты великой княгини и принесла на золотой тарелке указ, повелевавший выдать ей сто тысяч рублей.
«Великий князь, узнав, что я получила от императрицы подарок, ужасно рассердился, отчего ему ничего не дали».
— Ракальи, — воскликнул Павел, с силой ударив ладонью по пюпитру. Лицо его побагровело от гнева. Едва владея собой, он оттолкнул пухлую пачку листов, читать далее не было сил. Тяжело отдуваясь и фыркая, император откинулся на спинку кресла.
Очнулся Павел оттого, что густая тьма за окнами побледнела. Светло-серый свет проник в кабинет со стороны Невы. Две из пяти свечей, догоравших в канделябре, потухли.
Взгляд императора вновь обрел осмысленность. Собрав дрожащими руками листы из прочитанной части рукописи, он перевернул их и вновь увидел два куска старой, пожелтевшей от времени бумаги, пришпиленные к первой странице.
На первом из них танцующим почерком то ли не шибко грамотного, то ли пьяного человека было написано:
«Матушка Милосердная Государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу; но, как перед Богом, скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть; но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка — его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на Государя! Но, Государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором, не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня, хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил; прогневили тебя и погубили души навек».[285]
Конец записки, где должна была стоять подпись, был оторван.
7
Павел позвонил — и тотчас в темноте дверного проема обозначилась фигура Брессана.
— Салтыкова ко мне, — глухо сказал Павел, не поворачивая лица к камердинеру.
Николай Иванович Салтыков появился немедленно — с половины шестого он был на ногах, готовясь достойно встретить первый день нового царствования.
Выйдя из-за стола, Павел поднял тяжелый взгляд и, шагнув вплотную к Салтыкову, спросил хриплым от сдерживаемого волнения голосом:
— Кто мой отец[286]?
— Покойный государь император Петр Федорович, — бесстрастно доложил Салтыков, будто ожидая этого вопроса.
После секундной паузы Павел шумно выдохнул воздух и вдруг успокоился. Повернувшись на каблуках, он проследовал к бюро и показал Салтыкову на листок пожелтевшей бумаги, который недавно изучал.
— Чей это почерк?
Едва взглянув на листок, Салтыков отвечал:
— Орлова. — И, немного помедлив, добавил, — Графа Алексея Григорьевича.
— Так я и думал, — произнес Павел и перевернул листок текстом к столешнице. Брови его были нахмурены, взгляд озабочен, но спокоен. Побарабанив пальцами по столу, как он всегда делал в минуты раздумий, император вновь остановил взгляд на Салтыкове и спросил:
— Кстати, куда подевались портреты батюшки? Велите разыскать.
Салтыков молча поклонился и вышел.
Через полчаса, убедившись, что императора уже нет в кабинете, лакеи внесли большой парадный портрет Петра III, пылившийся на чердаке среди ненужных вещей.
Салтыков распорядился повесить его на стене за письменным столом императора. Когда портрет был водружен на место и лакеи, толкаясь, вышли, Салтыков перекрестился на лик Спаса и, тяжело вздохнув, вымолвил:
— Господи, помилуй нас, грешных.
Действо пятое
Хотели как лучше, а получилось как всегда.
В. С. ЧерномырдинПервую ночь нового царствования чиновный люд Петербурга бодрствовал. Свечи в окнах Сената, других присутственных мест горели с раннего утра. Еще до рассвета весь город был на ногах, тревожно и озабоченно толкуя о разных новостях, вести о которых доносились из Зимнего дворца.
Утренние часы Павел провел, принимая доклады Безбородко, Архарова и Ростопчина. Выходя, докладчики приводили в действие многочисленных скороходов и курьеров, спешивших донести в разные углы столицы распоряжения нового императора. Павел фонтанировал идеями. Одному генерал-прокурору Самойлову, проведшему в его кабинете около часа, в этот и последующие дни было дано столько самых разнообразных поручений, что для исполнения их сенатские чиновники должны были трудиться три дня и три ночи кряду, не уходя домой.
Казалось, император задался целью в несколько дней коренным образом изменить весь ход государственных дел.
Лишь в десятом часу Павел покинул дворец для верховой прогулки по городу в сопровождении великого князя Александра. Осмотрели новые шлагбаумы, поставленные ночью вокруг дворца под наблюдением великого князя. Шлагбаумы и установленные рядом с ними будки были окрашены по-гатчински — в три цвета: черный, оранжевый и белый. Солдат, стоявших возле будок и бравших при виде императора на караул, за ночь одели в старопрусскую форму. Павел, знакомясь с нововведениями, удовлетворенно кивал головой.
Утро выдалось пасмурным. Шедший всю ночь снег сменился колючим осенним дождиком, косо моросившим из придавивших город свинцовых туч. С Невы порывами задувал промозглый ветер, рвавший с голов редких прохожих шляпы и треуголки. По причине дурной погоды или еще по какой иной улицы Петербурга были пустынны.
Въезжая на Дворцовую площадь со стороны Марсова поля, император изволил выразить великому князю свое благоволение. Александр, остававшийся всю ночь на ногах — он лично присматривал за установкой шлагбаумов, — облегченно вздохнул и пустил коня полурысью. Ему по должности генерал-губернатора столицы надлежало присутствовать на разводах и вахтпарадах, которые отныне, как в Гатчине, было приказано проводить каждый день.
Честь положить начало традиции дворцовых разводов, ставших с этого дня более чем на век — до отречения Николая II — главным ритуалом российского самодержавия, выпала на долю великого князя Константина. Измайловский полк, шефом которого он накануне был назначен, заступил на дежурство в Зимнем дворце в день кончины Екатерины. Переодеть всех солдат в гатчинские мундиры до 11 часов утра, времени, на которое был назначен развод, оказалось невозможно. Поэтому решили хотя бы постричь солдат по гатчинскому уставу.
А. П. Ермолов, начинавший службу в Измайловском полку, живо описал сцены, происходившие в то ноябрьское утро в полковых казармах. Солдаты, притихшие в предчувствии перемен, сидели на длинных скамьях дюжинами. Сзади них суетился взмыленный от усердия полковой парикмахер с помощниками. Один из них коротил длинными шведскими ножницами по установленному артикулу солдатские головы, подстриженные под горшок. Второй — густо намазывал их свечным салом, а когда оно застывало, поддевал под волосы железную проволоку, на которой у висков, закрывая уши, крепились войлочные прусские букли. На затылок, тоже на проволоке, подвешивалась косица длиною ровно вполовину сажени. Сам парикмахер, осмотрев преображенные головы измайловцев, посыпал их щедрым слоем пудры. Вставая со скамей, солдаты не могли удержаться от смеха, глядя друг на друга. Новые куафюры не то чтобы безобразили их, но делали до странности похожими друг на друга. Все солдаты вдруг стали на одно лицо.
Адъютанту великого князя Евграфу Комаровскому, явившемуся к нему в шестом часу утра, Константин приказал тотчас отправиться на Гостиный двор и приобрести там трости и перчатки с раструбами для офицеров. Комиссия оказалась весьма затруднительной: лавки в Гостином дворе отпирались с рассветом, а в ноябре рассветать начинало только около семи часов утра. К счастью, купцам в эту ночь не спалось. Впрочем, и офицеров в Измайловском, как и в других полках был некомплект. Одни находились в отпусках, часто весьма длительных, другие, имевшие высоких покровителей, отроду не показывались в полку, только числились в списках, третьи, устав от службы, подали в отставку.
В девятом часу палки и краги были розданы офицерам, солдаты выстроены, и капитан Талызин, руководимый великим князем, провел несколько репетиций. На шее Талызина поблескивал новенький Аннинский крест на узкой ленте, пожалованный ему императором в день восшествия. Солдаты, не привыкшие к новым командам, с трудом соображали, что от них требуется. Наконец, дело кое-как наладилось, и развод двинулся ко дворцу.
Когда развод остановился на Дворцовой площади, у бывшего чичеринского дома, великий князь приказал Комаровскому доложить Его величеству, что развод Измайловского полка построен и адъютант пришел за знаменем. Павел приказал было Комаровскому взять знамя — знамена всех гвардейских полков хранились в комнате, смежной с его кабинетом, — когда, увидев подпрапорщика огромного роста, спросил:
— А что, он дворянин?
— Никак нет, — отвечал Комаровский.
— Знамя должно быть носимо дворянином, — раздраженно сказал император, — а потому идите и приведите мне унтер-офицера из дворян.
Комаровский опрометью выскочил на площадь. Великий князь, ожидавший у главного подъезда, глядел на своего адъютанта удивленно, не понимая, отчего тот явился без знамени. Когда же узнал, в чем дело, то, как вспоминает Комаровский, «чрезвычайно огорчился допущенной промашке» и сказал ему, всплеснув руками:
— Да возьми хоть сержанта и поди скорее.
Комаровский так и сделал. Однако Павла в кабинете уже не было. Император пошел к императрице и через несколько минут вышел к разводу. На Дворцовой площади публики было немного. Обитатели столицы не ожидали, чтобы сам император, едва вступивши на престол, будет присутствовать при разводе.
Увидев солдат, подстриженных по-гатчински, и офицеров при разноцветных палках и крагах, Павел наклонил голову. Некоторые из офицеров, включая великого князя и Талызина, были в мундирах гатчинского образца.
Развод, однако, был омрачен прискорбным инцидентом.
На команду «Вперед, марш!», отданную Талызиным на гатчинский манер, гвардейцы, ожидавшие обычного «Ступай!», не реагировали. Константин, никогда не отличавшийся выдержкой, выскочил из-за спины Талызина и, рвя жилы, прокричал во всю силу легких:
— Вперед, марш!
Последовало нестройное движение, ряды перепутались.
Константин, пришедший в необыкновенное возбуждение, выскочил перед фронтом и вновь закричал:
— Что же вы, ракальи, не маршируете? Вперед, марш!
Гвардейцы как по наитию выполнили команду и пошли с площади, печатая шаг. В разъяренном взгляде Константина, обращенном им вслед, читались сильнейший гнев, смешанный с детским отчаянием.
Впрочем, император казался довольным разводом измайловцев. Он стоял на дворовом крыльце в простом темно-зеленом мундире, грубых ботфортах, держа под мышкой левой руки большую, слегка засаленную шляпу, которая, как он считал, придавала ему сходство с Фридрихом Великим. Время от времени он потаптывал ногами, чтобы согреться, одна его рука была заложена за спину, а другая, в которой зажата трость, мерно поднималась и опускалась под счет: «Раз-два, раз-два». За спиной императора поеживались великий князь Александр и адъютанты, также стоявшие на ноябрьском ветру в одних мундирах.
— Для первого раза неплохо, — милостиво сказал Павел Константину по окончании развода.
Лицо великого князя просияло. «Радость его была неизреченна», — вспоминал Комаровский.
Вторую половину дня Павел провел, обсуждая с Александром и Аракчеевым новую армейскую форму, которая должна была заменить люто ненавидимые им красные «потемкинские» шаровары, заправленные в короткие сапоги, короткие мундиры и маленькие каски, введенные в русской армии десять лет назад для удобства солдата. Форма шляпы, цвет плюмажа, который был заменен с золотого на серебряный, высота гренадерской шапки, сапоги, гетры, застегивать которые солдатам приходилось не менее часа, длина косичек и ширина портупеи обсуждались им с волнением и страстью неподдельными. Особое внимание было уделено цвету кокарды. Прежде она была белой, Павел же приказал делать ее черной с желтой каймой.
— Белый цвет, — пояснил он, — виден издалека и может послужить точкой прицела для врага. Черный же сливается с цветом шляпы, и враг будет всегда промахиваться.
Александр прилежно заносил слова отца в маленький блокнот, который отныне всегда носил при себе.
2
8 ноября жители Петербурга были возбуждены странной и неожиданной новостью. В этот день с раннего утра ходили по домам полицейские и объявляли повеление государя относительно одежды: всем, кроме купечества и простого народа велено было пудриться и носить косы, причем волосы зачесывать назад, но отнюдь не на лоб, никому не носить круглых шляп, сапог с отворотами и не иметь на башмаках завязок, вместо которых должны быть пряжки. При встрече на улицах с императорской фамилией все должны были останавливаться и делать поклон. Ехавшим в каретах предписывалось выходить из них, несмотря на грязь, и дурную погоду. Исключение было сделано только для дам, которые могли приветствовать императора со ступеньки своего экипажа. Офицерам запрещалось ездить в закрытых повозках. Только верхом, в санях или на дрожках.
Особый приказ был отдан по поводу офицерских галстуков. «Усмотря, — говорилось в нем, — во многом числе офицеров с окутанными шеями родом толстых белых платков или другого сорта вития наподобие, как бы одержимы были жабною болезнию и неприличного мундиру, а как бы и платок на шее распушенный, и затем никто с получения приказа да не осмелится так неприлично быть одету в мундире, ибо сие дозволительно и пристойно к утреннему платью или сюртуку, но немало приезжать во дворец или где долг звания требует, а иметь галстухи обыкновенные, белые, в толщину и в ширину обыкновенные. А буде бы кто из офицеров не хотел понять, какой галстух я прилично офицерской одежде полагаю, то может смотреть на своей роты солдат, держась того, или который он прежде на шее имел до возложения теперь многими употребляемого сего рода хомутиды, то и будет одет как был прежде по одежде своей, не так как в утреннем платье. Сему же те господа могут быть уверены, что и в тех местах, откуда сие перешло, конечно, ни один офицер с мундирами не только чтобы надевать, но и не мнил и, видя здесь, столь же странным это находит, как и всякий военного назначения служащий. К тому же должен сказать и то, одежда строевая не изменяется никогда по примеру первоезжего из чужих земель, но остается навсегда как предположено».
Одним словом, наведение порядка в Российской империи Павел начал со вторжения в частную жизнь своих подданных. Тлетворному французскому влиянию на вкусы и манеру одеваться петербургского образованного общества был противопоставлен прусский мундир, причем даже не времен Фридриха Великого, а его отца — Фридриха-Вильгельма I.
Исполнение высочайшего приказа было доверено Архарову, который приступил к делу с поразившим многих усердием. Человек двести полицейских, подкрепленных солдатами и драгунами, пустились по улицам Петербурга, срывая с прохожих круглые шляпы, у фраков отрезали отложные воротники, жилеты рвали по произволу капрала или унтер-офицера, возглавлявшего отряд архаровцев. К часу дня кампания была победоносно закончена. Толпы обывателей Петербурга брели в свои дома с непокрытыми головами и в разорванном одеянии.
Сопротивление осмеливались оказывать только иностранцы. С английского купца, проезжавшего по Невскому, сорвали шляпу. Думая, что его грабят переодетые разбойники, англичанин сбил с ног солдата и позвал стражу. Однако подошедший офицер приказал связать его и доставить в полицию. По дороге в участок купец, однако, имел счастье встретить карету английского посла и громко просил его о заступничестве. На жалобы посла Чарльза Витворта император, досадливо морщась, ответил, что его приказание, очевидно, плохо поняли и что он постарается лучше все объяснить Архарову.
На следующий день было объявлено, что на иностранцев, которые не состояли на русской службе или не приняли российского подданства, запрет носить круглые шляпы не распространяется. Архаров, получивший от императора выволочку, угомонился, но ненадолго. Тех, кто продолжал носить эти головные уборы, провожали в полицию, чтобы выяснить, кто они такие. Если задержанный оказывался русским, то его, как правило, забирали в солдаты. Француз, попадавшийся в таком виде, мог быть осужден как якобинец.
Ни в городе, ни при дворе не могли понять такого ожесточения против круглых шляп. Сардинский поверенный в делах имел неосторожность сказать, что в Италии для бунта не хватало как раз подобной безделицы. На следующий день он через Архарова получил приказ покинуть столицу в 24 часа.
Столь же необъяснимым казалось запрещение запрягать лошадей в сбрую по русскому образцу. Отведено было две недели для того, чтобы достать немецкую упряжь, после чего полиции было предписано отрезать постромки у экипажей, которые оказывались запряженным на старинный лад. В первые же после объявления этого указа дни центральные улицы опустели. Жители столицы, опасаясь быть оскорбленными, не отваживались выезжать в прежних каретах. Радовались только шорники, которые, пользуясь случаем, заламывали по триста рублей за простую сбрую на пару лошадей.
Пересадить форейторов с правой пристяжной, на которой они ездили испокон веку, или одеть русских извозчиков по-немецки оказалось не менее затруднительным. Большая часть кучеров не хотела расставаться ни с длинной бородой, ни с кафтаном и тем более — подвязывать искусственную косу к остриженным волосам. Император к досаде своей был вынужден в конце концов изменить этот суровый приказ на скромное предложение выезжать по-немецки, если кто желает заслужить его милость.
Справедливости ради надо признать, что поспешные и невразумительные распоряжения Павла, отдававшиеся обычно при разводе, сначала искажались боявшимися переспросить дежурными офицерами, а затем и превращались в полную нелепость благодаря тупой исполнительности людей вроде Архарова. Когда весной 1797 года Павел отправился в поездку по Остзейским губерниям, Архаров, желая приготовить императору приятный сюрприз, приказал всем без исключения обывателям столицы окрасить ворота своих домов и даже садовые заборы полосами черной, оранжевой и белой краски, на манер казенных шлагбаумов. Выполнение этого смешного приказания повлекло огромные расходы. Со всех сторон раздавались крики негодования. Павел по возвращении был поражен комическим однообразием казенных и частных построек.
— Что же я, дураком что ли стал, — гневно воскликнул он, — чтобы отдавать подобные приказания!
17 июня 1797 года Архаров был заменен графом Буксгевденом, протеже Марии Федоровны, женатым на подруге Нелидовой.
Тем не менее роскошные экипажи, кишевшие на широких петербургских улицах исчезли, будто их и не было. Офицеры и даже генералы предпочитали прибывать на вахтпарады в небольших санях или пешком. Завидя императора, все, вне зависимости от положения, останавливались и вставали на колено в снег или грязь. Встреча с Павлом пешком или в карете стала устрашающим событием.
Торговцам всей необъятной страны было строго предписано стереть на вывесках французское слово «магазин» и написать русское слово «лавка». Обосновывалось это тем, что один лишь император мог иметь магазины (склады) топлива, муки, зерна, но ни один купец «не смел подниматься выше своего состояния». Академии наук было направлено повеление не пользоваться термином «революция», говоря о движении звезд, а актерам предписано употреблять слово «позволение» вместо слова «свобода», которое они ставили в своих афишах. Фабрикантам запрещалось изготовлять какие бы то ни было трехцветные ленты и материи.
Столь же суровым, как и на улицах столицы, этикет сделался и во внутренних покоях дворца. Обер-церемониймейстер строго следил за тем, чтобы допущенные к поцелую руки императора падали на колено со стуком ружейного приклада, ударяющегося о землю. Необходимо было также, чтобы прикладывающийся к руке делал это не так, как гвардейский офицер влепляет «безешку» французской актрисе, а с чувством, смыслом и, главное, отчетливым звуком. За небрежный поклон и беззвучный поцелуй камергер князь Григорий Голицын был отправлен под арест. На придворных балах танцующим нужно было постоянно следить за тем, чтобы быть обращенным к Его величеству лицом, где бы он не находился.
Придворные повиновались с обычной покорностью и даже громко прославляли нововведения. Дома же, в дружеском кругу, полушепотком, называли меры по наведению порядка «затмением свыше».
3
И все же, все же…
«Милости и благодеяния; пламенное желание быть любимым… Заботливость, внимание», — так сообщал Федор Ростопчин вскоре после кончины Екатерины графу Воронцову первые впечатления, произведенные новым царствованием.
Андрей Болотов, живший под Тулой и тщательно собиравший известия и анекдоты о новом государе, был того же мнения:
«Нельзя почти исчислить все те милости, которые оказал государь многим частным людям в первейшие дни своего царствования и во все почти течение ноября месяца. Не проходило ни единого дня, в который бы не пожалованы были многие как в знатные великие чины и достоинства, так следственно и нижние и как по военной, так и по штатской и придворной службе. Не было ни единого дня, в который бы не сделано было распоряжений и реформ как по воинским и другим служениям. Всякий день производил он многим радости, а того множайших приводил бдительностью, трудолюбием и расторопностью своей в удивление и в живность. Благоразумными своими поступками удалось ему в немногие дни вперить в сердца всех почти подданных к себе любовь и усердие к повиновению и угождению себе. Некоторые строгости, употребленные им по необходимости, были очень кстати и производили удивительное действие и во всех быструю перемену. Все почти оживотворились и забывали почти себя и метались всюду и всюду желали угодить государю».
Золотой дождь наград и милостей пролился, прежде всего, на гатчинских сподвижников Павла. В первый же вечер царствования он назначил своими адъютантами генерал-майоров Плещеева и Шувалова, бригадира Ростопчина, полковника Кушелева, майора Котлубицкого. На другой день бригадиры Ростопчин и Донауров, полковники Кушелев, Аракчеев и Обольянинов произведены были в генерал-майоры. Никто из лиц гатчинского двора не остался без награды.
Служебные отличия сопровождались и щедрой раздачей поместий. Вошедшие еще в Гатчине в ближний круг Павла Плещеев, Кушелев, Донауров, Ростопчин, Аракчеев и Обольянинов получили по две тысячи душ. Столько же было пожаловано и матери Нелидовой, вдове Анне Александровне, проживавшей в Смоленской губернии. Бригадиру Кологривову, библиотекарю Марии Федоровны Николаю, лейб-медику Беку и гардероб-мейстеру Кутайсову было дано по полторы тысячи душ. Персонам рангом пониже — Каннабиху, Давыдову, Малютину, Недоброму, Грузинову, Котлубицкому — досталось по тысяче душ. Бригадиру Линденеру, имевшему несчастье как-то навлечь на себя немилость Павла, — восемьсот душ. Всего в декабре было роздано пятьдесят тысяч душ казенных крестьян. Такая щедрость проистекала не только из страстного желания быть любимым, но и из убеждения Павла о том, что под властью помещиков казенные крестьяне будут более обеспечены в своих нуждах, нежели под надзором чиновников. Поговаривали, правда, что такая заботливость была навеяна Павлу воспоминанием о пугачевском бунте.
Большое впечатление в обществе произвело и великодушие, с которым Павел на первых порах отнесся к видным деятелям прежнего царствования. Он оставил на службе не только Н. И. Салтыкова, Н. В. Репнина и И. Г. Чернышева, и прежде пользовавшихся его расположением, но и оказал знаки милости Безбородко и Зубову, не ждавших от нового императора ничего хорошего. Безбородко был назначен вице-канцлером, возведен в первый класс, что по Табели о рангах уравнивало его с фельдмаршалами.
Еще более удивительно, принимая во внимание высокомерное, а нередко и оскорбительное отношение Платона Зубова с бывшим наследником престола, поступил он с последним фаворитом своей матери. Уже через несколько дней по восшествии Павел приказал купить на Морской улице большой дом и отремонтировать его. Накануне дня рождения Зубова он послал сказать, что дарит ему этот дом вместе со всем убранством, столовым золотым прибором, экипажами и лошадьми. На другой день он с Марией Федоровной приехал в новую резиденцию Зубова, пил с ним шампанское за его здоровье и кушал чай, который разливала сама императрица. Зубов прослезился, когда Павел сказал ему:
— Кто старое помянет, тому глаз вон.
Николай Зубов, первым посетивший Павла в Гатчине с известием о кончине Екатерины, был награжден Андреевской лентой; вице-канцлер Остерман возведен в ранг канцлера, посол в Лондоне Семен Воронцов, очевидно, по рекомендации своего друга Ростопчина сделан полным генералом.
Не было обойдено вниманием и высшее духовенство. Митрополит Гавриил получил орден Св. Андрея, а архиепископы Тверской Амвросий и Псковский Иннокентий — Александра Невского. Андреевский орден император желал возложить и на Платона, который, однако, уклонился от этой чести, выразив мнение о несовместимости светских наград с духовным саном. Павел разгневался и сменил гнев на милость только во время коронации в Москве, где Платон выступил с растрогавшей его речью.
Впрочем, награждение иерархов церкви светскими орденами было не единственным нестандартным поступком Павла, совершенным в первые дни царствования. Как ударом грома, поражен был двор призывом в Петербург из ревельской ссылки Алексея Бобринского, сына Екатерины и Григория Орлова. В Петербурге Бобринский был принят необычайно милостиво и сразу же возведен в потомственное графское достоинство. Павел назначил его шефом 4-го эскадрона Конногвардейского полка, пожаловал в Петербурге дом, принадлежавший прежде Григорию Орлову, и предоставил поместья в Тульской губернии, обещанные, но не отданные ему покойной императрицей, недовольной рассеянным образом жизни, который вел Бобринский и его огромными карточными долгами. Довершил Павел исполнение «долга чести» по отношению к Бобринскому, представив его придворным как своего двоюродного брата и пригласив являться во дворец к семейному столу, когда он пожелает.
Очень внимательно отнесся Павел и к солдатам (но не офицерам) старых гвардейских полков, которым единовременно было выплачено в трехкратном размере жалование. Были повышены чином все старые кавалергарды, им было предоставлено право выбрать род и место дальнейшей службы, поскольку по прошествии шести недель от кончины Екатерины их служба во дворце прекращалась.
Щедро награждена была и комнатная прислуга покойной государыни. Один только камердинер Секретарев, известный своими связями с Потемкиным, подвергся ссылке в Оренбург. Камер-фрау Перекусихина и Захар Зотов при увольнении от придворной службы получили: первая — пожизненную пенсию в тысячу двести рублей, а впоследствии еще и поступивший в казну дом бывшего придворного банкира Сутерлянда и четыре с половиной тысячи десятин казенной земли в Рязанской губернии, второму было выдано единовременно пять тысяч рублей и повелено определить его на службу «по его способностям с оставлением до определения прежнего содержания». Дальнейшая судьба Зотова, впрочем, была печальна: он окончил свои дни в сумасшедшем доме.
В начале декабря по приказу Павла были освобождены лица, содержавшиеся при Тайной экспедиции, в том числе знаменитый прорицатель Авель, предсказавший кончину императрицы Екатерины. Новому президенту Военной коллегии фельдмаршалу Н. И. Салтыкову было повелено «всех нижних воинских чинов, где-либо под судом и следствием находящихся, кроме тех, кто по смертоубийству и похищению казенного интереса и утрате его и по подобным тому важным преступлениям содержится, немедленно из-под стражи освободить и для продолжения службы определить их в оную по-прежнему».
26 ноября Павел в сопровождении великих князей Александра и Константина приехал в Мраморный дворец, где под домашним арестом жил вождь варшавского восстания Тадеуш Костюшко. Войдя к нему, Павел сказал:
— Я долго не мог ничего для вас сделать и только сожалел о вашей участи. Счастлив, что даруя вам свободу, хоть сколько-нибудь могу вас вознаградить за все, что вы претерпели. вы свободны, я сам хотел принести вам эту утешительную весть.
Костюшко был так поражен, что в первые минуты не мог найти слов, чтобы ответить императору. Павел, желая ободрить его, сел подле знаменитого пленника и принялся разговаривать с ним с необыкновенной добротой. Первый вопрос Костюшко касался судьбы других польских пленных.
— Без сомнения, — отвечал император, — они будут освобождены, хотя не скрою, в Совете многие были против освобождения Потоцкого и Нимцевича[287].
— За Нимцевича я ручаюсь, — сказал Костюшко. — Но за Потоцкого, не переговорив с ним, не могу дать слово.
— Мне нравится ваша осторожность, — ответил Павел. — Можете сейчас же ехать и переговорить с Потоцким.
Костюшко просил императора позволения уехать в Североамериканские соединенные штаты, Павел тотчас же изъявил согласие, прибавив:
— Я дам вам средства доехать туда самым удобным образом.
Перед уходом великий князь Александр, расположенный к полякам под влиянием частых бесед со своим близким другом Адамом Чарторыйским, с чувством обнял Костюшко.
Все пленные поляки были немедленно освобождены. Перед отъездом в Америку Костюшко явился благодарить Павла. Император в присутствии всей императорской фамилии принял его самым ласковым образом. Для путешествия Костюшко была специально изготовлена дорожная карета, предоставлено столовое белье, прекрасная соболья шуба и посуда, не считая денежной суммы, необходимой для путешествия. Прощаясь, Мария Федоровна просила прислать для нее из Америки огородных семян и подарила Костюшко собрание камей собственной работы, изображавших портреты всего ее семейства.
Однако финал этой истории, как, впрочем, и многих других добрых начинаний доброго императора, оказался трагикомическим.
Прибыв в Америку, Костюшко сразу же возвратил Павлу дарованные ему денежные суммы, сопроводив их резким письмом. Вот его текст:
«Ваше Величество! Пользуясь первыми минутами свободы, которые я вкусил под охраной законов величайшей и великодушнейшей нации в мире, чтобы возвратить Вам подарок, который мнимая доброта Ваша и вероломное поведение Ваших министров заставили меня принять. Будьте уверены, Ваше величество, что я согласился на это единственно из глубокой привязанности к моим соотечественникам, к товарищам моим по несчастью и в надежде, что мне удастся, быть может, послужить еще моей родине…»
Жест Костюшко дорого обошелся его соотечественникам. Павел возненавидел поляков.
4
Мысль о перенесении праха Петра III из Александро-Невской лавры и одновременном погребении Екатерины и ее супруга в Петропавловской крепости возникло у Павла в первый день его царствования.
В субботу, 8 ноября, в восемь часов утра было произведено вскрытие тела императрицы и бальзамирование его. Процедура эта длилась четыре часа и к полудню была окончена. При вскрытии было обнаружено, что смерть последовала от кровоизлияния в обе половины мозга: с одной стороны кровь была черная, густая, свернувшаяся в виде печенки, с другой — жидкая. Нашли также два желчных камня.
В тот же день, к вечеру, архимандритом Александро-Невской лавры в присутствии митрополита Гавриила была вскрыта могила Петра III. Гроб вынули из могилы и поставили в Благовещенской церкви.
На следующий день, 9 ноября, Павел подписал следующий указ:
«Нашим тайным советникам князю Юсупову, обер-церемониймейстеру Валуеву, и действительному статскому советнику Карадыкину.
По случаю кончины любезнейшей родительницы нашей, государыни императрицы Екатерины Алексеевны, для перенесения из Свято-Троицкого Александро-Невского монастыря в соборную Петропавловскую церковь тело любезнейшаго родителя нашего блаженныя памяти государя императора Петра Федоровича, для погребения тела Ея императорского величества в той же соборной церкви и для наложения единовременно траура учредили мы Печальную комиссию, в которую назначив вас к присудствию повелеваем все вышеописанное распорядить с подобающим уважением к особам Государским, и составя обряды тому сообразные нам представить.
На подлинном подписано собственною Ея императорского величества[288] рукою тако:
Павел»[289].
Появление этого указа любопытно само по себе. Дело в том, что Печальная комиссия во главе с князем Николаем Борисовичем Юсуповым была назначена устным распоряжением Павла сразу же после кончины Екатерины. Сохранившаяся в Российском государственном архиве древних актов «Книга исходящих бумаг по Печальной комиссии 1796 года ноября с 7-го по 27-ое число декабря»[290] свидетельствует о том, что уже 7 ноября, в первый день своей работы, Комиссия отдала девять распоряжений петербургскому полицмейстеру Архарову и другим официальным лицам. Среди них — запрещение петербургским купцам продавать частным лицам черную материю — фланели, сукна, флеры, — все наличные запасы которой приобретались для драпировки внутренних покоев дворца и пошива траурной одежды. Придворной конторой были закуплены все наличные запасы золотой и серебряной парчи и черного бархата. Из Александро-Невской лавры было приказано доставить находившиеся в Благовещенской церкви латы и кольчуги, из Адмиралтейства — «два меча и штандарт, оставшиеся с похорон Елизаветы Петровны».
Одно из первых распоряжений главы Печальной комиссии князя Н. Б. Юсупова касалось доставки из Москвы в Петербург императорских регалий, которые предполагалось нести во время траурного шествия. Однако записка Павла московскому главнокомандующему М. Н. Измайлову об «отпуске императорских регалий и прочих вещей по присланному реестру», направленному из столицы статскому советнику Львову, датирована 9 ноября. Логично предположить, что именно в эти два дня у Павла окончательно оформилась идея о двойном захоронении и реестр затребованных в Москве царских реликвий был расширен.
Официальное публичное оповещение о предстоявшем совместном погребении Екатерины II и Петра III было сделано, насколько удалось установить, только 30 ноября, хотя неоднократные торжественные посещения Павлом со всей императорской фамилией Александро-Невской Лавры и состоявшееся 25 ноября перенесение праха Петра III в Зимний дворец ясно обнаруживали намерения императора. Намерения эти, коренным образом расходившиеся с традициями православия и общепринятыми нормами морали, повергли столицу в глубокий шок. В них увидели неуважение к памяти матери и великой государыни и попытку отомстить за 28 июня.
Действительно, с участниками июньского переворота 1762 года и тем более «ропшинского действа», завершившегося гибелью Петра III, Павел не церемонился. Князь Федор Барятинский, один из четырех или пяти гвардейских офицеров, охранявших Петра III в Ропше, был, как мы видели, удален из столицы и выдворен со службы, лишь только был замечен во дворце. Пассек, бывший в последние годы царствования Екатерины белорусским губернатором, узнав о болезни императрицы, собрался было в Петербург, но на следующий день после ее кончины получил через генерал-прокурора Самойлова повеление оставаться в порученных ему губерниях. Через месяц он был отставлен от службы. Княгине Екатерине Дашковой, проживавшей в Москве, было объявлено, чтобы она «напамятовав происшествие, случившееся в 1762 году, выехала из Москвы в дальние деревни». Такая же участь постигла и отставного генерала М. Н. Измайлова, любимца Петра III, которому он изменил в критическую минуту.
На адъютантов Петра III, остававшихся верными ему во все царствование Екатерины, пролились нежданные милости. А. В. Гудович, удалившийся после его смерти в свои малороссийские деревни, был вызван в Петербург следующим письмом: «Андрей Васильевич! Сыну платить долг отца своего. Я никогда сего перед Вами не забывал. Исполняя сие, призываю Вас сюда. Будьте ко мне, как Вы были к отцу. А я, можете думать, благосклонный к Вам Павел».
Явившегося в столицу Гудовича Павел произвел, указывая на висевший в его кабинете портрет Петра III, из генерал-майоров в генерал-аншефы и надел на него Александровскую ленту. Такие же награды получили и другие адъютанты Петра III, находившиеся в отставке: барон Унгернтернберг, Андрей Гаврилович Чернышев и князь Иван Федорович Голицын.
Не был забыт и находившийся в отставке капитан гвардии в отставке Петр Иванович Измайлов. 28 июня 1762 года, когда гвардейцы переходили на сторону Екатерины, он, командуя ротой Преображенского полка, удерживал солдат от измены. Павлу это было известно и через десять дней после вступления на престол он вызвал его к себе, послав при этом Аннинский крест.
Измайлов, дряхлый старик, был представлен Павлу на вахтпараде.
— Здесь тебе, Петр Иванович, холодно, — сказал ему заботливо император. Пойди наверх и будь всегда у меня, как дома.
— Государь, вы меня воскресили, но я уже не в состоянии служить Вашему величеству, — отвечал Измайлов.
— Ты, Петр Иванович, тому служил, кто мне всего дороже, — ответил Павел и произвел Измайлова из капитанов сразу в генерал-майоры.
Все эти факты хорошо известны. И все же, думается, что мотивы, побудившие Павла организовать совместное погребение матери и ее супруга, имели более глубокую и значимую для него подоплеку — стремление утвердить легитимность своего восшествия на престол в глазах всей России и иностранных держав. Имеются достаточно веские свидетельства того, что к тому времени Павел уже прочел знаменитую IV редакцию «Записок» своей матери, в которых вполне недвусмысленно намекалось на то, что его отцом был не император Петр III, а Сергей Салтыков. Отсюда — бросающаяся в глаза фраза в указе от 9 ноября, в которой Петр III именуется «любезнейшим родителем нашим блаженные памяти государем императором Петром Федоровичем».
Акцент на отдание долга памяти «любезнейшему родителю» — лейтмотив всех действий Павла в ноябре — декабре 1796 года. Вполне допустимо, что сомнения относительно отцовства Петра III отравляли ему жизнь задолго до воцарения, хотя сохранились и сведения о том, что еще с 1764 года Павел, в том числе в беседах с иностранными дипломатами, обнаруживал полную осведомленность в ропшинском убийстве и с детской непосредственностью обещал отомстить за смерть того, кого он считал своим отцом. Известно и свидетельство Ф. Г. Головкина о том, что еще в 1773 году во время так называемого «кризиса совершеннолетия» некто иной, как Н. И. Панин якобы открыл ему глаза на то, что он является наследником престола «только по милости Ее величества благополучно царствующей императрицы»[291]. А. С. Пушкин в своих «Тайных заметках по истории XVIII века» привел рассказ Н. А. Загряжской о том, что Павел спрашивал И. В. Гудовича, жив ли его отец. В этом вопросе, вне зависимости от степени его достоверности, трудно не заметить отголоски тех сложных чувств, которые владели Павлом, в то время как в оренбургских степях буйствовал, грозясь «придти на подмогу своему сыну», Лже-Петр III — Пугачев.
Одним словом, вряд ли приходится сомневаться в том, что у Павла задолго до воцарения сформировался образ Петра III как страдальца, жертвы честолюбия его матери. Такой же жертвой он считал и себя, будучи убежден в том, что если бы Петр III остался в живых и его царствование продолжалось, то и его собственная жизнь сложилась бы иначе.
Однако другой, неизмеримо более важной стороной вопрос о судьбе Петра III мог обернуться для Павла только после прочтения «Записок» его матери. Зная о планах матери устранить его от престола, Павел должен был подозревать, что прочесть их, по замыслу Екатерины, ему предстояло в качестве узника замка Лоде. С учетом этого обстоятельства не будет натяжкой предположить, что глаза на существование дилеммы — Петр III или С. Салтыков — во всем ее судьбоносном, династическом значении открылись у Павла только после того, как он получил доступ к бумагам лежавшей в агонии императрицы. Отсюда — очевидная импульсивность решения о двойном захоронении, но и — железная решимость в проведении его в жизнь.
Тяжесть ответственности за принятие подобного решения легла, скорее всего, на плечи одного Павла. Ни в богатой мемуарной литературе начала его царствования, ни в частной переписке близких ко двору лиц нет и намека на то, что этот вопрос обсуждался Павлом с кем-либо из его советников.
Петр III, как известно, не был коронован. Это обстоятельство послужило формальным предлогом для того, чтобы не хоронить его в Петропавловском соборе — официальной усыпальнице российских государей. Тем не менее погребение его в Александро-Невской лавре, где покоились члены императорской фамилии, не правившие государством, ясно указывало на отношение Екатерины к шестимесячному правлению ее супруга.
На похоронах отца, погребенного 10 июля 1762 года в Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря, Павел, которому в то время было восемь лет, не присутствовал. На траурную церемонию, состоявшуюся в начале дня, когда нельзя было ожидать большого стечения публики, были приглашены только особы первых пяти классов, ставшие как бы официальными свидетелями того, что бывшего императора уже нет в живых.
Накануне похорон Н. И. Панин вместе с К. Г. Разумовским обратились в Сенат, с предложением просить императрицу не принимать в них личного участия «ради сохранения своего здравия». Сенаторы, разумеется, немедленно явились толпой «во внутренние Ее величества покои и раболепнейше просили дабы Ее величество шествие свое в Александро-Невский монастырь отложить изволило. И хотя Ее величество долго тому свое согласие не оказывали, то напоследок, имея неотступное своего Сената рабское и всеусерднейшее прошение, намерение свое отложить благоволило».
По некоторым сведениям, Н. И. Салтыков, которому Павел первому объявил о своем намерении поклониться праху отца, отдать ему царские почести, которых он был лишен при жизни, и перенести прах его в усыпальницу членов императорской фамилии, похоронив рядом с матерью, посоветовал предварительно узнать мнение митрополита Гавриила.
Митрополит возражал против того, чтобы тревожить прах Петра III, сославшись на слова пятой заповеди: «Чти отца твоего и матерь твою».
— Именно это я и делаю, — отвечал или мог ответить Павел.
9 ноября в придворной церкви Зимнего дворца была отслужена панихида «по покойным родителям царствующего государя».
На следующий день, 10 ноября, Павел одобрил подготовленный обер-церемониймейстером Валуевым церемониал переноса тела Екатерины из опочивальни в Тронную, а затем — в Траурную залу, которую было решено устроить в Большой галерее[292].
13 ноября был конфирмован порядок ношения траура «по Их императорским величествам блаженной и вечной славы достойным памяти великом государе Петре Феодоровиче и великой государыне императрице Екатерине Алексеевны»[293]. Траур объявлялся на год, начиная с 25 ноября, когда в Большую галерею должен был быть перенесен гроб с телом Екатерины.
Публичное объявление, сделанное по этому поводу, в полной мере обнаруживало намерение нового императора самым тщательным образом регламентировать мельчайшие детали траурного церемониала. «Ее императорское величество, — говорилось в нем, — соизволит носить глубокий траур — ратинное печальное Русское платье с крагеном, рукава длинные, около рукавов плюрезы, на шее особливой черной плоской краген с плюрезами, а шемизетка из черного крепа, шлейф в четыре аршина, на голове уборы из черного крепа с черною глубокою повязкою и с двойным печальным капором, один с шлейфом, а другой покороче, черные перчатки, веер, чулки и башмаки; а когда Ее императорское величество к телам Их величеств шествовать изволит, так же и в день погребения, тогда соизволит иметь на голове большую креповую каппу, так чтоб все платье закрыла». Великим княгиням предписывалось носить «то же самое одеяние, с той разницей, что шлейф Их должен быть длиною только три аршина».
С не меньшей тщательностью, по кварталам, были расписаны все детали траурных туалетов, которые предписывалось носить «персонам мужского и женского пола первых четырех классов».
Особого внимания удостоились военные, которым надлежало «во время глубокого траура в первом и втором кварталах носить мундиры, а камзолы, штаны и чулки черные, флер на шляпах, аксельбанты, кисточки на шляпах и терлаки обвертывать флером, и флер на левой руке, кроме тех дней, когда бывают на карауле, или перед фрунтом, в таком случае и в первом, и во втором кварталах означается траур вышепоказанных классов тем же, за исключением камзолов и штанов, которым быть мундирными».
5
10 ноября в столицу вступили гатчинские батальоны.
Встреча им была приготовлена парадная. Около полудня все гвардейские полки начали строиться на Дворцовой площади. Павел, вышедший в мундире Преображенского полка новой формы, внимательно наблюдал за прохождением гвардейцев и, казалось, был недоволен тем, что видел. Он отдувался, пыхтел, пожимал плечами, качал головой — словом, всячески демонстрировал свое неудовольствие.
Наконец, на площади показался, разбрызгивая грязь, верховой. Это был поручик Радьков, гатчинец, посланный с донесением о том, что павловские воспитанники прибыли к заставе. Собственноручно надев на Радькова за добрую весть орден Св. Анны II класса и назначив его адъютантом к наследнику, император отправился им навстречу.
Через час показалось гатчинское воинство. Солдаты были в коротких мундирах с лацканами, в черных штиблетах, на гренадерах высокие шапки, а на мушкетерах — маленькие треугольные шляпы без петлиц, с одною пуговкой. На офицерах — поношенные мундиры старопрусского покроя. Цвет их первоначально был темно-зеленый, но от долгого употребления они полиняли и выглядели порыжелыми.
Медленным и размеренным маршем, громко отбивая шаг, приближались гатчинцы к Дворцовой площади. Впереди первого полка, составленного из двух батальонов гренадер, ехал сам император; во главе второго — великий князь Александр Павлович, а перед третьим — Константин. Вступив на площадь, гатчинцы остановились перед екатерининскими гвардейцами: первый полк перед Преображенским, второй — перед Семеновским, третий — перед Измайловским.
Когда войска выстроились таким образом, император Павел обратился к прибывшим со словами:
— Благодарю вас, друзья мои, за верную мне службу. В награду вы поступаете в гвардию, господа офицеры чин в чин.
Гатчинским знаменам была отдана честь обычным порядком, затем их отнесли во дворец. Великим князем Александром был оглашен приказ императора о зачислении батальонов государя и Аракчеева в Преображенский полк, Александра и подполковника Недоброго — в Семеновский, великого князя Константина и подполковника Малютина — в Измайловский. Егерская команда была определена в егерский батальон, вся кавалерия зачислена в конную гвардию, а артиллерия вошла в состав лейб-гвардии артиллерийского батальона, сформированного из старых гвардейских полков.
После команды «вольно» великие князья с искренней радостью обняли своих товарищей. Старые же гвардейские офицеры стояли с унылыми лицами. Лица и манеры их новых сослуживцев не могли не казаться им странными.
«Иначе и быть не могло, — вспоминает Комаровский, — ибо эти новые товарищи были не только безо всякого образования, но многие из них развратного поведения, некоторые даже ходили по кабакам, так что гвардейские наши солдаты гнушались быть у них под командой».
Образ жизни гвардейцев совершенно переменился. Через десять дней, 20 ноября, были введены в действие новые уставы о воинской службе: два для конной и один для пехотной части. Заимствованные почти дословно из прусских уставов, они были полны немецкого педантизма и самых бесполезных и утомительных мелочей. По этим уставам под руководством гатчинцев, в совершенстве уже овладевших плац-парадной наукой, началось переучивание войск, для чего во все концы империи были отправлены гатчинские генералы и полковники.
Тяжела стала служба. Вдали от Петербурга, в провинциях, хотя и не без тягости, но все-таки еще кое-как справлялись с нововведениями. К тому же среди гатчинских инструкторов попадались люди, которые, несмотря на предоставленную им власть, умели умерять свои порывы. В Петербурге же, где все происходило на глазах Павла, не пропускавшего ни одного вахтпарада, ни одного назначенного им учения, каждое лыко шло в строку: за нарушение равнения, неравномерность шага, отступление от формы обмундирования виновные исключались из службы, заключались в крепость, а то и ссылались в Сибирь. Аресты считались легчайшим наказанием.
Чтобы облегчить офицерам усвоение тонкостей новых уставов, император приказал Аракчееву образовать для них в одной из дворцовых зал «тактический класс». Преподавал в нем гатчинский полковник Каннабих, излагавший на ломаном полунемецком, полурусском языке гнусные подробности плац-парадной и караульной службы. Император ежедневно являлся на эти лекции, обращался к присутствующим офицерам и задавал им вопросы. Ему нравилось, когда эту незатейливую аудиторию посещали старые екатерининские генералы.
Кроме того, на собственном опыте Павел давно усвоил, что учения и маневры отвлекают умы военных от «рассуждений, часто неприятных». За стремлением держать войска в напряжении, не давать им пребывать в праздности скрывались, надо думать, и вполне определенные опасения: на первых порах по приказу Павла командам, выходившим на развод, не выдавались боевые заряды.
Весьма похоже на скрытое недоверие было и внимание, которое Павел на первых порах проявлял к великим князьям Александру и Константину. Он повысил выделяемое сыновьям содержание с тридцати до ста тысяч рублей в год, однако дни великих князей были загружены мелочами военной службы так, что даже на свидания с женами у них оставалось не более часа в сутки.
Другой стороной действий нового императора по наведению дисциплины в войсках были давно задуманные им коренные преобразования всех армейских порядков. Томясь вынужденным бездельем в Гатчине, Павел имел достаточно времени, чтобы глубоко вникнуть в положение армии или, как говаривал он, «приуготовиться к искоренению вкравшихся в нее злоупотреблений».
Некоторые перемены по военной части действительно назрели. Екатерина, стоявшая выше педантизма в военной службе, не вникала в детали военной администрации и мелочей военного быта. Вся полнота власти по этой части была предоставлена Военной коллегии, которая в свою очередь многое оставляла на волю и произвол армейских начальников. Полковые списки были переполнены лицами, которые только числились на службе, но не несли никаких обязанностей. Полковые командиры употребляли солдат для своей надобности как крепостных в своих поместьях, а то и отдавали в услужение частным лицам, причем заработки брали себе. Деньги и провиант, отпускавшиеся для солдат, доходили до них в лучшем случае наполовину, остальное шло в карман ближайших начальников. Естественно, при таком положении дел не могло идти и речи о поддержании более или менее строгой дисциплины и субординации.
Уже на вахтпараде 8 ноября, на второй день царствования, император повелел исключить из полковых списков всех числившихся, но в действительности не исполнявших обязанности военной службы, как то: камергеров, камер-юнкеров и т. п., а затем распорядился, чтобы все гвардейские офицеры, находившиеся в отпуску немедленно явились бы к своим полкам.
Наверное, ни одно распоряжение нового государя не произвело такого потрясающего впечатления, как этот приказ гвардейцам явиться на службу.
«Слух о сем повелении, — вспоминал Болотов, — распространился, как электрический удар, в единый почти миг по всему государству и, подобно ему, произвел на всех потрясение. Не было ни единой губернии, ни единого уезда и ни единого края и угла в государстве, где бы не было таких отлучных и находящихся в отпусках… Нельзя изобразить, какое повсюду началось скакание, какое горевание и сетование от всех из числа отлучных сих. Многие живущие на свободе в деревнях даже поженились и нажили детей себе и сих также имели в гвардию записанных и в чинах унтер-офицеров, хотя и сами еще не несли никакой службы. Все таковые сходили с ума и не знали, что им делать и как явиться перед лицом монарха… со всем тем повеление государево должно было выполнить. Повсюду они были отыскиваемы и высылаемы, и все почти, хотя с крайним сожалением, но принуждены были ехать и отправлять детей своих в случае, когда самим было неможно, с матерями или сродниками их. Все большие дороги усеяны были кибитками скачущих гвардейцев и матерей, везущих на службу и на смотр своих малюток. Повсюду скачка и гоньба; повсюду сделалась дороговизна в наеме лошадей и повсюду неудовольствие…»
На этом, однако, павловская перестройка не окончилась. Казалось, император задался целью поставить в армии все с ног на голову.
Сухопутные войска и флот получили новую организацию. Дежурства и штабы были уничтожены. В полках введен определенный комплект офицеров, которые всегда должны были находиться на месте службы. Отпуска разрешались только зимой, по два офицера из батальона и не более как на один месяц. Производство в чины, в котором было особенно много непорядков, было приказано делать по вакансии и не иначе, как по представлении о том государю. Ни один дворянин, как бы богат и знатен он ни был, не мог поступить в военную службу иначе, чем нижним чином и производился в прапорщики только после трехлетней беспорочной службы.
В списках высшего командования, кроме фельдмаршала и Румянцева (впрочем, последний всего лишь на месяц пережил свою государыню), появились новые фельдмаршалы. При паролях, отданных на вахтпарадах 8 и 9 ноября, были пожалованы маршальским званием граф Николай Иванович Салтыков и князь Николай Васильевич Репнин. Через три дня граф Иван Григорьевич Чернышев был возведен в неслыханное до сих пор звание «фельдмаршала по флоту». Не прошло и месяца, как появился еще один фельдмаршал — граф Иван Петрович Салтыков, командир украинской и литовской кавалерийской дивизии, личность во всех отношениях ничтожная и бессловесная, однако заслужившая каким-то образом благоволение императора.
Умножение числа фельдмаршалов задело самолюбие Суворова.
«Я произведен не при пароле, — язвительно говорил он. — Я знаю практику, Каменский — тактику, а Салтыков не знает ни практики, ни тактики».
Крайне неодобрительно отзывался Суворов и о новом обмундировании, называя его неудобоносимым.
«Букли не пушка, коса не тесак, а я не немец, а природный русак. Нет вшивее пруссаков, штиблеты — гной ногам, казенные казармы, которые ночью запираются, — тюрьма, шаг солдатский сократился до трех четвертей аршина, следовательно, если раньше войска проходила за сутки прежним шагом сорок верст, то нынешним — только тридцать».
Через два месяца подобные дерзости стоили Суворову отставки, однако клеймо слепого подражания гению Фридриха II прилипло к Павлу надолго.
Между тем, это неверно или, по крайней мере, не вполне верно, хотя стремление подражать Фридриху, превратившему третьеразрядное немецкое курфюршество в одну из ведущих держав, было в Европе второй половины XVIII столетия чем-то вроде морового поветрия. Даже Мария-Терезия, всю жизнь воевавшая с прусским королем, как она утверждала «из принципа», отдавала должное государственным талантам Фридриха. Для ее сына и соправителя Иосифа II, впрочем, как и для фюрстов бесчисленных княжеств Германской империи, король-философ был кумиром.
Не избежала влияния Фридриха и Екатерина. «Наказ», как и общеземское право Фридриха, родились из философских увлечений. Идея общественного договора, представление о монархе как о слуге нации, почерпнутые ею у Монтескье и Руссо, на практике были осуществлены философом из Сан-Суси, к политике которого она внимательно присматривалась еще будучи великой княгиней. Трудно не видеть связь между легисламанией Екатерины и судебной реформой в Пруссии 1748 года, считавшейся образцовой особенно по сравнению с имперским судом. То же влияние ясно прослеживается в стремлении русской императрицы снять остроту крестьянского вопроса без отмены крепостного права, путем регламентации отношений между крестьянами и помещиками, идеях веротерпимости, поощрении народного просвещения (обязательное начальное обучение было введено в Пруссии в 1769 году).
Конечно, о подражании Екатериной Фридриху в обычном смысле слова говорить не приходится. Они были личностями одного масштаба, «практическими гениями».
Расчетливый прагматизм во внешней политике, естественная, не наигранная забота о подданных, стремление вникать во все мелочи своего «маленького хозяйства» и даже манера обращаться со слугами — все это было привито Екатерине той же хорошо организованной немецкой средой, в которой выросли и были воспитаны и она, и прусский король.
Павел же, то ли в силу особенностей своего политического мышления, то ли движимый духом противоречия, воспринимал лишь внешние, преимущественно военные стороны прусской науки властвовать. В этом отношении он твердо следовал по стопам Петра III, с той только разницей, что, взойдя на российский престол, тщательно избегал высказываний и действий, в которых могло бы быть усмотрено пруссофильство, погубившее Петра Федоровича. Вообще после союза Фридриха-Вильгельма с революционной Францией он заметно поостыл в своих чувствах к племяннику Фридриха Великого, так раздражавших при жизни Екатерину.
Словом, если и говорить о стремлении Павла подражать в первые дни своего царствования прусским образцам, то приходится признать, что подражание это было как бы опосредствованным — через Петра III[294]. Вводя мундир прусского образца, разгоняя гвардию («янычаров», как говаривал Петр Федорович), опираясь на гатчинцев (голштинцев Петра III), награждая обиженных во время предыдущего царствования и даже организуя гонения на круглые шляпы, Павел (осознанно или не осознанно — это уже другой разговор) стремился выстроить в глазах общества образ сына императора Петра III, при котором офицеры ходили в короткополых прусских мундирах с испанской тростью-эспантоном в руке и записной табличкой в кармане. Пострадавшие от усердия Архарова вряд ли могли знать, что покойный Петр III приказал своему адъютанту побить палашом швейцарца Пиктета, не снявшего шляпу при встрече с ним в Летнем саду. Люди постарше, однако, слыша о нововведениях Павла, вспоминали о том, что и отец его заботился о благополучии всех сословий, особенно крестьян, уничтожил Тайную канцелярию, заводил мануфактуры в интересах купечества и третьего сословия, думал разослать по русским городам немецких ремесленников.
И почести, отдаваемые Павлом праху Петра III, не казались им такими уж странными и святотатственными.
6
14 ноября в Петербург были доставлены привезенные из первопрестольной императорские регалии.
«Вывоз регалий из древней столицы, — рассказывает Болотов, — происходил с великой и пышной церемонией. Для отвоза и положения оных сделан был особливый длинный и драгоценной материею обитый ящик и повезли его, покрытый драгоценной парчой, при охранении скачущих по обеим сторонам и впереди, и сзади многих кавалергардов во всем их пышном убранстве. Вся Москва любовалась сим зрелищем, а о начальнике московском, престарелом Измайлове носилась молва, что он до бесконечности испуган был неожиданным приездом всех кавалергардов, подумав, что они были присланы за ним из Петербурга, и насилу отдохнул, узнав, зачем они были присланы».
До 15 ноября тело Екатерины оставалось в опочивальне. Дежурство при нем, сменяясь каждые сутки, несли фрейлины и кавалеры из свиты Марии Федоровны. Дежурившие придворные первых девяти классов, сообщает Валуев, были облачены в «обыкновенный глубокий траур» — утвержденное Павлом разделение на кварталы и классы вступало в силу с 25 ноября. При теле покойной императрицы отправлялась ежедневно «духовная церемония по обряду Восточной церкви».
15 ноября тело Екатерины, облаченное в русское платье из серебряной парчи с золотой бахромой и кружевами и длинным шлейфом, в присутствии всей императорской фамилии и персон первых четырех классов было перенесено восемью камергерами и четырьмя камер-юнкерами из опочивальни в Тронную залу.
Там тело покойной императрицы было положено под чтение молитв и духовное пение на парадную кровать, поставленную на возвышение, предназначавшееся для трона. Кровать полуприкрывал балдахин с бархатным пологом малинового цвета с золотыми кистями, вензелями и императорским гербом. В виде почетного караула в головах кровати стояли капитан и капитан-поручик лейб-гвардии, имевшие на эспантонах, шляпах, рукоятках шпаг и рукавах камзолов повязки из черного флера. В нескольких шагах от обеих сторон кровати, стояли в траурной форме шесть кавалергардов с карабинами на плече и четыре пажа.
У тела было назначено круглосуточное дежурство, днем и ночью перед иконой Федоровской Божьей матери, принесенной из спальни Екатерины, читалось Евангелие. С девяти утра и до одного часа дня и с четырех до восьми часов вечера во дворец допускались лица всех сословий, кроме крестьян.
Варвара Головина, присутствовавшая при этой печальной церемонии, оставила нам ее описание: «Войдя в Тронную залу, я села у стены, напротив трона. В трех шагах от меня находился камин, о который оперся камер-лакей Екатерины II; его горе и отчаяние заставили меня расплакаться. Слезы облегчили меня.
Рядом с Тронной находилась Кавалергардская зала. В ней все было обтянуто черным: потолок, стены, пол. Один лишь огонь в камине освещал эту комнату скорби. Кавалергарды, в их красных колетах и серебряных касках, поместились группами, опираясь на свои карабины, или отдыхали на стульях. Тяжелое молчание царило повсюду, его нарушали лишь рыдания и вздохи. Некоторое время я стояла у дверей. Подобное зрелище гармонировало с моим душевным настроением. Дисгармония ужасна во время скорби: она лишь растравляет ее. Горечь утоляется лишь при виде горя, подобного переживаемому.
Я вернулась в свое кресло. Через минуту обе половины двери раскрылись и появились придворные в глубочайшем трауре и прошли через зал в спальню, где лежало тело императрицы. Я была извлечена из уныния, в которое повергло меня зрелище смерти, приближавшимся похоронным пением. В дверях показалось духовенство, певчие, императорская семья, сопровождавшая тело. Его несли на великолепных носилках, прикрытых императорской мантией, концы которой поддерживали первые чины двора. Едва увидала я свою царицу, как сильная дрожь овладела мной, выступили на глазах слезы, рыдания мои перешли в невольные крики. Императорская фамилия встала впереди, и в эту минуту, несмотря на ее торжественность, Аракчеев, приближенное лицо, взятое императором из ничтожества и сделавшееся выразителем его мелочной строгости, сильно толкнул меня, приказывая замолчать. Горе мое было слишком велико, чтобы какое-либо постороннее чувство могло отвлечь меня, и этот поступок, по меньшей мере невежливый, не произвел на меня никакого впечатления. Господь в своем милосердии ниспослал мне минуту кротости, глаза мои встретились с глазами великой княгини Елизаветы, в их выражении нашла я утешение своей души. Ее высочество тихо подошла ко мне, за спиной протянула мне руку и пожала мою. Началась служба. Молитва укрепила во мне твердость духа, смягчив сердце. По окончании ее вся императорская фамилия подходила поочередно к усопшей, делала земной поклон и целовала ее руку. Затем все удалились. Священник встал против трона для чтения Евангелия. Шесть кавалергардов были поставлены вокруг».
В тот же день, 15 ноября, старый гроб с останками Петра III был помещен в специально изготовленный новый гроб, обитый золотым глазетом с императорскими гербами и серебряным ярусом. В восьмом часу вечера в ворота Александро-Невской лавры въехала процессия из тридцати экипажей, обитых траурным сукном. Лошади были покрыты черными попонами. Впереди процессии шествовали факельщики.
У входа в монастырь процессию встречал митрополит Новгородский и Петербургский Гавриил. Павел в сопровождении Марии Федоровны и великих князей вошел в Благовещенскую церковь. Гроб стоял на возвышении. В головах его в почетном карауле застыли два капитана гвардии, в ногах — четыре камер-пажа. Кавалергардов внутри церкви и гвардейских офицеров вне ее было ровно столько же, сколько при теле Екатерины.
По приказу Павла крышка гроба под пение иеромонахов и священников была снята. Внутри в почерневшем старом гробу лежал скелет в полуистлевшей шляпе, перчатках и грубых прусских ботфортах.
Несколько бесконечно долгих минут Павел стоял с непокрытой головой у останков отца. Затем он наклонился и благоговейно приложился к потемневшему латунному кольцу, висевшему на фаланге среднего пальца.
Древний храм был погружен во мрак. Лишь на ликах святых, строго смотревших с резного потолочного иконостаса, слабо освещаемого зажженными свечами, играли отблески света. Тишину нарушало печальное пение молитв. На лице Павла, стоявшего у гроба с непокрытой плешивой головой, было выражение сосредоточенности и благоговения.
После того как вслед за императором к останкам покойного императора приложились Мария Федоровна, великие князья и княгини, митрополит Гавриил с тремя архиереями отправил панихиду. Затем гроб был снова закрыт, и императорская фамилия покинула монастырь.
7
Ход дальнейших событий, происходивших в Зимнем дворце и лавре поздней осенью 1796 года, позволяют восстановить документы Священного Синода, сохранившиеся в Российском государственном историческом архиве в Петербурге. Обратимся к ним, попытаемся вслушаться в безмолвствовавший два столетия сухой язык печальной хроники. Может быть, эти пожелтевшие от времени листы донесут до нас из далекого XVIII века скрытый смысл разворачивавшегося в Петербурге мистического действа.
Итак: «24, понедельник, в день Св. великомученицы Екатерины преосвященный митрополит Гавриил Новгородский служил литургию в придворной большой церкви, а за оной панихиду по императору Петру III и императрице Екатерине II. Преобеднюю, в 11 часов, преосвященный митрополит, отец духовник Исидор и протодьякон Павел с Евангелием позваны были в комнату Их величеств, где Ея величество императрица Мария Федоровна изволила делать присягу на гроссмейстерство празднуемого в этот день Св. Екатерины. По окончании оной Его величество император изволил итти в церковь своим штатом и дожидался пришествия императрицы, не начиная обедни. Потом Ея величество императрица изволили притти в церковь как уже гроссмейстер того ордена в предшествии кавалеров, а именно на переди шли гофмейстерина Анна Никитишна Нарышкина и штатс-дама Шарлотта Карловна Ливен. За ними Их императорские высочества великая княжна Екатерина Павловна, за ней великая княжна Мария Павловна с Еленой Павловной в ряд, а за ними великая княжна Александра Павловна с великою княжною Анной Феодоровною, а пред Ея величеством великая княгиня Елисавета Алексеевна одна, яко наследникова супруга, а за оною гроссмейстер Ея императорское величество, за которою следовали дамы и фрейлины всего двора. По окончании обедни равным же образом изволили шествовать из церкви, то есть государь со своим штатом прежде, а государыня своею церемониею возвратясь в свои комнаты, но траур в тот день сложен не был»[295].
На следующий день, 25 ноября, Павел отправился в Александро-Невскую лавру короновать прах своего отца.
«Путешествие было следующее, — повествует печальная хроника. — На перед несколько карет цугами с придворными кавалерами, а потом в двух открытых колясках цугами, в первой два гофмаршала граф Кизенгаузен и граф Виельгорский с их жезлами, а за ними в открытой же коляске цугом обер-маршал граф Николай Петрович Шереметев с его жезлом, за которым ескадрон лейб-гусаров, а за ними богатыя кареты цугами, в которой вице-канцлер князь Александр Борисович Куракин держал на глазетовой подушке императорскую корону. За оной каретой конвой конной гвардии, за ним карета Его императорского величества, заложенная в восемь лошадей с принадлежащими к сему входу чиновниками. Государь изволил сидеть в карете с Их высочествами великими князьями наследником Александром Павловичем и Константином Павловичем. По приезде в Невский монастырь император сам принял от вице-канцлера корону и возложил на гроб своего родителя. Потом отправлена по церковному обряду лития преосвященным митрополитом Гавриилом с собором; по окончании сего государь изволил обратиться тем же порядком в Зимний дворец и в оном в Большой церкви в этот день служили литургию, а по оной панихиду»[296].
В тот же день, 25 ноября, Мария Федоровна в торжественной церемонии возложила корону на голову Екатерины. Во втором часу дня она «изволила шествовать к преставившейся императрицы телу также церемониально в предшествии маршалов с их жезлами. Вице-канцлер князь Куракин нес на подушке императорскую корону, которую приняв Ея величество собственными руками изволила возложить оную на главу преставившейся, при помощи камер-юнкеров и камердинеров, которые приподнимали усопшую, помогая императрице в ея действиях; сие происходило в присутствии Их императорских высочеств великих княгинь и великих княжон, штатс-дам и фрейлин».
В шестом часу вечера в парадных залах Зимнего дворца собрались придворные чины, высшее духовенство и иностранные министры, приглашенные специальными повестками. Все были в глубоком трауре. По прибытии императорского семейства митрополитом Гавриилом была отправлена малая лития. Затем восемь камергеров и четыре камер-юнкера, двигаясь медленно и торжественно, подняли с кровати тело и положили во гроб. «И по исправлении сего поднято было тело с гробом теми же камергерами и при пении Святы Боже в предшествовании всех церковной церемонии понесено в Тронную комнату, а перед гробом несена крышка камер-юнкерами и камердинерами, в шестом классе находящимися Иваном Тюльпиным и Захаром Зотовым.
По принесении тела в Большую галерею, где устроено было великолепное печальное место, называемое Castrum doloris на возвышенном семью ступенями огражденном колоннами композического ордена, наподобие ротонды, в средине которого сделан павильон от самого потолка спущен наподобие круглого шатра из черного бархата с серебряною бахромою и с кистями, а снизу подложен атласом белым наподобие горностаевого меха с хвостами. Подножие гроба обито черным бархатом и между колонн наподобие занавесок из того же бархата с серебряною бахромой и кистями промежду каждой колонны поставлены табуретки, обитые малиновым бархатом с золотым гасом, на коих положены подушки золотого глазету с газом и кистями серебряными, а на тех подушках положены императорские регалии, как то 1) корона Константина Мономаха 2) корона царства Казанского 3) корона царства Астраханского 4) корона царства Сибирского 5) царства Херсонеса Таврического 6) царский скипетр, украшенный разными каменьями, 7) держава такового же украшения 8) ордена — Св. Андрея Первозванного 9) Св. Александра Невского 10) Св. великомученика Георгия 11) Св. равноапостольного князя Владимира 12) шведский Серафима 13) прусский Черного орла 14) польский Белого орла 15) голштинской — Святые Анны 16) датский орден Св. Екатерины; весь сей катафалк освещен в различных видах подсвечниками при множестве разных толстых свеч, окошки все закрыты черными сукнами, на которых изображены гербы всех наместничеств Российской империи, колонны в галерее обтянуты черным сукном и перевиты белою кисеею, а верх оных по фризу, увитому черным флером, изображены песочные часы с крыльями, изображающими время смерти».
На следующий день с утра в Большую галерею для последнего целования руки покойной императрицы был допущен народ «всякого состояния, кроме крестьян, дурно одетых»[297].
29 ноября императорские регалии были перевезены из Зимнего дворца в Невский монастырь.
«Унылее этой церемонии ничего в жизни я не видел, — свидетельствовал очевидец. — Процессия началась в семь часов вечера, при двадцати градусах стужи, при темноте густого тумана. Более тридцати карет, обитых черным сукном, цугами в шесть лошадей, тихо тянулись одна за другой. Лошади с головы до земли все были в черном же сукне; у каждой шел придворный лакей с факелом в руке в черной епанче с длинным воротником и в шляпе с широкими полями, обложенными крепом; в таком же наряде, с факелами же в руках, лакеи шли с обеих сторон у каждой кареты; кучера сидели в шляпах, как под наметами. В каждой карете кавалеры в глубоком трауре держали регалии. Мрак ночи, могильная чернота на людях, на животных и на колесницах, глубокая тишь в многолюдной толпе, зловещий свет от гробовых факелов, бледные оттого лица — все вместе составляло печальнейшее позорище».
8
Участие в траурных церемониях Павел перемежал с набиравшей силу ломкой екатерининских порядков. Особый размах приобрела она в сфере внутреннего управления. Не проходило дня, чтобы не появлялся какой-нибудь новый указ или распоряжение, которыми изменялся прежний строй государства.
Печальное состояние, в которое пришла государственная и общественная жизнь в последние годы царствования Екатерины, казались Павлу живым доказательством непригодности всей ее системы правления. Однако ясного плана реформ у него не было. На престол Павел вступил со скромным багажом составленных еще в 70-е годы в беседах с братьями Паниными отдельных идей, основанных порой на суждениях достаточно разумных, хотя и в высшей степени умозрительных и оттого трудно приложимых или вовсе не приложимых к российской действительности. Идеи эти состояли в том, чтобы не вмешиваться в чужие дела, сосредоточившись на вопросах внутреннего порядка и благосостояния, оставить лишние претензии и стараться приобрести разумной дипломатией хотя немногих, но верных союзников. «Государство наше теперь в таком положении, что необходимо надобен ему постоянный и долговременный покой. Прошедшая война, польские беспокойства да к тому же и оренбургские замешательства, коих начало свое имели от неспокойства бывших яицких, а ныне уральских казаков, довольная суть причина помышления о тишине; ибо все сие изнуряет государство людьми, а через то и уменьшает и хлебопашество, изнуряя землю», — писал Павел в 1779 году в письме П. И. Панину.
Руководствуясь этими несомненно верными установками, Павел, вступив на престол, немедленно прекратил начатую Екатериной войну с Персией и отозвал находившиеся на Кавказе войска. Несмотря на глубокую ненависть к французской революции он на первых порах не дал вовлечь себя в союз с западными державами — противниками Наполеона, к которому намерена была приступить Екатерина в последние месяцы своего царствования. Уже 10 ноября был отменен объявленный покойной императрицей необычный рекрутский набор — по десять человек с тысячи. Канцлеру Остерману было приказано объявить, что русские войска, предназначавшиеся к действиям против Франции, не будут посланы, так как «обстоятельства не позволяют нам отказать любезным подданным в пренужном и желаемом ими отдохновении после столь долго продолжавшихся изнурений».
Особенно заботливо отнесся Павел к крестьянскому сословию. За освобождением крестьян от рекрутчины последовал сенатский указ от 27 ноября, которым «людям, ищущим вольности», предоставлялось право апелляции на решение присутственных мест. Еще через несколько дней была объявлена новая льгота крестьянам — отмена хлебной повинности, введенной в 1794 году. Крестьянам, привыкшим к денежному налогу на армию, она была очень тягостна, так как приходилось возить хлеб для засыпки в магазины на весьма далекое расстояние.
Однако меры эти, несомненно, облегчившие участь российского крестьянства, имели в конечном счете последствия непредсказуемые. Не приученные к вниманию правительства крестьяне возымели повсеместно надежду на дальнейшее улучшение условий их жизни и труда. Как пожар по степи, начали распространяться слухи о грядущем освобождении крестьян. В результате в начале 1797 года в одиннадцати губерниях вспыхнули крестьянские волнения, которые пришлось подавлять военной силой.
Одним из главных условий задуманной им коренной перестройки государственных дел, Павел считал гласность. Объявив в одном из первых своих указов, что он намерен «открыть все пути и способы, чтобы глас слабого, угнетенного был услышан», он дал разрешение всем подданным без различия чинов или состояния являться во дворец для подачи просьб и жалоб (при Екатерине подача прошений в собственные руки императрицы была запрещена под страхом строгого наказания). В окне одной из комнат Зимнего дворца был поставлен выкрашенный в желтый цвет железный ящик, с прорезанным отверстием, куда просители могли опускать свои просьбы. Ключ от него был вручен великому князю Александру. Несколько секретарей ежедневно сортировали просьбы и, сделав из них краткие экстракты, докладывали государю, который тотчас же возлагал на них свои резолюции.
Чиновники, жившие вековым «кормлением» и мздоимцы всякого рода затрепетали. «В продолжение существования ящика, — писал А. М. Тургенев, — невероятно какое существовало правосудие, во всех сословиях правдолюбие и правомерность. Откупщик не смел вливать в вино воду, купец — в муку, соляной пристав в соль подсыпать песок, вес и мера были верные».
Наказание за вскрывавшиеся злоупотребления были скорыми и решительными. Генералы Сибирский и Турчанинов были лишены дворянства и сосланы в Сибирь в каторжные работы за взятки и незаконные сделки с поставщиками комиссариата. Генералы и полковники не осмеливались удержать горсть муки у солдата из его месячного пайка или отнять меру овса у казенной лошади, перестали грабить жителей, у которых были постояльцами. Народ был обрадован и ободрен.
Однако очень скоро количество мелочных и вздорных доносов, находимых в ящике, начало значительно превосходить число жалоб и просьб. Появились даже гнусные карикатуры и пасквили на царствующего императора. Павел вспылил и приказал убрать желтый ящик, распорядившись впредь подавать жалобы обыкновенным порядком. Резолюции по ним, однако, объявлялись для всеобщего сведения в «Санкт-Петербургских ведомостях».
В Сенате и других присутственных местах был наведен железный порядок. Для исполнения высочайших повелений, требующих скорого распоряжения, сенаторам велено было являться в заседания даже в неприсутственные дни. Штат Сената был увеличен для скорейшего рассмотрения остававшихся нерешенными на начало декабря 1796 года одиннадцати с половиной тысяч дел.
Комиссия по изданию Нового уложения, бездействовавшая при Сенате с начала первой русско-турецкой войны, была преобразована в комиссию для составления законов. Задачи ее, в отличие от екатерининской, были ограничены лишь приведением в порядок имевшегося уже законодательства.
12 декабря Сенату был отдан указ о коренной перекройке территориального управления России. Число губерний, учрежденных Екатериной, было сокращено. Остальные, особенно в Белоруссии, на Украине и в Крыму были укреплены или, напротив, уменьшены за счет соседних. Екатеринославская губерния, напоминавшая о матери и ненавистном Потемкине, превратилась в Новороссийскую. В Прибалтике, Выборге и губерниях, присоединенных в результате раздела Польши, были восстановлены старинные суды и привилегии.
Стоит ли говорить, в какой хаос и неразбериху была повергнута страна в результате этих мер. Корежа и уничтожая сделанное Екатериной, Павел лишь смутно чувствовал, что он хотел создать взамен. Лишь после его трагической смерти 11 марта 1801 года историки выяснили, что смысл павловских реформ состоял в ограничении сословных привилегий, ослаблении значения дворянства и облегчении состояния крестьянского сословия.
Программа, казалось бы, вполне антиекатерининская — мать Павла недаром называли дворянской императрицей. Если, однако, пристальней присмотреться, скажем, к тому, что было сделано в эпоху Павла для решения крестьянского вопроса, то не трудно убедиться, что новый император начал с того на чем остановилась его мать после роспуска Большой комиссии. Разумеется, порывистость, импульсивность Павла, его стремление вычленить себя из той системы, которую он намеревался создать, не могли способствовать более или менее последовательному проведению этой программы в жизнь. Павловские реформы имели разрушительный эффект — они как бы расчистили площадку, на которой в последующие царствования была возведена самодержавно-бюрократическая пирамида, исключавшая, как показала Великая реформа 1861 года, живое саморегулирование общества, без которого реформы в принципе невозможны.
Но мы, кажется, отвлеклись от трагических событий ноября 1796 года. В то время, да и позже, Павел, воюя с опостылевшими ему «екатерининскими юбками», вряд ли и сам понимал, что в силу извращенной логики истории он становится продолжателем дела своей матери.
9
30 ноября на улицах столицы всенародно возвещалось о предстоявшем перенесении тела императора Петра III из Александро-Невской лавры в Зимний дворец. Обер-церемониймейстер Валуев, на глазах становившийся одним из главных созидателей и охранителей нового порядка, с невиданной в екатерининские времена тщательностью расписал все детали этой процедуры.
«В десять часов по полуночи, — говорилось в составленной им памятке для герольдов, — соберутся на Царицынском лугу верхами те, которые назначены быть герольдами и которым быть в полном мундире, в сапогах и шпорах, имея через плечо большой флеровый шарф с белыми креповыми кокардами и флер на тех местах, где оный предписано иметь по их чинам в силу высочайше конфирмованного Учреждения о глубоком трауре; — два сенатских секретаря в черных кафтанах и верхами и при них конвой Конной гвардии верхами же, два литаврщика и четыре трубача. Герольдам и секретарям даны будут лошади с приличною траурною сбруею из придворной конюшни, а прочих будут лошади Конной гвардии. Собравшись таким образом на Царицынском лугу, ехать им перед дворец Его императорского величества, где перед окнами по прибытии на литаврах при игрании на трубах одному из сенатских секретарей прочесть объявление, то же самое потом учинить перед окнами Государя-цесаревича и Всех их императорских высочеств и потом разделясь на две части, имея при каждой части герольда и секретаря, ехать одному герольду по всей Адмиралтейской стороне, а другому на Васильевский остров, на Петербургскую и на Выборгскую стороны и читать по объявлению на площадях, на знатных улицах и перекрестках и по учинении повсюду объявлений съехаться оным на Царицынский луг, отпустить команды по квартирам, а самим с рапортом явиться в Печальную комиссию».
Текст объявления, который читали герольды, звучал следующим образом:
«По Высочайшему повелению Его императорского величества назначено быть перенесению тела благоверного государя императора Петра Феодоровича из Свято-Троицого Александро-Невского монастыря в Зимний дворец на катафалк, сооруженный в Траурной зале сего декабря 2 числа в одиннадцать часов по полуночи, и будет возвещено тремя сигналами, каждый сигнал выстрелами из трех пушек, из коих по первому, который учинен будет из трех пушек с Адмиралтейской крепости, собираться всем в назначенные дома от комиссии, а по второму из трех же пушек, поставленных у Святых ворот Свято-Троицкого монастыря, выходить всем на улицу и становиться на свои места, а по третьему, тоже из трех пушек, вступить всем в марш»[298].
1 декабря утром Павел лично осмотрел весь путь от дворца до Александро-Невской лавры, по которому должна была шествовать процессия, и отдал приказания относительно размещения войск. Вечером он приехал в лавру с двумя старшими сыновьями, и в их присутствии царские регалии были поставлены вокруг гроба покойного императора, стоявшего в Благовещенском соборе. С недоумением отмечали, что среди прочих на черных подушках были выставлены ордена Св. Георгия и Св. Владимира, не существовавшие во время царствования Петра III.
На другой день, 2 декабря, все находившиеся гвардейские и армейские полки были построены шпалерами от Зимнего дворца до Александро-Невской лавры. По выстрелу из трех пушек все назначенные участвовать в печальной процессии стали съезжаться к монастырю и занимать те дома, в которых по распоряжению Печальной комиссии они должны были ожидать начала церемонии.
«В одиннадцатом часу, — сообщает печальная хроника, — Его величество император и императрица, цесаревич с супругою и великий князь Константин Павлович с супругою изволили прибыть в Невский монастырь и в особо отведенных комнатах изволили возложить на себя печальные мантии и вышед в пришествии обер-маршальских и гофмаршальских жезлов. В шествии Его величества и Ея величества ассистентами шли генерал-аншефы, а у Их высочеств ассистенты были генерал-поручики. По выходе в церковь и по учреждении всей как духовной, так и светской церемонии, поднят гроб императора Петра III, на котором утверждены императорская корона, и внесен к церкви до Святых ворот под балдахинами».
После второго выстрела все участники церемонии вышли на улицы и заняли назначенные им места.
Грянул третий выстрел — и шествие тронулось от монастырских ворот по Невскому проспекту между рядами войск. Каждую минуту воздух вздрагивал от пушечных залпов. Над бастионами Адмиралтейства и Петропавловской крепости поднимались облачка дыма.
Стоял сильный мороз. Перед черным катафалком, на котором везли останки Петра III, шествовали два маршала с жезлами, генерал-прокурор, все сенаторы, генерал-рекетмейстер, обер-прокурор и обер-секретари Сената и Синода, чиновники главных коллегий и духовенство. Все были в черных плащах и распущенных шляпах.
За гробом в глубоком трауре следовала императорская фамилия во главе с Павлом, облаченном в черную мантию, надетую на мундир, и с черной лентой на шляпе. За гробом на черных подушках несли императорские регалии и ордена. Командовал процессией фельдмаршал князь Николай Васильевич Репнин.
В среде высших чинов империи, несших на вытянутых руках черные подушки с пятью коронами — Таврической, Сибирской, Астраханской, Казанской и Большой императорской — огромным ростом выделялся генерал граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский. Держался он великолепно. Весь путь от лавры до дворца проделал с непокрытой головой, подушку с короной Казанского царства нес голыми руками. На сумрачном лице его нельзя было прочитать никакого чувства[299].
Примечательно, что в числе знамен несли также гербы областей, присоединенных к России Екатериной при трех разделах Польши.
По прибытии процессии к Зимнему дворцу гроб Петра III внесли в Большую галерею и поставили на катафалк рядом с гробом Екатерины. Митрополитом была отправлена лития.
В Большой галерее гробы Петра и Екатерины стояли вместе два дня. В. Н. Головина, дежурившая у гроба, писала: «Императрица лежала в открытом гробу с золотой короной на голове. Императорская мантия покрывала ее до шеи. Вокруг горело шесть больших паникадил, у гроба священник читал Евангелия. За колонной, на ступенях, стояли кавалергарды, печально опершись на свои карабины. Зрелище было грустное, священное и внушительное, но гроб с останками Петра III, поставленный рядом, возмущал душу. Это оскорбление, которое и могила даже не могла устранить, это святотатство сына по отношению к матери, делало горе непереносимым. К счастью для меня я дежурила с графиней Толстой, сердца наши были настроены в унисон, мы пили до дна из одной и той же чаши горести. Другие дамы, бывшие с нами на дежурстве, сменялись каждые два часа. А мы просили позволения не отлучаться от тела и это без затруднения было нам разрешено. Впечатление, производимое этим зрелищем, смысл которого проявлялся во всей очевидности, еще больше усиливалось из-за темноты. Крышка от гроба императрицы лежала на столе параллельно катафалку. Мы с графиней Толстой были в самом глубоком трауре, наши креповые вуали ниспадали до земли. Мы облокотились на крышку этого последнего жилища. Я невольно прижималась к ней, мне самой хотелось умереть. Божественные слова Евангелия проникали мне в душу. Все вокруг меня казалось ничтожным. В душе моей был Бог, а перед глазами — смерть. Долгое время я оставалась почти в беспамятстве и стояла, закрыв глаза руками. Подняв голову, я увидела, что графиню Толстую ярко освещает луна через верхний купол. Этот свет, тихий и спокойный, составлял дивный контраст со светом, исходившим из-под надгробной сени. Вся остальная часть роскошной галереи была погружена во мрак.
В восемь или девять часов вечера к гробу медленными шагами приблизилось императорское семейство, поклонилось в землю усопшей и удалилось в том же порядке в самом глубоком молчании. Час или два спустя пришли горничные покойной императрицы. Они целовали ее руку и едва могли от нее оторваться. Но крики, рыдания и обмороки прерывали по временам торжественное спокойствие, царившее в зале. Все приближенные к императрице боготворили. Трогательные молитвы признательности возносились за нее к небесам».
5 декабря оба гроба были перевезены в Петропавловский собор по специально наведенному мосту, который начинался от Мраморного дворца. Колесница с гробом императрицы следовала впереди, а за ней двигался катафалк с гробом Петра III, за которым шествовали Павел, Мария Федоровна и великие князья.
Лицо императора выражало больше гнев, чем печаль. Ему было известно, что необычайная церемония двойных похорон возбудила в общественном мнении немало толков, которые клонились не в пользу Павла: его прямо обвиняли в неуважении к памяти матери, царствование которой составило славу России. Более обычного высокомерный, Павел глядел на всех свысока. Мария Федоровна плакала.
По окончании отпевания, поклонившись двум гробам, подготовленным к погребению, император сложил с себя печальную мантию и в сопровождении Александра направился прямиком на плац, где осмотрел войска, поставленные во фрунт.
Даже в этот день вахтпарад не был отменен. За ним последовало отдание приказов. Изменение обычного распорядка состояло только в том, что обеденное кушанье императорской семьи состоялось во внутренних комнатах.
С тревогой и грустью взирал Александр на происходившее вокруг него.
«Я променял императорскую корону на выполнение обязанностей фельдфебеля», — писал он Лагарпу в эти дни.
Около двух недель, с 5 по 18 декабря, гробы Петра III и Екатерины II оставались в Петропавловском соборе. Народ всякого звания, являвшийся поклониться их праху, покидал собор с видом озадаченным, если не сказать изумленным.
Только 18 декабря тела Петра III и Екатерины II были преданы земле. В этот день с утра в Петропавловском соборе была отслужена панихида по случаю дня рождения Елизаветы Петровны.
«В двенадцатом часу изволили прибыть в собор, — сообщает печальная хроника, — Их величества император и императрица и Их высочества Государь-цесаревич с супругой, великий князь Константин Павлович с супругой, великие княжны Александра Павловна, Елена Павловна, Мария Павловна и Екатерина Павловна. По прибытии всей высочайшей фамилии начата панихида при гробах Их величеств императора Петра Феодоровича и императрицы Екатерины Алексеевны преосвященными Гавриилом митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским, Амвросием архиепископом Казанским, Иннокентием архиепископом Псковским, Евгением архиепископом Херсонесским, Досифеем епископом Старорусским и Греческим епископом в сопровождении отца-духовника Исидора Петровича, Преображенского протоиерея Лукьяна Федоровича, четырех архимандритов, Петропавловского протоиерея Василия и всех придворных и соборных священников. Во время оной панихиды поднято прежде тело государыни императрицы Екатерины II камергерами с помощью кавалергардов и отнесено в назначенное место, то есть перед правым крылосом против южных дверей и опущено в землю с левой стороны. Потом равномерно поднято тело государя императора Петра III теми же особами и опущено в землю в то же место возле гроба императрицы с правой стороны. Сие происходило во время служения панихиды и продолжалось до самого конца оной. А как последний гроб опущен в землю, так и панихида приходила к окончанию с пением вечной памяти»[300].
И последнее. Надпись, которую Павел распорядился сделать на могиле своих родителей, в своем роде уникальна: «Император Петр III, родился 10 февраля 1728 года, похоронен 18 декабря 1796. Императрица Екатерина II, родилась 21 апреля 1729, похоронена 18 декабря 1796 года».
Даты их смерти на могиле не значатся.
Вместо эпилога
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти тех, которые будут после
Книга Екклесиаста, или Проповедника. 1, 9–11.В 1791 году к российскому резиденту в Венеции Мордвинову обратился эмигрировавший из Франции эссеист и философ Сенак де Мельян, сообщивший о своем желании написать историю царствования Екатерины II.
Екатерина не только пригласила Сенака де Мельяна, автора изящных, но неглубоких романов и политических памфлетов (он был убежденным монархистом) в Петербург, но и вступила с ним в переписку. Из затеи с сочинением истории екатерининского царствования ничего не вышло, так как несостоявшийся историограф не знал русского языка и в свои 55 лет считал, и вполне справедливо, что начинать изучать его было бы слишком поздно. К тому же, как это не раз случалось (вспомним хотя бы Мерсье де ля Ривьера), Сенак, разоренный революцией, был слишком прямолинеен в своем стремлении пристроить на русскую службу сына, выхлопотать для себя место посла в Константинополе или, на худой конец, русский орден и солидную пенсию, достаточным основанием для получения которых он считал свой приезд в Россию.
В России Сенак оставался около года. Он ездил в Москву, где пытался работать в архиве Коллегии иностранных дел, к Потемкину в действующую армию и в конце концов отбыл в Вену с пенсией от российской императрицы в 1500 рублей.
Короче, эпизод с приездом Сенака де Мельяна вряд ли заслуживал бы упоминания, если бы в переписке с ним Екатерина не изложила свои взгляды на то, каким образом должна была быть, по ее мнению, написана история ее царствования. В этом отношении наиболее существенно ее письмо Сенаку де Мельяну от 16 июня 1791 года. Оно неоднократно публиковалось[301], но с некоторыми неточностями и в совершенно неудовлетворительном переводе.
Приводим его по копии, сохранившейся в рукописных материалах библиотеки Зимнего дворца[302].
«Мне было вовсе не трудно, мсье, изложить Вам на бумаге за 4 дня то, над чем я размышляла столь долго, что могла бы повторить буквально, будто выученное наизусть. Тем не менее меня восхищает терпение, с которым Вы шесть раз перечитали тот план (история России в XVIII веке — П.С.), который я Вам послала, не смутившись педантичностью, которой в нем, возможно, слишком много, но которая является следствием естественно методичного направления ума.
Это то, в чем меня не раз упрекали, и, поскольку моей сильной стороной никогда не было умение демонстрировать свою интеллектуальность, я часто ограничивалась тем, что лишь ставила вопросы, тогда как мое усердие к славе и процветанию нации, вверенной мне Провидением, позволяло мне, отвечая на них, обнаруживать причины событий и их мотивы, отличные от тех, которые находили другие известные мне писатели. Кроме того, в силу своего положения я должна была приобрести более обширные познания (по крайней мере, те, что внушены мне тридцатью годами царствования) о характере нации, занимающей третью или четвертую часть известной нам поверхности Земли.
Эта нация не покорялась местным начальникам (в тексте — бургомистрам — П.С.), но следовала за вождями или князьями, чей разум и личные качества внушали ей необходимое доверие относительно успеха их предприятий. Эта нация не только не любила и не уважала слабых правителей, но и едва терпела их, не упуская случая дать им почувствовать, что они не подходили для того места, которое занимали. И напротив — она отважно шла навстречу опасностям, как только чувствовала, что дело этого стоит.
Я говорю Вам все это для того, чтобы Вы лучше смогли понять мой образ мыслей и тот дух, в котором я хотела бы, чтобы история (России — П.С.) была написана. Только таким образом она становится, на мой взгляд, полезна потомкам, и именно так, смею сказать, ее писали в древности. Одобряю Ваше намерение предпослать ей вступительную статью. Все, что Вы предлагаете включить в нее, представляется мне весьма верным. Признаюсь, что и сама я питаю предпочтение ко временам, предшествовавшим царствованию дома Петра I. Однако ни в коем случае нельзя забывать о духе века, отличавшем каждое царствование, поскольку именно он подготавливает вещи, которых не ожидают.
Говорят, чтобы лучше судить о каком-то человеке, нужно поставить себя на его место. Так же и с написанием истории. Историк не может позволить себе не чувствовать духа времени, в противном случае это обязательно будет ощущаться в его сочинении. Все мы — лишь люди на этой земле, и каждый век имеет свой дух и свою тенденцию. Можно даже сказать, что во многих случаях предшествовавшие царствования подготавливали события последующих.
Простите меня, если я выражаюсь не совсем по-французски, главное, чтобы Вы меня поняли.
Письма же мои написаны вовсе не для того, чтобы произвести впечатление — все мы выражаем свои мысли как можем. Чего еще бы мне хотелось, так это того, чтобы история никогда не писалась в пользу какого-то одного царствования. Мне прекрасно известно, почему то или иное царствование более или менее одобрялось за границей, тогда как другие больше нравились жителям этой страны.
Не находите ли Вы, что президент Эно[303]совершил ошибку, пожертвовав 1200 годами (французской истории. — П.С.) царствования Людовика XIV? Вам известно, что мало кто испытывает столь глубокое уважение к имени этого действительно великого короля, как я. Его царствование так прославило Францию, что его величие осталось увековеченным до наших дней, и в последние два-три года общественное мнение вновь вернулось к тем оценкам, которые не смогли стереть прошедшие сто лет. Что же касается моего царствования, то если необходимо Вам это сказать, я настаиваю на том, что уже говорила: я не люблю ни льстецов, ни истории царствований ныне живущих монархов. Современники всегда более или менее разделены на тех, кто за, и на тех, кто против. Каждый год 30-летнего царствования, ни один из которых не составлял сам по себе, так сказать, эпохи, вполне естественно может нравиться или не нравиться тому или иному современнику.
Если я действовала успешно, то эти успехи всегда задевали или компрометировали славу или тщеславие отдельных лиц. Верно только одно — я никогда ничего не предпринимала без того, чтобы не быть совершенно убежденной в том, что сделанное мной шло на благо моей империи. Эта империя сделала так бесконечно много для меня, что, я убеждена в этом, все мои личные способности, постоянно употреблявшиеся во благо этой империи, ее процветания, ее высших интересов, вряд ли могут считаться достаточными для того, чтобы мой долг перед ней был полностью выполнен. Я стремлюсь действовать во благо во всех случаях, когда это не идет вразрез с общественным благом.
Думаю, что каждый государь понимает необходимость руководствоваться в своих действиях справедливостью и здравым смыслом. Остается лишь разобраться, кто из нас ошибается, а кто нет в определении того, что он называет справедливостью и здравым смыслом. Право судить об этом имеют только потомки и только после того, как мы уйдем из жизни, поскольку все мы смертны. К ним я и обращаюсь. Я могу рассказать им, конечно, в общих чертах о том, к чему я пришла, что оставляю после себя — итог может получиться любопытным, хотя сначала нужно заключить мир, а потом посмотрим[304]. Скажут, что мне часто сопутствовала удача, если не считать нескольких больших неудач, но относительно оценки удач или неудач у меня, как и о многих других вещах, свои критерии. И то и другое определяется только качественным соотношением верных или неверных практических мер. Фактор везения, неожиданного или подготовленного, играет в этом большую роль. Вследствие этого история людей ныне живущих задела бы самолюбие или преуменьшила бы сравнительную роль слишком многих людей, а это то, в чем я не хотела бы участвовать.
Говоря это, я чувствую, что Вы готовы обвинить меня в самоуверенности. Конечно, я обладаю некоторой дозой этого чувства. Но кто же устроен по-другому? Другими словами, Вы вольны писать все, что Вам заблагорассудится, но то, что Вы напишете о моем времени, не должно быть опубликовано при моей жизни…»
Позволим себе опустить концовку этого письма. Она адресована не потомству, а Сенаку де Мельяну, человеку, упустившему, используя выражение Густава III, приобрести «свою частичку бессмертия» от общения с одной из самых удивительных женщин в отечественной — и мировой — истории.
Письмо заканчивается необычно: «Adieu, Monsieur, excusés la longueur» — «Прощайте, мсье, извините за многословие».
Мы же хотим завершить наши хроники словами, которыми Екатерина неизменно прощалась со своими многочисленными корреспондентами: «Adieu, portez-vous bien» — «Прощайте, будьте здоровы».
Приложения
I. Записка французского посланника в Петербурге Дюрана-Дистрофа о внутренней и внешней политике России в 1772 г.
Приложение к депеше № 39 от 4 января 1774 г.
Памятная записка о России г-на Дюрана
Санкт-Петербург, 31 декабря 1773 г.
Я пишу в 1773 г. о том, что произошло в России с тех пор, как я здесь нахожусь. Пытаясь дать ясную оценку того, что мне надлежит сообщить, я, в ущерб связности изложения, намерен сосредоточиться в первую очередь на мотивах, двигавших событиями, а не на самих событиях. Не следует удивляться, если по этой причине я буду иногда останавливаться на деталях и обстоятельствах, не относящихся непосредственно к описываемому мною периоду.
Я не буду, в частности, детально углубляться в анализ причин войны, в которую оказалась втянута Россия, хотя она заметно влияет на общую политическую ситуацию. С тем чтобы не потерять из виду общей канвы, я, не останавливаясь на рассмотрении причин и хода этой войны, лишь выскажу мнение о том, что идея увеличить территорию России за счет Польши не входила в планы Екатерины II. Ее империя и без того слишком обширна, чтобы ее размеры не вели к ослаблению ее мощи. Однако, имея вкус ко всему необычному и романтическому[305], императрица думала, прежде всего, обеспечить себе славу, поставив последнюю точку в делах своих предшественников.
Планы царя Петра не заходили, однако, так далеко, как они заходят сейчас. Он ограничился тем, что сломил мощь Швеции и поработил Польшу, — чтобы господствовать на севере. Это, возможно, и побудило его не опасаться больше могущества Османской империи. Однако после того как русские убедились в никчемности турок они воспылали желанием принять участие в делах Европы. По мере того, как турки теряли свое влияние на эти дела, они уступали свою роль России.
Эта новая нация, сама удивленная откликом, который ее действия находят в политическом мире, начинает действовать, обдумывая свои ходы только после постигающих ее неудач. Все ее замыслы крупномасштабны, ее действия дерзки. Судите сами, что может совершить эта нация во главе с государыней, которая страстно ищет славы и характер которой сильнее ее разума, по крайней мере, когда речь заходит о соответствии замысла способу его осуществления, государыней, в характере которой мужество, последовательность и энергия часто сталкиваются с упрямым нежеланием внимать голосу разума. Не приходится удивляться тому, что Россия остается верной планам Петра I, замышляя возродить Греческую империю на Востоке, создать независимые (Дунайские. — П.С.) княжества, унизить тех, кто стремится ее уничтожить, распространить свою торговлю от Черного до Средиземного морей, от Каспийского моря до Индии и Америки. Это может закончиться, однако, только тем, что самые могущественные обогатятся за счет самых бедных, держава, которой она сейчас опасается, усилится, а сама Россия будет вынуждена разделить со своими соперниками влияние, которым она пока одна пользовалась в Польше.
Длительное пребывание ее войск в этом королевстве возбудило опасения со стороны турок, усмотревших угрозу в действиях России, направившей свои войска к тому участку их границы, где эти войска могли в наибольшей степени быть опасными для Турции. Турки были разбиты, и победа сопутствовала их врагам до берегов Дуная.
Венский двор, в свою очередь, также опасался соседства с этой нацией, предприимчивой по природе, тем более, что она может позволить себе быть таковой, не подвергаясь риску. Еще более приходилось опасаться этому двору изменений в настроениях населяющих Австрию народов, которые приняли ее корону только из опасения, что в противном случае они попадут в зависимость от русских, с которыми их объединяет религия.
Эта обеспокоенность и продиктовала австрийцам необходимость подписания договора с Портой 6 июля 1771 г., согласно которому австрийцы обязуются возвратить Турции путем переговоров либо военной силой завоеванные (Россией. — П.С.) провинции в обмен на территориальные уступки со стороны Турции в пользу Австрии и выплату суммы в 20 тысяч кошельков. Ратификации этого договора были разменены, и вскоре венский двор получил условленную сумму[306].
В польских делах Екатерина II действует амбициозно, понуждаемая тщеславием, тогда как в войну с турками она вступила из высокомерия. Однако будучи застигнутой врасплох договором, который турки подписали с австрийцами, и не решаясь дать другой ход своей политике, она слепо приняла план, предложенный королем Пруссии, суть которого состояла в том, чтобы успокоить венский двор и пробудить его алчность, предложив Австрии часть Польши, которая компенсировала бы для нее передачу Валахии и те денежные суммы, которые она могла надеяться получить от Порты. Россия поручила прусскому королю довести этот план до сведения австрийцев. Последние, видя согласованные действия двух держав и не желая подвергаться риску войны с ними, приняли предложение России и прусского короля.
Потребовалось менее года, чтобы они сменили систему и подписали с Россией 25 июля 1772 г. договор, в соответствии с которым эта держава взяла на себя обязательство отказаться как от присоединения, так и требований независимости Валахии и Молдавии. Обе участницы этого договора взаимно гарантировали друг другу получение тех частей Польши, которыми они стремились обладать.
Прусский король не стал участником этого договора, но подписал аналогичный с Россией на таких условиях, что если две вышеупомянутые державы получили только территории, то этот государь обеспечил себе бесценное преимущество, поскольку обеспечил себе контроль над торговлей в устье Вислы, торговлей лесом и частью соляных копей Польши. Отныне Пруссия имеет все возможности приступить к созданию собственного военно-морского флота, который увеличит ее мощь и придаст ей новую энергию. Прусская монархия становится прочным и компактным государством, простершим свои границы от Германской империи до берегов Балтики и даже до России, поскольку в состав переданных ей земель вошли проходы, которыми пользовалась эта держава для того, чтобы вступить на территорию Германии. Теперь прусскому королю предстоит удерживать этот барьер, который он сможет открывать и закрывать по своему желанию. В случае возникновения каких-то разногласий с Россией, в частности, если однажды он захочет присоединить Курляндию, он уже не встретит трудностей со стороны Ливонии. В прошлом он мог напасть на Россию только одним путем: двигаясь через узкую полоску земли, лишенную травы, которой можно было бы кормить лошадей, и не имеющую никакой реки для облегчения продвижения и подвоза продовольствия. Сейчас же он скоро будет иметь достаточное количество кораблей для перевозки целой армии вдоль побережья. За два марша он может достичь Риги и, продвинув другой корпус в направлении Москвы, он отрежет Петербург и прибалтийские провинции от остальной части Империи. Если же он захочет нанести ущерб российской торговле, то для этого будет достаточно направить пять или шесть фрегатов на рейд Данцига — и Рига вскоре потеряет те преимущества, которыми она пользовалась во ввозе товаров из Польши или тех, что доставлялись по Висле.
Таким образом, получается, что Россия заплатила своей кровью и деньгами за выгоды, в которых больше величия, чем реальной пользы. Турки для нее слишком слабый соперник, победа над ними не даст того эффекта, это ложный триумф. По отношения к ним она (Екатерина. — П.С.) забывает о соображениях безопасности. Опасность с их стороны существует лишь в ее воображении, хотя она и пользуется рассуждениями о турецкой опасности для того, чтобы удовлетворить свою страсть к расширению границ Империи. Для достижения этой цели она готова даже пожертвовать своей честью и репутацией, действуя вразрез с собственными, вполне разумными заявлениями о невмешательстве в дела Польши и невозможности ни при каких условиях раздела этого королевства.
В промежутке между подписанием двух договоров о разделе и обменом их ратификациями в Европе произошло одно из тех событий, которые готовятся в тени и полном молчании и которые, оставаясь неизвестными общественному мнению, поражают и возбуждают его. В Швеции в течение некоторого времени были сильны опасения, что наследник престола, придя к власти, установит в стране чисто монархический строй, ввергнув страну в деспотическое правление. Чтобы предотвратить это, нация сначала уменьшила прерогативы короля, увеличив власть сената. Однако злоупотребления, допущенные последним, породили страх установления аристократического правления. Вследствие этого наиболее широкие полномочия нация оставила своим представителям. Эта реформа, однако, не удалась, выродившись, по крайней мере, во время проведения последнего заседания Консистории, в полный деспотизм. Конечно, элементы деспотизма необходимо присутствуют в деятельности любого правительства, любой исполнительной и законодательной власти, сосредоточенных в руках одного человека, нескольких семейств или собрания всех сограждан. Однако в подобной форме правления нет ни капли свободы, поскольку способность одного, амбиции нескольких или напор со стороны большинства, если они ничем не ограничены, способны лишить любого человека его собственности, личной свободы и даже жизни, лишая его возможности защитить себя на основании законов. Тирания, в которую дали себя вовлечь Генеральные Штаты на своем последнем собрании, вернула трону многих его сторонников. Нельзя было не заметить с прискорбием, что люди бедные, но любящие хорошо пожить и приобрести средства, почти всегда предаются тому, кто больше им предложит. Предоставленные сами себе, эти люди совершают поступки, предосудительные и для своей репутации, и для свободы. Вожди же их, преследующие интересы, не имеющие ничего общего с государственными, для того чтобы приобрести хотя бы видимость власти, препятствует прохождению самых полезных законопроектов, которые могли бы сделать подданных более свободными. Все они с легкостью высказываются за принятие новой конституции, стремясь, однако, добиться этого постоянными интригами внутри и вне органа народного представительства. Таким образом, чтобы пресечь подобные злоупотребления, шведы решили с полной твердостью и бескорыстием дать себе монарха. На этих принципах и произошла революция в Швеции, тем более счастливая, что она не стоила ни капли крови.
Екатерина II была поражена этим событием, шедшим вразрез как с ее планами, так и с заветами Петра I, в лучах славы которого она греется со своим обычным тщеславием. Она немедленно отдала приказ двинуть войска на границу и вооружить остатки своего флота; ее военный министр был отправлен произвести рекогносцировку в Финляндии.
Одновременно она попросила у прусского короля совета относительно дальнейших действий. Этот государь рекомендовал ей не горячиться, сделать паузу, чтобы посмотреть, что происходит внутри шведского государства и подождать, как Европа объяснит себе действия короля Швеции. Никаких внутренних выступлений в этом королевстве не последовало. Франция и Испания заявили, что они не потерпят насилия над королем и нацией, которые сделали только то, что были вправе сделать. Англия и венский двор дали понять, что они слишком заинтересованы в сохранении спокойствия, чтобы не опасаться последствий планов, которые вынашивала Россия против Швеции, или принять участие в мерах принуждения против ее монарха.
Отсутствие энтузиазма, демонстрировавшееся королем Пруссии относительно возможности своего вступления в спор, издержки которого легли бы на него, лишив его всех плодов собственных интриг, неуверенность России в том, что она встретит в Швеции поддержку своим усилиям ввергнуть эту страну в анархию, энергичный характер заявлений, сделанных Францией и Испанией, а также сомнения относительно позиции Англии и Вены, возникшие вследствие их заявлений, не остановили бы враждебность Екатерины II, если бы она не была вынуждена поддерживать всеми имеющимися в ее распоряжении силами высокомерную и претенциозную политику в отношении Турции.
Этот характер ее политики открыто проявился в Фокшанах, где проходил конгресс, который должен был положить конец четырехлетней войне, в которой Порта демонстрировала крайнюю слабость. Ее армии скорее походили на согнанную со всех концов шумную толпу черни, чем на солдат, призванных вести войну. Правительство намеренно оставило в резерве корпусы янычар и спагов, потому что оппозиционные настроения, распространившиеся среди них, были причиной постоянных беспорядков в этой империи. Контроль над этими корпусами часто позволял низлагать султанов, если те выражали хотя бы малейшее недовольство своей элитной стражей, несмотря на то, что всегда считали их плохо подготовленными. Турецкие султаны никогда не пользовались опытом, накопленным другими европейскими нациями, поэтому их армии и не в состоянии сражаться. Вынужденный, однако, в силу своего характера часто менять своих генералов и министров из страха, чтобы кто-нибудь из них не стал слишком могущественным, нынешний султан столкнулся с двумя главными последствиями. Одно из них состоит в том, что турки оказались неспособными делать выводы из своих ошибок и правильно оценивать замыслы своих врагов; другое — в том, что генералы и министры, не имея возможности получить необходимую подготовку, почти всегда действуют, сами не понимая, что они делают. Государство, организованное подобным образом, нежизнеспособно. Если бы Россия была тем, чем ее считают люди пристрастные, Османской империи уже не существовало бы.
Поколебав этот колосс, но оказавшись неспособной опрокинуть его, Екатерина, истощенная своими победами, оставила часть своих планов, сведя их к стремлению заключить мир, который оставил бы ей средства нанести в свое время решающий удар. Ее уполномоченные потребовали в качестве цены этого мира сначала на конгрессе в Фокшанах, затем в Бухаресте независимости татар и крепостей, которые охраняют подходы к Крыму, Таманский полуостров, Кубань, передачу России портов Керчь и Еникале, свободное плавание для всех видов русских морских судов в Черном море и в Архипелаге и, наконец, полную свободу торговли. Таким образом, уже утвердившись в Кабардии, имея возможность расширить свои владения до Кубани, обладая морскими крепостями и портами в Крыму, военным флотом и процветающей торговлей, Россия становится в полном смысле этого слова хозяйкой Черного моря. Константинополь не может больше считаться надежным и незыблемым центром, на который могло бы рассчитывать любое правительство. Доставка продовольствия в этот город по Черному морю может быть (в любой момент — П.С.) перекрыта. Отныне он открыт любым потрясениям, его содержание и защита становится трудным делом. Стремление к заключению мира, однако, оказалось не столь велико, чтобы заставить турок смириться с условиями, которые хотела продиктовать им Екатерина, и Великий визирь, который подвергался такому же риску, если бы он подписал позорный мир, как и продолжив неудачную войну, предпочел вновь испытывать свою военную судьбу.
Действия России оправдывают выбор султана. Господину Румянцеву был дан приказ перейти Дунай и отбросить турок до Константинополя. Он выполнил его, но, столкнувшись с нехваткой продовольствия, снял осаду Сирийстрии после неудачной попытки взять город и вернулся на левый берег (Дуная. — П.С.).
Это поколебало решимость Екатерины. Она принялась жаловаться на австрийцев, которые, по ее словам, не выполнили свои обязательства по снабжению ее армии, и упрекать своего генерала в недостатке способностей и мужества. Правительство воспользовалось этой возможностью для того, чтобы убедить ее сделать более умеренными свои чрезмерные требования, адресованные к Порте, и умерить свои разрушительные амбиции. Она согласилась с этим и поручила господину Обрезкову не только возобновить переговоры с турками, но и смягчить свою позицию по всем пунктам. Она приказала своему уполномоченному министру не только не открывать первым свою позицию, но заставить турок первыми изложить свои предложения. Однако и этот метод не дал до сих пор ожидаемых результатов. Ее ресурсы истощаются, в благородном сословии начинается ропот в связи с тяготами, которые легли на его плечи.
Разрыв бухарестского мирного конгресса показал благородному сословию, что неудача предыдущего конгресса в Фокшанах не была вызвана опалой, постигшей князя Орлова. Он был на этом конгрессе первым полномочным министром. При дворе говорили, что роскошь и высокомерие, которые он демонстрировал, возмутили турок. По возвращении, которое было ускорено известиями о событиях в Петербурге, императрица, когда он уже был в нескольких милях от столицы, запретила ему въезд. Вскоре этот приказ был подтвержден указом о его освобождении от всех занимаемых должностей. Екатерина так любила его, что желала выйти за него замуж, однако, ветреный и непостоянный, он давно доставлял ей одни огорчения, был неверен и позволял себе оскорбительный тон в обращении с ней. Враги князя воспользовались его отсутствием, чтобы разрушить в уязвленном сердце (императрицы. — П.С.) намерение превратить права на престол в игрушку, навсегда покончив с правами законного наследника, уже ущемленными при провозглашении его матери самодержавной императрицей всероссийской. Для того, чтобы усилить чувство отвращения у государыни (к Орлову. — П.С.), им удалось направить усилия патриотов на замену Орлова Васильчиковым, который был неизвестен и чей упрямый характер не заслуживает упоминания. Господин Панин принял большое участие в этой интриге. Он участвовал в революции, которая стоила трона и жизни Петру III при условии, что великий князь, который был ему доверен, будет объявлен соправителем империи. Дерзость Орловых свела на нет это обязательство и заставила его опасаться, что она (императрица — П.С.) может пойти на то, чтобы передать корону детям, рожденным от связи Екатерины II с одним из братьев. При падении последнего (Г. Орлова. — П.С.) он (И. Панин. — П.С.) дошел до того, что занялся инсинуациями среди сторонников своего воспитанника. Они сводились к тому, чтобы потребовать от матери, чтобы ее сын женился как можно раньше. Высказывалась идея воспользоваться этой церемонией для того, чтобы провозгласить молодого великого князя соправителем: господин де Сальдерн, рожденный в землях, которые великий князь унаследовал в Германии, вступил в заговор. Он смог получить у него письменную доверенность обсуждать план, составленный ранее с участием лиц, способных успешно выполнить его. Вооруженный этим документом, этот человек, одержимый неимоверными амбициями, счел себя достаточно сильным, чтобы прекратить обхаживать графа Панина, и поссорился с ним. Великий князь поддержал своего воспитателя и пожелал вырвать из рук г-на де Сальдерна, документ который выставлял его в сомнительном свете. Пришлось прибегнуть к угрозам, но этот придворный уступил им только после того, как показал этот документ Екатерине. Подобная доверенность открыла глаза государыне на опасности, которым она подвергалась, пытаясь изменить принципы, на которых было основано ее восшествие на престол. После больших волнений, свидетелем которых был весь двор, не зная, впрочем, их причины, она сняла опалу с Орловых и принялась демонстрировать своему сыну решимость держать его в зависимости, из которой он не мог выйти. Ее недовольство достигло таких масштабов, что он был лишен своих наследственных владений в Германии. Она заставила его подписать не только акт обмена Голштинии и отказ от прав на Шлезвиг, но и акт передачи прав на Ольденбург и Дельменгорст епископу Любекскому и его ветви (Голштейн-Готторпского дома. — П.С.), оставив ему (Павлу Петровичу. — П.С.) только место на скамье владетельных князей Империи.
Это был единственный акт, которым сопровождалось совершеннолетие великого князя. После того, как он ратифицировал договор, согласно которому у него были отняты его владения, он как бы вернулся в свое детское состояние, в котором, как представляется, его собираются держать как можно дольше. Он не принимает никакого участия в государственных делах, даже его развлечения отмечены некой натянутостью. Гнет, под которым он находится, побуждает его к терпению, но время от времени он высказывается против воли своей матери.
Не будучи в состоянии противиться женитьбе великого князя, которую тот желал, Екатерина решила сама изучить характер той, с кем ее сын соединит свою судьбу. Король Пруссии предложил государыне остановить свой выбор на принцессе Гессен-Дармштадтской. Ознакомившись с описанием характеров трех дочерей ландграфини, сделанным графом Ассебургом, она пригласила ландграфиню с тремя дочерьми прибыть к ее двору. Счастье, которое обещал подобный союз, побудило их принять приглашение. Прием был великолепен, и через некоторое время после прибытия свадьба великого князя с принцессой Вильгельминой была отпразднована в Петербурге. Что было наиболее примечательно в этой церемонии, так это то, что она не привлекла в столицу никого из соседних провинций. Москва — второй город империи, где проживает самое богатое дворянство, никаким образом не отреагировала на это событие, которое может оставить население безразличным только в том случае, если оно чувствует себя угнетенным. Празднества, которые были устроены по этому случаю, еще не завершились, когда, несмотря на настоятельные просьбы великого князя, императрица заставила господина Панина покинуть дворец. Такое обращение было, однако, смягчено как вознаграждением, которое пролилось на него, так и письмом, в котором императрица призывала его отдаться работе его министерства. Это письмо несказанно удивило весь двор, знавший о существовании замысла назначить заместителем господину Панину господина Остермана, который должен был пользоваться полным доверием императрицы. Она действительно написала своему посланнику в Швеции, что позволяет ему вернуться как можно раньше. Однако господин Остерман, который до этого проявлял желание покинуть свой пост, ответил, что время года было неблагоприятным для его возращения и он желал бы тронуться в путь весной. Подозревают, что он прислушался к советам партии, противной Орлову, и постарался избежать участия в плане, которое доставляло ему трудное в силу внутренних обстоятельств место. Екатерина была заметно недовольна его отказом, но скрытность, которая так для нее характерна, может быть, маскирует совсем иные чувства в отношении господина Остермана, чем те, которые она питала ранее.
К придворным интригам, которыми она занята, добавилось еще одно событие, требующее ее внимания, и которое всегда останется неприятным, вне зависимости от результата, которым оно закончится.
Три месяца назад восстали яицкие казаки, но информацию об этом она получила всего лишь три недели назад. Казаки Дона, также недовольные, в первый момент, казалось, хотели присоединиться к тем из их орды, кто ушел в Китай. Киргизы, независимый народ, часто грабящий земли, пограничные с Китаем, то на китайской, то на русской стороне, воспользовались беспорядками в России и угрожают подвергнуть набегу шахты Екатеринбурга, которым они могут нанести непоправимый ущерб. Некто Пугачев, ранее бывший казачьим офицером, является душой этих выступлений. Он выдает себя за Петра III и, не ограничиваясь тем, чтобы провозгласить собственные права на корону, говорит, что озабочен судьбой своего сына, великого князя. Эти бандиты застали врасплох нескольких командующих удаленными крепостями и после отказа их сдаться завладели ими. Губернаторы Казани и Астрахани просили направить им дополнительные войска для того, чтобы сопротивляться восстанию. Против мятежников направлен генерал Кар с тремя полками финляндской дивизии. Его поход был неудачным, противник неожиданно напал не него, что привлекло на его сторону новые силы. Эти выступления не вызовут, как кажется, всеобщей революции, но имущественный ущерб и людские потери, которые они повлекут за собой, еще более усугубят положение империи и усилят внутреннюю напряженность. Указ о новом рекрутском наборе вверг народ в отчаяние. Он выполняется с трудом, жители целых деревень покидают свои жилища, крестьяне убегают в леса, разбои на большой дороге достигают Новгорода.
Между тем, нынешняя турецкая кампания закончилась так же неудачно, как и предыдущая. Часть русской армии, перешедшая в ноябре Дунай для того, чтобы овладеть Варной, потерпела такую неудачу, что это деморализовало русских и вдохнуло надежду в турок. Это еще одно доказательство того, что русские не в состоянии преодолевать препятствия, которые встречают в своем победоносном шествии на другом берегу Дуная.
В результате Россия напоминает сегодня больного, находящегося в угнетенном состоянии после того, как он пережил и радость спасения, и конвульсии. Она не может сохранить за собой те территории, которые завоевала у турок, а то, чем она завладела за счет Польши, не только не усилит ее мощи, но и, наоборот, ослабит ее, так как соседи ее сделались более могущественными из-за того, что сама она (Россия. — П.С.) увлеклась планами, которые были ей явно не по силам и поставили ее политику в зависимость от хода событий.
Их действия усиливаются день ото дня, Екатерина II, по ее собственному выражению, не может даже помышлять о том, чтобы избавиться от их влияния. Я безуспешно доводил до ее сведения намерения короля, состоящие в том, чтобы показать легкость задачи разделения венского и берлинского дворов и опоры на Англию для того, чтобы избегнуть опасностей, которые таят в себе ясные намерения этих двух дворов. Она одержима мыслью о том, что должна всем пожертвовать, чтобы завершить со славой войну, которую начала. Она льстит себе тем, что если ей это удастся, она вновь сможет тем или иным образом стать хозяином положения.
Может статься, что внутренние конвульсии империи докажут ей необходимость принятия решений, менее зависящих от воли случая. Можно ожидать также, что мир с турками откроет ей глаза на опасности, в которые ее ввергают столь неосторожные связи.
Я заканчиваю на том месте, до которого меня довели события завершающегося года и желание сделать мое пребывание при этом дворе более полезным для интересов и службы Его величества.
II. Из бумаг великого князя Павла Петровича.
1. Письмо великого князя Павла Петровича Н. И. Панину от 2 сентября 1781 года[307]
Царское Село, сентября 2 дня, 1781
Граф Никита Иванович,
Отправляясь в чужие края для приобретения всего того, что только (можно — вставлено поверх строки — П.С.) из путешествия почерпнуть полезного для отечества, оставляю здесь детей моих под очами любезнейшей Матери моей, с полным следственно удостоверением о их сохранении и безопасности; покидаю на некоторое время отечество под Ея скипетром, а потому о благосостоянии его не имею сумнения.
Вы знаете мое сердце и душу и что я ни в чем другом не полагаю истиннаго моего удовольствия и верховной доверенности бытия моего, как в общем благе и его целости.
Сие чувство руководствовало и всегда руководствовать будет всем моим поведением. Оно соединяясь с сыновей любовью заставляет меня внутри души моей желать усердно, чтобы с настоящим царствованием продолжалось сколько возможно долгое благоденствие отечества.
Но природной мой перед ним долг и сердечная к нему привязанность столь велики, что одно его обезопасение занимает теперь всю мою душу и стало поводом сего письма моего, к вам моему истинному другу.
Воображая возможность произшествий, могущих случиться в мое отсудствие, ни чего для меня горестнее, а для отечества чувствительнее себе представить не могу, как естьлибы вышним провидением суждено было в самое сие время лишиться мне матери, а ему Государыни.
Таковое произшествие былобы истинное на нас посещение Божие.
Признаюсь вам, что щитаю оное таким ударом, которого возможность отдалил бы я совсем из моей мысли для моего спокойствия, естьлибы любовь моя к отечеству и долг мой пред ним не налагали на совесть мою обязательства огорчить себя воображением возможности сего произшествия для того, чтобы целость его и безопасность в толь несчастной момент не поколебимы остались.
Вот все мое намерение: а как основано оно на единой предосторожности, то и не хочу я волю мою теперь вам открываемою прежде времени облекать формой Государскаго повеления.
Я скажу вам только меры, которые признано надобным на сей нещастный случай и исполнение чего с полною доверенностию поручено вам, как моему искреннейшему другу, котораго любовь и усердие ко мне и отечеству и мне и ему, опытами совершенно доказаны.
Тобою вкоренены в меня все те чувствования, которые должны произвести благо нашего отечества.
В правоте души твоей и советах находил я всегда прямую стезю моего поведения, а отечество свою истинную пользу; и так погрешил бы я пред ним и пред собою, естьлибы не препоручил особенно вам исполнения всего того, что в отсудствие мое на таковой случай за нужно поставляю.
1-е. прошу вас и убеждаю, как скоро постиг бы момент нещастнаго произшествия, перейтить во дворец, и взять под ваше главное надзирание и попечение все то, что касаться может до сохранения и безопасности детей моих. С неограниченною доверенностию вручаю вам оное, и хочу, чтоб все вами по тому предприемлемое и разпоряжаемое имело силу и действие моего собственнаго повеления.
2-е. перенеся во дворец ваше пребывание, и поставя себя по воле моей попечителем детей моих, поручаю вам созвать немедленно (объявив сие — дописано сверху. — П.С.) полное собрание Сенату и Синода и прочесть (пред ними к протоколу — зачеркнуто. — П.С.) сиё мое к вам письмо, котораго содержание в тотже самой час и возымеет силу моей точной воли и повеления. (Обнародуй сие нещастное произшествие, а письмо сие объяви в Сенат — дописано снизу П.С.) при уверении о моем благоволение (к их верности и истинным заслугам сказать им — зачеркнуто. — П.С.) прикажи от имени моего Синоду, Сенату и трем первым коллегиям (чтобы возвестили в узаконенном порядке всем подданным нашего отечества о сем произшествии — зачеркнуто. — П.С.) о принятии от (всех — дописано сверху. — П.С.) них 2-ой присяги[308] (мне и сыну моему Александру как наследнику — дописано сверху. — П.С.) обнадежив непременностию попечения моего о истинном всех благосостоянии; объяви Синоду и Сенату и пр. что остались бы в прежней своего звании области до управления по государственным и текущим делам. (Равным образом составьте тогда немедленно и во дворце моем на время моего из отечества отсудствия и до моего возвращения особенной верховной свет, из особ, заслуживших мою доверенность кои суть: Граф Петр Иванович Панин[309],Фельдмаршал Князь Голицын[310], Фельдмаршал Граф Румянцев[311], оба брата Графы Чернышовы[312], Граф Брюс[313], Князь Репнин[314], Фельдмаршал Граф Разумовский[315], генерал-аншеф кн. Долгорукой[316], генерал-аншеф Вадковский[317] и Чичерин[318], коим заседать по старшинству чинов своих.
Симу Совету прочтите также сие письмо, содержащее в себе точную волю мою и объявите ему моим именем, что до возвращения моего вверяю вам обще с ними сохранение в ненарушимости государственнаго уже заведеннаго порядка и общей тишины вследствие чего — зачеркнуто. — П.С.).
3-е. Сенат, Синод, три первые коллегии, все протчие гражданские, военные и судебные места, шефы разных команд и установлений, словом сказать все места и все шефы без изъятия, должны без малейшей остановки отправлять по их званиям все обыкновенные текущие дела, на узаконенных основаниях, которые все имеют оставаться до моего возвращения точно в прежнем положении не вводя в нем никаких и ни малейших новостей и перемен по каким бы то придчинам и поводу ни было. (Верховной совет следуя сам симу правилу должен смотреть бдительным оком, чтоб оно везде и во всей точности соблюдаемо было — зачеркнуто. — П.С.)
4-е. вам мой искренний друг поручаю особенно в самой момент предпологаемаго нещастия, от котораго упаси нас Бог, весь собственной кабинет и бумаги Государынины собрать при себе в одно место, запечатать Государственною печатью, приставить к ним надежную стражу, и сказать верховному Совету волю мою, чтобы наложенные вами печати оставались в целости до моего возвращения.
5-е. Буде бы в каком ни будь правительстве, или в руках частнаго какого человека, остались мне неизвестные какие бы то ни было повеления, указы или разпоряжения в свет не выданные, оным до моего возвращения остаться не только без всякаго и малейшаго действия, но и в той же не проницаемой тайне, в какой по тот час сохранялись.
Со всяким же тем, кто отважится сие нарушить, или подаст на себя справедливое подозрение в готовности преступить сию волю мою, верховный совет имеет поступить по обстоятельствам как с сущим, или же с подозреваемым Государственным злодеем, представляя конечное судьбы его решение самому мне по моем возвращении. За сим пребываю вашим верным и благожелательным
Павел.
2. Записка разговора Его императорского высочества великого князя Павла Петровича с Королем Польским в бытность великого князя в Варшаве в 1782 году[319]
Запись наиболее замечательных высказываний великого князя в разговоре со мной[320]
Об императоре[321]:
Я не доверяю ему более, чем кому-либо другому.
Я был раздосадован, увидев, сколь посредственны наши укрепления в Киеве. Это место может оказаться слишком важным в условиях, когда император так сильно приблизился к нам.
Это человек столь беспокойный и столь фальшивый, что при нем нельзя спокойно лечь спать, не боясь быть разбуженным появлением какого-либо прожекта или неожиданной каверзой с его стороны.
Поскольку Вы знаете историю с медалью, отчеканенной к рождению моего второго сына, я могу Вам рассказать и остальное. Именно он задал моей матери вопрос, которым она было столь польщена — «Желаете ли Вы, Ваше Величество, чтобы я присоединился к Вам в Херсоне с маленькой или очень большой компанией?»[322] Судите сами о фальшивом и легкомысленном характере этого государя.
Польстив моей матери столь опасно, он тем же манером пришел ко мне в апартаменты и не только рассказал всю эту историю, но и вполне ясно дал понять, что насмехается над этой идеей[323]. Он сказал между прочим: «Императрица меня однажды спросила — не забыли ли Вы, что являетесь римским императором? Но не в моих привычках строить иллюзии насчет подобных «прекрасных химер»».
Я держался и буду держать с ним очень осторожно.
Внимательно наблюдая за ним, я нашел, что о его беспокойном характере можно судить по его внешности. Даже когда он молчит, он часто беззвучно шевелит губами, подобно человеку, повторяющему про себя какую-то роль. Постоянные движения пальцев показывают, что он себя не контролирует. Я хороших ходок. Но мне было очень трудно поспевать за ним, он ходит очень мелкими шажками, но чрезвычайно быстро.
Я рад тому, что слухи о его желании застать нас врасплох не оправдались. Мне было бы с ним очень неловко. Я не смог бы вести себя с ним так, как я веду себя с Вами в ответ на Вашу просьбу говорить предельно откровенно.
С досадой узнал я и о его идее сопровождать Нас в Италии. Это испортило бы все удовольствие от путешествия.
Надеюсь, Венецию я увижу без него.
Но чтобы заставить его забыть о замысле сопровождать меня, я буду вести себя с ним настолько холодно и церемонно, насколько это возможно. Попытаюсь предпринять следующее: по прибытии в Вену начну с того, что скажу, что останусь здесь на несколько дней, потом — еще на срок дней в 10, который нужно будет обязательно продлить.
Вставка на полях [Может так статься, что ему вдруг взбредет в голову осматривать со мной армейские части на всем протяжении нашей дороги. Но у меня есть отличное средство, чтобы избежать и этого. Просто буду просить его останавливаться в каждом полку — пехоты, кавалерии, гусаров и артиллерии.]
О короле Пруссии:
Признаюсь, к королю Пруссии я испытывал глубокое почтение задолго до того, как его увидел. Именно в таком расположении к нему я отправился в Берлин, и это правда, что я не мог не получить удовольствие от общения с ним, да и, как мне казалось, он сам беседовал со мной с большой охотой.
Тем не менее, несмотря на мое восхищение им, я заметил одну его черту, которая меня поразила. Он охотно смеялся над тем, что, по моему мнению, не должно бы казаться смешным подобному ему человеку. К примеру, я был удивлен, увидев его смеющимся до слез над перепалкой двух актеров из итальянской Оперы-буфф, показавшейся мне вполне заурядной — они просто срывали друг с друга парики.
Не хочу упоминать о поступках короля по отношению к его соседям. Однако не могу и молчать о том, как грубо и подозрительно он относится к своему прямому наследнику, которого я люблю всем сердцем и веду себя с ним столь же искренне, как и отвечаю Вам. За его честность и порядочность я Вам ручаюсь. Я не должен был бы говорить об этом. Это слишком напоминает мне собственную ситуацию.
О себе:
Все как-то не так. Я хочу быть и являюсь хорошим сыном и хорошим подданным. Я действительно часто страдаю от того, что прекрасное образование, данное мне Паниным, и те природные качества, что дарованы мне Богом, остаются, так сказать, втуне. Я страстно желаю быть полезным моей родине, вернуть долг благодарности и любви, которую испытывает ко мне русский народ, пока возраст и здоровье позволят работать. Я искренне говорю, что страдаю от того, что вижу себя низведенным до бездействия, до самой унизительной никчемности. И тем не менее я нахожу в себе силы подчиниться судьбе, что и делаю сейчас. Вот почему меня задевает, что мои чувства и поступки неправильно истолковываются. В конце концов, вокруг меня достаточно шпионов, чтобы об этом знали. Кажется, что расстраивать и унижать меня без всякой на то причины и пользы при каждой встрече доставляет удовольствие.
На это я ему сказал: «Вам делает честь то, что Вы отвергли обращение тех в Москве, кто призывал Вас на трон во время той памятной прогулки верхом, что Вы совершили в 1774 году»[324]. Он мне ответил с удивлением: ко мне действительно обращались. Но это было не столь определенно, как Вам об этом, очевидно, рассказали. У меня нет никаких помыслов, которые могли бы беспокоить мою мать.
Тогда я ему сказал: «Да благословит Бог Ваше сыновнее послушание. Если же Вас кто-то и огорчает, так это, вероятно, те злые люди, которыми заполнены все дворы. Они пытаются продемонстрировать монарху собственную необходимость и полезность, внушая ему подозрения относительно его наследников».
Он мне ответил: «Согласен, именно это и происходит вокруг меня. Исключительный фавор Потемкина основывается не только на привязанности к нему, но и на опасениях в том роде, что Вы говорите. Тем не менее, опасения эти должны были бы сильно притупиться сейчас, когда я нахожусь вдалеке от своей страны. А потом, кто знает, вернусь ли я когда-нибудь из этого путешествия?»
Я сделал все, чтобы удалить из его головы эти пагубные идеи. Он воспринял все, что я ему рассказал, сердечно, заметив шутливо: «Ну, хорошо. Я вернусь через десять месяцев, поскольку данное мне разрешение ограничивается этим сроком». Тогда я ему сказал, также смеясь, чтобы он добавил еще десять месяцев: «Вы же видите, что уже в самом начале Вы вынуждены были сдвинуть сроки Вашего отъезда на несколько недель. Трудно предположить, что это не повторится по мере того, как Ваше путешествие будет продолжаться. Но, как бы там ни было, дайте мне надежду видеть Вас вновь на обратном пути». На это он мне сказал: «Я хорошо знаю, что увижу Вену, Италию и Францию, но не вполне уверен, каким путем захотят, чтобы я вернулся. Есть некоторые столицы, относительно которых у меня могут появиться трудности. Следовательно, я пока ни в чем не уверен». Я продолжил в том смысле, что «в любом случае можно быть уверенным, что Вам придется преодолеть какое-то расстояние по территории Польши. Если так, мы смогли бы снова увидеться в каком-нибудь месте, например, Белостоке, у моей сестры». «Ах если так — всем сердцем», — отвечал он мне с пылкостью.
Потом он вернулся к разговору о своем положении и Потемкине. Относительно последнего он подтвердил справедливость анекдота об Алексее Орлове, который, увидев однажды императрицу грустной и смущенной, приписал это опасениям относительно Потемкина, которого она сама сделала его слишком влиятельным. «Чем Вы огорчены, Государыня? Скажите лишь слово — и Ваша грусть пройдет. Во всяком случае, Вы можете рассчитывать на мои услуги». Он подтвердил, что Алексей Орлов сам рассказывал о предложении, сделанном им его матери. Когда же я напомнил ему о принципах чести, которых он так твердо придерживался, он сказал: «Дай, Боже, чтобы я никогда не отступил от них».
Когда речь зашла о Неаполе, он заявил: «Согласитесь все же, что моя встреча с Разумовским[325] будет очень забавной. По крайней мере, из нас двоих не я буду более смущен». В этой связи в другом случае он, говоря со мной, оценил свой первый брак как несчастливый. Казалось, он был расположен говорить об этом свободно, но я избежал разговора на эту тему.
Относительно кодекса законов, составленных его матерью, он однажды высказался о нем неодобрительно, дав понять, что считает крупным недостатком отсутствие в нем четкого порядка наследования трона. Как и в других случаях, я постарался избежать дискуссии на сей счет.
О разных лицах:
Из всех моих кузенов по Голштинскому дому только коадьютер Любека обладает характером, который можно уважать. Всем остальным место в клинике для душевнобольных. Поскольку я попытался попросить его сделать исключение для короля Швеции, он мне ответил, что действительно этот король обладает некоторыми качествами, скорее блестящими, нежели основательными, но один из его братьев демонстрировал признаки не просто помешательства, но даже буйного помешательства. Правда, он выказал большое сожаление относительно того Голштинского принца, который утонул. [Что же касается содомических вкусов короля Швеции, он говорил, что ему об этом ничего не известно — зачеркнуто.]
[О германской нации — зачеркнуто.] Несколько раз он затевал со мной разговор о немецкой нации, проявляя к ней самое большое уважение. Он с удовольствием повторил тот пассаж из Вольтера, где автор говорит, что французы ему кажутся детьми рода человеческого, англичане — людьми зрелыми, а немцы — стариками. Именно постоянству и твердому характеру немецкой нации он приписывает то усердие, с которым ее представители служат Прусскому королю, несмотря на его жестокость, несправедливость и капризы, которые он часто вымещает на своих подданных, гражданских и военных.
Каждый раз, когда он упоминал о Панине, он делал это с самой большой нежностью и крайним почтением.
Он выразил желание, чтобы нынешний брак герцога Курляндского был признан его матерью.
О Комарицком он мне наговорил тысячу приятных вещей. Он не только был крайне удовлетворен тем, как тот выполнил возложенные на него поручения, но оценил его в высшей степени приятным по своим манерам, даже сказав: «Если бы я не знал, насколько он к Вам привязан и как Вам полезен, уверяю, что просил бы Вас уступить его мне. По крайней мере, я Вас прошу разрешить ему еще раз повидаться со мной во время моего путешествия».
О Браницком он мне обронил несколько вещей, которые показывали полное неуважение к нему, вполне, впрочем, заслуженное.
Много спрашивал он меня и на свой собственный счет. Я прямо говорил ему и хорошее, и плохое из того, что я о нем думаю.
Кроме прочего, Великий князь сомневался даже в своем благородном рождении. Я разуверил его в этом.
Касательно Деболи он много говорил мне в его пользу. И между прочим следующее: «Это не тот человек, которого можно было бы назвать обаятельным и любезным, но это человек, который Вам верен, очень точен, предельно внимателен, чрезвычайно осторожен, честен, пользуется уважением. Следовательно, Вы можете быть им очень довольны».
О гетмане Разумовском он говорил мне как о человеке, находиться в обществе которого очень приятно.
О бывшем саксонском посланнике[326]. Он, как мне показалось, не знал, что именно по его нескромности до Императрицы дошла переписка Великого князя с графом Штакельбергом[327]. Когда я его спросил, почему посол не получил разрешения приехать в Вишневец, он ответил мне, что не знает. В остальном же, всякий раз, когда называлось имя графа Штакельберга, Великий князь отзывался о нем весьма положительно.
Поскольку, однако, он как-то обронил нечто, походившее на осуждение характера связей этого посла в Польше, в частности, с Понинским, я ответил ему: «Вспомните о том, какого рода поручения выполнял Штакельберг с 1773 по 1775 годы и Вы не будете удивляться, что он действовал как тот персонаж из Евангелия, который, увидев, что на его праздник не пришли те, кого он приглашал, позвал на него хромых и убогих. Так и Штакельберг, общаясь с подобными людьми, только выполняет поручения своего двора выразить им благодарность, действуя порой досадным для меня образом. Он, в частности, просит для них отличий. Но, слава Богу, время подобных людей скоро кончится. Надеюсь, что больше не будут возникать недоразумения подобного рода, и отныне мы придем к взаимному убеждению, что Россия должна смотреть и на тех, кто мне предан, как на своих лучших друзей в Польше. Я же, со своей стороны всемерно стараюсь увеличить в моей стране число тех, которые полагают, что каждый добрый поляк, выражающий чувство патриотизма, будет считаться хорошим русским. Я надеюсь все же, что постепенно и даже в недалеком будущем общественное мнение начнет называть русскую партию в Польше партией честных людей».
Эти мои слова, как мне кажется, доставили ему великое удовольствие.
Разговор на эту тему вызвал множество других замечаний с его стороны, относящихся как к Польше, так и ко мне лично. Вот основное из того, что он сказал:
— Довольны ли Вы тем, как устроен сегодня Постоянный совет?
К.: Не совсем.
В. К.: В чем Вы хотели бы его изменить?
К.: Я не хотел бы давать Вам поверхностного ответа. Я думаю, что Вам самому понравилось бы больше, если бы я проинформировал Вас на этот счет со всеми возможными деталями.
В. К.: Это верно.
К.: Хотя я стараюсь не позволять себе обольщаться, так как не привык к успехам, я все же верю в то, что когда-нибудь установлю с Вами прямую и регулярную переписку, к которой не будут иметь отношения наши послы.
В. К.: Относительно этого я Вам скажу откровенно — думаю, что в подобного рода переписке монархов всегда присутствует больше неудобств, нежели пользы. Но это ни в коей мере не должно уменьшить доверия, которое, как я надеюсь, Ваше Величество питает к моей искренней и прочной дружбе. Вот почему я осмеливаюсь повторить, что Вы можете достаточно смело доверить мне все, что Вы могли бы пожелать.
К.: Говоря вкратце, мои пожелания относительно Польши и меня самого исполнятся тогда, когда я увижу себя в состоянии стать союзником, полезным России. В силу формы нашего нынешнего правления Польша лишена реальной силы и возможности проявлять политическую активность, так что она, скорее, является тяжелым грузом для России. Мы постоянно жалуемся России на козни, которые чинят другие наши соседи. России часто не остается ничего другого, кроме как говорить с ними от нашего имени. Но именно это часто доставляет России трудности, стесняет ее, поскольку другие соседи несправедливы и настойчивы, и хотя Россия вполне чувствует, что слишком большие территориальные захваты других соседей в Польше могут стать невыгодными России, ей, разумеется, не пристало ссориться с другими державами из-за каждой жалобы со стороны Польши. Россия не встретила бы подобных затруднений, если бы Польша стала сильной и могла до некоторой степени сопротивляться другим своим соседям, избавившись попутно и от страха перед Россией и ее сокрушительной мощью, необходимой для того, чтобы Польша не прекратила пользоваться дружбой союзников и поддержкой России. Если будет так, мне кажется, что интересы самой России потребовали бы, чтобы она позволила нашему правительству стать на более прочную и солидную основу и отнеслась положительно к увеличению до некоторой степени нашей армии и улучшению нашей экономики. Без этого Польша останется такой же слабой и несчастной, как сейчас. А в будущем — даже больше, поскольку она является тем барьером, который отделяет Россию от остальной Европы, или скорее, тем плацдармом, который укрепляет ее против Запада. Если он окажется постепенно уничтоженным, то, не желая того, Россия войдет в непосредственное соприкосновение с державами гораздо более сильными, чем Польша, и, возможно, гораздо более расположенными к тому, чтобы дать почувствовать России плоды их зависти. В том же случае, если Россия поможет Польше стать чем-нибудь существенным, она приобретет союзника, интересы которого, равно как и его благодарность, станут залогом ее верности и пользы. Даже если бы Я сам не имел никаких личных обязательств перед Россией, один лишь мой патриотизм заставил бы меня думать так, как я Вам говорю. А сейчас скажите мне, довольны ли Вы тем, что я Вам сказал?
В. К.: Да, вполне. Это представляется мне ясным и верным, как математическая формула. Я даю Вам слово чести, что полностью разделяю Ваши чувства и поступлю соответствующим образом, когда буду обладать властью.
Весьма тронут Вашими словами, сказанными столь сердечно и любезно, а также тем, как Вы, Ваше Величество, и Ваши подданные приняли меня. Выражая благодарность за радушный прием, не могу не сказать, что, находясь в Вашей стране, испытываю это чувство вдвойне, потому что имя русского, пробуждает в душах поляков самые горькие воспоминания. Поверьте, я очень хорошо осведомлен о жалобах государственных мест и частных лиц против нас. Я смотрю на них как на постыдные пятна на моей одежде, которые трудно смыть. Не говоря уж о разделе, мерзости, совершенные нашими офицерами в Вашей стране, ужасны. Мне стыдно за них, и если б это зависело от меня, они бы уже давно были исправлены (тут он сам мне назвал наиболее серьезные вымогательства, которые были совершены русскими офицерами. Он даже указал на главных виновников, не забыв и последних похищений наших подданных по приказу Энгельгардта).
Потом он заговорил со мной о моем племяннике, сказав, что он нашел его сильно изменившимся к лучшему, в связи с чем он наговорил в его адрес много комплиментов.
Когда мой племянник сопровождал его в Броды, он действительно попросил у него прощения (по его собственным словам) за ту холодность, которую проявил по отношения к нему во время пребывания в Петербурге.
Однажды мне представился случай высказать Великому князю следующее: «Те из людей, на которых принято смотреть как на самых великих в своем роде, должны были бы защищаться от соблазнов славы той мыслью, что никогда никто не сделает ничего полезного и похвального, если ему не придет в голову мысль об этом. Но подобные мысли никому не приходят в голову сами по себе. Они ниспосылаются свыше вместе с решимостью и силой, необходимыми для их исполнения».
Великий князь был, казалось, сильно поражен этими словами и сказал мне: «Из всего того, что я слышал от Вас, ничто не вызывало у меня такого уважения и признательности к Вам. Более того, признаюсь, что я ожидал встретить в Вас другую манеру мыслить, более соответствующую тому, что называют философией и духом XVIII века.
Поэтому я был очень рад убедиться в том, что мы оба верим: каждому необходимо помнить, что над нами есть верховный судья, которому когда-нибудь придется отдать отчет во всех своих поступках. Надеюсь, что предстану перед Ним с чистыми руками».
В момент, когда мы расставались, у него на глазах были слезы и он мне сказал следующие слова: «Вы можете назвать меня бесчестным человеком, если я когда-нибудь перестану быть Вашим другом».
Вставка на полях [Он настойчиво просил меня снабдить его письмом к (неразборчиво), чтобы это дало ему предлог настаивать на его приезде в Вену в случае, если на этот счет возникнут затруднения.]
Его жена мне рассказала, что после рождения ее второго сына Императрица сказала ей: «Только что на Ваших глазах взошла звезда Востока». Далее она много говорила о Константинопольской империи, предназначенной ее второму внуку. Великая княгиня отважилась даже сказать ей: «Если Вы уготовали столь блестящую судьбу для этого ребенка, то что Вы оставите для тех, кто, возможно, появится еще?»
К этому ребенку приставили греческую кормилицу, и когда у той закончилось молоко, ему не хотели давать другую до тех пор, пока я и мой муж громко и твердо не настояли на этом как мать и отец.
Все разговоры Великой княгини свидетельствовали о нежности, которую она питает к своим детям и мужу, которого, казалось, она хотела заставить помнить об этом, так сказать, каждое мгновение. Не менее заботилась она и о том, чтобы проявлять себя мягкой, вежливой и даже любезной со всеми, не исключая прислугу. Она так стремилась показывать себя только хорошей супругой и матерью, что только случайно можно было убедиться в широте и разносторонности ее интересов, среди которых была даже алгебра.
Хотя, как мне показалось, она не питала к императору такой неприязни, как ее муж, она тщательно скрывала от него свои мысли на этот счет, опасаясь, очевидно, что это могло ему не понравиться.
Зато она, кажется, испытывает добрые чувства к прусскому принцу. Она сама сказала мне: «Судите сами, как неприятна мне была та холодность, с которой его приняли у нас, более того — настойчивое стремление как-то задеть или огорчить его»[328].
3. Шифр для переписки с великой княгиней Марией Федоровной во время пребывания великого князя в финляндской армии в 1788 г.
Шифры, которыми обменялись Павел Петрович и Мария Федоровна при отъезде великого князя в Финляндию в 1788 г.
1. Условные имена
L’Imper. — Henri
Le Grand duc — Elisabeth
La Grande duchesse — Chretien
Puschkin — Marie
Potemkin — Fanchette
Soltikoff — Pauline
Le R. de Prusse — Albertine
Le R. de Suède — Mathieu
Bezborodko — Crispin
Zavadovski — Fiti
Chernischow — Pepin
Alex. Worontzow — Charle-Martel
Les deux Garçons — Bijou et joujou
Les Filles — La potée
Cobentzel — Fréron
Ségur — George
Nesselrode — Frinette
Kourakin — Mustapha
Keller — Amadé
Wadkowski — Jean
Le Cte Schouvalow — Victor
La Benckendorff — Monsieur
Benckendorff — Madame
La France — Gatschina
La Prusse — Pawlowskoe
La Russie — Belle-Vue
L’Autriche — Trianon
L’Empereur — Isabelle
La Suéde — St.Cloud
L’Angleterre — Etupes
La Finlande — La solitude
L’Armée de Potemkin — Le troupeau
L’Armée de Romanzoff — La Bergerie
L’Armée de Finlande — La Moute
Romanzoff — Pimbeche
Mamonow — Alexandrine
La Generale — Philippe
Sacken — Catau
Tutolmin — Petit
La Fermière — Le Chanoine
* * *
Импер. — Анри
Великий князь — Элизабет
Великая княгиня — Кретьен
Пушкин[329] — Мари
Потемкин[330] — Чепчик
Салтыков[331] — Полина
К. Пруссии[332] — Альбертина
К. Швеции[333] — Матье
Безбородко[334] — Криспен
Завадовский[335] — Фити
Чернышев[336] — Пепин
Алекс. Воронцов[337] — Шарль-Мартель
Сыновья[338] — Бижу и Жужу (комнатные собачки Марии Федоровны)
Дочери[339] — Детвора
Кобенцель[340] — Братец
Сегюр[341] — Жорж
Нессельроде[342] — Фринетта
Куракин[343] — Мустафа
Келлер[344] — Амадей
Вадковский[345] — Жан
Гр. Шувалов[346] — Виктор
Г-жа Бенкендорф[347] — Месье
Бенкендорф[348] — Мадам
Франция — Гатчина
Пруссия — Павловск
Россия — Бельведер
Австрия — Трианон
Император[349] — Изабелла
Швеция — Сен-Клу
Англия — Этюп
Финляндия — Одиночество
Армия Потемкина — Стадо
Армия Румянцева — Пастбище
Финляндская армия — Загон для баранов
Румянцев[350] — Наглец
Мамонов[351] — Александрина
Генеральша[352] — Филипп
Сакен[353] — Като
Тутолмин[354] — Малыш
Лафермьер[355] — Каноник
2. Шифр великого князя
Chiffre du Grand Duc, Explication du Chiffre
1. J’ai grand plaisir à me trouver ici.
1. Je prevois d’avoir une correspondance avec le Roi de Suéde.
2. Je suis toujours sobre malgré mon appetit.
2. Nos affaires vont mal.
3. C’est un pays curieux.
3. Nos affaires vont très mal.
4. Quelle lecture faites Vous?
4. Nous nous attendons à une bataille.
5. Paeziеllo Vous envoye-t-il de la musique?
5. Nous serons obligés d’abandonner toutes nos forteresses et de nous concentrer à Wybourg.
6. Un baiser de plus à Aléxandrine.
6. Vous serez obligés de quitter Petersbourg.
7. Occupez-Vous de Pawlowskoé.
7. Il règne de l’ordre à l’Armée.
8. Promenez Vous souvent, mon cœur.
8. Il règne du desordre à l’Armée.
9. Je me donne beaucoup d’exercise.
9. Puschkin me consulte.
10. J’ai beaucoup pensé aujourd’hui à la petite Mascha.
10. Puschkin ne me consulte pas.
11. Catherine devient-elle jolie?
11. Je suis content de Puschkin.
12. Joujou est-il toujours en faveur?
12. Je ne suis pas content de Puschkin.
13. Que fait le Cte Czernischew?
13. Je suis content de Wadkowsky.
14. Je me sers de Vos Meubles.
14. Je ne suis pas content de Wadkowsky.
15. J’ai besoin d’un pomeau de Canne.
15. Je suis content de ma situation.
16. Votre pomeau de Canne me sert toujours.
16. Je ne suis pas content de ma situation.
17. Envoyez-moi un cordon de Canne Noir.
17. Vos lettres sont perlustrées.
18. Que Vous ecrit-on de Turin?
18. L’Impér. m’écrit gracieusement.
19. Donnez-moi des Nouvelles de mes jeunes Chevaux?
19. L’Impér. m’ecrit froidement.
20. J’embrasse mon Ami Alexandre.
20. Je ne reviendrai pas de sitôt.
21. Soyez de bonne humeur, mon Ange.
21. Je reviendrai bientôt.
22. Occupez-Vous beaucoup.
22. Il y a des négotiations de paix sur le tapis.
23. Costia m’imite-t-il toujours?
23. Tachez de venir à Wybourg.
24. Vos cеrises sont aussi bonnes que celles de l’année-passée.
24. Je ne suis pas content militairement de Puschkin.
25. Catherine grandit-elle?
25. L’Impér. cherche à me chicaner.
26. Que Vous ecrit la Borck?
26. La Barbe perce prodigieusement.
27. La Duchesse de la Vallière Vous ecrit-elle?
27. Qu’est-ce que l’on dit de moi?
28. Que fait Bonne?
28. Parle-t-on du Bataillon en bien?
29. Le jeune Azor s’attache-t-il à Vous?
29. Parle-t-on du Bataillon en mal?
30. Ne savez-Vous rien de l’Hôpital de Gatschina?
30. Parle l’on du Regiment en bien?
31. Que font Vos Malades à Pawlowskoé?
31. Parle-t-on du Regiment en mal?
32. Parlez-moi de Pawlowskoé.
32. Que fait le parti Worontzow?
33. Que fait l’orangerie de Camennoy ostrow?
33. Comment êtes-Vous contente de Mamonow?
34. Mangez Vous beaucoup de Cérises?
34. Comment vont les affaires avec la Prusse?
35. Envoyez-moi des fruits.
35. Comment vont les affaires avec l’Autriche?
36. Comment Bonne se comporte-t-elle avec Joujou?
36. Fait-on de changemens avec les Enfans?
37. Les enfans grandissent-ils?
37. Comment Vous traite le public?
38. Alexandrine m’aime-t-elle toujours?
38. J’ai entendu dire du bien de Vous.
39. Il y a beaucoup de cousins ici.
39. J’ai entendu dire du mal du Vous.
40. Le terrain est bien pierreux.
40. Mon regiment a bien fait.
41. C’est un pays de lacs.
41. Mon regiment a mal fait.
42. Je suis content de mes chevaux.
42. Le Bataillon a bien fait.
43. Que fait Votre main?
43. Le Bataillon a mal fait.
44. Tavaille-t-on aux terrasses de Pawlowskoé?
44. Il y a de la Zizanie chez nous.
45. Que Vous ecrit Eugène?
45. On a voulu me meler dans les clabauderies.
46. Je trouve la frisure d’un tel si
46. On a voulu me brouiller avec le Nom commode.
47. Un tel est drôle comme un
47. Je reconnais de la fausseté en le Nom Coffre.
48. Où est Votre frère Ferdinand?
48. Envoyez-moi Benckendorff.
49. Refraichissez ma bourse vide.
49. Envoyez-moi Nicolay.
Pour indiquer que ces phrases sont employées dans la lettre comme chiffre, il faut cachetter les lettre avec le cachet en chiffre.
Шифр Великого князя, Объяснение шифра
1. Мне очень приятно находиться здесь.
1. Я предвижу переписку с королем Швеции.
2. Я все время голоден, несмотря на аппетит.
2. Наши дела плохи.
3. Это любопытная страна.
3. Наши дела очень плохи.
4. Что Вы читаете?
4. Мы ожидаем сражения.
5. Паезиэлло по-прежнему шлет Вам музыку?
5. Мы будем вынуждены покинуть все наши крепости и сосредоточиться в Выборге.
6. Поцелуй еще раз Александрин.
6. Вам придется покинуть Петербург.
7. Занимайтесь Павловском.
7. В армии царит порядок.
8. Часто ли Вы прогуливаетесь, сердце мое?
8. В армии царит беспорядок.
9. Я очень занят.
9. Пушкин советуется со мной.
10. Я много думал сегодня о Машеньке.
10. Пушкин не советуется со мной.
11. Екатерина становится хорошенькой?
11. Я доволен Пушкиным.
12. Жужу по-прежнему в фаворе?
12. Я недоволен Пушкиным.
13. Что поделывает граф Чернышев?
13. Я доволен Вадковским.
14. Я пользуюсь Вашей мебелью.
14. Я недоволен Вадковским.
15. Мне нужна рукоять для трости.
15. Я доволен своим положением.
16. Ваша рукоять для трости по-прежнему служит мне.
16. Я недоволен своим положением.
17. Пришлите мне черную ленту на трость.
17. Ваши письма перлюстрируются.
18. Что Вам пишут из Турина?
18. Письма от Императрицы весьма любезны.
19. Напишите мне о моих жеребцах.
19. Письма Императрицы холодны.
20. Обнимаю моего друга Александра.
20. Я не вернусь скоро.
21. Оставайтесь в хорошем настроении, мой ангел.
21. Я скоро возвращаюсь.
22. Побольше занимайтесь чем-нибудь.
22. Проходят переговоры о мире.
23. Костя по-прежнему мне подражает?
23. Постарайтесь приехать в Выборг.
24. Ваша черешня так же хороша, как и в прошлом году.
24. Я недоволен тем, как командует Пушкин.
25. Подрастает ли Екатерина?
25. Императрица пытается меня скомпрометировать.
26. Что Вам пишет Барк?
26. Варвара удивительно проницательна.
27. Пишет ли Вам герцогиня де Лавалльер?
27. Что говорят обо мне?
28. Что поделывает Бонна?
28. Хорошо ли говорят о батальоне?
29. Маленький Азор по-прежнему привязан к Вам?
29. О батальоне говорят плохо?
30. Не знаете ли Вы чего-либо о гатчинском госпитале?
30. Хорошо ли говорят о полке?
31. Как поживают Ваши больные в Павловске?
31. О полке говорят плохо?
32. Расскажите мне о Павловске.
32. Чем занята партия Воронцова?
33. Как дела в оранжерее на Каменном острове?
33. Довольны ли Вы Мамоновым?
34. Много ли черешни Вы едите?
34. Как идут дела с Пруссией?
35. Пришлите мне фруктов.
35. Как идут дела с Австрией?
36. Как няня управляется с Жужу?
36. Меняют ли что-либо в отношении детей?
37. Растут ли дети?
37. Как к Вам относятся в обществе?
38. Любит ли меня по-прежнему Александрин?
38. Я слышал, как о Вас хорошо говорили.
39. Здесь много кузенов.
39. Я слышал, как о Вас плохо говорили.
40. Местность здесь каменистая.
40. Мой полк хорошо сражался.
41. Это страна озер.
41. Мой полк плохо сражался.
42. Я доволен своими лошадьми.
42. Батальон хорошо сражался.
43. Как Ваша рука?
43. Батальон плохо сражался.
44. Продолжаются ли работы на террасах в Павловске?
44. У нас полный хаос.
45. Что Вам пишет Эжен?
45. Меня хотели вовлечь в интриги.
46. Я нахожу прическу такого-то (имя) такой удобной.
46. Меня хотели поссорить с …
47. Такой-то (имя) забавен, как сундук.
47. Такой-то (имя) ведет себя фальшиво.
48. Где Ваш брат Фердинанд?
48. Пришлите ко мне Бенкендорфа.
49. Освежите мой опустевший кошелек.
49. Пришлите ко мне Николая.
Для того чтобы показать, что эти фразы использованы в письме как шифрованные, следует запечатать письмо шифровальной печатью.
3. Шифр великой княгини
Chiffre de la Grande Duchesse, Explication du Chiffre
1. N’avez-Vous pas besoin d’un nouveau pomeau de Canne?
1. L’Impér. est indisposée.
2. Mes oiseaux ne m’occupent plus.
2. L’Impér. est malade.
3. On me reproche dе
3. L’Impér. est fort mal.
4. Bonne s’attache à moi.
4. L’Impér. me traite passablement.
5. Joujou est toujours Grand Aboyeur.
5. L’Impér. me traite bien.
6. Wirler m’a dit que le Maronier de mon petit Jardin devient plus beau de jour en jour.
6. L’Impér. me traite mal.
7. Bonne aime à être chez moi.
7. L’Impér. me parle peu de Vous.
8. Bonne me fait des infidélités.
8. L’Impér. me parle de Vous avec grand interêt.
9. Je n’ai pas de cœur à mes ouvrages.
9. L’Impér. parait fachée des nouvelles qu’elle a reçue de Finlande.
10. Mon clavecin est assez abandonné.
10. L’Impér. parait fachée contre Puschkin.
11. Lе grammaire Russe fait une de mes lectures.
11. Je crois qu’on lui a fait des faux rapports de Vous.
12. Je m’occupe de mon Tour.
12. On debite mille sottes nouvelles ici.
13. Aléxandre grandit à vue d’œil.
13. Je n’entends dire que du bien de Vous.
14. Constantin est toujours drôle.
14. L’Impér. est douloureusement affectée.
15. Aléxandrine est timide.
15. L’Impér. est confuse.
16. Hélène est toujours belle.
16. L’Impér. parait contente.
17. Marie me fait souvent rire.
17. L’Impér. parait affligée.
18. Catherine se fait jolie.
18. Nous sommes dans les plus grandes inquietudes.
19. La Psse de Piémont m’écrit souvent.
19. On parle de quitter Petersbourg.
20. J’écris peu.
20. On parle d’aller à Moscou.
21. Eugène Vous présente ses Hommages.
21. Les Gardes doivent marcher.
22. Marie Vous baise les mains.
22. Il y a du remuе-мénage dans le Pays.
23. Costia est toujours en l’air.
23. On intrigue contre Puschkin.
24. Alexandrine commence à joliement écrire.
24. Mamonow est toujours pour nous.
25. Marie dit souvent.
25. Mamonow est contre nous.
26. Wirler me dit que mes orangeries sont bien Belles et rempries de Fruits.
26. J’ai besoin de Vous envoyer Nicolay ou Benckendorff.
27. La Duchesse de la Vallière me gronde sur mon silence.
27. J’ai des lettres du R. de Prusse pour Vous et il a envoyé la lettre de change.
28. Wirler m’a dit que les terrasses de l’orangerie avancent.
28. J’ai des lettres du R. de Prusse pour Vous, mais sans lettre de change.
29. Costia grandit assez.
29. Görtz est faux et je me sers aussi peu que possible de lui.
30. Azor Vous suit-il partout?
30. Bézborodko et Worontzow ont toujours la même influence.
31. Le Cte Puschkin se sert-il de ma Canne?
31. On me fait beaucoup la cour.
32. On continue à nettoyer le Bois à Pavlovskoe.
32. Je suis bien abandonnée et négligée.
33. Bijou est toujours sourd.
33. On perlustre vos lettres.
34. Mes cerises sont delicieuses.
34. Le credit de Mamonow baisse.
35. Je vois souvent votre petit Azor.
35. Il y a un nouveau Favori.
36. Eugène m’écrit rarement.
36. Les affaires vont mal aux Armées.
37. Ferdinand Vous presente les Hommages.
37. Les affaires vont bien aux Armées.
38. Guillaume ne m’écrit presque jamais.
38. Mamonow m’a fait faire une commission qui Vous regarde.
39. Mon beau-frère Vous présente ses Hommages.
39. Potemkin va arriver.
40. Mon frère ainé est presque toujours à Bodenheim.
40. Soltikow en agit honnêtement.
41. Ma sœur Vous fait ses complimens.
41. Mamonow m’a fait faire une commission qui me regarde.
42. Parlez-moi des rochers de la Finlande.
42. Le public est fort inquiet sur Vous.
43. Le journeau du Cabinet a été changé à Kamennoy Ostrow.
43. L’Impér. désire Votre retour.
44. Ma sœur gronde de se que je lui écris rarement.
44. L’Empereur veut faire sa paix particulière avec les Turcs.
45. La Borck est à Vos pieds.
45. L’Empereur a fait sa paix particulière avec les Turcs.
46. Marie est toujours une petite folle.
46. Keller m’a fait communiquer un papier qui contient des assurances d’amitié pour Vous.
47. Hélène est toujours étourdie.
47. Keller m’a fait communiquer un papier qui contient la Nouvelle que notre cour commencé à rechercher l’amitié de celle de Berlin.
48. Je suis brouillée avec mon clavecin.
48. Keller m’a fait communiquer un papier qui prouve que notre cour est toujours mal avec la Sienne.
49. Voulez-Vous un pomeau de Canne?
49. Potemkin ne fait toujours rien.
50. Alexandrine est toujours serieuse.
50. Romanzow ne fait rien.
51. La Bonhommie (Le Nom) d’un tel me fait toujours plaisir
51. On a voulu me brouiller avec (Le Nom).
52. Un tel est drôle comme un coffre.
52. Je reconnais de la fausseté en.
53. Je fache quelque fois Kourakin.
53. Il y a beaucoup de brouhaha chez nous.
54. Wirler m’a dit que nos Vignes sont peries.
54. L’Imper. me parle des affaires de Suéde.
55. Tout me peine.
55. Je suis fort genée.
56. Henri m’a dit que le beau lapin de la table ronde a peri.
56. On ne me géne pas.
57. La pêche de Camennoy Ostrow est jolie.
57. On m’a fait sentir de ne pas venir si souvent chez elle.
58. J’avoue que je suis de bien mauvaise humeur.
58. Je suis dans les plus vives inquiétudes sur vous.
59. Cette Année est cruelle pour moi.
59. On s’attend à une Bataille.
60. Vous rappellez vous de la fête du Hameau?
60. Dites à Puschkin qu’il soit sur ses gardes qu’on trâme contre lui.
61. J’ai toujours mal à la main.
61. On tâche de me faire des intrications.
62. Vous rappelez vous de la lecture de Tristam Shandy (Fils) du Curé de Waskefield (Filles).
62. On me gêne beaucoup sur mes fils, ou filles.
63. Leutnecker dit que mes filleuils vont bien.
63. Tutolmin se conduit bien.
64. Leutnecker dit que mes filleuils vont quahin quahà.
64. Tutolmin se conduit mal.
65. Je regrette quelque fois le Chalet.
65. Le parti de Worontzow et Bezborodko baisse.
66. Comment se conduit le petit Larionow?
66. Cobentzel tâche de me faire des insinuations.
67. Wirler dit que mes parterres de fleurs sont superbes.
67. Segur et Cobentzel sont toujours bien vûs.
68. Je recois rarement des lettres du Paris.
68. Segur et Cobentzel sont mal vûs.
69. L’orrangerie de Cammenoy Ostrow est assez vide.
69. Ma Cour du dimanche est vide.
70. Je travaille assez peu.
70. Ma Cour du Dimanche est nombreuse.
71. Mon tableau de pastel est bien conservé.
71. Il y a des dispotitions d’emeute à Petersbourg.
72. Je ne peins avec aucun plaisir.
72. Il y a eu un emeute à Petersbourg.
73. Je me souviens avec componetions.
73. On veut vous chicaner.
74. Que vos rochers doivent être tristes.
74. Le public desire votre retour.
75. Avez-vous des fruits et des legumes?
75. On parle de Négociations de paix.
76. La Newa est bien belle dans cette année.
76. On egsagèrent certaines choses.
77. La formière vous baise les mains.
77. Le public s’en aperçoit.
78. Nicolai nous baise les mains.
78. Elles faiblit.
Pour indiquer que ces phrases sont employé dans la lettre comme chiffre, il faut cachetter les lettres avec le cachet en chiffre.
Шифры Великой княгини, Объяснение шифра
1. Не нужна ли Вам новая…
1. Импер. плохо себя чувствует.
2. Я больше не занимаюсь своими птицами.
2. Импер. больна.
3. Меня упрекают в …
3. Импер. сильно больна.
4. Бонна все время следует за мной.
4. Импер. относится ко мне сносно.
5. Жужу все так же громко лает.
5. Импер. относится ко мне хорошо.
6. Вирлер сказал мне, что ореховое дерево в моем саду становится день ото дня все красивее.
6. Импер. относится ко мне плохо.
7. Бонна любит быть со мной.
7. Импер. мало говорит со мной о Вас.
8. Бонна мне изменяет.
8. Импер. говорит со мной о Вас с большим интересом.
9. У меня нет настроения работать.
9. Импер., кажется, в ярости от новостей, которые она получила из Финляндии.
10. Я почти забросила игру на клавесине.
10. Пушкин, кажется, привел Импер. в ярость.
11. Среди моего чтения есть русская грамматика.
11. Я думаю, что ей направляют ложные доклады о Вас.
12. Я занимаюсь своей Башней.
12. Здесь обсуждается тысяча новых глупостей.
13. Александр растет на глазах.
13. Я слышу о Вас только хорошее.
14. Константин, как всегда, забавен.
14. Импер. находится в расстроенных чувствах.
15. Александрин застенчива.
15. Импер. смущена.
16. Елена по-прежнему прекрасна.
16. Импер. выглядит довольной.
17. Мари часто заставляет меня смеяться.
17. Импер. кажется чем-то смущенной.
18. Екатерина становится хорошенькой.
18. Мы чрезвычайно обеспокоены.
19. Князь Пьемонтский пишет мне часто.
19. Идут разговоры об отъезде из Петербурга.
20. Я мало пишу.
20. Идут разговоры об отъезде в Москву.
21. Эжен передает Вам привет.
21. Гвардия должна выступить в поход.
22. Мари целует Ваши руки.
22. В стране намечаются перестановки.
23. Костя по-прежнему витает в облаках.
23. Против Пушкина интригуют.
24. Александрин начинает красиво писать.
24. Мамонов по-прежнему за нас.
25. Мари часто говорит: «Я хочу».
25. Мамонов против нас.
26. Вирлер говорит, что мои оранжереи прекрасны (Николаи) и полны фруктов (Бенкендорф).
26. Мне необходимо направить к Вам Николаи или Бенкендорфа.
27. Герцогиня де Лавальер сердится на меня за мое молчание.
27. У меня есть письма к Вам от короля Пруссии, и он направил также подменное письмо.
28. Вирлер сказал мне, что работы на террасах оранжереи продвигаются.
28. У меня есть для Вас письма от короля Пруссии, но без подменного письма.
29. Костя немного вырос.
29. Герц ведет себя фальшиво. Я стараюсь как можно меньше пользоваться его услугами.
30. Азор все время с тобой?
30. Безбородко и Воронцов имеют прежнее влияние.
31. Гр. Пушкин пользуется моей тростью?
31. При дворе ко мне относятся со вниманием.
32. Очистка леса в Павловске продолжается.
32. Я покинута и одинока.
33. Бижу по-прежнему глух.
33. Ваши письма перлюстрируются.
34. Моя черешня великолепна.
34. Влияние Мамонова снижается.
35. Я часто вижу Вашего маленького Азора.
35. Появился новый фаворит.
36. Эжен пишет мне редко.
36. В армии дела идут плохо.
37. Фердинанд шлет Вам привет.
37. В армии дела идут хорошо.
38. Вильгельм почти не пишет мне.
38. Мамонов дал мне поручение, касающееся Вас.
39. Мой двоюродный брат шлет Вам привет.
39. Ожидается приезд Потемкина.
40. Мой старший брат почти все время находится в Боденхейме.
40. Салтыков ведет себя прилично.
41. Моя сестра передает Вам привет.
41. Мамонов дал мне поручение, касающееся меня.
42. Расскажите мне о скалах в Финляндии.
42. Общество испытывает сильное беспокойство на Ваш счет.
43. В кабинете на Каменном острове сменили обстановку.
43. Импер. желает Вашего возвращения.
44. Моя сестра ворчит из-за того, что я ей мало пишу.
44. Император хочет заключить сепаратный мир с турками.
45. Борк у Ваших ног.
45. Император заключил сепаратный мир с турками.
46. Мари по-прежнему беспокойна.
46. Келлер передал мне бумагу, содержащую уверения в дружбе по отношению к Вам.
47. Елена по-прежнему глуховата.
47. Келлер передал мне бумагу, из которой следует, что наш двор начинает искать дружбы берлинского двора.
48. Я забросила свой клавесин.
48. Келлер передал мне бумагу, подтверждающую, что наш двор по-прежнему находится в плохих отношениях с его двором.
49. Хотите ли Вы пропуск?
49. Потемкин по-прежнему ничего не делает.
50. Александрин, как всегда, серьезна.
50. Румянцев ничего не делает.
51. Добродушие такого-то (имя) мне по-прежнему доставляет удовольствие.
51. Меня хотели поссорить с таким-то (имя).
52. Такой-то (имя) забавен, как сундук.
52. Я нахожу, что такой-то (имя) ведет себя фальшиво.
53. Я несколько раз разозлила Куракина.
53. Мы живем очень весело.
54. Вирлер сказал мне, что наши виноградники тронула гниль.
54. Импер. разговаривает со мной о шведских делах.
55. Все мне в тягость.
55. Я в крайне стесненном положении.
56. Анри сказал мне, что кролик с круглого стола подгнил.
56. Меня не стесняют.
57. На Каменном острове прекрасная рыбалка.
57. Мне дали почувствовать, чтобы я не приходила так часто к ней.
58. Признаюсь, что я в весьма плохом настроении.
58. Я испытываю сильнейшее беспокойство относительно Вас.
59. Этот год жесток по отношению ко мне.
59. Ожидается сражение.
60. Помните ли Вы о празднике в Гамо?
60. Скажите Пушкину, чтобы он был настороже. Против него интригуют.
61. Моя рука по-прежнему болит.
61. Мне пытаются делать неприятности.
62. Вы помните, как мы читали «Тристама Шенди» (сыновья) или «Кюре из Васкефильда» (дочери).
62. Мне создают трудности в связи с сыновьями или дочерьми.
63. Лейтнеккер говорит, что мои листочки растут хорошо.
63. Тутолмин ведет себя хорошо.
64. Лейтнеккер говорит, что мои листочки больны.
64. Тутолмин ведет себя плохо.
65. Я иногда жалею о Шале.
65. Партия Воронцова и Безбородко идет вниз.
66. Как ведет себя молодой Ларионов?
66. Кобенцель пытается делать мне внушения.
67. Вирлер говорит, что мои цветы на террасе великолепны.
67. Сегюр и Кобенцель по-прежнему в милости.
68. Я редко получаю письма из Парижа.
68. Сегюр и Кобенцель вне милости.
69. Оранжерея на Каменном острове почти пуста.
69. На мои воскресные выходы почти никто не приходит.
70. Я работаю мало.
70. На мои воскресные выходы приходит много народу.
71. Мой портрет пастелью хорошо получился.
71. Есть указания на волнения в Петербурге.
72. Я не занимаюсь живописью, так как это не доставляет мне никакого удовольствия.
72. В Петербурге имело место выступление.
73. Вспоминая, я замаливаю свои грехи.
73. Вас хотят скомпрометировать.
74. Как печальны должны быть Ваши скалы.
74. В обществе хотят, чтобы Вы вернулись.
75. Есть ли у Вас фрукты и овощи?
75. Идет разговор о мирных переговорах.
76. Нева очень красива в этом году.
76. Некоторые вещи преувеличиваются.
77. Ляфермьер целует Вам руки.
77. В обществе Вас высоко ценят.
78. Николай целует Вам руки.
78. Она слабеет.
Чтобы показать, что эти фразы зашифрованы, следует запечатать письмо шифровальной печатью.
III. Из личной переписки французского посланника в Петербурге графа Луи-Филиппа де Сегюра (1785–1789 гг.)[356]
1. Copie de la lettre, écrite à Mr. le Comte de la Colinière par Mr. le Comte de Ségur
à Varsovie ce 7 (15) février 1785
Petit à petit je me rapproche de vous mon cher Chévalier; et quoique je compte sur le désir que vous avés de me voir, il ne peut etre plus vif que le mien. Le Prince Henri m’a traité avec tant de bonté, de grace, et j’ose même dire d’amitié, qu’il m’a eté impossible de lui réfuser de rester à Berlin quelques jours de plus; depuis j’ai éprouvé tant de contrarieté dans ma route; j’ai trouvé tant de neiges, de degel, et de trous, que je n’ai pû arriver içi qu’avanthier: mes voitures ont été brisées, et peu s’en est fallû, que je ne le fusse moi-même. Je compte partir lundi prochain pour St. Petersbourg: j’éspere trouver de vos nouvelles à Riga, et que vous aurés pris la peine de parler à qui il sera nécéssaire pour qu’on m’épargne un peu les Excés d’inquisition de douane que plusieurs Ministres m’ont dit avoir éprouvés à cette frontière, par la faute des subalternes, et certainement contre l’intenton du gouvernement. Comme j’ai trouvé içi plusieurs personnes avec qui j’avois été lié à Paris, j’y mene une vie fort agréable; d’ailleurs c’est un usage établi d’y réçevoir parfaitement les Etrangers. La ville est cependant un peut attristée par une affaire aussi extraordinaire — dans son principe que dans sa marche; je ne vous en ferai aucun detail, parceque certainement vous la savés à Petersbourg, comme içi: une femme de mauvaise vie, lasse d’employer des moyens vulgairement malhonnetes pour gagner de l’argent, en a essayé de plus infames; par de doubles relations probablement fausses toutes deux, et des discours à double entente, elle a excitée beaucoup de trouble, d’inquietudes, a compromis plusieurs personnes, et a donné lieu à un procès, qui n’est pas encore jugé. Voilà, ce qu’il me paroit le fond de cette histoire, sur laquelle je ne me permettrai pour le moment aucune réfléxion
Vous ne m’avés pas mandé à Berlin que vous aviés été malade; j’ai seû par Mr. d’Aranza, que vous aviés eû un mal au jambe, qui vous avoit réténû au lit, assès long tems, j’aurois bien voulû apprendre que vous etes rétabli, et j’éspère à Riga en avoir la certitude; je compte y être le 27 ou le 28.
Toutes les nouvelles que j’ai réçues de Paris m’apprennent, que toutes les personnes qui nous interessent tous deux, se portent à merveille, et ne souffrent que de notre absence.
M. de Stackelberg soit me donner quelques rensegnements sur ma route; j’ai eté charmé de le trouver içi; il jouit parfaitement de la réputation qu’il mérite.
Je compte toujours trouver à Riga le domestique Russe, que je vous ai prié de m’y envoyer.
Adieu mon cher Chévalier vous connaissés mon tendre attachement.
De Ségur
* * *
Копия письма графа Сегюра к графу де ла Колиньеру[357]
Варшава, 4 (15) февраля 1785 г.
Мой дорогой шевалье, мало-помалу я приближаюсь к Вам. Хотя я и рассчитываю на Ваше желание увидеть меня, оно не может быть сильнее моего собственного увидеть Вас. Принц Генрих[358] принял меня с такой добротой, любезностью и, отважусь даже сказать, дружбой, что отказать ему остаться в Берлине еще на несколько дней было для меня невозможно. С тех пор я встретил столько препятствий на своем пути, пережил столько снегопадов, распутиц и ям, что смог добраться сюда только позавчера. Мои повозки были поломаны, и я сам едва не покалечился. В следующий понедельник я рассчитываю отбыть в Санкт-Петербург. Надеюсь получить от Вас новости в Риге, а также надеюсь, что Вы потрудитесь переговорить с кем надо, чтобы меня хоть как-то избавили от тех грубостей, которым, по словам нескольких посланников, они подверглись во время таможенного досмотра на границе по ошибке младших офицеров и, безусловно, против намерений правительства. Поскольку я встретил здесь нескольких людей, с которыми меня познакомили в Париже, моя жизнь здесь очень приятна. Впрочем, прекрасно принимать иностранцев уже вошло здесь в обычай. Город, правда, немного удручен одним делом, которое столь необычно по своему началу, как и по своему развитию. Не стану описывать Вам подробности, потому что Вы знаете о них в Петербурге не хуже нас: женщина с плохой биографией, которой наскучило зарабатывать деньги обычными непорядочными средствами, попыталась это сделать еще более постыдными. С помощью двусмысленных рассказов, оба из которых, вероятно, являются вымышленными, и двусмысленных разговоров она вызвала много беспокойства, опасений, скомпрометировала нескольких людей и дала основание для судебного процесса, который до сих пор не разрешен. Вот, что, как мне кажется, является сутью данной истории, о которой в настоящий момент я не позволю себе задумываться[359].
В Берлине Вы не уведомили меня, что были больны. Я узнал от г-на Аранза[360], что у Вас болела нога, которая достаточно долгое время продержала Вас в постели. Я очень хотел бы узнать, что Вы выздоровели, и надеюсь в Риге иметь в этом уверенность. Я рассчитываю быть там 27 или 28 числа.
Все новости, которые я получил из Парижа, говорят мне, что все люди, которые интересуют нас обоих, чувствуют себя прекрасно и страдают только от нашего отсутствия.
Г-н де Штакельберг[361] обещал сообщить мне некоторые сведения о моем дальнейшем пути. Я был рад встретить его здесь. Он, безусловно, заслуживает той репутации, которую имеет.
В любом случае я рассчитываю встретить в Риге русского слугу, которого я просил Вас мне выслать.
Прощайте, мой дорогой шевалье, Вы знаете о моей нежной привязанности.
Де Сегюр
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.23, лл.54–55.
2. Copie de la lettre du comte Vergennes au comte de Ségur
от 6 июня 1785 г.
J’ai reçû, Monsieur, les cinq lettres que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire les 26 et 28 Mai, 3 et 4 Juin, dont les Nos ne sont pas exacts. Celle du 26 Mai est № 16 — doit étre № 15; du 28 Mai est № 15 doit étre № 16. Les deux du 3 juin, sont № 17 doivent étre 17 et 18, celle du 4 Juin est № 18, mais doit étre № 19.
Je vous prie de faire rectifier vos minutes en conséquence de ce Tableau.
Le Roi a appris avec beaucoup de plaisir, Monsieur, que Sa Majesté Impériale en vous permettant de l’accompagner dans son voyage, vous avoit procuré une occasion de lui faire une cour plus particulière, et de voir une partie des grandes choses, qu’Elle a entreprises pour le bonheur de ses sujets.
L’Ukase qui règle les rangs et les prérogatives de la Noblesse, ne peut manquer de faire Epoque dans l’histoire de Russie, et d’assurer à l’Impératrice la réconnaissance de la posterité.
Je ne connois point, Monsieur, de Chevalier de l’ordre de St. Lazare, qui se nomme le Comte de Bussy. Peut-étre la personne qui se montre sous ce nom à Petersbourg est celle du nombre des Elêves de l’Ecole militaire auxquels on donnoit autrefois la petite croix de cet ordre, mais ce qu’elle dit de ses avantures en Pologne, me paroit fort suspect. Il seroit possible que ce voyageur qui prétend avoir une lettre de récommandation du Ministre du Roi à Copenhague fut un M. de la Motte, Chev. de St. Louis, dont le vrai nom ést, Fredefond de Marsillac, qui après avoir vécû d’éscroqueries en Pologne, et en Suéde vient de s’évader de Copenhague, ou il a fait beaucoup de dûpes. Il avoit trouvé de l’appui à la cour de Danemarc, et en imposoit par son effronterie, quoique le Chargé des affaires du Roi l’eût bien fait connoitre au Ministère Danois. On a voulû étre trompé, et on l’a été. La manière dont M. le Cte. d’Ostermann vous a prévénû, Monsieur, sur le françois inconnû, qui se présente à Petersbourg comme un homme décoré dans sa patrie, exige, que vous cherchiés les moyens de lui faire connoitre quel il peut être. Si ce que je me suis rapellé vous mèt sur la voye, vous pouvés assurer que M. de Marsillac est un homme fort dangereux, dont on pourra avoir des informations précises à Varsovie, puisqu’il paroit certain qu’on avoit envoyé de cette ville quelqu’un pour le faire arrêter à Stokholm. Je vous prie d’ailleurs, Monsieur, de témoigner à M. le comte d’Ostermann toute la sensibilité, que mérite son procedé dans cette circonstance. Les Cours s’épargneroient beaucoup d’embarras, et rendroient le métier d’éseroc bien difficiles, si elles s’entendoient toujours pour ne donner accès à aucun étranger qui ne fut bien connû, et nous serons toujours prêts à donner au Ministère Russe les informations, qu’il demandera sur les sujets suspects, qui se présenteront dans les Etats de l’Impératriçe.
Je viens, Monsieur, à la lettre, où vous rendés compte de ce que Sa Majesté Impériale a bien voulû vous dire par raport à M. de la Perouze, qui heureusement ne doit mettre en mer que Lundi prochain. Le Roi qui s’intéresse personnellement au succès de l’expédition confiée à cet officier, a été très touché de l’attention de l’Impératriçe, et Sa Majesté a ajouté aux ordres qu’Elle lui avoit donnés, pour le cas où il aborderoit sur les côtes dépendantes de l’Empire Russe, celui de chercher toutes les occasions de se rendre utile au Capitaine Commandant le Batiment Russe, employé dans les mers de Tschusky, et du Kamczatka. M. de la Perouze émmêne avec lui le fils de M. Lesseps, Consul à St. Petersbourg, auquel le Roi a assigné le traitement de Vice-consul, et qui par la connoissance qu’il a de la langue Russe évitera à nos Navigateurs les embarras que le Capitaine Cook a éprouvés, faute d’avoir un interprête pour cette langue.
* * *
Копия реляции графа Верженна[362] к графу Сегюру
6 июня 1785 г.
Милостивый государь, я получил те пять писем, которые Вы оказали честь мне написать — от 26 и 28 мая, 3 и 4 июля — и номера которых неправильны. Письмо от 26 мая, которое идет под № 16, должно быть под № 15, от 28 мая под № 15 должно быть под № 16. Два письма от 3 июня идут под № 17, а должны быть под № 17 и № 18. Письмо от 4 июня стоит под № 18, а должно быть под № 19.
Я прошу Вас внести исправления в Ваши копии в соответствии с этим списком.
Милостивый государь, король с большим удовольствием узнал, что ее императорское величество, позволив Вам сопровождать ее в своей поездке[363], предоставила Вам случай выразить особые знаки внимания к ней и увидеть часть тех великих дел, которые она затеяла ради счастья своих подданных.
Указ, который устанавливает титулы и прерогативы дворянства, не может не составить эпоху в истории России и обеспечить императрице признательность потомства.
Милостивый государь, мне вовсе не известно о рыцаре ордена Св. Лазаря, который называет себя графом де Бюсси. Возможно, личность, которая пребывает под этим именем в Петербурге, принадлежит к числу учеников военной школы, которым вручили когда-то маленький крест этого ордена, но то, что он говорит о своих похождениях в Польше, мне кажется подозрительным. Возможно, этот путешественник, который уверяет, что имеет рекомендательное письмо от королевского посланника в Копенгагене, является неким г-ном де Ла Моттом, шевалье де Сент-Луи, настоящее имя которого Фредефонд де Марсийак, который жил за счет мошенничества в Польше и Швеции, недавно бежал из Копенгагена, где он обманул многих простофиль. Он встретил поддержку при датском дворе и внушил ему уважение своей дерзостью, хотя королевский поверенный в делах сообщил о нем датскому правительству. Хотели быть обманутыми, таковыми и стали. То, каким образом г-н граф д’Остерман[364] Вас заранее предупредил, милостивый государь, о неизвестном французе, который представляется в Петербурге человеком, получившим у себя на родине награды, делает необходимым, чтобы Вы изыскали средства сообщить ему, кто может скрываться за этим человеком. Если то, что я помню, направит Вас на правильный путь, Вы сможете убедиться, что г-н де Марсийак человек чрезвычайно опасный, о котором точные сведения могут быть в Варшаве, поскольку из этого города, скорее всего, что-то послали для того, чтобы в Стокгольме задержали этого человека. Впрочем, прошу Вас, милостивый государь, засвидетельствовать г-ну графу д’Остерману всю признательность, которую заслуживает его поступок в сложившейся обстановке. Королевские дворы избежали бы многих затруднений и сделали бы ремесло мошенника очень трудным, если б давно договорились не позволять въезд любому малоизвестному иностранцу. Мы будем всегда готовы предоставить русскому правительству данные, которые оно попросит, о подозрительных подданных, которые могут появиться во владениях императрицы.
Милостивый государь, я перехожу к письму, где Вы пишете о том, что Ее императорское величество очень хотела рассказать Вам относительно г-на де Лаперуза, который, к счастью, должен выйти в море только в следующий понедельник. Король, который лично заинтересован в успехе порученной этому офицеру экспедиции, был очень тронут вниманием императрицы, и Его величество добавил к тем приказам, которые он дал ему на случай, если он высадится на берег, зависимый от Российской Империи, приказ изыскать все возможности быть полезным капитану русского корабля, который плавает вблизи Чукотки и Камчатки.
Г-н Лаперуз берет с собой сына г-на Лессепса, консула в Санкт-Петербурге, которого король назначил вице-консулом и который благодаря своему знанию русского языка позволит избежать нашим мореплавателям тех затруднений, который испытал капитан Кук, не имея переводчика с этого языка.
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.24, лл.150–152.
3. Copie de la lettre, écrite à Mr. le Comte de Ségur par son épouse
à Versailles ce 10 (21) décembre 1785
J’ai vû hier M. Grimm, nous avons beaucoup parlé de vous, et de la Russie, nous désirons fort, que vous puissiés être admis aux fetes particuliéres que l’Impératriçe donne a son Hermitage, ce sera un moyen de vous dédommager de la tristesse que le Ceremoniel de l’hiver impose, et d’avoir encore le bonheur de vour l’Impératriçe d’une manière plus particulière: que j’ai de regret de ne pouvoir pas aller vous trouver, je serois vraiment heureuse, de connoitre l’Impératrice, tout ce que vous m’en avez dit, tout ce que j’en entends dire, en peu de ligne à M. Grimm, me donne un regret particulier à Elle de ne point aller en Russie. Mon frère se dispose avec un grand empressement à aller vous voir, je vous laisse à juger, si je ne l’envie pas, ne pouvant pas cependant faire ce voyage, que je désire tant, je suis heureuse que ce soit mon frère qui le fasse, et je régarde que ce sera d’un avantage infini pour lui, d’aller vous voir, surement vous conceveres, et approuverés son projet; ne vaut il pas de la peine, qu’il prenne en voyageant mille connoissances non seulement précieuses, mais essentielles à son état, qu’en étudiant toutes les legislations, la politique, le Commerce des differens peuples, il gagne cette connoissance, que Montesquieu, a si bien prouvé être nécéssaire. Ne sera-t-il pas après les années d’instruction, bien plus propre à exercer les fonctions de Magistrat, de Législateur, et en un mot d’homme d’Etat, et d’homme utile à son pays, loin de perdre à ces voyages, il doit gagner beaucoup, et ne peut régretter la fonction peu importante qu’il feroit içi, et qui etoit commune avec un grand nombre de personnes; je crois mon cher amour, qu’en envisageant son voyage sous ce point de vue-là, vous l’approuverés: mandés moi, ce que vous en pensés pour moi, malgré la peine que j’aurai de me séparer de lui pour longtems, je sens que j’aurai un plaisir extrème à penser qu’il sera avec vous, quelque tems qu’il vous parlera de moi, de vos enfans, de votre pere, de vos plus chèrs intérêts içi, je pense anssi avec plaisir que la confiance, que mon frère aura en vous, lui sera aussi utile, qu’agréable, que vous lui procurés soit en russie, soit ailleurs, tous les moyens qui seront en votre puissance, pour lui faciliter l’instruction, et les connoissances, qu’il désire acquerir. Enfin vous aimés déjà mon frère, et vous l’aimerés j’éspère encore plus, lorsque vous le verrés loin du tourbillon de Paris; nous n’avons point de nouvelles, que je puisse vous mander, parceque ce sont des details de propos sans raisons, sans suites sur cette singulière affaire du Cardinal; il n’y a rien de nouveau depuis le décrét de prise de Corps. Le Parlement est occupé à present, à réfuser l’emprunt de M. de Calonne; il fait des courses de Paris, à versailles; il dit non, le Roi dit oui, et il aura surements raison, je ne pourrios pas vous donner plus de détails sur cette affaire là, je n’en entends rien; on parlat hier d’un lit de justice, je n’en serois pas fachée, parceque je n’en ai jamais vû. Laure vous écrit une lettre un peu folle, elle est de plus en plus aimable, et elle gagne beaucoup pour la raison, et la sagesse, j’éspère qu’elle sera aussi bonne, qu’elle aura d’ésprit, et qu’elle sera aimable, enfin qu’elle vous ressemble tout à fait: je vous prie de faire mes complimens à Mrs. fitzherbert, et d’Elis; parlés aussi de moi au Chevalier de la Colinière, et dites lui que le livre, qu’il desiroit pour l’Imperatriçe, lui parviendra bientôt.
Bonjour, mon amour, mon tout, comment vivre loin de vous, en honneur je ne sais plus comment m’en tirer, le courage est toujours prèt à m’y manquer: j’ai le cœur remplit de tristesse, l’ame d’amertume, et mon ésprit de régrets soignés vous du moins, portés vous bien, songés que vous etes tout pour moi, que je n’aime que vous, vous êtes mon ame, ma vie: o toi que j’adore, conserve ta santé!
La Ctesse de Ségur
* * *
Копия письма графу Сегюру от его супруги
Версаль, 10 (21) декабря 1785 г.
Вчера я видела г-на Гримма[365]. Мы много говорили о Вас и о России. Нам бы очень хотелось, чтобы Вы были допущены на частные вечера, которые Императрица устраивает в своем Эрмитаже. Это компенсировало бы Вам неизбежную скуку зимнего церемониала, не говоря уже о счастье видеть Императрицу в более приватной обстановке: как я сожалею, что не могу отправиться к Вам, я была бы по-настоящему счастлива познакомиться с Императрицей. Все, что Вы мне о ней рассказывали, все, что я слышу о ней и от Линя[366], и от г-на Гримма, заставляет сожалеть, что я не поехала в Россию. Мой брат очень хочет навестить Вас. Вам я оставляю судить, не завидую ли я ему, не имея возможности самой совершить столь желанное путешествие. Я счастлива, что едет именно мой брат, и полагаю, что пребывание у Вас будет ему чрезвычайно полезно. Безусловно, Вы одобрите и поддержите его замысел. Нетрудно доказать, что, путешествуя, он приобретет множество не только ценных, но и необходимых для его положения знаний. Изучая законодательные системы, политику, торговлю различных народов, он приобрел бы те сведения, необходимость которых столь хорошо доказал Монтескье. Не станет ли он после этих лет обучения гораздо более подходить для того, чтобы исполнять функции судьи, законодателя, одним словом, государственного человека, человека полезного своей стране? В этой поездке он, скорее, должен многое приобрести, нежели потерять. Он не может сожалеть о той незначительной должности, которую он получил бы здесь и которая не отличалась бы от той, что исполняют огромное число людей. Я считаю, любовь моя, что, рассматривая его путешествие с такой точки зрения, Вы поддержите его: сообщите мне, что Вы об этом думаете. Что же до меня, то, несмотря на боль, которую я буду испытывать, расставаясь с ним, я думаю, что мне будет в высшей степени приятно думать, что он будет находиться с Вами некоторое время, что он расскажет Вам обо мне, о Ваших детях, о Вашем отце, о самых дорогих Вам здесь интересах. Мне также приятно подумать, что то доверие, которое встретит в Вас мой брат, будет столь же полезно для него, как и приятно, что либо в России, либо в любом другом месте Вы употребите все средства, которые находятся в Вашей власти, чтобы способствовать его обучению, и получению тех знаний, которые он желает приобрести. Наконец, Вы же любите моего брата и, надеюсь, Вы полюбите его еще больше, когда Вы встретите его вдали от суматохи Парижа; новостей, которые я могла бы Вам поведать, у меня нет, поскольку они представляют собой всевозможные подробности по бессмысленному поводу, исключая те, что касаются дела Кардинала; после декрета о взятии под стражу нового ничего нет. Парламент сейчас занят тем, как отказать в займе г-ну де Колонну[367]; он носится из Парижа в Версаль; Парламент говорит «нет», король говорит «да», и, безусловно, парламент будет прав, я не могу изложить Вам больше подробностей об этом деле, я ничего о нем не слышу; вчера говорилось о королевском троне в парламенте, я не буду о нем огорчаться, ибо я никогда его не видела. Лаура[368] Вам пишет немного сумасбродное письмо, она становится все более милой, очень привлекает умом и сообразительностью. Надеюсь, она будет настолько же добра, как и умна и мила, словом, совершенно похожа на Вас. Я прошу Вас передать мои комплименты г-дам Фитцгерберту[369] и д’Элису; расскажите также обо мне шевалье де ля Колиньеру и скажите ему, что книга, которую он хотел получить для Императрицы, скоро будет ему доставлена.
Доброго дня, любовь моя, мое все. Как жить вдали от Вас; честно говоря, я совсем этого не представляю. Мужество всегда готово покинуть меня. Мое
сердце наполнено грустью, душа — горечью, мой ум — сожалением. По крайней мере, заботьтесь о себе, чувствуйте себя хорошо, думайте, что являетесь для меня всем, что я люблю только Вас, Вы являетесь моей душой, моей жизнью: ты, которого я обожаю, береги свое здоровье!
Графиня де Сегюр
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.24, лл.296–297об.
4. Сopie de la lettre, écrite à Mr. le Comte de Ségur par son épouse
ce 10 (21) décembre 1785
J’ai récu une de vos lettres du 20 qui est, s’il est possible encore plus aimable et plus charmante, que toutes les autres. Ah mon cher Amour! qu’il est cruet, d’etre separée de vous, vous etes chaque jour plus aimable et plus tendre pour moi; je ne puis vous exprimer tous les sentimens, que vous faites éprouver à mon cœur. Cette bien longue lettre, dont vous me parlés, ne m’est point encore parvenue. Votre Consul n’étant point encore arrivé, vous croïés bien, que l’attente de cette lette, me donne une vive impatience. N’aiés point de tourmemens sur celle écrite à Mr. de Chatellac, il ne fera rien, qui puisse vous fourmenter, j’en répons d’avance; je suis moi-meme inquiéte, de …… qu’elle vous occupe; qu’il est affreux, de ne pouvoir se comuniquer aucunes idées, aucunes réflexions, aucuns sentimens presque, car nos cœurs ne peuvent se livrer, comme ils en sentent le besoin, heureusement qu’ils s’entendent, et qu’ils sont toujours unis malgré la distancer, qui nous sépare. Mon Dieu, que tout ce que vous me dites sur l’ouvrage de Mr. de Florian, est joli. Mr. de Buffon prétend, qu’il avoit le sentiment de tout ce que vous en dites, mais qu’il lui manquoit la maniere d’exprimer le jugement qu’il porfoit, et que vous la trouvés toujours avec une précision une finess, un tact et une grace, qui n’appartient qu’à vous; en deux mots, vous exprimés clairement, profondement, agréablement ce que beaucoup de gens d’esrit disent au moins en quatre pages. Vous etes adorable mon cher cœur, parceque votre esprit, ah! que je vous aime, mon cœur ne peut vous dire tout ce que vous lui inspirés d’amour, de tendresse, d’ivresse, de passion.
La Comtesse de Segur
* * *
Копия письма графу Сегюру от его супруги
10 (21) декабря 1785 г.
Я получила одно из Ваших писем от 20 числа, которое, если это возможно, еще более приятно и прелестно, чем все другие. О, мой дорогой, любовь моя! Как это жестоко быть вдали от Вас. Каждый день Вы все более приятны и нежны ко мне. Я не могу выразить Вам всех тех чувств, что Вы пробуждаете в моем сердце. То достаточно длинное письмо, о котором Вы говорите, еще не дошло до меня, поскольку Ваш консул все еще не прибыл. Вы правы, что ожидание этого письма вызывает у меня сильное нетерпение. Не волнуйтесь о письме, написанном г-ну де Шателаку, он не сделает ничего того, что могло бы обеспокоить Вас. Я заранее отвечаю за него. Я сама обеспокоена тем, что оно тревожит Вас. Это ужасно быть не в состоянии поделиться мыслями, размышлениями и даже чувствами, ибо наши сердца не могут ввериться друг другу, когда чувствуют в этом необходимость. К счастью, они понимают друг друга и находятся всегда вместе, несмотря на расстояние, которое нас разделяет. Боже мой! Как мило все то, что Вы рассказываете мне о работе г-на де Флориана. Г-н де Бюффон утверждает, что он имел свое суждение обо всем, что Вы говорите, но не мог выразить их, как это делаете Вы, в Вашей обычной манере — с предусмотрительностью, изяществом, тактом и любезностью, которые присущи только Вам. В двух словах, Вы выражаете ясно, глубоко и приятно то, что большинство остроумных людей излагают по меньшей мере на четырех страницах. Вы прелестны, мой дорогой друг, потому что Ваше сердце еще контролируется Вашим умом. Ах, как я Вас люблю! Мое сердце не может передать всего того, что Вы пробуждаете в нем — любовь, нежность, упоение, страсть.
Графиня де Сегюр
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.24, лл.298–299.
5. Copie de la lettre, écrite à Mr. le Comte Vergenne par Mr. le Comte de Ségur
ce 30 janvier 1786
Monsieur le comte,
Je me suis occupé de l’affaire du Sr. Boehmer jouaillier de la Couronne; avant de faire aucune démarche ministérielle j’ai écrit à M. le General Zoritsch, qui m’a répondû qu’il étoit très disposé à liquider cette dette, mais qu’il ne le pouvoit absolument pas dans ce moment-çi. Il m’a démandé jusqu’au mois de juin, temps où il envoye vendre à Riga les productions de ses terres; quoiqu’il tienne depuis près de 4 ans le même langage au Sr. Stender, Consul de l’Empereur, et chargé de la procuration de Boehmer, et que le produit de ses ventes soit réclamé par ses Créanciers avant mémo l’arrivée des marchandises; j’ai crû devoir attendre jusqu’au terme auquel il promet de payer; s’il ne satisfait pas à son engagement à l’éxpiration de ce tems jе ferai les demarches les plus pressantes pour le récouvrement de la somme dont M. Zoritsch est debiteur.
Joignant içi copie de la lettre que m’a écrit Mr. Zoritsch, et celle qu’il a écrite à Mr. Stender.
J’ai l’honneur d’étre.
Le Comte de Ségur
* * *
Копия письма графа Сегюра графу Верженну
30 января 1786 г.
Г-н граф. Я занят делом г-на Бёмера[370], королевского ювелира; прежде чем сделать какое-либо правительственное обращение, я написал г-ну генералу Зоричу, который ответил мне, что он всеми силами желал бы погасить этот долг, но в настоящее время никак не может этого сделать. Он попросил у меня отсрочки до июня — времени, когда он посылает в Ригу продавать выращенное на его землях зерно. Хотя он повторяет то же самое вот уже четыре года подряд консулу императора г-ну Штендеру, имеющему поручение от г-на Бёмера, а доходы от его продаж будут затребованы его кредиторами еще до прибытия товаров, я полагаю, что должен подождать до того срока, когда он обещал заплатить. Если он не выполнит свои обязательства по истечении названного срока, я буду самым настойчивым образом требовать возвращения той суммы, которую должен г-н Зорич.
Прилагая здесь копию письма, которое г-н Зорич написал мне и г-ну Штендеру, имею честь быть…
Граф де Сегюр
6. Copie d’une lettre, écrite à Mr. Le Comte de Segur par Mr. Le Géneral Soritch
Monsieur,
Je vous rémercie beaucoup de l’obligeante lettre, que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire au sujet de ma dette envers le Sr. Boehmer, jouaillier de Paris, par laquelle vous me faites connoitre vos bonnes intentions à mon égard, auxquelles je suis extremement sensible. Pour ce qui est des arrangemens, que je me propose de prendre pour l’extinction de cette dette, et dont vous vous lès bien etre instruit, Mr. Ständer, chargé de cette affaire dela part du dit Sr. Boehmer, et qui m’a transmis votre lettre, aura l’honneur de vous exposer ce que je viens de lui écrire sur ce sujet.
Agréés Mr. Le Comte, les assurances de mon attachement, et de la consideration tres diffinguée avec laquelle j’ai l’honneur d’etre.
Soritch
* * *
Копия письма генерала Зорича[371] графу де Сегюру
Милостивый государь. Я очень Вам благодарен за то любезное письмо, что Вы оказали честь мне написать относительно моего долга г-ну Бёмеру, парижскому ювелиру, где сообщаете мне о Ваших благих намерениях в отношении меня, к чему я в высшей степени чувствителен. Касательно мер, которые я намереваюсь предпринять для ликвидации этого долга и о коих Вы прекрасно осведомлены, г-н Штендер, которому это дело поручено от имени упомянутого г-на Бёмера и который передал мне Ваше письмо, будет иметь честь изложить Вам то, что я недавно ему отписал то этому поводу.
Примите, г-н граф, заверения в моей преданности и самом глубоком уважении, с которым имею честь быть.
Зорич
7. Copie de la lettre de Mr. Le Géneral Soritch
Les ésperances continuelles, que depuis un an, on n’a pas cessé de me donner touchant les sommes, que l’on m’avoit promises sur l’hypotheque de mes terres, me tenant sans cesse dans l’attente du moment, ou j’aurois pu acquitter ma dette envers Mr. Boehmer de Paris, m’ont fait garder si longtems le silence avec vous, et le peu d’effet, qu’ont produit ces promesses, m’ont mis dans l’impossibilité de remplir celle, que je vous ai donné par ma derniere, n’ignorant pas les mouvemens, que je me suis donnés, pour parvenir à cette fin, vous pourrés facilement vous imaginer, combien je suis faché du peu de succès, que j’y ai eu, et combien cette dette m’est devenu à charge, puis qu’elle m’empeche de disposer d’une parfie beaucoup plus considerable de mes biens, et par conséquent me prive aussi d’une partie des moïens, que je pourrois avoir, pour mettre ordre à mes affaires; mais ce qui me fait esperer, que je ne tarderai pas, à étre débarrassé de ce fardeau, c’est que l’hypotheque de mes terres de Livonie, vient d’etre usé, ce qui assurement va me mettre en état, de prendre avec vous tous les arrangemens propres à satisfaire Mrs vos Comettans. Je vous assure, Mr. que je n’omettrai rien, pour en venir à bout, le plutot possible, et qu’en tout cas, cela ne pourra etre differé que jusqu’au mois de Juin prochain, tems, ou les productions, que j’envoïe tous les ans à Riga, y arrivent ordinairement, et dont le produit suffira, pour vous rembourser au moins la moitié de la somme, supposé, que je ne réussisse pas auparavant à faire l’emprunt, que je cherche moïennant l’hypotheque de mes terres de Livonie. Il s’agit seulement d’avoir patience jusqu’à ce tems, apres quoi je ne fais pas ce qui pourroit empecher Mr. Boehmer, de m’accorder un delai de quelque tems pour le restant de ma dette, attendu que ses interets se trouvent en pleine sureté à cet égard.
Vous m’obligerés d’exposer à Mr. le Comte de Ségur, dont vous avés eu la complaisance, de me faire parvenir la lettre, les arrangemens, que je suis dans le cas de prendre pour la liquidation de cette dette, et qui sont annoncés dans cette lettre.
* * *
Копия письма генерала Зорича
Постоянные надежды, которые вот уже год не переставали давать мне относительно тех сумм, которые мне обещали под залог моих земель, непрерывно держа меня в состоянии ожидания того момента, когда я смог бы выплатить мой долг г-ну Бёмеру из Парижа, заставили меня столь долго хранить молчание по отношения к Вам, а тот малый эффект, который принесли эти обещания, лишили меня возможности выполнить те, что я дал Вам в последнем моем письме; не говоря уже о доставленном мне беспокойстве. Вы можете легко представить себе, насколько я расстроен тем незначительным успехом, который имел в своих начинаниях, и насколько этот долг стал для меня обременительным, поскольку он препятствует мне распоряжаться гораздо более значительной частью моего имущества и, как результат, лишает меня также части тех средств, которые я мог бы иметь, чтобы привести в порядок мои дела. Я сохраняю, однако, надежду на то, что освобожусь от этого бремени, поскольку недавно я заложил свои ливонские земли, что, безусловно, вскоре повлечет за собой шаги, необходимые для того, чтобы удовлетворить Ваших доверителей. Уверяю Вас, милостивый государь, что ничего не упущу из вида, чтобы как можно скорее разрешить проблему долга, и что в любом случае ждать придется только до следующего июня, времени, когда те продукты, которые я посылаю каждый год в Ригу, обычно прибывают туда. Дохода от них будет достаточно, чтобы уплатить Вам по крайней мере половину суммы, предположив, что мне не удалось бы к тому времени сделать заем, который я хочу сделать путем заклада моих земель в Ливонии. Речь идет только о том, чтобы иметь терпение подождать до этого момента; после этого я не знаю, что могло бы помешать г-ну Бёмеру согласиться предоставить мне отсрочку на некоторое время по выплате остатка моего долга, ввиду того, что его интересы в этом отношении находятся в полной безопасности.
Вы мне окажете любезность, сообщив г-ну графу де Сегюру, от которого Вы имели любезность передать мне письмо, о тех мероприятиях, что я собираюсь предпринять для ликвидации этого долга и которые указаны в этом письме.
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.25, лл.45–47.
8. Copie de la lettre du Comte de Ségur au Comte de Vergennes
ce 11 (22) août 1786
Monsieur le Comte,
Je crois que l’affaire du Sieur Boehmer, que vous m’avés fait l’honneur de me récommander est terminée aussi bien qu’elle pouvoit l’étre. Le Sieur Hay et Compagnie viennent de réçevoir pour lui, la somme de soixante et trois mille livres, le reste de la dette sera acquitté l’année prochaine, le General Zorich, s’y est engagé, et jusqu’à ce que cette liquidation soit effectuée, les arrêts sur ses terres subristeront toujours.
J’ai l’honneur d’étre.
Le Comte de Ségur
* * *
Копия письма графа Сегюра графу Верженну
11 (22) августа 1786 г.
Господин граф. Я полагаю, что дело г-на Бёмера, которое Вы оказали мне честь поручить, закончилось настолько хорошо, насколько было возможно. Г-н Хэй и Компания недавно получили для него сумму в 63 тысячи ливров. Остаток долга будет получен в следующем году. Генерал Зорич обязался это сделать. До тех же пор, пока не завершится выплата долга, решение об аресте его земель будет оставаться в силе.
Имею честь оставаться
Граф де Сегюр
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.25, л.47об.
9. Copie d’une lettre du comte de Ségur à la comtesse de Ségur
сe 2e Juin 1789
Vous m’avés fait un extreme plaisir mon cher amour, en me donnant si promptement des nouvelles de l’ouverture des Etats et en m’en voyant le discours du Roi, le discours porte l’empreinte d’une bonté, d’une vertu, d’une sincerité qui doivent eteindre dans l’assemblée tous les flambeaux de la discourde, de l’esprit de parti et j’espere que ces fameux etats finiront comme ils ont commencé. Je suis cependant faché qu’on n’ait pas tout de suite decidé de voter par têtes, ces menagemens pour les differens partis ne concluent rien et peuvent mecontenter tout le monde. Et il me semble que le Ministre pouvoit aisement decider la votation par tête en disant que le Roi avoit assemblé les Etats non pour consulter chaque ordre mais pour consulter la Nation assemblée sur le salut general du Pays. La gazette de Mirabeau est malheureusement piquante et curieuse, j’espere que ce reptile dangereux que tout homme d’honneur devroit chasser du lieu ou il se trouve, que je ne souffrirois jamais près de moi, s’empoisonnera de son propre venin et perdra de lui meme une tete, que la justice auroit dû ecraser depuis longtems. Evrard va bientôt etre près de vous, que je l’envie, le poste de courier me semble aujourd’hui bien meilleur que celui de Ministre.
Adieu, mon ange, mille baisers à nos enfans.
* * *
Графине Сегюр от графа Сегюра
2 июня 1789 г.
Любовь моя, Вы доставили мне огромное удовольствие, столь быстро сообщив мне об открытии Генеральных Штатов и прислав мне речь короля. Его выступление несет на себе отпечаток доброты, целомудрия, искренности, которые должны потушить в собрании все очаги разногласий, партийности. Я надеюсь, что эти славные Штаты закончатся так же, как и начались. Тем не менее, я раздосадован, что не было решено сразу проводить индивидуальное голосование. Эти церемонии для разных партий ничего не значат, они могут всех перессорить. И мне кажется, что министр легко мог принять решение об индивидуальном голосовании, указав, что король собрал Генеральные Штаты не для того, чтобы советоваться с каждым сословием в отдельности, но чтобы обратиться ко всей нации для спасения страны. К сожалению, газета, издаваемая Мирабо, чересчур язвительна и всюду сует свой нос. Надеюсь, эта опасная рептилия, которую всякий честный человек должен был бы гнать оттуда, где она находится, которую я никогда бы не подпустил к себе, отравится своим собственным ядом и сама сгубит свою голову, которую правосудие должно было бы уничтожить. Эврар[372] вскоре прибудет к Вам, так что я ему завидую. Должность курьера кажется мне сегодня намного лучше должности посланника. Прощайте, мой ангел! Тысяча поцелуев нашим детям!
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.30, л.212.
10. Copie d’une lettre du comte de Ségur à la comtesse de Ségur
ce 9e juin 1789
La plupart de ceux qui refusent d’opiner par tete, n’en ayant apparement pas; sont par cela même, mon cher amour, infiniment excusable, j’espere cependant qu’il leur en viendra un jour et qu’ils sentiront qu’une Assemblée par ordre separé n’est point une Assamblée nationale et que pour rendre le Etats generaux, la 1ere chose à faire est, de les generaliser. Si l’on s’obstinoit on pourroit amener la guerre civile, mais j’espere que la Noblesse et le Clergé sentiront qu’on ne peut resister à l’avis de 24 millions d’hommes. J’y trouve une d’autant plus grande injustice que les 2 premiers ordres ayant à eux deux autant de voix que le tiers ne doivent pas craindre que les opinions prevalent dans l’Assamblée réunie. Ainsi c’est offender le peuple sans raison que de lui refuser de se réunir à lui. Mandés-moi comment au milieu de la Noblesse de Paris pleine de pretentions, d’amour propre et d’eprit le Duc de Castries a trouvé le moyen d’etre élû. J’en suis tout etonné, je ne lui connoissois ni l’intrigue ni l’eloquence necessaires pour enlever les suffrages. Vous avés raison de penser que je suis vivement affligé de ne pas voir de près la descussion de ces grands interets, et l’on ne sent peut etre pas assés, combien vous sacrifions à notre pays dans cette circonstance d’autant plus que c’est le moment ou la nation nous recompense le poins de nos peines et s’occuppe le moins de nos travaux. Je suis comme vous las d’esperer, aussi je ne veux plus vous donner d’esperance, peut etre le retour d’Evrard les detruiroit.
Le Pce de Nassau est bien heureux, sa femme est avec lui, je passe mes journées dans leur menage en me desolant de n’etre pas dans le mien. Il va partir ce cher Prince auquel vous devés de l’amitié, son depart m’attriste, les dangers sont si inseparables de la gloire et les evenemens si dependans du hazard que je suis reellement inquiet. Les nœuds de notre amitié se resserrent tous les jours, il m’a prouvé qu’il etoit mon ami. A propos d’amis, je sais que Choiseul est mon concurrent pour ce que je souhaite. Dites-en beaucoup de bien, c’est ainsi que nous devons rivaliser. Adieu, mon cher amour, je vais profiter du soleil et voir travailler mes ouvriers.
* * *
Графине Сегюр от графа Сегюра
9 июня 1789 г.
Большинство тех, кто отказывается голосовать по головам (индивидуально), очевидно, не имея таковых, уже поэтому, любовь моя, заслуживают прощения. Я все же надеюсь, что настанет день, и они поймут, что собрание отдельных сословий вовсе не является национальным собранием и что для того, чтобы созвать Генеральные Штаты, первое, что нужно сделать, — это объединить сословия. Если бы было проявлено упорство, то дело могло бы дойти до гражданской войны. Но я надеюсь, что дворянство и духовенство поймут, что невозможно сопротивляться мнению 24 миллионов людей. Я нахожу в том тем большую несправедливость, что два первых сословия, имеющие в сумме столько же голосов, сколько и третье, не должны бояться, что противное им мнение одержит верх в объединенном собрании. Таким образом, отказываться объединяться с народом означает нанести ему оскорбление без всякого на то основания. Поведайте мне, как среди парижского дворянства, полного претензий, честолюбия и духа, герцог де Кастри нашел средство быть избранным. Я совершенно удивлен этому. Я не знаю за ним ни связей, ни красноречия, чтобы выиграть голоса. Вы правы, что я сильно огорчен, что не присутствую при обсуждении этих больших дел. И, возможно, мало кто понимает, скольким мы жертвуем в этой обстановке ради нашей страны. Тем более что настал момент, когда народ менее всего вознаграждает нас за наши труды и меньше всего заботиться о наших делах. Я, как и Вы, устал надеяться, я также не хочу более давать Вам надежд. Возможно, возвращение Эврара их разрушит.
Принц Нассау вполне счастлив. С ним его жена. Я провожу дни в их доме, жалея о том, что не у себя дома. Он вскоре уезжает, этот дорогой Принц, которому Вы обязаны дружбой. Его отъезд печалит меня. Опасности столь неотъемлемы от славы, а события так зависят от случая, что я действительно обеспокоен. Узы нашей дружбы крепнут с каждым днем. Он доказал мне, что является моим другом. Что касается друзей, то я знаю, что Шуазель[373] — мой соперник в достижении желаемого. Говорите о нем побольше хорошего, именно так мы должны соперничать. Прощайте, любовь моя, я воспользуюсь солнечной погодой и посмотрю, как трудятся мои работники.
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.30, лл.223–223об.
11. Copie d’une lettre du comte de Ségur au maréchal de Ségur
ce 3e Juillet 1789
Je trouve mon cher Papa que votre accès de goutte a été un peu long, mais j’espere que l’air de Romainville et le calme dont vous y jouirés empecheront que de toute l’année vous n’ayés une autre attaque. Un des cousins de cette vilaine maladie m’afflige depuis quilques jours, c’est un rhumatisme dans le col et dans la tête, comme je trouve le siege du mal un peu près dela carvelle et que ce meuble est assès necessaire aux Negociateurs, je me menage de mon mieux et depuis 8 jours je ne suis pas sorti de chez moi. Nous n’avons aucune nouvelle de la guerre du Sud depuis l’affaire de Galatz mais le Pce. Potemkin doit etre à present à la tête de son armée et selon toute apparence les Turcs qui payent toujours cher les leçons militaires dont ils ne profitent pas, vont au lieu d’attaquer la Crimée etre obligé de se defendre sur les Rives du Danube. Quant à la guerre du Nord elle a jusqu’à present été assès favorable aux Russes, ils ont pris S.t Michel, Kristina et Kiri, plusieurs postes en Savolax, beaucoup de monde et de pieces de canons. Il est vrai que d’un autre coté 10 000 Suedois viennent d’entrer sur le territoire Russe vers Davidoff, mais je crois que ce corps a fait une marche un peu hazardée et si l’on se conduit bien, comme il risque d’etre coupé, on peut lui rendre sa retraite bien difficile.
De toutes parts on ne voit que la guerre ou allumée ou prête à l’etre, le mot de paix est sur toutes les levres mais dans bien peu de cœurs. Et tandis que tout le monde à l’air de jetter de l’eau sur cet incendie, deux ou trois personnes y jettent de l’huile ce qui ne contribue pas peu à la faire durer. J’espère que les jetteurs d’huile dans nos Etats generaux finiront par etre ramenés à la raison et que l’harmonie succedera à cette malheureuse sussion qui me desole, tout le monde veut payer voilà ce fond de l’affaire, il est facheux que les formes prennent tant de tems et qu’elles l’emportent et souvent sur le fond. La cour paroit desirer de sapposer aux innovateurs en fait de conglitution, je crains qu’elle ne s’en soit avisée que trop tard, il y a un an on pouvoit empecher, aujourd’hui il faudra ceder. Ce mot de liberté a passé par trop de bouches pour pouvoir en adoucir le son et le moindre obstacle en feroit un cri terrible. Et ce n’est qu’en le voyant bien adroitement qu’on se tire de pareils orages. Vous devés moins que jamais regretter le Ministere et les convulsions qui vous entourent doivent vous faire mieux sentir le prix de l’honorable repos dont vous jouissés. Adieu mon cher Papa recevés l’assurance de ma tendresse et de mon respect.
* * *
Маршалу Сегюру от графа Сегюра
3 июля 1789 г.
Дорогой папа, полагаю, Ваш приступ подагры затянулся. Однако надеюсь, что благодаря воздуху Ромэнвиля и тишине, которыми Вы насладитесь там, за весь год у Вас не будет другого приступа. Один из кузенов негодяйки болезни мучает меня вот уже несколько дней. Это ревматизм шеи и головы. Так как очаг боли недалеко от мозга, а предмет этот совершенно необходим тем, кто ведет переговоры, я максимально берегу себя и вот уже восемь дней как не выхожу из дома. После стычки при Галатце каких-либо других новостей о войне на Юге у нас нет. Правда, князь Потемкин должен быть сейчас во главе своей армии, и турки, которые всегда платят за военные уроки и не выносят из них никакой пользы, вместо того, чтобы напасть на Крым, по всей видимости, должны будут сражаться на берегах Дуная. Что касается войны на Севере, то до сегодняшнего времени она развивалась достаточно благоприятно для русских. Они захватили Сен-Мишель, Кристину и Кири, несколько пунктов в Саволаксе, много людей и артиллерийских расчетов. Правда, с другой стороны, десять тысяч шведов недавно вторглись на русскую территорию в направлении Давыдова. Но я полагаю, этот корпус совершил случайный переход, и если русское командование хорошо соображает, то, поскольку этот корпус рискует быть отрезанным, можно сделать его отступление достаточно трудным. С каждой стороны — только война, или начавшаяся, или готовая начаться. Слово «мир» у всех на устах, но совсем в немногих сердцах. И в то время как все готовы залить водой пожар, две или три личности подливают туда масла, которое немало способствует его продолжению. Надеюсь, что те, кто подливает масла в огонь в наших Генеральных Штатах, закончат тем, что будут выдворены по этой причине вон, и вслед за сим злополучным расколом, который меня огорчает, восторжествует гармония. Все хотят набить карманы — вот в чем суть дела. Досадно, что на формальности уходит столько времени, что часто это вредит сути дела. Кажется, двор желает помешать нововведениям в отношении конституции. Боюсь, что он узнал о ней слишком поздно. Год назад еще можно было помешать ей, сегодня же нужно с ней примириться. Это слово «свобода» прошло через слишком много уст, чтобы смягчить свое звучание, и малейшее препятствие превратило бы его в грозный крик. Только ловко лавируя можно избежать подобных волнений. Меньше, чем когда-либо Вы должны сожалеть об уходе из правительства. Те конвульсии, которые происходят вокруг Вас, должны заставить Вас лучше почувствовать цену почетного отдыха, которым Вы наслаждаетесь. Прощайте, дорогой папа, примите заверения в моей нежной любви и уважении.
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.30, лл.266–266об.
12. Copie d’une lettre du comte de Ségur à la comtesse de Ségur
Ce 10 juillet 1789
Mon cher cœur. Je viens de recevoir la lettre par laquelle vous m’annoncés l’arrivée d’Evrard, j’espere que j’en recevrai bientôt une qui m’annoncera son depart de Paris; vous sentés combien de motifs me font souhaiter son retour. Je suis parfaitement retabli du refroidissement dont je vous ai parlé et j’ai deja repris mon train de vie ordinaire, en tout je ne puis pas me plaindre de l’Eté, il est superbe et presqu’aussi chaud qu’un été de France. Seulement il est un peu triste pour moi car je n'ai pas vu l’imperatrice depuis qu’Elle est à Czarsko Zelo excepté à un seul spectacle. Elle a bien des contrariétés exterieures et domestiques et les soutient avec une force, un grandeur et une Noblesse digne d’Eloges. Peu de femmes seraient capables de certains traits d’Elle que je sais dont il ne convient pas de parler, et tout ce que je vois en Elle m’y attache chaque jour d’avantage. Consolez mon beau frere de votre mieux, mon cher amour. Je vous prie, soyés son bon Ange pour le dedommager du mauvais qui le persecute et faites des vœux un peu actifs pour ce que je desire et ce que j’attends. Boudés Laure et mes fils, il y a longtems qu’ils ne m’ont ecrit. Embrassez mon Pere.
* * *
Графине Сегюр от графа Сегюра
10 июля 1789 г.
Сердце мое. Я только что получил письмо, которым Вы извещаете меня о приезде Эврара, надеюсь, что скоро получу и другое — о его отъезде из Парижа; Вы знаете, сколько причин заставляет меня желать его возвращения. Я полностью оправился от простуды, о которой говорил Вам, и вернулся к обычному образу жизни, в целом я не могу пожаловаться на здешнее лето, оно великолепно и почти такое же жаркое, как во Франции. Мне только немного грустно, что я не виделся с Императрицей с тех пор, как она уехала в Царское Село, если не считать одного спектакля. У нее сейчас немало затруднений, и внешних, и внутренних, но она переносит их с силой, величием и благородством, достойными всяческой похвалы. Немногие женщины могли бы проявить некоторые черты характера, о которых я знаю, но о которых не следует говорить. Все что я вижу каждый день, все больше привязывает меня к ней. Утешьте моего шурина, как сможете, любовь моя. Прошу Вас, будьте его добрым ангелом, помогите перенести преследующие его несчастья, а также проявите чуть больше активности в том, чего я желаю и ожидаю. Побраните Лауру и сыновей, они давно уже мне не писали. Поцелуйте отца.
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.30, л.279.
13. Copie d’une lettre du comte de Ségur à la comtesse de Ségur
à Petersbourg ce 14e juillet 1789
Comme j’ai ecrit 3 depeches aujourd’hui, mon cher cœur, je crois que vous trouverés simple que je vous dise seulement un très petit mot. D’ailleurs je suis peu en train de cause, je me sens une extreme melancolie, elle ne vient cependant ni de ma position qui est la meme, ni de ma santé qui est très bonne. Elle est plutôt relative aux embarras exterieurs, aux tracas interieurs d’une personne à laquelle je dois beaucoup de reconnoissance, que j’aime de tout mon cœur, que j’admire plus que personne, que je ne vois pas depuis 2 mois et que je crois contrariée sous tous les rapports et de tous les cotés. Son genie et la force de son caractere lui font surmontes toutes ces contrarietés, mais interieurement Elle doit etre affutée, Elle doit soufrir, et il m’est impossible de ne pas etre peiné vivement quand je crois qu’Elle a quelque suget de chagrin.
J’eprouve aussi quelque inquietude pour mon ami le P.ce de Nassau. Sa flotte a été si retardée dans son armement, que les Suedois ont eu le tems de se fortifier dans toutes les isles qui entourent Friedrichshamm, cette position est formidable et doit couter du sang, pour tout autre que Nassau elle seroit inattaquable. Je crois qu’il livre à present des combats ou il courrera de grands dangers et jusqu’à ce que j’en sache l’issue je serai dans des allarmes bien vives. Celles de sa femme sont excessives et le spectacle de son inquietade que je dois adosir augmente infiniment la mienne. Adieu, mon cher amour, respirez paisiblement l’air frais de Romainville, faites quelque sortilege pourque je puisse en avoir ma part et envoyés moi de bonnes nouvelles de nos Etats Generaux. La demarche du Tiers a du faire prendre une tournure decisive et cette discussion, je vous avoue, que je suis absolument de l’avis de la Chambre des Communes. Et si pour s’opposer à quelques deliberations trop précipitées, on aime mieux 2 chambres qu’une, il faut qu’elles soient constituées par les Etats Generaux rassemblés, mais la separation par ordre ne servirait jamais qu’à prolonger la fussion et à nourrir l’esprit de parti toujours l’ennemi de l’esprit public.
Adieu, mon amour, embrassés mon Pere, mes enfans et votre malheureux frere que je plains de tout mon cœur.
* * *
Графине Сегюр от графа Сегюра
Петербург, 14 июля 1789 г.
Поскольку я уже написал сегодня три депеши, сердце мое, надеюсь, Вы поймете, почему я скажу Вам очень коротко только несколько слов. К тому же я немного не в своей тарелке и испытываю чувство крайней меланхолии, причиной которой, однако, являются не мои дела, которые остаются как прежде, не здоровье, очень хорошее. Она вызвана скорее как внешними затруднениями, так и внутренними неурядицами, которые переживает та, которой я так признателен, которую люблю всем сердцем и восхищаюсь более чем кем бы то ни было, и которую не вижу уже в течение двух месяцев, зная к тому же о неурядицах, обрушившихся на нее во всех отношениях и со всех сторон. Ее гений и сила характера помогают ей преодолеть все эти трудности, но душа ее, конечно же, глубоко уязвлена, она должна страдать, и мне невозможно избавиться от тяжести в душе, когда я знаю, что у нее есть некоторые основания печалиться.
Немного беспокоит меня и мой друг принц Нассау. Его флот был вооружен с опозданием, что дало шведам время укрепиться на всех островах, которые окружают Фридрихсгамм. Их позиции сейчас укреплены потрясающе, и взятие их должно стоить крови, для всякого другого, но не Нассау, атаковать их было бы немыслимо. Я полагаю, что он дает сейчас сражение, в котором подвергается большому риску, и пока я не узнаю об исходе, то буду оставаться в самом большом беспокойстве. Тревога его жены чрезмерна, и поскольку, являясь ее свидетелем, то пытаюсь ее смягчить, это в огромной степени увеличивает мои собственные беспокойства. Прощайте, любовь моя, дышите спокойно свежим воздухом Ромэнвиля, погадайте о том, что меня ждет, и пришлите мне добрые новости о наших Генеральных Штатах. Демарш, предпринятый третьим сословием, должен принять решающий оборот, признаюсь, что в отношении всех этих дебатов я абсолютно разделяю мнение палаты общин. Если, однако, для того чтобы предотвратить некоторые, чересчур поспешные шаги, предпочитают иметь две палаты вместо одной, нужно, чтобы они были учреждены всеми сословиями Генеральных Штатов, поскольку разделение по сословиям способствовало бы только продолжению раскола и питало бы партийный дух, всегда враждебный общественному благу.
Прощайте, любовь моя. Поцелуйте отца, детей и Вашего несчастного брата, которому я сочувствую всем сердцем.
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.30, лл.442–442об.
14. Copie d’une lettre du comte de Ségur à la comtesse de Ségur
à Petersbourg ce 17e juillet 1789
Mon cher cœur. La nouvelle que vous m’apprenez est bien importante. Nous voici dans l’instant de crise le plus decisif et je vous avoue que je ne puis pas en attendre le resultat sans trouble et sans emotion. Je soupire après le premier jour de poste pour savoir l’effet de la Séance Royale, mais je crains encore qu’on n’y offre des partis conciliatoires qui ne seront plus acceptés, le moment des tergiversations est passé. Et le Roi n’a plus d’autre parti à prendre qu’à se decider pour la cause du tiers ou pour celle de la Noblesse. La derniere est plus favorable à la prerogative Royale, à la tranquillité publique, mais la premiere a pour elle la voix presqu’entiere de la Nation et il seroit sans doute imprudent de lui resister, au moins je ne le conseillerois jamais. Il y a deux ans l’autorité pouvoit se montrer, aujourd’hui elle doit ceder pour conserver quelque terrein; l’evenement prouvera que je vois juste. Au reste de quelque maniere que le combat se termine entre les privileges, les prerogatives et la liberté, il y a deja un grand bien d’opéré puisque les representans des 96/100 de la nation ont pris les dettes et les créanciers sous la garantie nationale. Cette deliberation noble et sage doit relever notre credit, rassurer nos amis et faire fremir nos Rivaux.
Je crains que cette lettre-ci ne trouve encore Evrard à Paris, s’il n’est pas parti, ne negligez pas de faire ce qui depende de vous pour qu’il m’apporte des reponses de Monsieur et de Mgeur le Cte d’Artois.
Le Pce de Nassau est tiré de la position critique ou je le croyois, les Suedois ont negligé de fortifier les isles et de lui disputer le passage, il est arrivé sans combat à Fredrichshamm avec sa flotte et ses troupes et bientôt nous entendrons probablement parler de ses exploits. Le Cte Momonoff est parti pour Moscou, je le regrette et je suis faché qu’il se soit eloigné de la Cour dans un moment où tous ceux qui sont attachés à sa celebre, bonne et grande Souveraine ne devroient pas la quitter d’un seul pas.
Il est heureux pour l’humanité que les grands hommes ne soient pas degoutés de la bienfaisance par la legereté ou l’ingratitude de leurs amis. La Pesse de Nassau me parle bien souvent de vous et avec enthousiasme, c’est un moyen sûr de gagner mon cœur et je suis vraiment touché de la vive amitié qu’elle me temoigne.
Ma santé va mieux, l’air de la campagne me fait de bien, il ne me manque rien que le bonheur, ce qui n’est pas une bagatelle, et il me manquera toujours, tant que je serai loin de vous.
Dites à Octave et à Philippe que je suis très content de leurs fables et demandés pardon à Laure de sa paresse, car je crains que ce ne soit de moi qu’elle tienne ce vilain deffaut là. Adieu, tout.
* * *
Графине Сегюр от графа Сегюра
Петербург, 17 июля 1789 г.
Сердце мое, новость, которую Вы мне сообщили, весьма важна. Вот и настал момент самого решающего кризиса, и признаюсь, что я не могу ожидать его исхода бесстрастно. Я вздохнул, получив почту и узнав из нее о результатах приема у короля. Но я все еще опасаюсь, что шаги по примирению различных партий, которые будут предложены, не будут приняты, а возможности уладить все путем махинаций уже упущены. У короля не остается другой возможности, как решиться поддержать дело третьего сословия или дворянства. Последнее более благоприятно для королевских прерогатив, общественного спокойствия, но первое имеет на своей стороне голоса почти всей нации и сопротивляться этому было бы неосторожно, я по крайней мере никогда не посоветовал бы этого. Два года назад можно было бы демонстрировать власть, сегодня она должна уступить, чтобы сохранить за собой некоторое поле для действий; события докажут, что мои предвидения справедливы. В остальном же, как бы ни закончилось столкновение между привилегиями, прерогативами и свободой, уже достигнуто великое благо, поскольку представители 96 % нации распространили на долги и на кредиторов национальную гарантию. Этот мудрый и благородный шаг должен поднять наш кредит, успокоить друзей и повергнуть в трепет наших соперников.
Боюсь, что это письмо уже не застанет Эврара в Париже, если он еще не уехал, не упустите сделать все, что от Вас зависит, чтобы он привез мне ответы от их высочеств графа Прованского и графа д’Артуа[374].
Принц Нассау вышел из критической ситуации, в которой, как мне кажется, он находился, шведы недостаточно укрепили острова, для того чтобы затруднить ему проход, он без боя прибыл со своим флотом и войсками в Фридрихсгамм, возможно, мы скоро услышим о его подвигах. Граф Мамонов уехал в Москву. Я сожалею об этом и раздосадован тем, что он удалился от двора в момент, когда все те, кто привязан к его знаменитой, доброй и великой государыне, не должны покидать ее ни на шаг.
К счастью для человечества, великие люди не изменяют своей доброжелательности вследствие легкомыслия или неблагодарности их друзей. Жена принца Нассау часто и с энтузиазмом разговаривает со мной о Вас. Это верный способ завоевать мое сердце. Меня глубоко трогает та дружба, доказательства которых она мне дает.
Здоровье мое становится лучше, сельский воздух идет мне на пользу; мне не достает только счастья, что само по себе дело не шуточное. Но его я буду лишен всегда, до тех пор пока буду оставаться вдали от Вас.
Скажите Октаву и Филиппу, что я очень доволен сочиненными ими сказками, и попросите прощения у Лауры за ее лень, потому что боюсь, что этот отвратительный недостаток она унаследовала от меня. Прощайте, все.
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.30, лл.280–280об.,281.
15. Copie d’une lettre du comte de Ségur à la comtesse de Ségur
ce 24e Juillet 1789
La réunion des trois ordres que vous m’avés apprise Mon Cher Amour, est certainement une des plus grandes nouvelles que je puisse recevoir. Ce mal, c’en est un, etoit devenu un bien indispensable et depuis 2 ans on avoit laissé faire trop de pas au peuple pour qu’il fut possible et prudent de l’arreter; il faut le considerer dans ces momens d’effervescence comme ces courriers fougueux qui s’emportent, qu’on ne peut retenir tout à coup sans danger et qu’un cavalier habilse contente de diriger adroitement vers son but en se laissant entrainer par eux. J’attends encore quelques postes pour me livrer à l’espoir des grands resultats que la réunion des ordres semble promettre et je vois encore dans la discussion des matieres de grands sujets de fussion à craindre pour l’assemblée. Nous avons toujours ici des embarras d’un genre different. La fureur de Selim prolonge la guerre et quelques retards malheureux ont laissé le tems à Gustave d’entrer sur le territoire Russe dont on a cherché à le chasser totalement tandis qu’on comptoit le prevenir, l’attaquer chez lui et le punir ainsi de son aggression. Cette circonstance change la nature de la campagne et ne permet pas encore d’en prevoir l’issue.
Je suis faché d’apprendre qu’on ne songe pas encore à me renvoyer Evrard et que vous ne puissiéz pas savoir positivement s’il m’apportera ce que je desire. Je le souhaite ardement mais je crains que notre espoir soit trompé. On a manqué les 4 mois d’été ou cela auroit été plus à propos et plus facile. Ne vous rebatés cependant pas, je suis trop loin pour insister avec fruit et ce n’est qu’à vous et à mon pere que je peux devoir le succès de cette demande que je crois cependant aussi utile aux affaires que necessaire à mon bonheur. Je jouis toujours à la campagne du plus beau tems du monde et je me louerois infiniment de cet etat s’il ne me privoit pas du plaisir de voir l’Imperatrice. Adieu, je vous quitte pour aller à une partie de peche qui me prendra toute la journée pour la Politique. Embrassés ma Laure et mes fils bien tendrement.
* * *
Графине Сегюр от графа Сегюра
24 июля 1789 г.
Собрание трех сословий, о котором Вы мне рассказали, любовь моя, без сомнения, представляет собой самую важную новость из тех, что я мог получить. Это зло, потому что это зло превратилось в необходимое добро, и в течение двух лет допустили сделать слишком много шагов навстречу народу для того, чтобы сейчас было возможным, как этого требует осторожность, его остановить; в эти моменты общественного возбуждения на него надо смотреть как на ретивых лошадей, которые понесли и которых нельзя остановить сразу, без того чтобы подвергнуться опасности, опытный наездник должен в такой ситуации отдаться на их волю, пытаясь одновременно как можно более ловко направлять их к нужной ему цели. В ожидании почты я предаюсь надежде на важные результаты, которые обещает собрание всех сословий, и предвижу, что при обсуждении главных вопросов следует опасаться раскола в собрании. Здесь мы по-прежнему испытываем затруднения другого рода. Ярость, неистовство Селима ведет к затягиванию войны, некоторые досадные промедления дали время Густаву проникнуть на русскую территорию, с которой его уже было полностью прогнали и рассчитывали предупредить его действия, атаковать на его территории, наказав таким образом за его агрессию. Это обстоятельство меняет характер нынешней кампании и не позволяет еще судить о ее возможном итоге.
Я был раздосадован, узнав, что пока и не помышляют направить мне обратно Эврара и что Вам не удалось узнать точно, привезет ли он мне то, чего я желаю. Я хотел бы этого всей душой, но боюсь, что наши надежды будут обмануты. Упущено четыре летних месяца, когда сделать это было бы более уместно и легко. И все же не сдавайтесь, я нахожусь слишком далеко для того, чтобы настаивать плодотворно, и сейчас только Вам и моему отцу я могу быть обязан успехом этой просьбы, которую я, впрочем, полагаю столь полезной для дел, сколь необходимой для моего счастья. У нас здесь за городом по-прежнему стоит превосходная погода, и я был бы бесконечно доволен моим состоянием, если бы не был лишен удовольствия видеться с Императрицей. Прощайте, покидаю Вас, чтобы направиться на рыбную ловлю, которая на целый день отвлечет меня от политики. Нежно поцелуйте Лауру и сыновей.
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.30, лл.301–301об.
16. Copie d’une lettre du comte de Ségur à la comtesse de Ségur
ce 4e Aoust 1789
Mon cher cœur, j’ecris aujourd’hui à M. de Montmorin et dans ma depeche je lui parle en termes pressans d’une affaire qui vous interesse. Je detaille tous mes motifs de maniere à rendre la replique difficile, il faut que vous et mon pere vous agissiez de concert avec moi, c’est le moment decisif, car ne voyant pas d’apparence à l’expedition d’un courrier pour le mois prochain, j’ecris en chiffre par la poste ce que vour savés que j’aurois ecrit par ce courrier. J’attends la reponse avec une extreme impatience j’espere qu’elle m’arrivera les 1ers jours d’8lre, ne laissés pas de repos jusqu’à ce qu’on me l’ait envoyé. Nous n’avons ici aucune nouvelle qui puisse vous interesser. Nous en attendons des armées et ce ne sera probablement que dans 3 semaines que nous en recevrons d’inportantes. Je vous quitte pour ecrire à votre frere. Une petit isle dans mon jardin me sert de cabinet. J’y suis sans vent, sans soleil sous des arbres bien verts avec un excellent dejeuner que mangent Genet, Gerdret, Barthelemy, Peyrac, M. de Laval et quelques françois qui ont affaire à moi. Je suis couché sur un joli divan, ayant un aigle à coté de moi et mon kalmouk, des cignes, des oyes qui animent ma piece d’eau et un Renne qui se promene dans mon bois devant mes yeux. Adieu mon cher amour je serai dans l’inquietude jusqu’au moment ou je saurai si le Roi cède ou resiste à la motion du rappel des trouppes.
* * *
Графине Сегюр от графа Сегюра
4 августа 1789 года
Моя дорогая, сегодня я пишу г-ну де Монтморену[375] и убедительно рассказываю ему в своей депеше о том деле, которое Вас интересует. Я подробно описываю все мотивы своего поведения, чтобы ему было трудно отказать. Необходимо, чтобы Вы и мой отец согласовывали свои действия со мной. Это решающий момент, ибо, не имея возможности послать курьера в следующем месяце, я пишу шифром по почте то, что, как Вы знаете, я написал бы с этим курьером. Жду ответа с крайним нетерпением. Надеюсь, он придет ко мне в первых числах января. До тех пор, пока мне его не пришлют, можете отдыхать. Какой-либо новости, которая могла бы Вас интересовать, у нас здесь нет. Мы в ожидании известий из армии и, возможно, не ранее чем через три недели мы получим что-либо важное. Я покидаю Вас, чтобы написать Вашему брату. Небольшой островок в моем саду служит мне кабинетом. Я пишу там, не чувствуя ветра; мне не бьет солнце в глаза, я сижу под зеленой листвой деревьев, за отличным обедом, который разделяют со мной Жене, Жердре, Бартолеми, Пейрак, г-н де Лаваль и несколько французов, которые имеют ко мне дело. Я лежу на моем милом диване, рядом со мной орел, мой плед, лебеди, гуси, которые оживляют мой пруд, и северный олень, гуляющий по моему лесу перед моими глазами. Прощайте, любовь моя, я буду волноваться до тех пор, пока не узнаю, уступил ли король предложению об отзыве войск или нет.
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.30, лл.318–318об.
17. Copie d’une lettre du comte de Ségur à la comtesse de Ségur
à Petersbourg ce 7e Aoust 1789
Mon cher cœur, vous m’aviés instruit de coup d’autorité fait par le Roi, du renvoy de M. Necker, du changement de tout le Ministere et vous jugés facilement, quelle inquietude m’avoit donné la nouvelle d’une operation si tardive et si tranchante dans un instant ou toute la Nation etoit animée par l’enthousiasme de la liberté. Aujourd’hui mes craintes se sont confirmées et j’ai sçu par un courier Russe la revolte du peuple, l’affaire de la Bastille, le rappel des Ministres, la nomination de M. de St Priest, le depart de M. le Cte d’Artois et le parti qu’a pris le Roi de venir à l’assemblée nationale et de se mettre sous la garde du peuple dont cette demarche a ranimé l’amour et la confiance. Je crains encore mille details que j’ignore; je tremble pour tout ce qui m’est cher, je ne pense pas sans fremir que vous et ma famille vous vous trouvés dans le foyer de cette explosion. J’attends avec effroy les nouvelles de ce qui c’est passé dans nos provinces, mais j’espere au moins que l’assemblée nationale contente de sa victoire et gemissant des meurtres qui ont ensanglanté et taché son triomphe sentira la prompte necessité de mettre de la mesure dans ses arretés et de donner de la force au pouvoir executif qui peut seul nous donner une sureté interieure et exterieure et qui seul peut empecher les ambitieux citoyens de se dechirer eux memes. Je suis dans l’impatience de savoir si l’ordre nouveau d’administration prend une forme un peu solide, si M de St Priest reste en effet mon Ministre, si M. de la Vauguyon retourne en Espagne ou si l’on a donné cette Ambassade vacante. Je seche dans l’attente des couriers et de la poste, je desire des lettres de vous et de Lafayette qui me rassurent. On dit qu’il commande la garde bourgeoise de Paris et qu’il est Vice President de l’assemblée. Dites lui qu’au milieu de toutes ses affaires l’amitié reclame un mot de lui. Ma santé souffre de toutes ces agitatons et me rend un congé indispensablement necessaire.
Adieu, mon cher amour, puisse le ciel qui protege la vertu veiller sans cesse sur vous ou m’enlever la vie.
La vertu de mon pere, son age et son grade me font esperer que les factions le respectent. Le repos de la France a disparu lorsqu’il a quitté le Ministere.
* * *
Графине Сегюр от графа Сегюра
7 августа 1789 г.
Моя дорогая, Вы известили меня о решении короля уволить г-на Неккера, о смене всего правительства, и Вы легко можете судить, какое беспокойство вызвала у меня новость о столь запоздалом и решительном шаге в тот момент, когда вся нация была воодушевлена свободой. Сегодня мои опасения подтвердились. Я узнал от русского курьера о народном восстании, о деле с Бастилией, отставке министров, назначении г-на Сен-При, отъезде графа д’Артуа и решении короля прибыть в национальное собрание и отдать себя под защиту народа, у которого этот шаг пробудил любовь и доверие. Я также боюсь тысячи тех деталей, которые я не принимаю в расчет. Я опасаюсь за всех, кто мне дорог. Я не могу думать без содроганий о том, что Вы и моя семья находитесь в самом очаге этих потрясений. Я с ужасом ожидаю новостей о том, что произошло в наших провинциях, но надеюсь, по крайней мере, что национальное собрание, довольное своей победой и стонущее от убийств, которые запятнали кровью его триумф, почувствует необходимость принять меры и вынести соответствующие постановления, а также наделить силой исполнительную власть, которая единственная обеспечивает нашу внутреннюю и внешнюю безопасность и которая одна может помешать властолюбцам растерзать самих себя. Мне не терпится узнать, будет ли новый административный порядок более крепким, действительно ли г-н Сен-При останется моим министром, вернется ли г-н де ла Вогийон в Испанию или это посольство останется вакантным. Я томлюсь в ожидании курьеров и почты, я хочу получить от Вас и Лафайета письма, которые меня успокоят. Говорят, он командует буржуазной гвардией Парижа и является вице-президентом собрания. Скажите ему, что среди всех его забот дружба требует от него написать мне хоть слово. Мое здоровье страдает от всех этих волнений, делает отпуск совершенно необходимым.
Прощайте, любовь моя, пусть небо, которое защищает добродетель, всегда хранит Вас или отнимет у меня жизнь.
Добродетели моего отца, его возраст и звание позволяют мне надеяться, что мятежники проявят к нему уважение. Для Франции закончились спокойные времена, когда он покинул правительство.
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.30, лл.336–336об.
18. Copie d’une lettre du comte de Ségur à la comtesse de Ségur
à Petersbourg ce 11e Aoust 1789
L’Imperatrice a eu la bonté de m’envoyer, mon cher cœur, la lettre que vous m’aviés ecrite par le courier Russe, elle m’a tiré d’une terrible inquietude, car depuis que je savois le depart de M. Necker et l’arrivée du Baron de Breteuil et du Marechal de Broglio, je ne revois que guerre civile & carnage. Ce coup de vigueur etoit tardif, mais je croyois qu’on etoit sûr des troupes, j’etois certain de la fermeté des Etats Generaux, ainsi la guerre me paroissoit inevitable. Jugés si je ne devois pas fremir en pensant que vous, que mon Pere, mon frere, le votre et Lafayette se trouveroient peut etre au milieu de toutes ces fureurs qui accompagnent les guerres intestines. Enfin vous m’avés envoyé tous les details les plus rassurans, nous avons acheté de peu de sang la plus complette revolution, l’harmonie paroit retablie, la bonté du Roi permet l’energie des operations, la constitution va se faire et nous allons devenir d’ici à 6 mois le peuple le plus libre et le plus puissant de l’Europe si on a le bon esprit de laisser à la Puissance Executrice assès de force pour contenir l’interieur et agir librement au dehors.
Les Ennemis de l’Etat auront bien mal employé l’argent qu’ils ont semé chez nous pour allumer une guerre civile.
Je suis enchanté et non pas surpris du courage avec lequel vous avés traversé Paris. Vous avés toutes les vertus et le courage en est une. J’attends avec bien de l’impatience des nouvelles certaines de la Nomination des nouveaux Ministres. Adieu mon cher cœur je me porte beaucoup mieux je vous embrasse et je vous quitte pour ecrire à Lafayette et à mon Pere.
* * *
Графине Сегюр от графа Сегюра
Петербург, 11 августа 1789 г.
Моя дорогая, императрица была так любезна, что передала мне письмо, которое Вы написали с русским курьером. Оно ужасно меня взволновало, ибо с тех пор как я узнал об отставке г-на Неккера и приезде барона де Бретейля и маршала де Брольи, я представлял себе только гражданскую войну и резню. Этот энергичный шаг был запоздалым, но я полагал, что в твердости войск были уверены. Я был убежден в решительности генеральных Штатов, так что война мне казалась неизбежной. Судите сами, мог ли я не содрогаться, думая, что Вы, что мой отец, мой брат, Ваш брат и Лафайет, возможно, находятся в центре всех этих ужасов, которые сопровождают междоусобные войны. Наконец, Вы послали мне описание наиболее успокаивающих подробностей. Мы купили малой кровью наиболее завершенную революцию. Казалось, установилась гармония. Добродетели короля позволяют действовать быстро, конституция вот-вот будет принята, и мы станем через шесть месяцев самым свободным и могущественным народом Европы, если хватит благоразумия оставить исполнительной власти достаточно силы, чтобы поддерживать внутреннее спокойствие и проводить внешнюю политику. Враги государства мало заработают с тех денег, которыми они сорили во Франции, чтобы разжечь гражданскую войну.
Я очарован и отнюдь не удивлен смелостью, с которой Вы проехали через Париж. Вы обладаете всеми добродетелями, и смелость — одна из них. Я жду с большим нетерпением новостей относительно назначения новых министров. Прощайте, моя дорогая, я чувствую себя намного лучше. Обнимаю Вас и покидаю, чтобы написать Лафайету и моему отцу.
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.30, лл.337–337об.
19. Copie d’une lettre du maréchal de Ségur au comte de Ségur
à Petersbourg ce 11 Aoust 1789
La lettre que vous avés eu la bonté de m’ecrire m’etoit bien necessaire, elle a dissipé les horribles inquietudes qui me consumoient, votre grade, la consideration dont vous jouissés, votre vertu, celle de ma femme ne pouvoient me rassurer. Je sais de quoi le peuple est capable dans les momens d’effervescence, souvent il pleure le lendemain les victimes qu’il a sacrifiées la veille et il fremit et s’etonne de sa propre fureur, mais il n’est plus tems et son repentir ne console pas les cœurs qu’il a dechiré. Votre relation m’apprend la plus singuliere revolution qui ait jamais existé, je la prevoyois, je savois qu’elle seroit complette, mais je craignois, qu’elle ne fut achetée par les longues horreurs d’une guerre civile. La bonté, la vertu de Roi nous en a preservé. Il n’a pensé qu’un instant et peut etre trop tard à soutenir son pouvoir par un coup d’autorité. Il a suivi le mouvement de son ame, il a cedé au vœu unanime de la Nation, il lui donne une liberté qu’elle auroit tôt ou tard arraché, puisse-t-elle ne pas abuser de ce don precieux, puisse l’assemblée nationale songer que si la liberté peut augmenter l’industrie, la richesse, le credit, le bonheur d’un empire aussi vaste d’une maniere magique, il faut pour operer ce chef d’œuvre, que la Nation donne à son chef, au pouvoir executif assez de force pour etouffer les dissensions intestines et pour en imposer aux ennemis de l’Etat. Si l’assemblée se penetre de cette grande verité, je benirai la revolution. Le Roi lui meme ne la regrettera pas, il aura acquis une couronne plus solide, ses Ministres n’auront perdu que le pouvoir de faire du mal, funeste avantage qu’aucun honnette homme ne peut regretter. Mais pour annoncer à l’Europe que c’est cette politique sage qu’on veut suivre, je voudrois que l’assemblée nationale commence par livrer aux loix les factieux insolens qui ont osé attaquer temerairement dans leurs discours que dictoit le delire, le frere et l’epouse de leur Roi. Et ce seroit cette motion que je ferois si j’etois admis parmi les representans d’une Nation qui a toujours applaudi l’héroisme et detesté la ferocité.
J’espere qu’actuellement nos travaux vont etre rapides, les 3 ordres sont d’accord, le Roi se réunit à eux, toute la Nation n’a qu’un meme avis sur les bases de la constitution et je me flatte qu’un prompt consentement aux impots et aux emprunts necessaires va regenerer notre credit, faire palir nos rivaux, ranimer la confiance de nos amis et nous rendre en peu de tems le peuple le plus respectable de l’Europe. L’inquietude que je ressentois et que je m’efforcois en vain de dissimuler m’avoit rendu malade. Je renais en apprenant que le sang a cessé de couler et que la revolution est fait. L’Imperatrice a eu la bonté dans cette circonstance d’entrer dans mes peines et d’en parler à ceux qui l’approchent avec cette bienveillance touchante qui La fait adorer quand on La connoit. Recevés je vous prie avec votre bonté ordinaire l’assurance de ma tendresse et de mon respect.
* * *
Маршалу Сегюру от графа Сегюра
Петербург, 11 августа 1789
Письмо, которое Вы соблаговолили написать мне, было для меня очень необходимым. Оно рассеяло те ужасные опасения, что меня терзали. Ваше звание, уважение, которым Вы пользуетесь, Ваша добродетель, добродетель моей жены не могли меня успокоить. Я знаю, на что способен народ в моменты возбуждения. На следующий день он часто оплакивает жертвы, которые принес накануне и содрогается перед своей собственной яростью. Но уже поздно, и раскаяние народа не разжалобит тех сердец, которым он причинил боль. Из Вашего рассказа я узнал о самой необычной революции, которая когда-либо происходила. Я предвидел ее, я знал, что она не была бы завершена, но я боялся, как бы она не была приобретена за счет долгих ужасов гражданской войны. Доброта, достоинства короля спасли нас от нее. Лишь на мгновение и, возможно, слишком поздно он подумал о том, как поддержать свою власть силой. Он последовал движению своей души, он уступил единогласному желанию нации, он дал ей свободу, которой она рано или поздно добилась бы. Может ли она не злоупотребить этим драгоценным даром? Может ли национальное собрание понять, что если свобода может чудесным образом объединить промышленность, богатство, доверие и счастье столь обширной империи, то для того, чтобы этот шедевр создать, надо, чтобы Нация дала своему главе и исполнительной власти достаточно силы, чтобы погасить внутренние разногласия и внушить врагам уважение к нашему государству? Если собрание проникнется этой великой истиной, я благословлю революцию. Король сам не будет сожалеть о ней. Он получит более крепкую корону. Его министры потеряют только власть поступать плохо — пагубное преимущество, о чем каждый честный человек не может сожалеть. Но, чтобы объявить Европе, что именно этой мудрой политике мы хотим следовать, я хотел бы, чтобы национальное собрание начало с того, что предало правосудию тех дерзких мятежников, которые нагло осмелились подвергнуть нападкам в своих речах брата и супругу короля, свидетельствуя тем самым о своем помешательстве. И именно это предложение я бы сделал, будь я среди представителей Нации, которая всегда рукоплескала героизму и ненавидела жестокость. Надеюсь, в настоящее время наши дела пойдут быстро, три сословия находятся в согласии, король присоединился к ним, вся Нация имеет единое видение основ конституции. Я льщу себя надеждой, что быстрое согласие относительно налогов и предоставления необходимых займов восстановят наш авторитет, отпугнут наших соперников, вернут доверие к нам наших друзей и в короткий срок сделают наш народ снова самым уважаемым в Европе. Беспокойство, которое я испытывал и от которого безуспешно старался избавиться, привело к тому, что я заболел. Узнав, что революция свершилась и кровь перестала литься, я выздоровел. В этой обстановке императрица соблаговолила проникнуться моими муками и говорила о них со своими приближенными с той трогательной доброжелательностью, которая заставляет обожать ее всех, кто ее знает. Прошу Вас, примите с Вашей обычной добротой заверения в моей любви и уважении к Вам.
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.30, лл.338–339.
20. Copie d’une lettre du comte de Ségur au marquis de La Fayette
à Petersbourg ce 11e Aoust 1789
Mon cher Lafayette. Je ne vous ferois pas compliment sur le commandement que Paris vous a donné si vous l’aviez eu 2 jours plutot, mais le sang françois qui a coulé n’a point souillé vos mains et vous n’aves été placé à la tête d’une armée nationale que pour ramener l’ordre et escorter l’entrée triomphante d’un Roi citoyen qui a sçu vaincre l’orgueil du throne et qui a mieux aimé ceder à son peuple que de combattre pour un pouvoir que des flots de sang devoient payer. Vous savés combien je craignois de voir commencer cette revolution qu’avoient amenée l’imperitie de quelques Ministres, le poids des impots et l’ambition irritée des Parlemens, je la craignois parcequ’elle auroit detruit la france, si un concours presque miraculeux de circonstances n’avoit fait evanouir tous les obstacles qui devoient vous arreter dans vos operatons. En un mot je voyois que nous abandonnions une constitution Monarchique temperée par l’opinion publique et qui nous avoit couvert de gloire depuis Louis XIV pour former une autre constitution qui paroissoit exiger des siecles de combats, de disputes et de faiblesse. Les ordres jaloux l’un de l’autre, les provinces divisées par leurs Privileges, les deputés genés par des pouvours limitatifs, l’interet des Militaires, l’ambition des Ministres, l’autorité de la Cour, tout paroissoit annoncer des orages sans fin, des malheurs sans terme, une destruction sans ressource.
Heureusement les ordres contre toute attente se sont réunis, l’assemblée a eu le courage de proscrire les pouvoirs qui leurs servoient d’entraves, l’interet public a fait sacrifier les privileges, le Ministere n’a pris que trop tard le parti de vigueur qui auroit pu amener une guerre civile et le Roi eclairé sur le voeu unanime de la Nation par l’energie de l’assemblée, le delire du peuple et l’indecision des troupes a pris lui meme l’enseigne de la liberté et s’est glorifié de titre de premier citoyen d’un people libre, benissez sa vertu, couronnez sa magnanimité, imitez sa moderation, servez vous de votre credit pour faire promptement sentir l’instante necessité de donner au pouvoir executif toute la force qui lui est necessaire. Les individus souffrent souvent, quand le throne s’empare du pouvoir legislatif, j’en conviens, mais lorsque le pouvoir legislatif empiete sur l’executif l’Etat tombe et se detruit, il est la proye de l’ambition de ses voisins ou de ses divisions intestines. Songès que rien n’est parfait dans le monde et que les passions menent toujours les hommes. Ceux que cette epoque a couvert de gloire, ceux que sont enyvrés des hommages de leurs egaux, doivent penser qu’ils seront bientot l’objet de leur envie. Le Throne seul peut contenir tous ces interets opposés sans cesse prets à se choquer et à se combattre. D’ailleurs la france ne peut enchainer ses ennemis, arreter ses rivaux, servir ses amis, proteger son comerce, conserver sa sureté, etendre ou maintenir son influence que lorsque le chef de la Nation pourra rapidement developper à propos des forces menaçantes, songez que les Loix doivent etre ses seules entraves et que pour defendre l’Etat ou attaquer les ennemis, il a besoin du credit le plus etendu et de la plus libre activité, faites promptement et fortement germer ces verités utiles dans une assemblée ou votre celebrité vous donne une juste influence, et que le heros de la liberté soit aussi le plus ferme appuy d’un pouvoir sans lequel cette liberté ne peut se conserver un seul instant et sans lequel la faiblesse de l’anarchie remplaceroit bientot d’une maniere plus horrible le poids d’un joug arbitraire dont notre Roi lui meme nous veut degager.
Adieu mon cher Lafayette, vous devez juger si j’attends avec inpatience de vos nouvelles.
* * *
Маркизу де Лафайету от графа Сегюра
Петербург, 11 августа 1789 г.
Мой дорогой Лафайет. я не стал бы Вас поздравлять с тем поручением, которое Вам дал Париж, получи Вы его двумя днями ранее. Однако пролившаяся французская кровь вовсе не испачкала Ваши руки. Вы были поставлены во главе национальной армии только для того, чтобы установить порядок и охранять триумфальный въезд в Париж короля, гражданина, который сумел побороть гордость трона и предпочел уступить своему народу, а не сражаться за власть, цена которой была бы оплачена потоками крови. Вы знаете, как я боялся начала этой революции, вызванной нерасторопностью нескольких министров, тяжестью налогов да раздраженным властолюбием парламентов. Я боялся ее, ибо она разрушила бы Францию, если б почти чудесное стечение обстоятельств не заставило рассеяться все те препятствия, что должны были Вас остановить в Ваших действиях. Одним словом, я видел, как мы отказались от монархии, ограниченной общественным мнением и прославившей нас со времен Людовика XIV, чтобы выработать другую форму правления, которая, казалось, покончит с веками борьбы, споров и слабости. Завидующие друг другу сословия, провинции, находящиеся в разногласиях по поводу своих привилегий, депутаты, стесненные ограничительными полномочиями, корыстные интересы военных, властолюбие министров, авторитет двора — все, казалось, предвещало взрыв гнева, которому не будет конца, горе, которому не будет предела, разрушения, которым не будет остановки.
К счастью, сословия против всякой на то надежды сумели объединиться; собрание нашло в себе мужество отказаться от тех полномочий, которые препятствовали объединению сословий; общественный интерес заставил пожертвовать привилегиями; правительство же лишь слишком поздно приняло то твердое решение, которое могло бы привести к гражданской войне. Король, осведомленный собранием о единогласном желании Нации, неистовстве народа и нерешительности войск, сам поднял знамя свободы и покрыл себя славой первого гражданина свободного народа. Благословите его добродетель, коронуйте его благородство, подражайте его умеренности, используйте Ваш авторитет, чтобы быстро заставить осознать настоятельную необходимость дать исполнительной власти всю силу, которая ей нужна. Личности часто страдают, когда законодательная власть захватывается троном, — я с этим согласен. Но как только законодательная власть присваивает себе исполнительную, государство рушится и погибает. Оно становится добычей честолюбия соседей или внутренних междоусобиц. Поймите, в мире нет ничего совершенного, страсти всегда движут людьми. Те, кого эта эпоха покрыла славой, те, кто опьянен преклонением перед ними себе равных, должны думать о том, что скоро они станут предметами их зависти. Трон единственный может сдержать все эти противоположные интересы, будучи всегда готовым к оскорблениям и борьбе. К тому же Франция сможет подавить своих врагов, остановить своих соперников, помочь друзьям, защитить свою торговлю, обеспечить свою безопасность, увеличить или сохранить свое влияние, только когда глава государства сможет быстро разобраться, от каких сил исходит угроза. Поймите, что единственными препятствиями ему должны быть законы, что для защиты государства или наступления на врагов ему необходимы большее доверие и большая свобода действий. Заставьте эти истины быстро и крепко «прорасти» в собрании, где Ваша известность дает Вам справедливое влияние, и пусть герой свободы станет также наиболее крепкой опорой власти, без которой эта свобода не может просуществовать даже мгновения и без которой непрочность анархии заменила бы вскоре в самой ужасной форме силу деспотического гнета, от которого король сам хочет нас избавить.
Прощайте, мой дорогой Лафайет. Судите сами, с каким нетерпением я жду новостей от Вас.
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.30, лл.340–341об.
21. Copie d’une lettre du comte de Ségur à la comtesse de Ségur
à Petersbourg ce 18e Aout 1789
La nouvelle que vous m’avés donnée dernierement, mon cher cœur de l’inhumaine execution de foulon et de Berthier, m’a plus afligé que tous les autres des ordres precedens. Ces deux victimes n’etoient pas dignes de l’estime publique et meritoient peut etre que les tribunaux les punissent, mais ce qui me fait fremir c’est que 8 jours après la revolution, lorsque le calme est revenu le peuple de sang froid se rend justice lui meme, fait des atrocités et n’est retenu ni par les ordres de ses chefs ni par le respect des loix ni par les suplications de Lafayette. Que fait donc sette garde bourgeoise, n’a-t-elle de force que contre le Roi et ne peut-elle retablir l’ordre dans Paris? Elle seroit bien inutile si elle laissoit la populace maitresse de la vie des citoyens. Le sort du Baron de Bezenwald me touche infiniment, il est dur de se voir exilé à son age, on est injuste à son egard, il a fait le devoir d’un Lieutenant Colonel des Gardes et le peuple devroit respecter un vieux General qui a combatu 40 ans pour la patrie. Je viens de lire dans la gazette de hambourg un article qui m’inquiete, je vois que mon frere n’est plus chez M. le Duc d’Orléans, votre lettre ne m’en parle pas. J’espere que vous me manderés comment cela s’est passé. Si le tort est du coté du Prince ou de mon frere et si cet evenement ne lui attire pas la haine populaire je ne puis trop vous repeter combien vous devés dans cet instant prendre garde dans cette circonstance à votre langage, à reprimer tout mouvement d’indignation, à faire aller votre voiture doucement dans les rues, à ordonner à vos gens d’etre sages, à eviter tout ce qui peut choquer le peuple. Je trouve affreusement imprudent à vous d’etre restée si longtems à Romainville dans un moment ou la campagne doit etre en proye au brigandage des gens sans aveu. De grace songés que ma vie et mon bonheur dependent de votre repos et de votre sureté.
Le Prince de Nassau vient d’avoir un succès. Les Suedois ont attaqué son avantgarde, il les a repoussé après 5 heures de combat et les a chassé des isles qui les protegoient, il s’est conduit avec sa valeur ordinaire et quoique ce ne soit qu’une affaire d’avantgarde, le succès est assés important parce qu’il s’est emparé des passages qui le genoient et il se trouve à portée de faire une attaque generale dont nous aurons bientot des nouvelles. Je vous prie de repandre ceci dans Paris parce que je veux contribuer à sa reputation comme il a travaillé à la mienne. Les 2 grandes flottes Russes et Suedoises se sont battus mais de loin, le combat est insignifiant, le seul resultat est que l’Escadre Russe de Cronstadt a operé sa jonction avec l’Escadre Russe de Copenhague et que les Suedois ont manqué leur but puisqu’ils ne se sont battus que pour empecher cette jonction. Le Pce Potemkin vient d’envoyer ici une grande nouvelle. Le General Russe Souwarow et le General Autrichien Pce de Cobourg ont attaqué ensemble 30 000 Turcs près de foczany, il les ont battus et ont pris leur camp, leurs canons, leur bagage, leurs drapeaux et la ville de foczany, je voudrois qu’une paix prompte fut le resultat de ces victoires et vous devinerés bien pourquoi.
Adieu mon cher cœur, embrassez mon Pere, mon frere, mes enfans et dites à Lafayette de m’ecrire, j’ai grand besoin d’avoir de ses nouvelles. Adieu, voilà une bien longue lettre pour un paresseux, un jour de depeches.
* * *
Графине Сегюр от графа Сегюра
Петербург, 18 августа 1789 г.
Дорогая моя, новость, которую Вы мне недавно передали о бесчеловечной казни Фулона и Бертье, огорчила меня больше, чем все остальные. Эти двое убитых не были достойны общественного уважения и, возможно, заслуживали того, чтобы судьи их наказали, но что заставляет меня содрогнуться, так это то, что восемь дней спустя после революции, когда вновь установилось спокойствие, народ сам хладнокровно вершит правосудие, совершает злодеяния, и его не могут сдержать ни приказы его вождей, ни уважение к законам, ни просьбы Лафайета. Что тогда делает его буржуазная гвардия? Она сильна только рядом с королем? Она не может восстановить порядок в Париже? Она была бы и вовсе ненужной, если б оставила чернь распоряжаться жизнями граждан. Меня глубоко трогает судьба барона Безенвальда. В его возрасте трудно видеть себя изгнанником. По отношению к нему это несправедливо. Он выполнил долг гвардейского подполковника, и народ должен был бы уважать старого Генерала, 40 лет воевавшего за родину. Я недавно прочитал в гамбургской газете статью, которая вызывает у меня беспокойство. Я знаю, что мой брат больше не находится у герцога Орлеанского. Ваше письмо не сообщает мне об этом. Надеюсь, Вы меня известите, как это произошло. Не ошибка ли это в отношении Принца и моего брата и не навлечет ли это событие на него народную ненависть? Я не могу слишком часто повторять Вам, насколько в этой обстановке Вы должны быть аккуратны в своей речи, сдерживать любой порыв негодования, осторожно ездить в своей коляске по улицам, приказать Вашим людям вести себя смирно, избегать всего, что может задеть народ. Я нахожу для Вас чрезвычайно неразумным оставаться в настоящее время так долго в Ромэнвиле, сельской местности, которая должна находиться во власти темных личностей, занимающихся разбоем. Ради бога, подумайте, что моя жизнь и мое счастье зависят от Вашего спокойствия и безопасности.
Принц Нассау недавно добился успеха. Шведы атаковали его авангард. После пяти часов сражения он оттеснил их и выгнал шведов с островов, которые их защищали. Принц вел себя с обычной смелостью и, хотя это был только авангардный бой, успех достаточно важен, потому что он захватил переправы, которые ему мешали, и может предпринять генеральную атаку, о чем вскоре у нас появятся новости. Я Вас прошу распространить эту информацию в Париже, ибо я хочу внести вклад в создание репутации Принца так же, как он потрудился на мою. Оба великих флота, Русский и Шведский, вступили в перестрелку, правда, на большом расстоянии. Сражение было незначительным. Единственный результат заключается в том, что Русская кронштадтская эскадра соединилась с Русской копенгагенской эскадрой. Шведы не достигли своей цели, поскольку сражались только для того, чтобы помешать этому соединению. Князь Потемкин только что прислал сюда важную новость. Русский генерал Суворов и австрийский генерал Принц Кобургский совместно атаковали 30 тысяч турок около Фокшан. Они разбили их и захватили их лагерь, пушки, обоз, знамена и город Фокшаны. Я хотел бы, чтобы результатом этих побед стало быстрое заключение мира, Вы наверняка догадаетесь почему.
Прощайте, сердце мое. Обнимите моего отца, брата, детей и скажите Лафайету, чтобы он написал мне. Мне очень нужно иметь от него новости. Прощайте. Вот достаточно длинное письмо для лентяя, особенно в день отправки депеш.
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.30, лл.349–350.
22. Copie d’une lettre du comte de Ségur à la comtesse de Ségur
ce 21 Aout 1789
Pourquoi, mon cher amour, n’etes vous pas ici, loin de tous ces orages qui vous afligent et qui m’inquietent. On est tranquille à Petersbourg, on y gagne des batailles de 3 cotés, on ne s’y attrouppe que pour chanter des Te Deum et l’on n’y parle d’autres tetes coupées que de celles des Turcs qui se les font trancher par leurs Visirs et par leurs Pachas quand leurs ennemis les leur laissent. Je suis à present au comble de la joie. L’Imperatrice est revenue de Czarsko Zelo. Elle nous a vû hier de Cte Cobenzl et moi à l’hermitage et ma reçu avec sa bonté accontumée; je ne l’ai jamais vû si gaye, ni plus aimable, nous y avons passé une soirée charmante, celle d’aujourd’hui ne le sera pas moins car je soupe avec Elle chez M. Zouboff, son Aide de camp, c’est un jeune homme fort bien elevé, d’une tournure fort noble, fort douce et dont le ton et les manieres me plaisent infiniment.
Les nouvelles que vous m’avez données dernierement m’ont mis du baulme dans le sang. Je suis charmé que la paix regne dans Paris, on me marque qu’on en chasse tous les vagabonds, j’espererai de voir renaitre un calme durable lorsque le peuple aura abjuré sa haine injuste et lorsque les personnes distinguées qui ont quitté la france pourront y revenir sans danger. La gazette de Hambourg parle beaucoup des complots des Anglois en Bretagne, d’une lettre de M. le Duc de Dorset à M. le Cte d’Artois, d’un avertissement donné par M. de Montmorin aux Deputés Bretons pour veiller à la sureté des ports de Bretagne, je vois que toutes ces nouvelles sont fausses puisque vous ne m’en parlez pas. Dites à M. de Montmorin que quelque affaire qu’il eut, il devroit bien m’ecrire un mot. J’ai grand besoin d’avoir de ses nouvelles. Adieu, mon cher cœur, grondés Lafayette de ce que le patriotisme rend son amitié muette dans un moment où mon cœur suit tous ses mouvemens, tous ses succès, toutes ses inquietudes. Embrassés mon Pere et mes enfans et donnés vous à vous meme mille baisers bien tendres.
J’ai à recevoir à diner une trentaine de personnes ce qui me force à vous quitter.
* * *
Графине Сегюр от графа Сегюра
21 августа 1798 г.
моя дорогая, почему вы не здесь, вдали от всех этих волнений, которые огорчают Вас и беспокоят меня. В Петербурге тихо, здесь выигрывают сражения на трех направлениях, собираются только для того, чтобы пропеть Отче наш и не говорят об отрубленных головах, кроме турок, которым рубят головы их визири и паши, тогда как враги им их оставляют. Сейчас я на вершине радости. Императрица вернулась из Царского Села. Она нас принимала вчера в Эрмитаже — графа Кобенцеля[376] и меня — и приняла меня со своей привычной добротой. Я никогда не видел ее такой веселой, ни более приятной. Мы провели там очаровательный вечер. Сегодняшний будет не менее очаровательным, ибо я ужинаю вместе с ней у г-на Зубова, ее адъютанта. Это молодой человек, достаточно хорошо воспитанный, очень благородного и приятного склада, тон и манеры которого мне крайне понравились. Новости, которые Вы мне недавно передали, льют бальзам на мои раны. Я рад, что в Париже царит мир. Мне говорят, что там хватают всех бродяг. Я буду надеяться, что, когда народ отречется от своей несправедливой ненависти и выдающиеся личности, покинувшие Францию, смогут вернуться, не подвергаясь опасности, восстановится прочный покой. Гамбургская газета много рассказывает о кознях англичан в Бретани, о письме герцога де Дорсе к графу д’Артуа, о предупреждении г-на де Монтморена бретонским депутатам, чтобы те следили за безопасностью портов Бретани. Я убежден, что все эти новости неправдоподобны, поскольку Вы мне о них не сообщаете. Скажите г-ну де Монтморену, что, несмотря на свою занятость, он мог бы также написать мне. Я очень нуждаюсь в указаниях от него. Прощайте, моя душечка, пожурите Лафайета тем, что патриотизм его нем, тогда как моя душа следит за всеми его побуждениями, всеми его успехами, всеми его волнениями. Обнимите моего отца и детей и примите сами тысячу ласковых поцелуев
Я должен принять к обеду около тридцати человек, что заставляет меня закончить это письмо.
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.30, лл.351–351об.
23. Copie d’une lettre du comte de Ségur à la comtesse de Ségur
ce 4e 7bre 1789
Je vous trouve un peu severe, mon cher Amour, pour le V.te de Noailles, il me semble qu’on ne peut pas dire qu’on vole une motion dans une assemblée publique, chacun est le maitre de dire ses pensées, le V.te a eu le bonheur de parler le premier et d’entrainer les avis dans une journée qui sera à jamais celebre. Mirabeau lui a fait une sortie injuste, ses parèns ont des pensions, mais lui il n’en a pas et le sacrifice de la féodalité est toujours beau dans la bouche d’un Noble. Je suis fort aise que M. Necker l’ait emporté pour l’emprunt, mais je ne serai tranquille que lorsque la charte de constitution qu’on retarde sera faite. Elle seule peut ramener le calme en fixant les pouvoirs, jusques là nous serons comme des gens dont on a renversé la maison et qui n’en ont pas encore de nouvelle. On reste ainsi exposé à de rudes orages. Je viens enfin de recevoir une depeche de Versailles, je suis charmé qu’on se soit rappellé que j’existe, je commencois a craindre un oubli total. Sachés je vous prie si le Mal de Beauveau est content de mon travail, j’attache un grand prix à son opinîone. Je ne compte pas expedier de Courier de si tôt, j’a ecrit par la poste sur ce qui nous interesse, c’est à vous à appuyer cette demarche, il en est tems.
Le Pce de Nassau après sa victoire a debarqué à la tête de 5000 hommes, il vouloit entourer à Equefors le Roi de Suede avec l’aide de 2 Generaux Russes qui commandoient chacun à peu près autant de trouppes. Le Roi de Suede n’a pas attendu le combat, il s’est enfui avec son armée. Nassau le poursuit, la campagne de Gustave III n’est pas brillante. Il a été obligé de bruler tous les batimens que les Russes n’ont pas pu prendre. Adieu, mon cher cœur, je me porte assés bien, mais le mauvais tems va arriver & j’en crains beaucoup l’influence. Embrassez ma Laure et mes fils, ainsi que notre Pere.
* * *
Графине Сегюр от графа Сегюра
4 сентября 1789 г.
Моя дорогая, я нахожу, что Вы слишком суровы по отношению к виконту де Ноайлю. Мне кажется невозможным говорить, что в национальном собрании господствует одна идея. Каждый волен выражать свое мнение. Виконту повезло, что в тот день, который навсегда останется знаменитым, он выступал первым и определил ход мыслей других. Мирабо поступил несправедливо по отношению к нему, его родители получают пенсии, а сам он нет, и отказ от феодальных прав всегда красиво звучит в устах дворянина. Я очень рад, что г-н Неккер переиграл Мирабо в отношении займа, но я успокоюсь, только когда конституция, с которой запаздывают, будет готова. Она единственная может восстановить порядок, определив распределение полномочий. До тех же пор мы будем подобны людям, у которых дома все перевернуто вверх дном и которые об этом еще не знают. Таким образом, нужно быть готовым к суровым испытаниям. Наконец я получил недавно депешу из Версаля. Я рад, что там вспомнили о моем существовании. Я начинал бояться всеобщего забвения. Прошу Вас, узнайте, доволен ли маршал де Бово моей работой. Я придаю большое значение его мнению. Я не рассчитываю скоро послать курьера. Я написал по почте о том, что нас интересует. Вам самое время поддержать это обращение.
Принц Нассау после своей победы высадился во главе пяти тысяч человек. Он хотел окружить Шведского короля в Эквефорсе с помощью двух русских генералов, каждый из которых командовал примерно таким же количеством солдат. Король Швеции не ожидал сражения. Он бежал вместе со своей армией. Нассау его преследует. Кампания Густава III не блестящая. Он был вынужден сжечь все свои корабли, чтобы русские не смогли их захватить. Прощайте, моя дорогая, я чувствую себя достаточно хорошо, но вскоре наступит плохая погода, и я сильно боюсь, как она на меня будет действовать. Обнимите Лауру и моих сыновей, а также нашего отца.
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), оп.6/2, д.30, лл.381–381об.
IV. Протокол 5-ой российско-шведской конференции о согласовании проектов союзного трактата и договора о браке шведского кроля Густава IV Адольфа с великой княжной Александрой Павловной.
«Сегодня 18 (25) сентября 1796 года полномочные обеих сторон были созваны Его превосходительством господином вице-канцлером на конференцию. Прежде, чем приступить к процедуре обмена ратификациями договора, подписанного вчера, министры Ее императорского величества сочли долгом изложить (сверху дописано — для истории) министрам Его величества короля Швеции все, что касается (двойного объекта переговоров — зачеркнуто, сверху написано — проекта) трактата о союзе и брачного договора Его величества с Ее императорским высочеством великой княжной Александрой Павловной, а также весь ход переговоров, состоявшихся по обоим вопросам с самого их начала.
(Вследствие этого, они напомнили, что — добавлено на полях) через два (зачеркнуто, сверху написано — несколько) дней после приезда Его величества короля Швеции под именем графа Гага и Его королевского высочества герцога регента, взявшего имя графа Ваза, в эту столицу. Король и регент посетили Ее императорское величество и король лично сделал Ее величеству официальное предложение, прося руки Ее высочества великой княжны Александры Павловны. Это предложение сопровождалось неоднократно повторенным выражением стремления скрепить столь счастливым союзом отношения и узы дружбы, родства и добрососедства со всеми вытекающими из этого выгодами для счастья двух монархий. Предложение короля было воспринято Ее императорским величеством, разделяющей выраженные им стремления, с удовлетворением, как в силу высокого мнения, которое Она составила о личных качествах короля, так и (для того, чтобы дать свидетельство своего особого расположения к королю — вычеркнуто) в силу ее полного расположения к этому предложению (дописано над зачеркнутым). Ее императорское величество попросила, однако, два дня для того, чтобы проконсультироваться о столь важном деле. Это, впрочем, было совершенно необходимо для того, чтобы убедиться в согласии великого князя-отца и великой княгини-матери, а также узнать мнение Ее императорского высочества великой княжны Александры Павловны.
По истечении этих двух дней, заручившись согласием обоих августейших родителей и великой княжны, Ее императорское величество объявила, что со своей стороны также принимает это предложение. Рассматривая его как (новое средство — зачеркнуто) удобную возможность для обеих сторон совершить почетный, полезный и взаимовыгодный для обоих государств шаг. Однако с этого времени Ее императорское величество сочла своим долгом предупредить Его величество короля Швеции о своем намерении (которое она не могла терять из виду — зачеркнуто) обеспечить великой княжне, своей внучке, свободу совести и отправление религии, в которой она была рождена и воспитана (а также о препятствиях, если они были, вытекавших из разницы в религии — зачеркнуто). Однако Его величество король Швеции, высказав сомнения, затруднился принять условия Ее императорского величества, настаивая на намерении, выраженным им ранее. (Два — зачеркнуто) несколько дней спустя (не имея возможности возобновить переговоры — зачеркнуто), в течение которых этот важный пункт оставался нерешенным, герцог-регент и министры короля явились известить Ее императорское величество, что все препятствия (будут сняты — зачеркнуто), происходящие из разности религий, были устранены и Его величество король был намерен посетить Ее императорское величество, чтобы дать ей самые положительные заверения в том, что статья о религии, согласно которой великой княжне, будущей супруге короля, будет предоставлена полная свобода ее отправления, не представляет отныне никаких трудностей.
Однако во время случившейся до этого разговора паузы Ее императорское величество сочла уместным рассеять собственноручно написанным письмом сомнения короля и его возражения, изложив мотивы, которые могли бы убедить его в необходимости предоставить Ее императорскому высочеству свободное отправление религии. И хотя Ее императорское величество (уже — зачеркнуто) действительно получила от короля заверения, что эта статья не представляет более никаких трудностей, она, тем не менее, сочла нужным передать это письмо королю, попросив прочесть его со всей зрелостью.
[В этом месте следует добавление на полях: «Это письмо (которое до сих пор находится в руках короля Швеции — дописано сверху) заканчивалось ясно выраженным заявлением (Ее императорского величества — зачеркнуто), что как бы не велико было ее стремление заключить брак великой княжны, свой внучки, она никогда не согласится на то, чтобы (артикул, касающийся религии не был заключен и подписан таким образом, как она предложила — зачеркнуто) свободное отправление религии будущей королевы Швеции не было бы обеспечено».]
(При первом случае — зачеркнуто) на следующий день Его величество король Швеции (встретившись с Ее императорским величеством — зачеркнуто), вновь встретившись с императрицей, поблагодарил Ее в самых прочувствованных выражениях, сказав, что письмо, которое он внимательно изучил, самым убедительным образом, прояснило спорный вопрос. Он высказал, однако, сожаление, что у кого-то хоть на минуту могло проявиться мнение, что (в этом, как и в других вопросах — зачеркнуто) Его намерение могло быть понято как попытка стеснить великую княжну, его будущую супругу, (в вопросе, касающемся ее совести — дописано под строкой).
После таких заверений и объяснений Ее императорское величество должна была поверить, что все препятствия в вопросе о религии были сняты. Вследствие этого Она приказала своим министрам подготовить в письменном виде все артикулы и статьи союзного трактата, который должен был быть заключен, а также статьи брачного договора, и передать их министрам Его величества короля Швеции, что и произошло на частной конференции, состоявшейся 9 (20) числа этого месяца. Шведские министры после некоторых возражений о ненужности статьи, касающейся отправления религии Ее императорского высочества великой княжны, поскольку король уже дал сам слово императрице, а затем, потребовав исправления некоторых формулировок относительно религии великой княжны, приняли этот артикул для того, чтобы передать его на рассмотрение королю. Одновременно они потребовали созвать через день в то же время генеральную конференцию для рассмотрения всех статей, которые должны были составить оба договора.
На этой конференции, состоявшейся 11 (22) сентября, артикул о религии великой княжны (далее две с половиной страницы основного текста зачеркнуты. Приводим их полностью: был обсужден и, казалось, полностью согласован. При закрытии конференции сложилось впечатление о достигнутом полном и единодушном согласии. Когда министры еще не разошлись, двое из них, князь Зубов и барон Штединг провели партикулярную беседу, в ходе которой последний дал понять, что король, его повелитель, возможно, даст письменное согласие на артикул, касающийся религии, в том виде, в котором он был предложен русской стороной. В тот же день вследствие убежденности Ее императорского величества, что все урегулировано и согласовано, было назначено обручение Его величества короля Швеции с Ее императорским высочеством, великой княжной, на котором должны была присутствовать с одной стороны вся императорская фамилия, министры Ее императорского величества, а также дядя короля и шведские министры. Обручение должно было завершиться балом, на который были приглашены самые заслуженные придворные Ее императорского величества и свита короля. Таковы были обстоятельства, в которых князь Зубов сообщил императрице о декларации посла и полномочного министра на переговорах, приведенной выше. Несмотря на то, что дело зашло далеко, Ее императорское величество, учитывая серьезность и важность вопроса, не сочла возможным продолжать его без того, чтобы получить позитивную декларацию относительно изменения, которого она никоим образом не могла ожидать).
(Текст на полях, предложенный взамен зачеркнутого: На конференции, имевшей место 11 (22) сентября, артикул, относящийся к религии великой княжны был поставлен на обсуждение. Поскольку министры короля не имели его в своих бумагах, их внимание было привлечено к этому вопросу. Они отвечали, что оставили артикул в руках короля, который взял на себя объясниться с Ее императорским величеством по этому вопросу и согласовать его. Господин Рейтергольм сказал по этому поводу, что этот вопрос, скорее, должен был рассмотрен между бабушкой и внуком, чем между министрами. Ему было отвечено, что все же необходимо, чтобы этот артикул был урегулирован тем же образом и совместно со всеми другими, которые принадлежат к генеральному трактату. Шведские полномочные согласились с этим и конференция была закрыта с видимостью полного и единодушного согласия.
В силу предварительных объяснений с королем, регентом и министрами, убеждения императрицы в том, что все было улажено и согласовано относительно религии будущей королевы Швеции, было столь сильным, что в тот же день, когда состоялась генеральная конференция, было назначено обручение Ее высочества и Его величества короля Швеции. Но когда императрице доложили, каким образом шведские полномочные высказывались относительно артикула о религии, она не сочла для себя возможным продолжать без того, чтобы получить ясный и позитивный ответ относительно этого артикула).
[Далее на полях поставлен знак NB и написано: Первоначальный текст исправлен по просьбе господина Штединга, не скрывавшего своего беспокойства после того, как он увидел в протоколе все уловки, которые привели к разрыву переговоров. Снизойдя к его просьбе, мы заменили первоначальный текст тем, что написано на полях.]
В этой связи Ее императорское величество поручило одному из своих министров попросить разъяснений сначала у посла короля, а в случае, если бы его не удалось найти, у дяди короля, регента. И тот, и другой ответили в первый момент, что действительно король не может принять предложенного артикула. Однако после разъяснений, данных министром Его императорского величества, относительно того, что неприлично останавливать столь далеко зашедшее дело, особенно после того, как шведской стороной были даны самые позитивные обещания, они обязались переговорить с королем, чтобы побудить Его согласиться с требованием Ее императорского величества (на которое она имела полное право — вычеркнуто). Через некоторое время они вернулись с ответом, что этот вопрос будет улажен к удовлетворению Ее императорского величества способом, приемлемым для обеих сторон. Императрица, найдя этот ответ слишком общим и неопределенным, особенно после неожиданных дискуссий, происходивших ранее, предложила королю дать письменное обязательство в следующих выражениях: «Я официально обещаю предоставить Ее императорскому высочеству великой княжне Александре Павловне, моей будущей супруге, королеве Швеции, полною свободу совести и отправления религии, в которой она была рождена и воспитана. Прошу Ее императорское величество рассматривать это обещание как самый торжественный и обязательный акт».
Проект этого обязательства был представлен господину регенту, который взял на себя представить его королю, но по прошествии некоторого времени он принес следующий ответ: «Уже дав слово чести Ее императорскому величеству, что великая княжна Александра Павловна никогда не будет стеснена в своих религиозных убеждениях, причем Ее императорское величество выразили в этой связи свое удовлетворение, я уверен в том, что она нисколько не сомневается в том, что я знаю священные обязанности, которые налагает на меня взятое обязательство, в силу чего любое другое письмо представляется совершенно излишним. Густав-Адольф, 11 (22) сентября 1796 года».
Несмотря на попытки добиться, чтобы в этом обязательстве было упомянуто право великой княжны на отправление религии, получить его не удалось. Это вынудило Ее императорское величество отложить церемонию обручения до того, пока этот пункт не будет полностью согласован. На следующий день король (попросив партикулярную встречу с Ее императорским величеством и получив ее — вычеркнуто) пожелал увидеть Ее императорское величество в сопровождении своего дяди-регента. Во время встречи король упорно отказывался подтвердить свободное отправление религии великой княжной (добавлено на полях — что еще раз подтвердило мнение Ее императорского величества относительно недостаточности письма короля, приведенного выше). При таком положении вещей Она приказала своим полномочным немедленно разорвать переговоры, что и было исполнено, после того, как шведские полномочные явились на конференцию, назначенную накануне.
(Вставка на полях: Вечером того же дня, когда министры Ее императорского величества находились в одном доме с полномочными короля, им было сделано предложение упомянуть в новой редакции спорного артикула только о свободе отправления религии, сняв упоминание о православной часовне, хотя оно логически вытекало из признания свободы совести. После того, как Ее императорское величество получила отчет об этом, она приказала одному из своих министров написать полномочным короля следующее письмо, переданное барону Рейтергольму 13 (24) сентября: «Я довел до сведения Ее императорского величества предложение, которое Ваше превосходительство совместно с двумя Вашими коллегами сделали мне вчера вечером. По мнению Ее императорского величества, чем дольше продолжается дискуссия и чем больше трудностей возникает в этой связи, тем более важной становится необходимость зафиксировать его письменно и самым ясным образом. Вследствие этого Она приказала мне поставить на обсуждение и согласовать приложенный к этому артикул в том виде, в котором он был подготовлен в первоначальном варианте и представлен на конференциях. Именно этот вопрос, а также ясно выраженные намерения Ее императорского величества должны стать предметом переговоров, если Ее намерения и чувства по отношению к королю признаются такими, какими они заслуживают быть»).
Продолжение основного текста: Это дело оставалось без движения в течение двух дней и, казалось даже, что переговоры разорваны, когда господин регент, лично посетив Ее императорское величество, дал Ей знать, что король, его племянник и воспитанник, будучи не в силах сам соединить свое желание установить лестный для него союз с требованиями совести, решил, что примирить одно с другим можно только обратившись к шведской Консистории во главе с архиепископом Упсальским. Вследствие этого курьер должен был немедленно отправиться в Стокгольм, чтобы спросить у него совета, который, несомненно, будет получен. Тем временем король и он, регент, понимая все обоюдные выгоды, которые должно принести укрепление двойных уз между Ее императорским величеством и королем Швеции, о форме которого продолжаются дискуссии, просят Ее императорское величество возобновить переговоры и конференции полномочных для того, чтобы довести столь благополучно начатое дело до конца на условиях, предложенных Ее императорским величеством, и, наконец, принятых им, регентом, в меру своих полномочий и королем, при условии, что текст договора будет дополнительно ратифицирован по достижении им совершеннолетия.
Ее императорское величество соблаговолило согласиться на эти предложения, желая показать свою готовность идти на все возможные уступки для заключения союзного трактата, разумеется, не менее желательного для Нее, как и для короля, Ее кузена, которому Она продолжала оказывать все знаки дружбы и благожелательности, похваляя в свою очередь Его чувствительность. Она приказала своим полномочным закончить обсуждение и подписать трактат, который столь счастливо был ратифицирован сегодня, при том понимании, однако, что он вступит в силу после окончательной ратификации по достижении королем совершеннолетия и в порядке, предусмотренным его восьмой статьей.
(Совершено в Петербурге 18 (29) сентября 1796 года — зачеркнуто).
Далее в основном тексте дописано следующее:
Немедленно после того, как протокольная запись была обсуждена и исправлена, приступили к проверке ратификационных актов. При этом полномочный Ее императорского величества, заметил, что в ратификационных грамотах, представленных шведской стороной, был опущен один из титулов императрицы. Шведские полномочные объяснили это ошибкой своей канцелярии, выразив надежду, что эта ошибка не будет иметь последствий.
После этого была произведена размена ратификационных грамот, после которой шведским полномочным по приказанию Ее императорского величества были вручены обычные подарки. На этом конференция была окончена[377].
V. Историческая записка о переговорах о браке великой княжны Александры Павловны со шведским королем Густавом IV Адольфом после сентября 1796 г.
Исторический очерк переговоров о браке великой княгини Александры с королем Швеции, проходивших после смерти императрицы Екатерины II
Генерал Клингспорр, уполномоченный передать собственноручные письма короля императрице и снабженный инструкциями, предписывавшими употребить все средства для того, чтобы уладить дело, прибыл в Петербург только для того, чтобы вручить их императору, сыну покойной Государыни. (Написано на полях: генерал Клингспорр покинул Стокгольм 5 (16) ноября 1796 г. Там были настолько уверены в успехе его миссии, что через шесть дней после отъезда из Стокгольма он был награжден Голубой лентой[378] вследствие питавшихся ожиданий.) Он был прекрасно принят, однако вследствие этого приема в Стокгольме во второй раз родились самые радужные ожидания, доходившие до того, что были приняты необходимые меры для отказа путем иезуитских оговорок от обязательств, которые, как ожидалось, они (шведы — П.С.) должны были на себя взять. Эти оговорки шведской стороны были, однако, не такого рода, чтобы император с ними согласился. Пока господин Клингспорр наслаждался удовольствиями Петербурга, не проявляя желания о чем-либо договариваться, ему поступили депеши из Стокгольма — старые предложения, с той только разницей, что королю было угодно назвать их великолепным словом «ультиматум». Его императорское величество не посчитал, однако, необходимым ответить на это своим ультиматумом, поскольку не хотел первым разрывать переговоры. К тому же его собственные предложения не выглядели достаточно приемлемыми для того, чтобы завершить это дело. Они сводились только к тому, чтобы, покидая свою родину, великая княгиня сохранила религию, а поскольку шведы не брали на себя никаких новых обязательств в отношении статьи о религии, можно было легко предвидеть, что великая княжна прибудет в Стокгольм, поменяв религию и став вполне лютеранкой.
В то время как в Петербурге шли подобные разговоры, камергер императорского двора граф Григорий Головкин прибыл в Стокгольм с официальным извещением о кончине Екатерины II. Царствующая императрица поручала ему передать приветы от себя и великой княгини Александры. Он выполнил это поручение, получив таким образом возможность поговорить и о деле, являвшемся предметом переговоров, не вдаваясь, однако, в детали ввиду отсутствия у него каких-либо инструкций. Его светские качества, живой характер и легкая беседа обеспечили ему хороший прием. Следствием этого стали некоторые откровенные признания как со стороны короля, так и его приближенных, зародившие у него надежду на то, что в случае получения разрешения это дело можно будет довести до конца. Однако, поскольку ответ из Петербурга на признания, которые сделали ему в Стокгольме, задерживался, он отказался от мысли провести переговоры и вернулся 8 (19) января в Россию.
Ответ, задержавшийся, однако, только в связи с медлительностью курьеров, находился на пути в Стокгольм, когда граф Головкин прибыл в Петербург. Все, что он рассказывал о Швеции в подтверждение доводов, которые ему были высказаны, лишь подкрепило идею о том, что следовало лишь усилить настойчивость для того, чтобы убедить короля пойти навстречу императору. Императрица, живо интересовавшаяся этим делом, из любви к дочери написала королю весьма любезное письмо, которое поручено было доставить господину Дженнингсу, секретарю шведского посольства. Лучшего курьера найти было трудно, поскольку Дженнингс хорошо знал страну, в которой работал, имел обширные связи и лучше, чем кто-либо другой, мог изложить доводы в пользу необходимости этого союза для Швеции на условиях, предписанных Россией, сводившихся только к сохранению за великой княгиней греческой религии.
Через несколько дней после его отъезда граф Головкин, назначенный после приезда сенатором и тайным советником, был снова направлен в Стокгольм. Надеялись, что, благодаря ловкости его манер и убедительной речи, ему удастся получить от короля решительный ответ, без новых оговорок. Получив приказ настаивать на «да» или «нет», он, однако, должен был придерживаться пассивной линии и ни в коем случае не оказывать давления на короля. Поводом для поездки послужила необходимость вернуть орден Серафимов, который носила покойная императрица. Идея этой поездки исходила от царствующей императрицы, поскольку сам император (Павел I — П.С.), давая на нее согласие, заметил, что он слишком занят высшими государственными делами, чтобы заниматься подобными комиссиями.
По приезде граф Головкин обнаружил, что дело было уже начато. Дженнингс со всей силой духа мужественного человека представил опасность, которую таило в себе двусмысленное обращение с российским императором. Ему удалось убедить министров в необходимости закончить дело надлежащим образом. Выяснилось, однако, что это обстоятельство дало королю новый мотив для того, чтобы не уступать; он несгибаемо держался на своем, и все принимавшиеся меры, включая риторику господина Головкина, выглядели пустой тратой времени. (Написано на полях — канцлер господин Спарре, которого трудно обвинить в предвзятости по отношению к России, счел необходимым для блага отечества поддержать брак с великой княгиней, и, видя, что его мнение не берет верх, он изложил его письменно, приобщив к шведским государственным актам.)
Частые и оживленные беседы с графом Головкиным, казалось, не производили на короля никакого впечатления. Он позволил себе даже в ходе одной из первых встреч сказать, что предложения императора были неприличными и задевали его честь. Нужно было обладать дерзостью господина Головкина, чтобы тут же поинтересоваться, следовало ли передать эти слова по назначению. Ему было отвечено, что они были произнесены только в силу слабого знания французского языка, что позволило закрыть тему о неприличии.
Графу, однако, настолько хотелось уладить это дело, что однажды вечером он так заговорил короля, что его величество, приведя ему тысячу и одну причину, по которой ему было невозможно жениться на принцессе греческого вероисповедания, повторил ему слова Пилата, сказанные когда-то покойной императрицей: то, что я сказал — то сказал, то, что написал — написал, выдав тем самым все свое отвращение к этому делу. У него даже вырвались слова о том, что подобное обращение с его страной и ее общественным мнением требовали, чтобы он не разрывал первым переговоры. Оставив эту роль императору, он имел ввиду сохранить для себя возможность оправдаться, если когда-нибудь его стали бы упрекать.
Несмотря на откровенность этого признания, граф Головкин решил получить на этот счет какой-то документ. Он написал королю, требуя от него категорического ответа на сделанные ему предложения. Его величество ответил в своей уклончивой манере, подтвердив по своему обыкновению желание установить близкие связи с императорской семьей.
Граф Головкин направил императору с курьером подробный отчет о своих переговорах. Тем временем королю пришла в голову мысль о том, что он сказал и слишком много, и слишком мало русскому представителю, и Дженнингс был отправлен обратно в Петербург с предложением, которое никак не могло способствовать водворению согласия. Оно состояло в том, чтобы отложить решение вопроса до личного свидания, которое должно было состояться следующим летом, когда император предполагал провести инспекцию своих войск в Карелии, а король должен был находиться в военных лагерях в Финляндии. Несмотря на то, что о предстоящем отъезде Дженнингса было сообщено графом Головкиным с курьерской почтой, его приезда в Петербург никто не ожидал. Головкину был направлен приказ возвратиться, поскольку генерал Клингспорр также хотел отправиться в обратный путь.
Граф Головкин тут же исполнил этот приказ и получил отпускную аудиенцию 16 (27) марта. По выходе из королевских покоев шведы в соответствии с обычаем своей страны хотели препроводить посла вместе с его соотечественником в канцелярию для вручения ему обычного подарка. Его превосходительство сказал, что он не хотел задерживаться, и продолжил свой путь, чтобы нанести визит королеве и другим членам королевской фамилии. Ранее ему уже приходилось делать представления в том смысле, что он считал неприличным заставлять посла, представлявшего великого государя, заходить в канцелярию, где он разделил бы со всеми ее членами роль простого зрителя. Однако его протест был тогда отклонен со ссылкой на существовавший в Швеции обычай (написано на полях — в этикете стокгольмского двора существует множество подобных мелочей, на которых, однако, не настаивают в случае твердо выраженного нежелания их соблюдать. К ним относится, например, унизительная для иностранных министров процедура, когда во время аудиенции у членов королевской фамилии на них присутствует одно из высших должностных лиц этой страны, не снимая шляпы и сидя в присутствии дипломатического представителя. Лондонский и лиссабонский дворы вырвали у стокгольмского обещание не допускать подобного в будущем). На этот раз существовали вдвойне весомые причины для того, чтобы не идти на рандеву с господином Спарре. Послу было известно, что господин Головкин не собирался принимать предназначенный для него подарок. Разочарованный неудачей своих переговоров, он написал ко двору, просив разрешения не принимать этого подарка. Поскольку ответ еще не прибыл, он не хотел подвергаться опасности скандала в случае необходимости возвращения его. По этой причине он посетил канцлера и просил его убедить короля не предлагать ему подарка, пока он не получит приказа на этот счет от императора. Господин Спарре не дал на это никакого ответа, и поэтому посол не появился в его канцелярии. В тот же вечер он был приглашен на отдельную конференцию, состоявшуюся после отпускных аудиенций. Затронув вопрос о его отказе отправиться в канцелярию, Спарре предупредил его, что подарок господину Головкину будет направлен на следующий день. Узнав об этом, тот, однако, поспешил написать канцлеру записку, в которой просил убедить короля оставить подарок у этого министра до того, как не поступят инструкции. Письмо это не произвело ни малейшего эффекта. Последовал, однако, длительный обмен записками между канцлером и послом, во время которого последний придерживался той пассивной роли, которая была ему предписана. Он сообщил мнение господина Спарре, который говорил на этот раз от имени короля графу Головкину; тот, однако, упорствовал в своем отказе, несмотря на заявление, что подарок вручается не ради прекрасных глаз сенатора, но ввиду уважения к его повелителю. Вследствие этого посла просили проинформировать о происшедшем свой двор и передать господину Головкину, которому оставлялась возможность исправить свою ошибку, что заставить его взять предназначенный ему подарок было бы ниже достоинства короля, тогда как согласиться с отказом графа сделать это — выше сил его величества. После нового отказа Головкина последовала последняя декларация, сводившаяся к тому, что король не желал больше ждать, собирается ли граф принять его подарок или нет.
Сразу же после того, как это дело завершилось подобным образом, господин Головкин получил эстафетой мнение графа Безбородко, считавшего, что его предложение об отказе от подарка являлось нарушением принятого этикета и правил поведения в отношении коронованных особ, с которыми нельзя осмеливаться вести себя подобным образом. К счастью, уже не оставалось возможности исправить что-либо, и граф Безбородко остался со своим мнением.
(Написано на полях — Поведение графа Головкина никоим образом не может быть поставлено в вину послу, который мог бы приказать ему принять подарок только в том случае, если бы он был простым путешественником. Однако он вернулся в Стокгольм уполномоченным вести переговоры от имени своего государя, принимать участие в которых у посла не было приказа. Он был проинструктирован только в отношении предоставления графу Головкину шифров для поддержания его переписки. Эти переговоры велись самим сенатором, который завершил их требованием категорического ответа, предъявленным непосредственно королю в письменной форме. Что же касается посла, то он никогда не осмелился бы на подобный демарш без прямых указаний, заботясь о том, как бы не навлечь неодобрения на графа Головкина. В его положении оставалось только предположить, что Головкин имел соответствующие указания. Вследствие этого посол не вмешивался в дело о подарке, ограничившись ролью посредника, стремясь смягчить самой изысканной учтивостью неловкости с той и с другой стороны.)[379]
VI. Объявление о трауре по случаю кончины императрицы Екатерины II.
Объявление[380]
Каким порядком по Их императорским величествам блаженной и вечной славы достойной памяти Великом государе императоре Петре Феодоровиче и Великой государыне императрице Екатерине Алексеевне траур во весь год на четыре квартала быть имеет, начиная от 25го ноября.
Первый, второй, третий и четвертый кварталы, полагая в каждом по три месяца, Его императорское величество и Их высочества благоверный государь-цесаревич Александр Павлович и великий князь Константин Павлович соизволят носить глубокий траур на основании высочайше конфирмованной ниже сего статьи о чинах военных, понеже Его императорское величество и Их императорские высочества изволят носить военные мундиры.
Ее императорское величество соизволит носить глубокий траур — ратинное печальное Русское платье с крагеном, рукава длинные, около рукавов плерезы, на шее особливый черный плоский краген с плерезами, а шемизетка из черного крепа, шлейф в четыре аршина, на голове уборы из черного крепа с черною глубокою повязкою и с двойным печальным капором, один с шлейфом, а другой покороче, черные перчатки, веер, чулки и башмаки; а когда Ее императорское величество к телам Их величеств шествовать изволит, также и в день погребения, тогда соизволит иметь на голове большую креповую каппу, так чтоб все платье закрыло. Их императорские высочества государыни великие княгини и великие княжны то же самое одеяние имеют с тою разницею, что шлейф их должен быть длиною только три аршина.
Второй квартал Ее императорское величество и Их высочества изволят носить такое же русское платье с плерезами, во всем сходно против первого, головной убор тоже с убавлением повязки и один печальный капор.
Ее императорское величество и Их высочества третий квартал изволят носить русское платье из гладкого сукна без плерезов, без крагена обыкновенного покроя с короткими рукавами, с белыми креповыми манжетами, на голове маленький черный чепчик с узкими снипами, перчатки, веера и башмаки черные.
Четвертого квартала первые шесть недель изволят носить Ее императорское величество и Их императорские высочества камер-траур, шелковое черное платье, на голове белые флеровые уборы, такие же белые веера и перчатки.
Последние шесть недель полутраур, шелковое же черное платье, на голове кружева и черные ленты.
Дамские персоны
Первых четырех классов в первом квартале имеют носить суконное русское гладкое печальное платье с длинными рукавами, с крагеном, на шее особливый черный плоский краген с плерезами, шириною против мужских персон по классам, с шемизетками из черного крепа, на голове уборы из черного крепа с черною узкою повязкою, перчатки, чулки, башмаки черные, шлейфы иметь первым двум классам по два аршина, третьего класса полтора аршина, а четвертого класса по одному аршину, и всем четырем классам, когда будут у тел Их императорских величество и в день погребения, иметь большие печальные капоры, когда же из двора выезжать имеют, тогда надевать черные капоры из флеров, которым бы лицо было завешано. А пятого, шестого и седьмого классов носить таковое же платье и плерезы шириною против мужских персон по классам; восьмого класса дамам носить черное ординарное платье.
Во втором квартале носить русское платье из гладкого сукна без плерезов и без крагенов, на головах уборы черные с узкими снипами, без капора, башмаки белые с черным, веера и перчатки белые, и можно будет пудриться.
В третьем квартале имеют носить камер-траур, шелковое платье, на головах уборы белые флеровые, а ленты черные.
В четвертом квартале имеют носить полутраур, русское платье и юбки шелковые черные, на головах кружева и в первые шесть недель ленты черные с белым, а последние шесть недель цветные ленты.
Камер-юнферам Ее императорского величества позволяется траур против шестого класса.
Мужские персоны
Первого и второго классов в первом квартале платье имеют носить: кафтаны суконные без шишек, с четырьмя пуговицами сукном обшитыми, а на камзолах пуговицы такие же до пояса, и на обшлагах вверху плерезы, шириною в полтора вершка, подкладка стамедная, на шляпах висящий короткий флер, шпаги обшитые черным сукном, чулки гарусные, башмаки замшаные, пряжки черные, рубашки без манжет, наперед завязанные галстуки; кареты и сани обитые черным без гербов, шоры и хомуты обшитые черным, а у шорных на лошадях печальные попоны, длиною от земли шесть вершков; лакеям черные ливреи без лент, пуговицы до пояса; в домах убивать черным по одной каморе. Вышеписанный же траур кавалеры двора Его императорского величества употреблять имеют, кроме убития камеры и карет, и тем, которые и не в первых двух классах, ибо оные в градусе печальном перед другими преимущество имеют.
Третьего и четвертого классов в первом квартале платье и ливрея имеет быть против вышеписанного же, токмо чтоб плерезы у кафтанных обшлагов имели шириною в вершок, також и камор своих и карет черным не убивать.
Пятого, шестого и седьмого класса кафтаны носить в первом квартале суконные с круглыми обшлагами, плерезы в три четверти вершка шириною, а во втором, третьем и четвертом квартале против третьего и четвертого классов, и черные ливреи лакеям позволяется.
Восьмого класса носить платье черное ординарное полгода, имея в первом квартале шпаги и шляпы с завязанным флером.
Во втором квартале первых четырех классов, и придворным кавалерам носить платье суконное черное без плерезов, башмаки с синими пряжками, шпаги синие, шляпы кругом с обвязанным флером, у лакеев нашивать на левом плече ленты по своему гербу.
В третий квартал первых четырех классов имеют носить камер-траур с шелковою подкладкою и пуговицами, шпаги и пряжки обыкновенные, рубашки с камертуховыми манжетами; и тогда черные обои из палат и карет, и ливрея со служителей снимается.
В четвертый квартал первые шесть недель такое же платье, чулки белые и манжеты кружевные; последние шесть недель платье черное с цветным.
Всем мужского и женского пола, кто б какого звания ни был, во время траура в ординарном черном платье ходить позволяется.
В штатской службе находящимся особам, считая от четвертого до восьмого класса, разумеется о тех, кои имеют высочайше конфирмованные мундиры по местам их служения, позволяется ходить в мундирах, имея камзолы, штаны, чулки черные и флер по предписанным местам.
Всему военному генералитету и штаб-офицерам во время глубокого траура в первом и втором кварталах носить мундиры, а камзолы, штаны и чулки черные, флер на шляпах, аксельбанты, кисточки на шляпах и темляки обвертывать флером, и флер на левой руке, кроме тех дней, когда бывают на карауле или перед фрунтом, в таком случае и в первом и во втором кварталах означается траур вышепоказанных классов тем же, за исключением камзолов и штанов, которым быть мундирными.
В третий же квартал означается траур вышеписанных особ токмо флером на руке, на шляпах и на темляках, а четвертый только одним флером на руке.
Те классные особы, кои ездят на ямских лошадях, означают траур на ямщиках черными кушаками и шапками.
VII. Церемониал перенесения праха покойного императора Петра III из Александро-Невской лавры в Зимний дворец.
Описание печальной процессии, которая по высочайшему повелению Его императорскаго величества была при перенесении тела благочестиваго великаго Государя Императора Петра Феодоровича из Свято-троицкаго Александро-невскаго монастыря в Зимний Его императорскаго величества дворец на катафалке, сооруженный в траурной зале, и при перенесении потом обоих тел вместе как Благочестиваго великаго Государя Императора Петра Феодоровича, так и Благочестивой великой Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны из Зимняго дворца Его императорскаго величества в Петропавловскую соборную церковь.
Разделение 1е
Церемониймейстер полковник Илья Бибиков был верхом, шарф чрез плечо из чернаго и белаго крепа.
№ 1й
Два взвода кадет Сухопутнаго корпуса с приличным по военному установлению числом обер- и унтер-офицеров, рядовые ружья держали на погребение и в барабаны били во время марша тоже на погребение. А в день перенесения обеих тел Их Императорских величеств из Зимняго дворца в Петропавловский собор был вместо взвода кадет конный взвод кавалергардов.
№ 2й
Гоф-фурьер верхом в епанче с длинным на шляпе флером.
№ 3
Маршал с маршальским штабом в епанче с длинным на шляпе флером надворный советник Иконников.
№ 4
Литаврщик с литаврами верхом, вели лошадь два конюха, все трое в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером.
№ 5
10 трубачей пешие по пяти человек в ряд в таком же одеянии, как и литаврщик.
№ 6
Литаврщик с литаврами верхом, лошадь вели два конюха, все трое в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером.
№ 7
10 трубачей пешие по пяти человек в ряд в таком же одеянии, как и первые.
№ 8
Гоф-фурьер верхом, одет так же, как и первые.
№ 9
Сорок лакеев по четыре в ряд в епанчах с длинным на шляпах флером.
№ 10
Четыре скорохода рядом.
№ 11
Восемь камер-лакеев по два в ряд в епанчах с длинным на шляпах флером.
№ 12
Восемь придворных официантов по четыре в ряд, в епанчах с длинным на шляпах флером.
№ 13
Шестнадцать пажей по четыре в ряд, в епанчах с длинным на шляпах флером.
№ 14
Четыре камер-пажа рядом, тоже в епанчах с длинным на шляпах флером.
№ 15
Гофмейстер пажеский в епанче с длинным на шляпе флером.
Разделение 2е
Церемониймейстер полковник Науендорф верхом, шарф чрез плечо из чернаго и белаго крепа.
№ 16
Гоф-фурьер верхом в таком же одеянии, как и два первых.
№ 17
Маршал со штабом коллежский асессор Сладковский в епанче, шляпа распущенная с длинным флером.
№ 18
Знамя герцогства Шлезвиг-Голстинскаго с шитым гербом нес полковник князь Грузинский в полном мундире, при нем ассистентами два штаб-офицера в мундирах же Василий Воробьев и Алексей Белоусов.
№ 19
Лейб-ферд герцога Шлезвиг-Голстинскаго без попоны, с богатым чепраком, с перьями и со всем тем, что принадлежит к сему убору, вели оную два штаб-офицера в мундирах Иван Черников и Николай Голубцов, за ними два конюха в парадной ливрее.
№ 20
Военное знамя красное с Императорским гербом с красною бахромою и кистями нес в мундире полковник Гаврила Кропотов, ассистентами при нем были в мундирах инженер-подполковник Алексей Тучков и артиллерии майор и кавалер Федор Апрелев.
№ 21
Лейб-ферд императорская в таком же богатом убранстве, как и первая, вели оную инженер-майоры Яков Проскуряков и Петр Вознов, тоже в мундирах, а за ними шли два конюха в богатой ливрее.
№ 22
Знамя Шлезвигское нес Конной гвардии поручик и кавалер Иван Корсаков в епанче, шляпа распущенная с длинным флером.
№ 23
Лошадь под черною длинною попоною, по обе стороны на попоне тот же герб, что на знамени, вели оную обер-офицеры Герасим Ритов и Дмитрий Парамонов, а за ними конюх, все трое в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером.
№ 24
Знамя Голстинское нес коллежский асессор Василий Лизогуб.
№ 25
Лошадь того знамени вели обер-офицеры Василий Аврамов и Иван Иванов, а за ними конюх.
№ 26
Знамя Стормарское нес секунд-майор Дмитрий Неелов.
№ 27
Лошадь вели обер-офицеры Соломон Кроау и Федор Натто, а за ними конюх.
№ 28
Знамя Дитмарское нес секунд-майор Николай Милютин.
№ 29
Лошадь того знамени вели обер-офицеры Семен Мельников и Александр Пешков, а за ними конюх.
№ 30
Знамя Олденбургское нес артиллерии майор.
№ 31
Лошадь того герба вели обер-офицеры Вилен и Мельников, а за ними конюх.
№ 32
Знамя Делменгортское нес коллежский асессор Алексей Машков.
№ 33
Лошадь того герба вели обер-офицеры Андрей Гессен и Яким Боровиков, а за ними конюх.
№ 34
Знамя Черкасскаго герба нес поручик Шереметев.
№ 35
Лошадь того знамени вели обер-офицеры Абрам Касаткин и Александр Кондлер, а за ними конюх.
№ 36
Знамя Кабардинскаго герба нес секунд-майор Федор Татаринов.
№ 37
Лошадь того герба вели обер-офицеры Яков Смоляников и Дмитрий Попов, а за ними конюх.
№ 38
Знамя Грузинскаго герба нес секунд-майор Михайла Буладев.
№ 39
Лошадь того герба вели обер-офицеры Иван Чумин и Николай Романовский, а за ними конюх.
№ 40
Знамя Карталинскаго герба нес секунд-майор Василий Юшков.
№ 41
Лошадь того герба вели обер-офицеры Петр Свечин и Александр Шемякин, а за ними конюх.
Как все вышесказанные знаменосцы, так и те, кои вели лошадей, и конюхи были все в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером, а лошади были под длинными черными попонами, имея гербы по обеим сторонам.
Разделение 3е
Церемониймейстер полковник Карл Будберг верхом, шарф чрез плечо из чернаго и белаго крепа.
№ 42
Знамя Иверскаго герба нес штаб-офицер Василий Цыгоров.
№ 43
Лошадь того герба вели обер-офицеры Будаков и Николай Попов, а за ними конюх.
№ 44
Знамя Мстиславскаго герба нес штаб-офицер Штегельман.
№ 45
Лошадь того герба вели обер-офицеры Карл Габриель и Карл Шмит, а за ними конюх.
№ 46
Знамя Витебскаго герба нес артиллерии капитан Шеховской.
№ 47
Лошадь того герба вели обер-офицеры Иван Кремпин и Николай Стахов, а за ними конюх.
№ 48
Знамя Кандийскаго герба нес штаб-офицер Афанасий Гунаропуло.
№ 49
Лошадь того герба вели обер-офицеры Людвиг Инард и Иван Соколовский, а за ними конюх.
№ 50
Знамя Обдорскаго герба нес штаб-офицер Степан Черкасов.
№ 51
Лошадь того герба вели обер-офицеры Иван Затрапезной и Василий Квасов, а за ними конюх.
№ 52
Знамя Удорскаго герба нес штаб-офицер Михайла Гарязин.
№ 53
Лошадь того герба вели обер-офицеры Антон Вигура и Григорий Белоровской, а за ними конюх.
№ 54
Знамя Белозерскаго герба нес штаб-офицер Конон Арентков.
№ 55
Лошадь того герба вели обер-офицеры Иван фон Гак и Петр Мячков, а за ними конюх.
№ 56
Знамя Ярославскаго герба нес штаб-офицер Петр Окунев.
№ 57
Лошадь того герба вели обер-офицеры Сергей Алексеев и Федор Горяинов, а за ними конюх.
№ 58
Знамя Ростовскаго герба нес штаб-офицер Будаков.
№ 59
Лошадь того герба вели обер-офицеры Николай Бровцын и Степан Венечанской, а за ними конюх.
№ 60
Знамя Полоцкаго герба нес штаб-офицер Христоф Герман.
№ 61
Лошадь того герба вели обер-офицеры Петр Грик и Осип Рубанов, а за ними конюх.
№ 62
Знамя Рязанскаго герба нес штаб-офицер Алексей Трунов.
№ 63
Лошадь того герба вели обер-офицеры Петр Анцов и Иван Колгин, а за ними конюх.
№ 64
Знамя Черниговскаго герба нес штаб-офицер Александр Тележников.
№ 65
Лошадь того герба вели обер-офицеры Иван Гросфельд и Дмитрий Микулин, а за ними конюх.
№ 66
Знамя Нижегородскаго герба нес штаб-офицер Николай Катенин.
№ 67
Лошадь того герба вели обер-офицеры Иван Миттак и Василий Корольков, а за ними конюх.
№ 68
Знамя Болгарскаго герба нес штаб-офицер Добянской.
№ 69
Лошадь того герба вели обер-офицеры Пантелеймон Фролов и Петр Водопьянов, а за ними конюх.
Все знаменосцы, те, кои вели гербовых лошадей и за ними конюха, в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером, а лошади покрыты длинными черными попонами, имея нашитые на попоне гербы по обеим сторонам.
Разделение 4е
Церемониймейстер надворный советник Роман Старков верхом, шарф чрез плечо из чернаго и белаго крепа.
№ 70
Знамя Вятскаго герба нес штаб-офицер Сафьянов.
№ 71
Лошадь того герба вели обер-офицеры Василий Баскаков и Кондратий Куприянов, а за ними конюх.
№ 72
Знамя Пермскаго герба нес секунд-майор Иван Гарновской.
№ 73
Лошадь того герба вели секунд-майор Александр Вольф и поручик Михайла Пантовской, а за ними конюх.
№ 74
Знамя Югорскаго герба нес капитан Петр Тагаев.
№ 75
Лошадь того герба вели обер-офицеры Василий Юрецкий и Афанасий Воробьев, а за ними конюх.
№ 76
Знамя Тверскаго герба нес ротмистр Конной гвардии Петр Римско-Корсаков.
№ 77
Лошадь того герба вели обер-офицеры Михайла Симбургской и Егор Чемоданов, а за ними конюх.
№ 78
Знамя Карельскаго герба нес надворный советник Лобысевич.
№ 79
Лошадь того герба вели штаб-офицер Иван Лавров и поручик Михайла Кашников, а за ними конюх.
№ 80
Знамя Самогидскаго герба нес надворный советник Алексей Комаров.
№ 81
Лошадь того герба вели штаб-офицеры Василий Нертовской и Иосиф Троепольской, а за ними конюх.
№ 82
Знамя Семигальскаго герба нес штаб-офицер Яков Щербинин.
№ 83
Лошадь того герба вели штаб-офицеры Павел Вангер и Иван Федоров, а за ними конюх.
№ 84
Знамя Курляндскаго герба нес подполковник Яков Есипов.
№ 85
Лошадь того герба вели коллежский асессор Кандалинцов и губернский секретарь Алексей Смирнов, а за ними конюх.
№ 86
Знамя Подольскаго герба нес коллежский асессор Сергей Ершов.
№ 87
Лошадь того герба вели секунд-майор Михайло Пастухов и поручик Михайло Сучков, а за ними конюх.
№ 88
Знамя Волынскаго герба нес подполковник Яншин.
№ 89
Лошадь того герба вели капитан Ушаков и поручик Федор Аншевской, а за ними конюх.
№ 90
Знамя Литовскаго герба нес подполковник Сулимов.
№ 91
Лошадь того герба вели секунд-майор Адам Челищев и артиллерии штык-юнкер Иван Кроуз, а за ними конюх.
№ 92
Знамя Таврическаго герба нес майор Бланк-Нагель.
№ 93
Лошадь того герба вели надворный советник Андрей Кейзел и корнет Михайло Карпов, а за ними конюх.
№ 94
Знамя Лифляндскаго герба нес коллежский асессор Карп Матюшкин.
№ 95
Лошадь того герба вели поручики Федор Полоняников и Иван Стрельников, а за ними конюх.
№ 96
Знамя Эстляндскаго герба нес коллежский асессор Евстафий Газенкамф.
№ 97
Лошадь того герба вели надворный советник Иван Бабин и капитан Демьян Головков, а за ними конюх.
Все знаменосцы, те, кои вели гербовых лошадей, и конюхи были в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером, а лошади покрыты длинными попонами с нашитыми по обе стороны на попонах гербами.
Разделение 5е
Церемониймейстер титулярный советник Иван Богданович верхом, шарф чрез плечо из чернаго и белаго крепа.
№ 98
Знамя Смоленскаго герба нес секунд-майор Иван Догатчиков.
№ 99
Лошадь того герба вели обер-офицеры Иван Башератов и Иван Кистер, а за ними конюх.
№ 100
Знамя Псковскаго герба нес коллежский советник и кавалер Иван Репьев в 1й раз, а во 2й надворный советник Михайло Гибнер.
№ 101
Лошадь того герба вели секунд-майор Илья Василевский и поручик Егор Хартулярий в первый раз, а в другой раз вместо Василевскаго подпоручик Иванов, а за ними конюх.
№ 102
Знамя Сибирскаго герба нес коллежский советник и кавалер Петр Вельяминов в первый раз, а во 2й раз коллежский советник Луговиков.
№ 103
Лошадь того герба вели обер-офицеры Леонтий Эйлер и Александр Лефебер в первый раз, а во 2й раз вместо Лефебера Андрей Легкой, за ними конюх.
№ 104
Знамя Астраханскаго герба нес капитан лейтенант Иван Головачов.
№ 105
Лошадь того герба вели обер-офицеры Андрей Юрьев и Иван Мартьянов, за ними конюх.
№ 106
Знамя Казанскаго герба нес коллежский асессор Дмитрий Сыромятников.
№ 107
Лошадь того герба вели обер-офицеры Иван Мунд и Петр Бахметьев, за ними конюх.
№ 108
Знамя Новгородскаго герба нес надворный советник Василий Акишов.
№ 109
Лошадь того герба вели коллежский советник и кавалер Иван Соколов и надворный советник Ек в первый раз, а в другой раз унтер-лейтенант Лев Бизяев и поручик Музаркевич, за ними конюх.
№ 110
Знамя Владимирскаго герба нес подполковник Иван Яковлев.
№ 111
Лошадь того герба вели коллежский советник Василий Гаврилов и поручик Иван Перцов в первый раз, а во 2й раз вместо Гаврилова капитан Александр Лефебер, за ними конюх.
№ 112
Знамя Киевскаго герба нес надворный советник Дмитрий Куликовский.
№ 113
Лошадь того герба вели обер-офицеры Дмитрий Радванский и Кирилл Артамонов, за ними конюх.
№ 114
Знамя Московскаго герба нес секунд-майор Иван Худяков.
№ 115
Лошадь того герба вели обер-офицеры Апарин и штурман Шерухин в первый раз, а во 2й раз вместо Апарина подпоручик Зыков, за ними конюх.
Все знаменосцы, те, кои вели лошадей, и конюхи были в епанчах, а лошади гербовыя покрыты длинными попонами, и по обе стороны попоны имели нашитые гербы.
№ 116
Штандарт Адмиралтейский нес капитан 1го ранга и кавалер Данила Козмин, ассистентами при нем капитан 2го ранга и кавалер Егор Рябинин и капитан лейтенант и кавалер Алексей Корнилов. Все трое в полном мундире.
№ 117
Знамя из черной тафты с Государственным гербом нес артиллерии майор и кавалер Клейнмихель, при нем ассистентами шли коллежские советники и кавалеры Иван Соколов и Василий Гаврилов.
№ 118
Лошадь того знамени, имея герб Государственный наверху, вели премьер-майор Петр Марсочников и секунд-майор Дмитрий Байков, за ними два конюха, все в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером, а лошадь покрыта длинною попоною.
№ 119
Белое знамя нес гвардии Измайловскаго полка капитан Крюков, ассистентами при нем Преображенскаго полка подпоручик Ханыков и прапорщик Кропотов в первый раз, во второй раз вместо Ханыкова поручик князь Волконский в полном мундире.
№ 120
Фрейден-ферд, или радостную лошадь, перья на голове и на крестце в богатой сбруе, попона тоже богатая до самой земли, вели Конной гвардии поручик Дмитрий Поливанов и корнет Генрих Рейн, в полном мундире, за ними два конюха в парадной ливрее.
№ 121
Латником в позлащенных латах был конюшенный капитан Манштерн, на лошади с богатым чепраком, и тому принадлежащим убором с обнаженным мечем, а лошадь вели два конюха в парадной ливрее.
№ 122
Латником в черных латах, держащим обнаженный меч вниз, эфес обвит черным флером, был конюшенный капитан Иван Дерюгин.
№ 123
Печальное знамя, все из черной тафты той же величины, как знамя красное, знамя герцога Шлезвиг-Голштинского, штандарт и белое знамя, оное знамя нес артиллерии майор Михайла Харламов; при оном шли ассистентами артиллерии майор Иван Фок, премьер-майор Николай Беер и флота капитан Федор Демор, все в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером.
№ 124
Лошадь, покрытую длинною черною попоною, влекущаяся по земле, вели коллежский асессор Иван Пашутин и Илья Соломонов, за ними два конюха, все в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером.
Разделение 6е
Церемониймейстер майор Извеков верхом, шарф чрез плечо из чернаго и белаго крепа.
№ 125
Маршалом со штабом, в епанче, шляпа распущенная с длинным флером, был бригадир Федор Зубов.
№ 126
Герб Шлезвиг-Голстинский нес полковник Роман фон Ломан.
№ 127
Герб Таврический нес надворный советник Александр Никольский.
№ 128
Герб Сибирский нес надворный советник Гейнереихт.
№ 129
Герб Астраханский нес советник Самсон Козляинов.
№ 130
Герб Казанский нес полковник Александр Витавтов.
№ 131
Герб Новгородский нес коллежский асессор Афанасий Пестов.
№ 132
Герб Владимирский нес советник Александр Жохов.
№ 133
Герб Киевский нес артиллерии подполковник Андрей Дувинг.
№ 134
Герб Московский нес коллежский советник Иван Андроников.
Все означенные гербы несли в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером.
№ 135
Государственный большой герб, перед оным шли рядом четыре генерал-майора и кавалера рядом, а именно генерал-майор Львов, Шреметьев, князь Лобанов и Мернин. Несли оный герб артиллерии генерал-майор Густав Гербель, генерал-майор Александр Борисов, бригадир и кавалер Кожин и артиллерии полковник и кавалер Рейнголд Польман; при нем ассистентами полковник Степан Махотин и бригадир Иван Марсочников, все в мундирах.
№ 136
Маршал от Магистрата градский глава от купечества надворный советник Николай Резвой со штабом, за ним магистратские члены и секретари по три в ряд, все в черных епанчах, шляпы распущенные с длинным флером, всех числом 21 человек. За ними от каждого цеха по значку, тоже все в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером по три в ряд, всех числом 66 человек.
Разделение 7е
Церемониймейстер бригадир барон Андрей Фридригс верхом, шарф чрез плечо из чернаго и белаго крепа.
№ 137
Маршал Академии наук со штабом бригадир Николай Чихачов, за ним профессоры и адьюнкты Академии наук и художеств и народных училищ, не ниже секретаря по три в ряд, в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером, всех числом 18 человек.
№ 138
Маршал от Опекунскаго Совета со штабом коллежский советник Иван Сумбатов, за ним шесть членов по три в ряд, все в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером.
№ 139
Маршал Медицинской коллегии со штабом статский советник барон Аш, за ним несколько докторов, штаб-лекарей, лекарей по три вряд, все в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером всех числом 9ть человек.
№ 140
Маршал Губернскаго правления со штабом статский советник Николай Алексеев, за ним всех палат и всех под ведомством оного находящихся присутственных мест несколько членов не ниже секретаря, по три в ряд в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером, всех числом 21 человек.
Разделение 8е
Церемониймейстер бригадир князь Тенишев верхом, шарф чрез плечо из чернаго и белаго крепа.
№ 141
Два маршала Адмиралтейской Коллегии со штабами, вице-адмиралы господин Лупандин и Амандус Берх, за ними подчиненные Адмиралтейской Коллегии разного звания чины не ниже секретаря по три в ряд, в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером, всех числом 21 человек.
№ 142
Два маршала Военной Коллегии со штабами, генерал-майоры граф Дмитрий Зубов и Борис Леццано, шляпы распущенные с длинным флером, за ними Военной Коллегии департаментов разные чины, не ниже секретаря по три в ряд, в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером; всех числом 21 человек.
№ 143
Два маршала Государственной Коллегии иностранных дел со штабами: статский советник Григорий Кондойди и коллежский советник Александр Яковлев; за ними в классах состоящие чины, не ниже секретарского чина по три в ряд, шляпы распущенные с длинным флером; всех числом 15 человек.
№ 144
Два маршала от Правительствующего Сената, два сенатора с жезлами: Щербачев и князь Щербатов, за ними сенаторы: генерал-рекетмейстер, обер-прокуроры и обер-секретари, разумеется, Правительствующаго Сената и Синода, тоже по три в ряд, все в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером; всех числом 24 человека.
Разделение 9е
Церемониймейстер артиллерии майор барон Фридригс верхом, шарф чрез плечо из чернаго и белаго крепа.
№ 145
Вся Духовная процессия, имея в руках зажженные восковые свечи, которых числом было всех 360 человек, которые шли по учреждению Митрополита Новгородскаго и Санкт-Петербургскаго Гавриила с приличным великолепием высокому достоинству в Бозе почивающих высочайших особ великого Государя Императора и великой Государыни Императрицы.
№ 146
Два герольдмейстера в их траурных сюперверсах и сапогах, имея их жезлы в руках, Его императорскаго величества камергер князь Щербатов и действительный статский советник Кацарев шли оба рядом.
№ 147
Четыре полковника с четырьмя государственными мечами, несомые острием вниз, в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером по два в ряд артиллерии подполковник Василий Сверчков, коллежский советник Василий Кокушкин, полковник Василий Чечерин и полковник Андрей Щербинин.
Кавалерии и регалии
№ 148
Кавалерию Польскую нес генерал-майор князь Борис Голицын, ассистентами при нем подполковник Титов и надворный советник Ефремов.
№ 149
Кавалерию Прусскую нес гофмаршал двора Государя цесаревича и Государыни великой княгини его супруги граф Головин, ассистентами при нем бригадиры Семен Окунев и Скрипицын.
№ 150
Кавалерию Шведскую нес генерал-майор князь Волконский, ассистентами при нем действительные статские советники Иван Шамшев и Дмитрий Алымов.
№ 151
Кавалерию Владимирскую нес генерал-прокурор князь Алексей Куракин, ассистентами при нем артиллерии полковники Кнобель и Сапожников.
№ 152
Кавалерию Георгиевскую нес тайный советник граф Миних, ассистентами при нем артиллерии полковники Польман и Базель.
№ 153
Кавалерию Аннинскую нес гофмейстер Его императорскаго величества Николай Загрявской, ассистентами при нем статские советники Вейдемейер и Рубан.
№ 154
Кавалерию Александровскую нес гофмейстер Его императорскаго величества князь Сергей Гагарин, ассистентами при нем статский советник Гурьев и коллежский советник Обресков.
№ 155
Кавалерию Екатерининскую нес Его императорскаго величества егермейстер Алексей Потемкин, ассистентами при нем бригадир Толстой и статский советник Кузминской в первый раз, а в другой вместо Кузминскаго унтер-егермейстер Аксаков.
№ 156
Кавалерию Андреевскую нес генерал-лейтенант князь Василий Долгоруков, ассистентами при нем камер-юнкер Его императорскаго величества барон Будберг и камер-юнкер Их императорских высочеств князь Голицын.
№ 157
Корону Таврическую нес обер-гофмейстер граф Румянцев, ассистентами при нем бригадиры Павел Скворцов и Алексей Жеребцов.
№ 158
Корону Сибирскую нес действительный тайный советник граф Заводовский, ассистентами при нем действительный статский советник Дмитрий Камынин и бригадир Василий Васильчиков.
№ 159
Корону Астраханскую нес генерал-аншеф граф Стакельберх, ассистентами при нем советники Иван Лазарев и Осип Леццано.
№ 160
Корону Казанскую нес в первый раз генерал граф Орлов, а во второй генерал-лейтенант Измайлов, ассистентами при нем бригадиры Шепелев и Ислемьев.
№ 161
Государственную державу нес обер-шенк князь Несвицкой, ассистентами при нем бригадиры князь Сергей Голицын и Петр Озеров.
№ 162
Государственный скипетр нес обер-егермейстер князь Голицын, ассистентами при нем бригадиры Григорий Спиридовьев и Владимир Грушецки.
№ 163
Корону Императорскую нес вице-канцлер князь Куракин, ассистентами при нем камергер граф Толстой и камер-юнкер князь Черторижской.
Все, как те особы, кои несли, так и ассистенты их, в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером, а несомые регалии лежали на золотых глазетовых подушках, обложенные серебряным широким гасом, и у каждой подушки по 4 серебряные же кисти.
№ 164
Два церемониймейстера с их траурными жезлами, церемониймейстер Гурьев, а другой в должности церемониймейстера камер-юнкер Демидов.
№ 165
Обер-церемониймейстер с его траурным жезлом, один тайный советник Валуев.
№ 166
Придворных два протодьякона, за ними 4 придворных священника несли две Святые иконы, за коими следовал духовник.
Разделение 10е
Церемониймейстер полковник Шапошников верхом, шарф чрез плечо из чернаго и белаго крепа.
№ 167
Печальная колесница, заложенная восьмью лошадьми, на которую возложено было в гробе тело покойной государыни, покрытое покрывалом из золотаго глазета с вышитыми гербами, 4 кисти у покрывала держали 4 императорских камер-юнкера, лошадей под черными попонами вели, а именно: полковник Чайников, надворные советники Кристин, Вильгельм, Матушкин, Малиновский, фон Брин, коллежский советник Репьев, гвардии капитан-поручик Толстой; над гробом несли богатый балдахин, у штангов и кистей котораго были генерал-майоры Гантвиг, граф Дикер, Александр Стурман, действительный статский советник Иван Еворский, контр-адмирал Ханыков, генерал-поручик Шамшев, действительный статский советник Сушков, бригадиры: Цурмиллен, князь Петр Долгорукий, Сафонов, Александр Хвостов, Ранцов, Симонов, Аладин, вице-адмирал Лупандин, поодаль от них шли по обе стороны камергеры и камер-юнкеры, кои были при гробе.
№ 168
За первою печальною колесницею ехала вторая, заложенная тоже восьмью лошадьми, на которую возложено было во гробе тело покойнаго Государя, покрытое покрывалом из золотаго глазета с вышитыми гербами, 4 кисти покрывала держали 4 камер-юнкера, лошадей под черными попонами вели полковник Хотяинцов, подполковник Вепрейский, надворные советники Наумов, Жандр и Старков; майоры Савинов, Саблуков и Стурыгин. Над гробом несли богатый балдахин, у штангов и кистей котораго были генерал-поручики Грушецкий, Тючков, тайные советники Молчанов, Саблуков, Колычов, генерал-майоры Тарбеев, Алексей Корсаков, Рамбург, Марков и Хитрово; действительные статские советники Ходнев, Алексеев; статские советники Мартьянов, Матвеев, Филисов; контр-адмирал Воинович, вице-адмиралы Повалишин, Козляинов и Черкасов.
По обе стороны обеих колесниц шли по 30ти артиллерийских кадет, на каждой стороне с зажженными факелами, на коих были знаки с гербом, как кадеты, так придворные кавалеры, те, кои были при штангах и кистях у обеих колесниц, все были в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером; шли тоже начиная от регалиев по обе стороны, тоже по обе стороны обеих колесниц и по обе стороны Императорской фамилии кавалергарды без ружей в богатом уборе.
№ 169
За печальными колесницами шли два гофмаршала, граф Тизенгаузен и граф Виелогорской, а за ними обер-маршал граф Шереметев с их траурными жезлами, в епанчах, шляпы распущенные с длинным флером.
За ними Его императорское величество в длинной траурной мантии, ассистентами при высочайшей Его особе генерал от кавалерии граф Салтыков и адмирал Синявин.
Шлейф несли 4 императорских камергера, а конец шлейфа нес в должности обер-камергера действительный тайный советник Чертков, поодаль по сторонам шли Его императорскаго величества адъютанты.
За Его императорским величеством изволила идти Ея императорское величество, имея на главе капу, покрывающую высочайшую Ея особу черным крепом, имея весьма длинный шлейф, который несли императорские камергеры; ассистентами при высочайшей Ея особе были генерал от Инфантерии князь Юрий Долгорукий и действительный тайный советник граф Строганов.
За Их императорскими величествами следовали Их императорския высочества Государь цесаревич Александр Павлович и Государь великий князь Константин Павлович и обе государыни великие княгини, все с Их ассистентами, и с теми кавалерами их дворов, кои несли Их шлейфы. А ассистентами при них были генерал-поручики Вадковский, Голенищев-Кутузов, Попов и Бенкендорф, да тайные советники Саккен, Пастухов, граф Румянцев, князь Белосельский и Зиновьев.
За Их императорскими высочествами следовали в числе свойственников покойнаго Императора и покойной Императрицы вначале штатс-дама графиня Катерина Васильевна Скавронская и обер-шталмейстер Лев Александрович Нарышкин; ассистентами при первой были статской советник Щербинин и полковник Албрехт, а при последнем два графа Вобана, а шлейфы их несли собственныя их служители.
За ними следовали все штатс-дамы, камер-фрейлины и все фрейлины по две в ряд, а за ними отставшие за разбором при равных должностях придворные кавалеры.
За кавалерами камердинеры: Тюлпин, Зотов, Метков, Гауерт, Кеслин, Соколов, мундшенк 6го класса Гридянин, парикмахер Михайлов. Камер-юнферы: Скороходова, Перекусихина, Алексеева, Палипути, 2 Зверевы, Гуций и Бальш. Лейб-медики и хирурги, действительныя статские советники Бек и Кельхен, коллежския советники Фрейганг и Блок, надворный советник Лидурс и Розберг, все в епанчах, шляпы распущенныя с длинным флером.
№ 170
Два маршала со штабами, статские советники Ильин и Крюковской, за ними дамы.
№ 171
Гофмаршал печальной комиссии с траурным жезлом в епанче, шляпа распущенная, с длинным флером, тайный действительный советник князь Юсупов, за ним коллежские асессоры: Кривцов и Охлопков, секунд-майор Савинов, Коллегии Иностранных дел переводчик Латынин, капитан Титов, коллежский секретарь Зряхов, секретарь Шмит, губернские секретари Комаров и Соболев, поручики Комаров, Сабуров и Швыкин.
За комиссиею в первой раз взвод сухопутных кадет, а во второй взвод кавалергардов верхами.
Примечания
1
Интересно, что при этом В. О. Ключевский едва не дословно повторил фразу С. М. Соловьева, аналогичным образом оценившего итоги допетровского периода российской истории.
(обратно)2
Никаких сомнений — я в Петербурге (фр.)
(обратно)3
Впрочем, в первом, 1838 г., издании биографии Фонвизина., Петр Андреевич, вернее, его цензор вел речь об «энциклопедической державе» (Времена были суровые, николаевские).
(обратно)4
С 1768 г. Д. А. Голицин был российским посланником в Гааге.
(обратно)5
Комнатный слуга. (фр.)
(обратно)6
АВПРИ, фонд «Сношения России с Голландией» оп. 50/6, дело 150, листы 1–5 с оборотом.
(обратно)8
Рассуждать — значит чувствовать (фр.)
(обратно)9
«О человеке, его интеллектуальных свойствах и его образовании» (фр.)
(обратно)10
АВПРИ, фонд «Сношения России с Голландией», опись 50/6 дело 152, лист 3.
(обратно)11
Отец Карла Нессельроде, министра иностранных дел России в первой половине XIX века.
(обратно)12
Согласно германскому феодальному праву по достижении 18-летнего возраста Павел Петрович вступал в права владения своими наследственными землями в Шлезвиг-Голштейне.
(обратно)13
Корпоративный дух (фр.).
(обратно)14
Мои действия докажут Вам, Ваше Величество, что если речь идет о выборе между тем, чтобы Вам нравиться, Вам повиноваться, или следовать предрассудкам, которые превращают общественное мнение в строгого и страшного судью, то я сделала его без колебаний. (фр.) — ГАРФ, ф.728, оп.1, ч.1, д.212, стр.2–3.
(обратно)15
Великий князь уже сделал свой выбор, и сестры невесты сопровождают ее только потому, что матери не хотелось оставлять их одних дома (фр.).
(обратно)16
Так хорошо подготовлена, что не будет следовать ничьим советам, кроме советов графа Панина. (фр.).
(обратно)17
Все хотят управлять этой женщиной (фр.) — здесь и далее переписка Екатерины с бароном Черкасовым приводится по рукописи директора московского Главного Архива МИД барона Ф. Бюлера «Correspondence inédite de Catherine II avec le baron Czerkassow, recqueillie et commenté par son arrière petit fils le baron Théodor Bhûler» — ГАРФ, ф. 728 «Рукописные материалы библиотеки Зимнего дворца», оп. 1 ч. 1, д. 212. При публикации («Русский Вестник» 1870–71 гг.) статьи Ф. Бюлера «Два эпизода из царствования Императрицы Екатерины II» в текстах писем Екатерины сделаны значительные опущения.
(обратно)18
Не разъединяла, а соединяла помыслы тех, с кем встретится в Петербурге (фр.).
(обратно)19
Их внешность не особенно выразительна (фр.).
(обратно)20
Пр. Амалия красива, имеет хороший цвет лица, брюнетка, того же высокого роста, что и ее мать, хорошо сложена, очень вежлива, очень приятна в обращении. Пр. В. (Вильгельмина — П.С.) меньше ростом, не так хорошо сложена, глаза того же цвета, что и волосы, лицо лоснящееся, не так красива, как старшая, более светловолосая, цвет лица красноватый, возможно, разгоряченный путешествием, выражение его — фальшивое, как у генерал-лейтенанта кн. Прозоровского, впрочем, очень привязана к матери (фр.). Пр. Луиза будет более красива, если я не ошибаюсь.
(обратно)21
Осмелюсь ли сказать, Ваше величество? Лицом она немного похожа на господина Великого князя (фр.) — ГАРФ, ф. 728, оп. 1 ч. 1, д. 212, л. 154–155.
(обратно)22
30 августа 1773 года.
(обратно)23
АВПРИ ф. секретнейшие дела (Перлюстрации) оп. 612, д. 31, лл. 398, 398 об.
(обратно)24
Теплое время года (фр.).
(обратно)25
Суета, мой друг, суета. (фр.)
(обратно)26
Цитируется с сохранением стилистики оригинала по «Автобиографической записке» Ф.-М. Гримма, опубликованной в Сборнике императорского российского исторического общества, т. 2, СПб, 1868 г., стр. 324–393.
(обратно)27
Сударыня (фр.).
(обратно)28
Государыня (фр.).
(обратно)29
Скука и одиночество (фр.).
(обратно)30
Раздавить гадину (фр.).
(обратно)31
Один поляк — душка, два поляка — ссора, три поляка — это уже польский вопрос (фр.).
(обратно)32
В четверть печатного листа (лат.)
(обратно)33
Смесь философская, историческая и т. п. С 5 октября по 3 декабря 1773 года.
(обратно)34
«Смесь философская…» была издана М. Турне в 1899 г. в Париже в книге «Дидро и Екатерина II». В русском переводе текст записок Дидро впервые появился в 1903 г. со значительными пропусками и искажениями. Научная редакция «Смеси» с восстановлением измененного М. Турне порядка их расположения в соответствии с оглавлением, сделанным самим Дидро, включена в X том собрания сочинений Д. Дидро (Москва, 1947 г.), вводный очерк и примечания П. И. Любинского.
(обратно)35
Листки (фр.) — так сам Дидро именовал свои заметки — “Dernier feuillet” («Последний листок»), “Feuillet sur l’Encyclopédie” («Листок об Энциклопедии»).
(обратно)36
ГАРФ, ф. 728, оп. 1 ч. 1, e.хр. 217.
(обратно)37
Первая же политическая записка, если она попадет ей в руки, будет выброшена подальше (фр.).
(обратно)38
С самого начала (буквально — с яйца) (лат.).
(обратно)39
Charlemagne (фр.) — Карл Великий.
(обратно)40
Необходимое условие (лат.)
(обратно)41
Русские никогда не смогут по-настоящему устроить свою государственную жизнь, т. к. они попытались сделать это слишком рано. Петр был гениальным имитатором, он не обладал настоящей гениальностью, которая создает все из ничего… Он начал делать немцев, англичан, тогда как ему надо было создавать русских, и тем самым помешал своим подданным стать такими, какими они могли бы быть… (фр.)
(обратно)42
Империя русских захочет подчинить себе Европу, но сама окажется подчиненной. Татары, ее подданные и соседи, станут ее и нашими хозяевами: эта революция мне кажется неминуемой. (фр.)
(обратно)43
Аксиом, способных разрушить стены (фр.)
(обратно)44
Мне ничего об этом не известно (фр.)
(обратно)45
Составители Х тома сочинений Дидро скорректировали хронологию, предложенную М. Турне.
(обратно)46
В переписке английского посла Ч. Хенбери-Вильямса с Екатериной осенью 1756 г. есть упоминание о том, что уже в это время великая княгиня поддерживала контакты с послом в Стокгольме. «Письма Панина доставили мне большое удовольствие. Особенно последнее. Оно так прелестно, что я могу угадать в его авторе будущего вице-канцлера», — писал Вильямс Екатерине в октябре 1756 г. — ГАРФ, ф. 728, оп. 1 ч. 1, д. 130, стр. 83.
(обратно)47
Размышляя о причинах такой уступчивости со стороны Екатерины, трудно не прийти к выводу, что историкам, к сожалению, мало что известно как о ее отношениях с Паниным до 1762 г., так и о назначении Никиты Ивановича на ключевую в династическом отношении должность обер-гофмейстера — якобы по рекомендации М. И. Воронцова.
(обратно)48
Я была обязана этим людям всем — (фр.)
(обратно)49
Добрый как барашек, он имел куриное сердце — (фр.).
(обратно)50
Его ум был естественен, он всегда шел своим путем, а я только следовала за ним — (фр.).
(обратно)51
Впоследствии Фридрих признавался, что проект раздела Польши, приписанный им графу Рохусу-Фридриху Линару, датскому послу в Петербурге в первой половине 50-х годов XVIII века, был плодом его собственной фантазии.
(обратно)52
Согласно этому договору, подписанному послом с реис-эффенди (министром иностранных дел Турции) в июле 1771 г., Австрия обязывалась за субсидии от Турции в 11,5 млн. талеров добиться от России «путем переговоров или силой оружия» возвращения Османской империи «всех крепостей, провинций и территорий», занятых русскими войсками. Лишь весной 1772 г. в Вене было объявлено о дезавуировании «субсидного договора».
(обратно)53
Фельдмаршал Александр Михайлович, полный тезка вице-канцлера.
(обратно)54
В английских архивах хранится еще более любопытное свидетельство глубоких заблуждений (или упрямства?) Кэткарта. В конверт с депешей сменившего его на посольском посту Р. Гуннинга от 13 июля 1772 г. (менее чем за две недели до подписания конвенции о разделе) вложена записка Кэткарта, адресованная Рошфору, следующего содержания: «Mr. Panin assured me positively yesterday that nothing was agreed or determined between the three powers rather than they would avoid a war on account of the affaires of the Republic» («Г-н Панин определенно заверил меня вчера, что между тремя державами не согласовано и не решено ничего, кроме стремления избежать войны из-за дел Республики») — Public Record Office, Russia — 90, p.148.
(обратно)55
«Мнения, основанные на дружбе и доверии» (фр.)
(обратно)56
Силу и внутреннюю структуру, соответствующие подобному предназначению
(обратно)57
АВПРИ, ф. Сношения России с Англией, оп. 35/1, д. 247, лл. 58–58об. (шифр.).
(обратно)58
Звание действительного тайного советника (соответствующее, согласно Табели о рангах, высшему званию фельдмаршала).
(обратно)59
Я останусь нарочно для того, чтобы злить ее (фр.). ГАРФ, ф.728, оп.1, ч.1, д.130 «Mémoires du roi Stanislas-Auguste…», v.7, pp.100–102.
(обратно)60
Родился 11 июля 1711 г. в г. Апенраде (Дания). — Здесь и далее биографические данные на Сальдерна даются по A. Erdmann-Degenhardt «Im Dienste Holsteins — Katharina die Grosse und Caspar von Saldern», Rendsburg, 1986 — «На службе Голштинии — Екатерина Великая и Каспар фон Сальдерн», Рендсбург, 1986.
(обратно)61
Письмо Сальдерна Екатерине с планом сочинения о Голштинии хранится в АВПРИ, Ф. «Сношения России с Польшей», оп. 79/6, т.1009, лл. 1–1 об, автограф, франц. яз. и лл. 2–13, подлинник, франц. яз.
(обратно)62
Существует и другая версия того, как развивался «заговор Сальдерна». Французский посол в Петербурге Дюран полагал, что когда Панин попытался забрать у него документ, подписанный Павлом, голштинец показал его Екатерине. Памятная записка Дюрана, в которой излагается этот эпизод, публикуется в приложении.
Там же смотри письмо Сальдерна Екатерине от 7 (18) ноября 1773 г. из Киля, в котором тот отвечает на выдвинутые в его адрес обвинения.
(обратно)63
Мадмуазель Победа — прозвище, которым Дидро и Гримм называли Колло.
(обратно)64
Вы уже знаете это, но я повторю еще раз, что цель моей политики по отношению к России состоит в том, чтобы удалить ее, насколько возможно, от дел Европы (фр.).
(обратно)65
Преимущество в занимаемом месте на протокольных мероприятиях.
(обратно)66
Я человек необъяснимый (фр.).
(обратно)67
Ваше величество (фр.)
(обратно)68
Ваше христианнейшее величество (фр.)
(обратно)69
Никудышные люди (нем.)
(обратно)70
Поменьше посещайте нашего посла. На тех, кто с ним связан, принято смотреть как на шпионов (фр.).
(обратно)71
АВПРИ, ф. «Сношения с Австрией», д. 3216, л. 93–95 (с оборотом).
(обратно)72
Агент Д. М. Голицына в посольстве Луи де Рогана.
(обратно)73
АВПРИ, ф. «Сношения с Австрией», д. 560, л. 42–44.
(обратно)74
Демон — (арх.).
(обратно)75
Великий князь будет также ходить к ней (Екатерине — П.C.) дважды в неделю, по утрам, чтобы, наконец, получить некоторое представление о (государственных — П.C.) делах (фр.).
(обратно)76
На парадной постели (фр.).
(обратно)77
Была шокирована (фр.).
(обратно)78
ГАРФ, ф. 728, оп. 1 ч. 1, д. 218, стр. 54.
(обратно)79
Благодеяния (фр.)
(обратно)80
Турчонок (фр.).
(обратно)81
Мне было немного больно узнать, что он не мог жениться на той, на которой обязан был по закону. (фр.)
(обратно)82
ГАРФ, ф. 728, оп. 1 ч. 1, д. 218, стр. 55.
(обратно)83
ГАРФ, ф. 728, оп. 1 ч. 1, д. 156, стр. 7–8.
(обратно)84
ГАРФ, ф. 728, оп. 1 ч. 1, д. 156, стр. 55–56.
(обратно)85
ГАРФ, ф. 728, оп. 1 ч. 1, д. 424, л. 2.
(обратно)86
«Слушайте, дорогой друг, вы вчера мне сказали, что повышения по службе и т. п. не должны зависеть от постороннего доклада или запамятования (т. е. от того, забыли или не забыли доложить — П.C.), но от моей власти. В каком-то смысле, безусловно, да, но в другом — нет, не «да». Я поставила целью моего царствования благо Империи, общественное благо и благо частных лиц, но все это — вместе, в унисон».
«Я сочла необходимым дать этот отчет. Если у вас есть возражения или вопросы ко мне прошу высказать их, потому что я люблю отдавать отчет в том, что делаю или сделала» — ГАРФ, ф. 728, оп. 1 ч., д. 432.
(обратно)87
Милый развратник (фр.)
(обратно)88
Интимном кружке (фр.)
(обратно)89
Остротах (фр.)
(обратно)90
Поверенного душевных тайн (фр.)
(обратно)91
Речь идет о сочинении И. И. Бецкого «Учреждения и уставы, касающиеся до воспитания и обучения в России юношества обоего пола». В 1773 году печаталось ее второе издание.
(обратно)92
Дидро не знал, что еще в 1759 г. полная коллекция анатомических моделей М. Биерон была приобретена для Петербургской медико-хирургической академии.
(обратно)93
АВПРИ, ф. «Секретнейшие дела (перлюстрация)» д. 12, лл. 30–39.
(обратно)94
Как следует из текста депеши (АВПРИ, ф. «Сношения с Австрией», д. 32/6, л. 110 (с оборотом)), под этим именем скрывался тайный осведомитель французского посланника, служивший у графа Александра Воронцова.
(обратно)95
Так в тексте. Следует читать — трехлетняя.
(обратно)96
Текст письма приводится по превосходному изданию «Екатерина II и Г. А. Потемкин» под редакцией В. С. Лопатина (Москва, 1998 г.).
(обратно)97
Ну что же, генерал, давайте поэнциклопедируем (фр.)
(обратно)98
В шею около ушка (фр.)
(обратно)99
«L’Habit Rouge» (в лексике XVIII века «красный кафтан») — так называла Екатерина А. М. Дмитриева-Мамонова в переписке с Ф.-М. Гриммом.
(обратно)100
Это невозможно (фр.).
(обратно)101
Прекрасная Франция (фр.).
(обратно)102
К. Валишевский «Вокруг трона», М. 1911, с.173 — цит. по В. С. Лопатин «Письма, без которых история становится мифом» — «Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка, 1769–1791 гг.», М., 1997, с.479.
(обратно)103
В. С. Лопатин «Письма, без которых история становится мифом» — «Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка, 1769–1791 гг.», М., 1997, сс.514–515.
(обратно)104
«Переписка…», сс.94–95.
(обратно)105
В. С. Лопатин «Письма, без которых история становится мифом» — «Переписка…», сс.523–524.
(обратно)106
Высокого роста и хорошего сложения, с лицом калмыка, однако, исполненным ума (фр.).
(обратно)107
Более соединены сердцем, чем кровью (фр.)
(обратно)108
Образованный человек (фр.)
(обратно)109
О боже, боже, Очаков (фр.).
(обратно)110
Прошу вас сказать как бы между прочим Сегюру с той твердостью, что я у вас знаю, что я вольна объявлять войну когда, кому и как мне это покажется нужным. Вы любите Сегюра, потому что он любезен — я тоже люблю его. Но я никогда не забываю, что Франция — величайший враг России и Екатерины II. А поскольку вы уверяете меня, что привязаны к своей родине (пропуск. — П.C.) должны работать во имя общего блага.
Не сердитесь на уроки, которые, как видите, я вам даю. Вы молоды — и немножко французите. Оба эти обстоятельства и побуждают меня их давать» — ГАРФ, ф. 728, оп. 1 ч. 1, д. 328.
(обратно)111
Перемена союзов (фр.).
(обратно)112
«Он разумен и будет присутствовать в Совете, чтобы иметь там свой глаз», — сказала Екатерина А. В. Храповицкому, назначая А. М. Дмитриева-Мамонова в Государственный совет 21 июня 1788 г., накануне назревавшей войны со Швецией — «Памятные записки А. В. Храповицкого», М., 1862, с.69.
(обратно)113
Избалованный ребенок (фр.)
(обратно)114
«По-прежнему желая, чтобы ты и твоя семья пользовались совершенным благополучием, и, видя, как нынешнее положение тебя тяготит, я намерена устроить счастье по-другому. Дочь графа Брюса — самая богатая и блестящая партия в России. Женись на ней. На следующей неделе граф Брюс будет дежурить здесь. Я распоряжусь, чтобы его дочь приехала вместе с ним. Анна Никитична постарается, чтобы это дело приведено было к желаемому окончанию. Я, со своей стороны, ей помогу, и таким образом ты сможешь остаться на службе» (фр.).
(обратно)115
«Руки мои дрожат. Как я Вам уже писал, я одинок. Здесь у меня нет никого, кроме Вас. Теперь я вижу все, и, сказать по правде, чувствую себя обязанным Вам во всем. Бог наказал бы меня, если бы я вел себя неискренне. Мне состояние и состояние моей семьи Вам известно: мы бедны, но я не позволил бы себе ни увлечься богатством, ни быть обязанным кому бы то ни было, кроме Вас, но, конечно, не Брюсу. Если Вы хотите дать основание моей жизни, позвольте мне жениться на княжне Щербатовой, фрейлине, которую мне хвалили Рибопьер и многие другие. Она не будет упрекать меня в недостаточном состоянии, и я не буду вести беспорядочное существование. Я думаю обосноваться у моих родителей. Пусть Господь рассудит тех, кто привел нас в это положение. Не стоит говорить Вам, что все это останется в тайне. Вы знаете меня достаточно. Я целую Ваши ручки и ножки и сам не вижу того, что пишу» (фр.).
(обратно)116
Вы избавили бы меня от многих неприятностей, если бы сделали то признание летом (фр.).
(обратно)117
Ваша двойственность, двойственность… (фр.)
(обратно)118
От чихания не умирают (фр.).
(обратно)119
АВПРИ, ф. «Сношения России с Турцией», оп.89/8, 1787 г., д.786, лл.34–38об.
(обратно)120
Этот текст цитируется по готовящемуся к изданию 47 тому «Политической корреспонденции Фридриха Великого (апрель — декабрь 1782 г.)», документ № 29 457. Копия его любезно предоставлена составителем доктором М. Альтхоффом.
(обратно)121
Дополнения к нему Иосиф II сделал в письме Екатерине от 11 января 1783 г.
(обратно)122
Подробнее о «Греческом проекте» см.: Маркова О. П. «О происхождении так называемого «Греческого проекта» — История СССР, 1958, № 4; Арш Г. Л. «Предыстория «Греческого проекта» — «Век Екатерины II. Дела балканские», М., 2000, сс.209–213; Виноградов В. Н. «В круговороте международных дел» — там же, сс.204–209, его же — «Самое знаменитое в истории личное письмо» — там же, сс.213–219.
(обратно)123
«Екатерина II и Г. А. Потемкин…», с.232.
(обратно)124
Там же, с.233.
(обратно)125
Кстати (фр.)
(обратно)126
И. А. Остерман — вице-канцлер.
(обратно)127
Авпри, ф. «Сношения России со Швецией», оп.96/6, д.1117, лл.1–8об., подлинник.
(обратно)128
«Памятные записки А. В. Храповицкого, статс-секретаря императрицы Екатерины II», М., 1862, с.72.
(обратно)129
Чем мы сегодня занимаемся, историей? (фр.).
(обратно)130
Атмосферу недоверия и взаимных подозрений, создавшуюся к 1788 г. между «большим» и «малым» дворами, сложные отношения великокняжеской четы с приближенными Екатерины и иностранными послами при русском дворе характеризует «Шифр для переписки с великой княгиней Марией Федоровной во время пребывания великого князя в финляндской армии», публикуемый в Приложениях.
(обратно)131
См. для сравнения описание Павла Петровича поведения Фридриха Великого в итальянской опере-буфф — «Записка разговора Е.И.В. великого князя Павла Петровича с Королем Польским в бытность великого князя в Варшаве» — Приложения.
(обратно)132
Прусский король Фридрих-Вильгельм II.
(обратно)133
Archive des affaires étrangères Paris. Corespondance Ségur mai-aoùt 1789 N 44, juillet 1789, pp 146–150.
(обратно)134
В России нельзя считать излишними самые большие предосторожности по сохранению тайны шифров (фр.).
(обратно)135
«Mémoirs ou Souvenirs et anecdotes» par M. le comte de Ségur, Paris, 1826, v.2, pp. 222–223.
(обратно)136
АВПРИ, ф. «Сношения России с Францией», 1786 г., оп. 93/6, д. 633а, л. 6.
(обратно)137
Там же, л. 8.
(обратно)138
Мои карманные послы (фр.).
(обратно)139
Противник королевской власти (фр.).
(обратно)140
Генеральные штаты (фр.).
(обратно)141
Игра слов — «autrichienne» (австриячка) — «autre chienne» (собака).
(обратно)142
От La Fayette — Лафайет.
(обратно)143
Аксиомы, способные разрушить стены (фр.).
(обратно)144
Как человека амбициозного (фр.).
(обратно)145
АВПРИ, ф. «Секретнейшие дела» (перлюстрация), оп. 6/2, д. 30, лл. 266–266 об.
(обратно)146
Неожиданный поворот (фр.).
(обратно)147
АВПРИ, ф. «Секретнейшие дела» (перлюстрация), оп.6/2, д.30, л.279.
(обратно)148
Там же, лл.442–442 об.
(обратно)149
…и большую легкость (фр.).
(обратно)150
Нельзя ответить так сразу (фр.).
(обратно)151
И эта вечная теснота в груди. Это его любовь, его двуличие душили его (фр.).
(обратно)152
Они должны быть вне себя от счастья, но они почему-то плачут. Что за чудной человек, этот Красный кафтан (фр.).
(обратно)153
Трудно быть более ограниченным (фр.).
(обратно)154
Он все равно уже здесь (фр.).
(обратно)155
Герцог Курляндский Петр Бирон был женат третьим браком на графине Шарлотте Медем.
(обратно)156
И. И. Местмахер — посланник в Митаве (до 1789 г.), затем в Дрездене.
(обратно)157
Г. И. Шелехов — известный сибирский купец и мореплаватель, основатель поселений на островах Тихого океана и побережье Северной Америки.
(обратно)158
«Памятные записки А. В. Храповицкого…», с.59.
(обратно)159
Тацит, Корнелий — великий древнеримский историк (ок. 55 — ок. 120).
(обратно)160
Прокопий Кесарийский — византийский историк VI в. н. э. Наряду с официальной хроникой войн Юстиниана создал «Тайную историю», в которой описал деспотическое правление этого императора.
(обратно)161
Он торопится, поэтому через восемь дней после сегодняшнего дня (фр.).
(обратно)162
«Памятные записки А. В. Храповицкого…», с.196.
(обратно)163
Записки (фр.).
(обратно)164
«Екатерина II и Г. А. Потемкин…», с.356.
(обратно)165
«Екатерина II и Г. А. Потемкин…», с.357.
(обратно)166
Там же, с.361.
(обратно)167
Там же, с.364.
(обратно)168
«Он проберется в Константинополь», — сказала Екатерина Храповицкому, принимая его на службу в апреле 1788 г. — «Памятные записки А. В. Храповицкого…», с.58.
(обратно)169
Как поддерживать наш престиж, если мы сами признаем наше нынешнее бессилие? Кому нужен союз с нами, если мы откладываем его заключение до подписания мира с турками; то есть до того момента, когда, как полагают в России, они уже не будут нуждаться в нашей поддержке? (фр.)
(обратно)170
Замочник (фр.). Прозвище Людовики XVI, коллекционировавшего замки различных конструкций.
(обратно)171
«Свобода, равенство, собственность» — первоначальный лозунг Французской революции. «Братство» появилось позже.
(обратно)172
Как, не будучи к этому обязанным? (фр.).
(обратно)173
Я вижу мир в розовом цвете (фр.).
(обратно)174
Дурной тон (фр.).
(обратно)175
«Mémoires ou souvenirs et anecdotes par M. le comte de Ségur, Paris, 1826, v.3, p. 507–508
(обратно)176
«Большой страх» — под таким названием в истории французской революции остался период крушения феодальных привилегий после взятия Бастилии.
(обратно)177
Екатерин Великий (фр.).
(обратно)178
Это его утешит. В конце концов, можно ему подыскать какое-то место (фр.).
(обратно)179
Епитрахиль (фр.).
(обратно)180
Одно из папских облачений (фр.).
(обратно)181
«Копия с собственноручной записи Императрицы Екатерины второй, найденная в бумагах князя Безрородко» — ГАРФ, ф. 728, оп. 1, д. 424, л. 1.
(обратно)182
Здесь — не случайно — П.С.
(обратно)183
Письмо Г. А. Потемкина Екатерине II от 5 февраля 1788 г. цитируется по «Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. 1769–1791 гг.», М.: 1997 г., под редакцией В. С. Лопатина, сс.265–267.
(обратно)184
Метафизическое, физическое и моральное описание Красного кафтана: этот Красный кафтан носит существо, имеющее превосходнейшее сердце, соединенное с безукоризненной честностью: ума у нас хватает на четверых, в нас много веселости и оригинальности в понимании вещей и в способе их изложения, восхитительная образованность, знание всего, что может придать блеск уму. Мы скрываем, как преступление, нашу склонность к поэзии; мы страстно любим музыку, с удивительной легкостью проникаем в суть вещей; невозможно сказать, что бы мы не знали наизусть; мы декламируем, ловко болтаем, умеем вести себя в любой компании; мы чрезвычайно вежливы, пишем по-русски и по-французски, как редко кто у нас может писать, как по стилю, так и по содержанию; наша наружность вполне соответствует нашему характеру; черты нашего лица очень правильны; у нас превосходные черные глаза и брови редкой красоты; рост выше среднего, и блистательны наружно. Я убежден в том, что если бы Вам встретился этот Красный кафтан, Вы поинтересовались бы его именем, если не догадались о нем сразу» (фр.).
(обратно)185
Картина прекрасна, но колер бледноват (фр.).
(обратно)186
Белые (бессонные) ночи — игра слов (фр.).
(обратно)187
Добрый, как баран, у него было куриное сердце (фр.).
(обратно)188
«Я надеялся удовлетворить любознательность читателя, а не его дурные инстинкты». Луи-Филипп де Сегюр «Воспоминания» (фр.).
(обратно)189
Простонародное название Стокгольма в XVIII веке.
(обратно)190
Попытка выдать желаемое за действительное (англ.).
(обратно)191
А. Ф. Будберг. «Переписка относительно несостоявшегося брака Густава-Адольфа IV с Великой Княжной Александрою Павловною» — Сборник Императорского русского исторического общества, СПб, 1872, т. IX, с. 195–399.
(обратно)192
АВПРИ, ф. «Внутренние коллежские дела», оп. 2/6, д.5554, лл. 1–113.
(обратно)193
АВПРИ, ф. «Трактаты».
(обратно)194
АВПРИ, ф. «Внутренние коллежские дела», 1796–1798 гг., оп.2/6, д.906, лл.217–226.
(обратно)195
АВПРИ, ф. «Внутренние коллежские дела», оп.2/8а, д.34, лл.251–307.
(обратно)196
ГАРФ, «Коллекция личных фондов», ф.860, оп.1, дд.5, 17, 19, 20, 21, 27, 28, 64, 74.
(обратно)197
«Таким образом весь Север мог бы оказаться породненным, что с течением времени должно повлиять и на политические дела» — ГАРФ, ф.728, оп.1, д.208 «Депеши прусского посла в Петербурге графа Сольмса королю Фридриху II. 1772–1772 годы. Копии», стр.61(об.).
(обратно)198
«Upon the whole, the conclusion of this business has, I am assured, contributed greatly to calm the French ministers» — «В целом, подобное завершение этого дела помогло, я в этом уверен, успокоить французских дипломатов», — так подвел итог этой неловкой для Екатерины ситуации английский посол в Петербурге Гуннинг в секретной шифрованной депеше герцогу Суффолку от 19 ноября 1773 года. — Public Records Office, SP 91/94, folio 103.
(обратно)199
Как следует вести себя в обществе (фр.).
(обратно)200
Выберите себе принца (фр.).
(обратно)201
Нужна война, чтобы придать характер царствованию (фр.).
(обратно)202
АВПРИ, ф. Сношения России со Швецией, оп. 96/6, д. 842, лл. 1–4об — Депеша С. П. Румянцева Екатерине II от 22 марта (2апреля) 1796 г. из Стокгольма.
(обратно)203
Текст депеши К. Штединга цитируется по публикации Н. В. Дризина «Густав IV и великая княжна Александра Павловна. 1794–1796 гг. (По неизданным документам шведского королевского архива)». — «Русская старина», СП. б, 1896 г., т.85, стр.350–358.
(обратно)204
Депеша Штеднига герцогу Карлу Зюдермандляндскому от 17 января 1795 г. — цитируется по Н. В. Дризен, указ. соч., стр.360.
(обратно)205
Н. В. Дризен, указ. соч., сс.363–364.
(обратно)206
Беседа Криспена с Рейтергольмом изложена в письме Спарре Штедингу от 14 марта 1796 г. — копия в АВПРИ, ф. Сношения России со Швецией, оп. 96/6, д. 199, лл. 7–9об.
(обратно)207
Знаете ли вы нашу главную новость? Брак короля отложен, если не вовсе разорван, но отныне они напрасно будут падать на колени. Клянусь, им придется дорого заплатить за то, чтобы получить великую княжну (фр.).
(обратно)208
К несчастью, из заслуживающих доверия источников мне стало слишком очевидно, что императрица вовсе не отказалась еще от проекта брака короля с ее внучкой. Напротив, она настолько к ней привязана, что готова пожертвовать для нее всем. Кажется, что от успеха этого проекта зависит счастье ее жизни (фр.).
(обратно)209
Высокого роста, очень красивый и легкого характера (фр.).
(обратно)210
Bjornstjerna M. “Mémories posthumes du compte de Stedingk”, Paris, 1844–47, vol. II, pp. 289–311 — Lettre de M. de Stedingk au Roi, S.-Pétersbourg, 22 septembre 1790.
(обратно)211
АВПРИ, ф. Сношения России со Швецией, оп. 96/6, д. 1173, лл. 1–4.
(обратно)212
АВПРИ, ф. Сношения России со Швецией, оп. 96/6, д. 1173, лл. 5–6об.
(обратно)213
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация), Швеция, 1796 г., д. 41, лл. 159об-160 — «Перевод письма к шведскому здесь находящемуся послу Штедингу от барона Рейтергольма, из Дроттингольма 29го июля по н. ст. 1796го года».
(обратно)214
АВПРИ, ф. Секретнейшие дела (перлюстрация) оп. 6/2, 1796 г., Штединг, д. 41, лл. 163–166об — «Перевод известий, сообщенных из Петербурга 26 августа по н. ст. 1796 года» — Здесь и далее хроника пребывания Густава в России дается по перлюстрации переписки Штединга, хранящейся в АВПРИ, «Журналам и запискам о приезде ко двору короля Швецкого…» (ф. ВКД, оп. 2/6, д. 5554, лл. 1–113).
(обратно)215
Во время русско-шведской войны 1788–1790 гг. русские матросы, сражавшиеся со шведами на Балтике, не в силах выговорить официальный титул регента — герцог Зюдермандляндский, называли его Сидором Ермолаевичем.
(обратно)216
Ростом с вершок (фр.).
(обратно)217
Говорун (фр.).
(обратно)218
Один из наших (фр.).
(обратно)219
Этот тип превращается в серое преосвященство (фр.).
(обратно)220
Я поговорила с ним о всяких пустяках (фр.).
(обратно)221
Сегодня впервые взгляд короля смягчился. Он имел чрезвычайно довольный вид (фр.).
(обратно)222
Любовь идет под гром барабана (фр.).
(обратно)223
Король смертельно влюблен (фр.).
(обратно)224
Подробности объяснений Екатерины с Густавом содержатся в записках, которые она ежедневно направляла Павлу и Марии Федоровне, остававшимся в Гатчине. — Оригиналы записок Павлу — РГАДА, ф.1, д.72, «Письма к покойному государю от покойной матери его. 1792–1796 годы»; переписка с Марией Федоровной — АВПРИ, ф. ВКД, оп.2/8а, д.34.
(обратно)225
Второе я (лат.).
(обратно)226
Нинетта при дворе (фр.).
(обратно)227
Текст письма приводится по французскому изданию «Воспоминаний» В. Н. Головиной — «Souvenirs de la comtess Golovine», Paris,Plon, 1910, рр. 126–130. Идентичный текст имелся и у великого князя Николая Михайловича, собиравшего материалы по истории екатерининского царствования. Он хранится в его личном фонде в ГАРФ — ф.670, оп.1, д.94 (восемь листов, текст написан по-французски).
(обратно)228
Необходимо вести себя твердо, но без резкостей (фр.) — РГАДА, ф.1, д.72, л.88.
(обратно)229
Письмо это сохранилось, благодаря аккуратности Марии Федоровны, собственноручно снимавшей копии со своей переписки с Екатериной. АВПРИ, ф. «Внутренние коллежские дела», оп.2/8а, д.34, стр.273об.-275, опубликовано в IX томе журнала «Русская старина
(обратно)230
Соломенную голову (фр.).
(обратно)231
АВПРИ, ф. Трактаты, д. 515/156, лл. 19–24об. — «Projet du Traité d’alliance entre Sa Majesté L» «Impératrice de toutes les Russes et Sa Majesté le Roi de Suède»
(обратно)232
В течение двух месяцев (фр.).
(обратно)233
Или раньше, если это окажется возможным (фр.).
(обратно)234
АВПРИ, ф. Трактаты, д. 515/156, лл. 25–28.
(обратно)235
АВПРИ, ф. Трактаты, д. 515/156, лл. 29–30, фр. язык, оригинал.
(обратно)236
АВПРИ, ф. «Трактаты», д. 515/156, лл.29–39, фр. язык, оригинал.
(обратно)237
АВПРИ, ф. Трактаты, д. 515/156, лл. 34–36, фр. язык, оригинал. Проекты сепаратных статей и протоколы конференций см. АВПРИ, ф. Внутренние коллежские дела, 1796–1798 гг., оп. 2/6, д. 906.
(обратно)238
Bibliothèque de Genève, Section «manuscrits en langues étrangères», № 211.
(обратно)239
Имеется в виду, разумеется, Французская революция
(обратно)240
Поверенный душевных тайн (фр.).
(обратно)241
Корольку (фр.).
(обратно)242
Я проучу этого мальчишку (фр.).
(обратно)243
Никогда в жизни (фр.).
(обратно)244
См. Приложение.
(обратно)245
«Записка разговора Его императорского высочества Великого князя Павла Петровича с королем польским в бытность Великого князя в Варшаве в 1782 году» — АВПРИ, ф. «Варшавская миссия», оп.80, д.1414, лл.1–14. — Текст см. приложения.
(обратно)246
«Diaries and Correspondence of Jame Harris, First Ecarl Malsbury», London, v.1, p.393.
(обратно)247
РГАДА, ф.1, д.52, л.1.
(обратно)248
Там же, л.1об.
(обратно)249
Там же, л. 4об.
(обратно)250
РГАДА, ф.1, д.52, л.6об.
(обратно)251
РГАДА, ф.1, д.52, л.7об.
(обратно)252
РГАДА, ф.1, д.52, весь текст письма — РГАДА, ф.1, д.52, лл.6–8. Полный текст письма см. в Приложениях.
(обратно)253
РГАДА, ф.5, д.251, лл.1–2об.
(обратно)254
Е. С. Шумигорский «Императрица Мария Федоровна», СПб, 1898 г., стр. 403, примечания.
(обратно)255
Е. С. Шумигорский «Императрица Мария Федоровна», СПб, 1898 г., стр.59, примечания
(обратно)256
«Я смогу увидеть вас сегодня только поздно вечером. Жду, что вы, мой сын, в нескольких словах расскажете мне о том, что еще с вами приключилось. Именем Господа заклинаю вас придерживаться выработанного плана, мужество и твердость, мой сын. Господь не покидает невинность и добродетель. Эту записку вам передает Бертом (доверенный камердинер великой княгини — П.C.), как будто ее послала Гревениц (жена вюртембергского офицера, бывшая фрейлина Марии Федоровны — П.C.). Отвечайте мне, поставив на конверте адрес Гревениц, и отправьте его через Бертома. Сожгите мои записки, я сжигаю ваши» (фр.).
(обратно)257
Господин Заместитель (фр.). Этим насмешливым прозвищем Екатерина называла Павла в переписке с Гриммом
(обратно)258
Маленькое чудовище (фр.).
(обратно)259
Говорунья (фр.).
(обратно)260
Парадном марше
(обратно)261
Загородный парково-дворцовый ансамбль Фридриха II в Потсдаме.
(обратно)262
Князь Александр Борисович Куракин, друг детства великого князя, с 1793 года по приказу Екатерины жил в ссылке в своем имении.
(обратно)263
Допивай твой кофе, Мари (фр.).
(обратно)264
Мы пропали (фр.).
(обратно)265
Мы пропали, дорогая, мы пропали (фр.).
(обратно)266
«Состояние очень плохое. Если появится еще что-нибудь, я к Вам сразу же пошлю» (фр.) — РГАДА, ф.1, д.72, л.173.
(обратно)267
«Она — в последней крайности. Больше нет никакой надежды» (фр.) — Там же, л.183.
(обратно)268
«Дорогая матушка. Осмеливаюсь засвидетельствовать почтение Вашему императорскому величеству от себя и супруги. Вашего императорского величества вернейший и покорнейший сын и слуга. Павел» — Там же, л.184.
(обратно)269
А, это вы, дорогой Ростопчин! (фр.)
(обратно)270
Сделайте мне удовольствие следовать за мной; мы приедем вместе. Я хочу видеть вас рядом (фр.)
(обратно)271
Ах, ваше высочество, какой момент для вас (фр.).
(обратно)272
Подождите, мой дорогой, подождите. Мне сорок два года, Господь поддержал меня; быть может, Он даст мне силы и разум, чтобы я соответствовал Его предназначению. Будем надеяться на Его доброту (фр.).
(обратно)273
Мертвые воли не имеют (фр.).
(обратно)274
Цареубийца (фр.).
(обратно)275
Существует несколько версий уничтожения подготовленного Екатериной проекта манифеста о передаче престола Александру. Среди тех, кто мог передать эти бумаги Павлу, в обширной мемуарной литературе екатерининского и павловского времени называются, кроме Безбородко, имена Платона Зубова, Н. И. Салтыкова и даже самого Александра (последнего — на основании позднейшего свидетельства Ростопчина).
В частности Я. Санглен (Jacob Saint-Glin), французский эмигрант, шеф секретной полиции при Александре, утверждал, что Зубов лично передал Павлу четыре пакета, в которых находились неподписанный проект отречения великого князя от престола, указ Екатерины о его ссылке после отречения в замок Лоде, акт передачи Безбородка имений, принадлежавших Г. Г. Орлову (кроме Гатчины) и, наконец, завещание Екатерины в пользу Александра.
Вполне очевидно, что каждый из упомянутых деятелей — а все они были щедро награждены после его воцарения — имел какие-то основания рассчитывать на признательность Павла. Более того, для всех этих лиц выдача завещания Екатерины после постигшего ее удара была вопросом самосохранения. Таким образом, можно предположить, что все они в определенной мере содействовали срыву планов императрицы, во всяком случае, сообщили их детали Павлу.
Что же касается обнаружения и уничтожения самих документов, то в этом деле главную роль (с учетом известного свидетельства Г. Р. Державина), похоже, сыграл Безбородко.
(обратно)276
Меченый, человек со шрамом на лице (фр.).
(обратно)277
Так проходит слава мирская (лат.).
(обратно)278
Так приходит слава мирская (лат.).
(обратно)279
Моему сыну Павлу после моей смерти (фр.).
(обратно)280
Счастье не так слепо, как обыкновенно думают. Часто оно ничто иное, как следствие верных и твердых мер, не замеченных толпою, но тем не менее подготовивших известные события. Еще чаще оно бывает результатом личных качеств, характера и поведения (фр.).
(обратно)281
И вот тому два разительных примера: Петр III — Екатерина II (фр.).
(обратно)282
По-французски Екатерина писала значительно более разборчивым, хорошо поставленным почерком, чем по-русски. Известно, что черновики своих писем Вольтеру она поручала редактировать А. П. Шувалову, хотя в этом не было особой необходимости — французским языком, и литературным, и разговорным, Екатерина владела как родным. Ее французские автографы разительно отличаются в лучшую сторону от сохранившихся собственноручных текстов не только Петра III, но и, скажем, Людовика XV.
Что касается русского языка, то широко распространенное с легкой руки В. О. Ключевского мнение о безграмотности Екатерины (четыре грамматические ошибки в слове из трех букв — «исчо»), мягко говоря, не вполне корректно. Поздние тексты резолюций и писем Екатерины, написанные по-русски, в отличие от ее автографов 60-х — первой половины 70-х годов, которыми пользовался В. О. Ключевский, не только вполне соответствуют стандартам литературного русского языка своего времени, но богаты идиомами, нередко почерпнутыми из фольклора, приведенными к месту пословицами, бытовыми словечками, показывающими, что к концу жизни императрица владела русским языком вполне свободно, если не считать акцента, от которого она так и не смогла избавиться в устной речи.
(обратно)283
Екатерина была троюродной сестрой Петра III.
(обратно)284
Госпожа Помощь (фр.).
(обратно)285
Российский историк О. А. Иванов выдвинул версию о том, что это, третье по счету, из известных писем А. Орлова Екатерине из Ропши подделано Ф. В. Ростопчиным (оно было передано им в 1812 году великой княгине Екатерине Павловне, сестре Александра I). Ход рассуждений О. А. Иванова вполне логичен и доказателен за исключением одного обстоятельства — мотивы действий Ф. В. Ростопчина, глубоко уважавшего А. Г. Орлова, остаются неясными.
(обратно)286
Вопрос о том, кто был отцом Павла — Петр III или Сергей Салтыков давно уже является предметом дискуссий. С 1905 года, после отмены цензуры в России, в них включились и отечественные историки, хотя принципиального значения ответ на этот вопрос, на наш взгляд, не имеет. Готский альманах, наиболее авторитетный источник по генеалогии монархов Европы, считает, что, начиная с Екатерины, Россией правила побочная ветвь династии Романовых — Романовы-Голштейн-Готторпы. Существенно и то, что даже в случае достоверного подтверждения отцовства Петра III (скажем, путем сравнения его ДНК с генетическим кодом Павла) точка зрения экспертов по генеалогии не изменится. Они и сейчас исходят из того, что Петр III — отец Павла, руководствуясь общепринятым принципом легитимности продолжения династии в случае, если царствующий монарх официально не объявлял своего ребенка незаконнорожденным (известно, что Петр III имел такое намерение и даже беседовал на этот счет с С. Салтыковым, но никаких официальных заявлений не сделал или не успел сделать).
Тем не менее историки продолжают заниматься семейными тайнами Романовых. Это важно, к примеру, для прояснения мотивов династической политики Екатерины II, оценки ее личности, достоверности «Мемуаров», остающихся уникальным источником сведений о политике и придворной жизни эпохи Елизаветы Петровны. В 1998 году парижским издательством «Перрен» опубликована книга Марины Грей, известной во Франции писательницы и историка (она — русского происхождения, дочь генерала Деникина) под названием «Павел I. Незаконнорожденный царь». Проведя сравнение сохранившихся портретов Петра III, Павла и С. Салтыкова в возрасте 23–25 лет, а также их психологических характеристик, она, как, впрочем, и многие исследователи, занимавшиеся этим вопросом ранее, не смогла прийти к однозначному выводу о том, кто был отцом Павла. Вместе с тем, М. Грей обращает внимание на сходство поздних портретов Павла с описанием внешности старшего брата Салтыкова — Петра, которое приводит Екатерина в своих мемуарах (большие глаза, вздернутый нос) — M. Grey «Paul I. Le tsar bâtard, 1754–1801», Paris, Perrin, p.p.102–106.
(обратно)287
Граф Игнатий Потоцкий — один из составителей польской конституции 3 мая 1793 года; Юлиан-Урсул Нимцевич — адъютант Костюшко.
(обратно)288
Так в тексте.
(обратно)289
Российский государственный исторический архив, ф.796, оп.77, д.536, л.2.
(обратно)290
Российский государственный архив древних актов, ф.248, д.7478.
(обратно)291
Ф. Головкин «Двор и царствование Александра I». М., 1912, стр.112.
(обратно)292
Архив внешней политики Российской империи, ф. «Внутренние коллежские дела», оп.2/6, д.5550, «Церемониал, высочайше конфирмованный Его императорским величеством», лл.1–4.
(обратно)293
Российский государственный исторический архив, ф.473, оп.1, д.202, лл.15–16об.
(обратно)294
Более детально эта мысль развита в статье историка О. А. Иванова «Павел — Петров сын?», лучшем на сегодняшний день исследовании вопроса о том, кто был отцом Павла I — О. А. Иванов, В. С. Лопатин, К. А. Писаренко «Загадки русской истории. XVIII век», М., 2000, стр.153–249.
(обратно)295
РГИА, ф.473, оп.1, д.202, л.75–75об.
(обратно)296
Там же, лл.75об.-76об.
(обратно)297
РГИА, ф.473, оп.1, д.202, л.77–79.
(обратно)298
РГИА, ф.473, оп.1, д.202, лл.32–33.
(обратно)299
«Описание печальной процессии…», хранящееся в Государственном историческом архиве (полный текст его публикуется в приложении), подводит черту под легендой, часто повторяемой, к сожалению, как историками Екатерины, так и романистами, согласно которой Павел, приказывая Орлову принять участие в перезахоронении Петра III, хотел тем самым в унизительной форме напомнить о его участии в перевороте 28 июня и «ропшинском деле». Простое перечисление лиц, которые несли короны, показывает, что это было скорее почетным, чем унизительным поручением. Таврическую корону нес обер-гофмейстер Н. П. Румянцев, Сибирскую — граф П. В. Завадовский, Астраханскую — генерал-аншеф граф О. М. Штакельберг, а Большую императорскую — вице-канцлер князь А. Б. Куракин. Существенно и то, что А. Г. Орлов участвовал только в переносе тела Петра III в Зимний дворец. Среди участников церемонии двойного захоронения Петра III и Екатерины II его имя не значится.
(обратно)300
РГИА, ф.473, оп.1, д.202, лл.83–85об.
(обратно)301
«Сочинения Екатерины II» под редакцией академика А. Н. Пыпина, т. XI, СПб, 1906; Сборник РИО, т.42, СПб, 1896 г.
(обратно)302
ГАРФ, ф.728, оп.1, д.216, лл.24–27.
(обратно)303
Шарль Жан Франсуа Эно (1685–1770 гг.), президент парижского парламента, историк и поэт.
(обратно)304
Речь идет о продолжавшейся русско-турецкой войне 1787–1792 гг.
(обратно)305
Здесь и далее выделенные слова в оригинальном тексте зашифрованы (дешифрант написан поверх шифра).
(обратно)306
Австро-турецкий «субсидный» договор, подписанный австрийским послом в Константинополе Тугутом в июле 1771 г., был дезавуирован канцлером Кауницем в декабре того же года, хотя австрийцы действительно успели получить первый платеж из согласованной суммы субсидий.
(обратно)307
РГАДА, ф.1, д.52, лл.6–8, черновик. Документ представляет собой текст на трех листах обычного формата с оборотами, без полей; написан собственноручно Павлом Петровичем незадолго до отъезда в путешествие по Европе. Имеются многочисленные исправления и зачеркивания. Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации оригинала.
(обратно)308
Так в тексте.
(обратно)309
Панин П. И. (1721–1789) — генерал-аншеф, брат Н. И. Панина.
(обратно)310
Голицын А. М. (1718–1789) — фельдмаршал, член Государственного совета.
(обратно)311
Румянцев-Задунайский П. А. (1725–1796) — фельдмаршал, генерал-губернатор Малороссии.
(обратно)312
Чернышов З. Г. (1722–1784) — фельдмаршал, генерал-губернатор Белоруссии.
Чернышов И. Г. (1726–1797) — вице-президент, затем (с 1796 г.) президент Адмиралтейств-коллегии.
(обратно)313
Брюс Я. А. (1732–1791) — генерал-аншеф, генерал-губернатор обеих столиц и главнокомандующий в Москве (с 1773 г.).
(обратно)314
Репнин Н. В. (1734–1801) — видный военный деятель и дипломат, фельдмаршал (с 1796 г.).
(обратно)315
Разумовский К. Г. (1724–1805) — последний гетман Малороссии (до 1764 г.), затем — фельдмаршал.
(обратно)316
Долгорукий-Крымский В. М. (1722–1782) — генерал-аншеф, главнокомандующий в Москве (с 1780 г.).
(обратно)317
Вадковский Ф. И. (ум. в 1789 г.) — генерал-аншеф, подполковник Семеновского полка.
(обратно)318
Чичерин (1721–1785) — генерал-майор, губернатор Сибири (с 1763 г.), известен жестокой регламентацией административных порядков и быта жителей своей губернии.
(обратно)319
АВПРИ, ф. «Варшавская миссия», оп.80, д.1414, лл.1–14. Название «Записка разговора…» значится на отдельном титульном листе, по-русски. Судя по ошибочному определению времени и места разговора (Павел виделся со Станиславом-Августом, начиная в сопровождении супруги свою поездку по Европе под именем графа и графини Северных, в Вишневце, имении графов Мнишеков, 12 (23) октября 1781 г. — «Маршрут путешествия Их императорских высочеств от Царского Села до Вены» — ГАРФ, ф.828, оп.1, д.1021, лл.7–7об.) — титульный лист был приобщен к тексту позднее.
Текст на 14 полулистах, с оборотами, написан по-французски. В левом верхнем углу первой страницы — «Note des choses les plus remarquables, que le Grand Duc m’a dit» («Запись наиболее примечательных высказываний Великого князя в разговоре со мной»).
Чуть ниже, на полях написано по-русски «Записка». Все листы проштампованы гербовой печатью Государственного архива МИД Российской империи.
(обратно)320
Судя по характеру текста, приводимый документ был составлен третьим лицом со слов короля Польши Станислава-Августа.
(обратно)321
Иосиф II — император Священной римской империи германской нации (1765–1790 гг.).
(обратно)322
Речь идет об обсуждении Екатериной и Иосифом в ходе их свидания в Могилеве в 1781 г. планов войны против Турции.
(обратно)323
«Греческий проект» Екатерины II.
(обратно)324
В ходе празднований летом 1775 г. в Москве по случаю годовщины подписания Кучюк-Кайнарджийского мира популярность Павла в народе заметно превосходила популярность Екатерины.
(обратно)325
А. К. Разумовский, близкий приятель Павла и его первой жены Натальи Алексеевны, служил российским посланником в Неаполе. После смерти Натальи Алексеевны в апреле 1776 г. Павлу настойчиво внушали, что Разумовский состоял с его женой в интимной связи.
(обратно)326
Сакен — бывший наставник и друг Павла.
(обратно)327
О. М. Штакельберг — посол России в Варшаве с осени 1772 г.
(обратно)328
Речь идет о холодном приеме, который был оказан наследному принцу Пруссии Фридриху-Вильгельму во время его визита в Петербург в 1780 г.
(обратно)329
А. П. Мусин-Пушкин (1735–1804) — генерал-аншеф и генерал-адъютант с 1783 г., вице-президент Военной коллегии с 1788 г., член Совета с 1787 г., во время русско-шведской войны 1788–1791 гг. командовал русскими войсками в Финляндии. Екатерина невысоко оценивала его способности как полководца.
(обратно)330
Г. А. Потемкин-Таврический (1739–1791), Светлейший князь с 1776 г., Екатеринославский и Таврический губернатор, фельдмаршал и президент Военной коллегии с 1789 г. Главнокомандующий во время русско-турецкой войны 1787–1792 гг.
(обратно)331
Н. И. Салтыков (1736–1816), граф, вице-президент Военной коллегии, гофмейстер двора великого князя Павла Петровича с 1773 г.
(обратно)332
Фридрих II (1712–1786).
(обратно)333
Густав III (1746–1792).
(обратно)334
А. А. Безбородко (1747–1799) — граф Римской империи с 1785 г., с 1775 г. — кабинет-секретарь Екатерины, член Коллегии иностранных дел с 1780 г.
(обратно)335
П. В. Завадовский (1739–1812) — с 1775 г. — кабинет-секретарь Екатерины, затем — действительный тайный советник, член Государственного совета.
(обратно)336
И. Г. Чернышев (1726–1797), граф, вице-президент Адмиралтейств-коллегии с 1769 г.
(обратно)337
А. Р. Воронцов (1741–1805), граф, президент Коммерц-коллегии с 1773 г., с 1787 г. — член Государственного совета.
(обратно)338
Великие князья Александр и Константин.
(обратно)339
Великие княжны Александра, Елена и Анна Павловны.
(обратно)340
Л. Кобенцель — посол Австрии в Петербурге.
(обратно)341
Л.-Ф. де Сегюр — посол Франции в Петербурге.
(обратно)342
К. Нессельроде — советник российского посольства в Берлине.
(обратно)343
А. Б. Куракин (1752–1818), князь, воспитывался вместе с великим князем Павлом Петровичем, камергер, обер-прокурор Сената с 1778 г., с 1782 г. был удален от двора и жил в своем именье Надеждино Саратовской губернии.
(обратно)344
Келлер — посланник Пруссии в Петербурге.
(обратно)345
Ф. Ф. Вадковский (1756–1808) — с 1785 г. камергер, состоял при «малом дворе», с детских лет пользовался расположением Павла Петровича.
(обратно)346
И. И. Шувалов (1727–1797) — фаворит императрицы Елизаветы Петровны, меценат, учредитель Академии художеств и куратор Московского университета, с 1762 по 1777 гг. находился за границей.
(обратно)347
А.-Ю. Бенкендорф (урожденная баронесса Шиллинг фон Канштадт, 1758–1797) — подруга детства великой княгини Марии Федоровны.
(обратно)348
Х. И. Бенкендорф (1742–1823) — подполковник, муж А.-Ю. Бенкендорф, состоял при «малом дворе».
(обратно)349
Иосиф II (1741–1790), император Германской империи.
(обратно)350
М. П. Румянцев (1753–1811) — граф, старший сын фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского, во время русско-шведской войны находился в Финляндской армии в чине генерал-поручика.
(обратно)351
А. М. Дмитриев-Мамонов (1758–1803) — граф, фаворит Екатерины в 1786–1789 гг., генерал-адъютант с 1788 г.
(обратно)352
Ш.К. фон Ливен (1743–1828) — вдова генерала А. Р. Ливена, воспитательница великих княжон, дочерей Павла Петровича.
(обратно)353
К. И. Остен-Сакен — барон, преподаватель великих князей Александра и Константина.
(обратно)354
И. В. Тутолмин (1760–1839) — кавалер двора великого князя Александра.
(обратно)355
Лафермьер — библиотекарь Марии Федоровны.
(обратно)356
Копии личных писем Л.-Ф. Сегюра найдены в фонде «Секретнейшие дела» (перлюстрация) Архива внешней политики Российской империи. Все письма нешифрованы, их общее количество — около 200 за период с февраля 1785 по октябрь 1789 г. Архивные шифры приводятся в конце русских переводов документов. Переводы писем сделаны И. В. Григорашем. Французские тексты воспроизводятся с сохранением орфографии оригинала.
(обратно)357
Временный поверенный в делах Франции в Петербурге.
(обратно)358
Принц Генрих, брат прусского короля Фридриха II.
(обратно)359
Речь идет о Жанне де ля Мотт и знаменитом деле об ожерелье, купленном для Марии-Антуанетты кардиналом де Роганом.
(обратно)360
Посол Испании в России.
(обратно)361
О. М. Штакельберг — посол России в Польше.
(обратно)362
Ш. Г. Верженн, министр иностранных дел Франции.
(обратно)363
Речь идет о поездке Екатерины II по Вышневолоцким каналам.
(обратно)364
И. А. Остерман, вице-канцлер.
(обратно)365
Ф.-М. Гримм, издатель «Литературной корреспонденции» и многолетний корреспондент Екатерины II.
(обратно)366
Ш.-Ж. Де Линь, бельгийский аристократ, в то время генерал австрийской службы, друг и корреспондент Екатерины II.
(обратно)367
Суперинтендант финансов.
(обратно)368
Одна из дочерей Сегюра.
(обратно)369
Английский посол в Петербурге.
(обратно)370
Совладелец парижской ювелирной фирмы, пострадавшей по делу об ожерелье.
(обратно)371
С. Г. Зорич (1745–1799) — генерал-лейтенант, фаворит Екатерины в 1777–1778 гг., ко времени приезда Сегюра в Россию жил в отставке в Шклове.
(обратно)372
Секретарь французского посольства в Петербурге.
(обратно)373
Сегюр рассчитывал на перевод в Стокгольм, куда предполагалось перевести из Константинополя графа Шуазеля-Гуфье.
(обратно)374
Братья Людовика XVI.
(обратно)375
Министр иностранных дел Франции.
(обратно)376
Л. Кобенцель — посол Австрии в Петербурге.
(обратно)377
АВПРИ, ф. «Внутренние коллежские дела» 1796–1798 гг., оп.2/6, д.906, лл.217–226 (с обор.).
(обратно)378
На голубой ленте носился шведский орден Серафимов.
(обратно)379
ГАРФ, ф.860, оп.1, д.11, лл.1–7об.
(обратно)380
Российский государственный исторический архив, ф.473, оп.1, д.202, лл.15–16об.
(обратно)
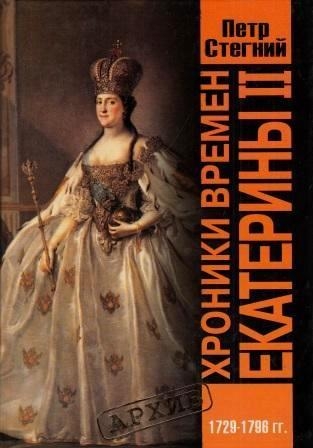






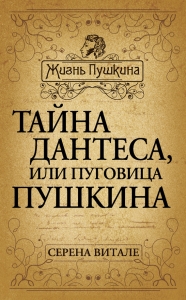
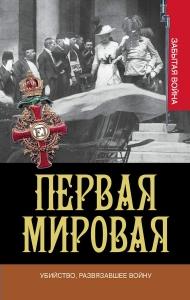
Комментарии к книге «Хроники времен Екатерины II. 1729-1796 гг.», Пётр Владимирович Стегний
Всего 0 комментариев