Игорь Ефимов ДЖЕФФЕРСОН
Часть первая. РАЗЛАД
ДЕКАБРЬ, 1768. ШЕДУЭЛЛ, ВИРГИНИЯ
За мостом дорога сворачивала направо, огибала чёрную дубовую рощу и возвращалась к реке. Кое-где у берега с ночи удержался тонкий ледяной припай, его прозрачные лезвия там и тут нависали над несущейся водой. Видимо, заморозок был сильным. Даже грязь на дороге стала такой твёрдой, что копыта коней не оставляли на ней следов.
Вся кавалькада растянулась на добрую сотню ярдов. Впереди маячили высокие тульи старомодных шляп — там ехали поселенцы с западной границы. Каждый раз, являясь на выборы в Шарлоттсвилл, они держались с важной торжественностью, говорили негромко, избегали жевать табак, сквернословить, и даже даровая выпивка, выставляемая кандидатами, не могла пробить их чопорности. Местные фермеры вели себя куда развязнее. Они окружили пегую лошадку сына трактирщика, Джона Джута, и хриплыми голосами подпевали ему: «Эх, был я одинок, звенел мой кошелёк, хочу быть всегда одинок». Ещё громче их, задирая к небу красные лица и обросшие щетиной кадыки, горланили охотники за пушниной. Права участвовать в выборах у них не было (по закону избиратель должен был иметь хотя бы 50 акров земли), но, чёрт побери, они тоже были честными виргинцами и имели все основания отпраздновать наравне с прочими избрание этих славных сквайров — мистера Уокера и мистера Джефферсона — в Законодательное собрание колонии. Охо-хо, уж эти не дадут спуску зарвавшимся британцам! Они покажут им, какое это небезопасное дело — тянуть через весь океан свою загребущую лапу, чтобы запустить её в карман свободным людям.
Несколько индейцев, приехавших в городок за солью и порохом, были так захвачены общим возбуждением, что тоже пристали к кавалькаде и теперь трусили рядом с новоизбранными «вождями белых». Грубошерстные плащи спускались почти до мокасин, кое-где мерцали карминной вышивкой. Из лошадиных ноздрей вырывались короткие столбы пара.
Джефферсон оглянулся, отыскал взглядом молодых Уокеров и помахал им рукой. Они оба тотчас привстали в сёдлах, заулыбались, замахали в ответ. Джон что-то крикнул, но из-за гвалта, поднятого фермерами, слов было не разобрать. Лицо Бетси Уокер с высоко поднятыми бровями, с приоткрытым в улыбке ртом светилось тем требовательным ожиданием каких-то неведомых маленьких чудес, тем нетерпением зрителя перед опущенным занавесом, которое так больно задело его уже несколько лет назад, когда он был шафером на их свадьбе. Раньше это постоянно лучащееся из неё ожидание отзывалось в нём порой чувством тревоги, он боялся празднично-разрушительных порывов, ответно просыпавшихся в нём, боялся за целостность сложившегося уклада, за дорогую ему рутину их дружной и спокойной провинциальной жизни. Но теперь, после того, что произошло между ними летом, во время отлучки Джона, он каждый раз улавливал в её улыбке: «Видите, мы уцелели, слышали пение сирен и остались в живых» — и счастливо улыбался ей в ответ. Чувство вины перед Джоном если и было (но за что? за минутный порыв? за волшебное «ах, если бы»?), то где-то глубоко, скрытое под ощущением полноты бытия, накатывавшим на него последний год с каждым утром нового дня.
Если доводилось ему спрашивать самого себя, счастлив ли он, то чаще всего отвечал «да», всё-таки счастлив.
Счастлив не только молодостью, здоровьем, богатством, почтительной приязнью друзей и соседей, не тем, что в свои 25 лет оказался среди тех, кто управляет колонией, а главное тем, что за такую короткую жизнь выпало ему так много и горячо любить в окружавшем его мире. Он любил эту бурлящую в камнях реку, облетевший лес, полоску расчищенного поля и те острия зелёных всходов, которые появятся на нём весной, любил свой дом, выплывающий вдали из-за холма, стены кабинета в нём, закрытые кожано-золотыми рядами книг, слабый запах лака, шедший от футляра со скрипкой. Он любил буйное веселье ехавшего кругом люда, эту смесь разнузданности и достоинства, их задубелые лица и мелькавшее среди них нежное высокобровое лицо Бетси Уокер, и лица других женщин, запавшие ему в память, томившие по ночам, и особенно лицо Ребекки Барвел, из-за которой он столько намучился когда-то, и этот бумажный силуэт, который она подарила ему, и он носил его под крышкой часов, пока часы не попали под дождь и бумага не расползлась — такое было горе.
Странное, едва уловимое внутреннее сродство порой чудилось ему во всём, чем он дорожил в этой жизни, что любил.
Будто за столь непохожими внешними обличьями скрывалось некое единое мировое действо, тайная внутренняя суть, состоявшая в вечном противоборстве гармонии с хаосом, стройности с разладом, законосообразности с произволом. Хаос мог быть прёодолён возделанным полем, поэмой, плодоносным садом, справедливым законом, прекрасным человеческим обликом; мог, наоборот, восторжествовать — засухой, разрушением, бездарностью, внешним безобразием, бессмысленным насилием, смертью. За всю жизнь Джефферсон не мог вспомнить случая, когда в этой смутно угадываемой вечной борьбе он почувствовал бы себя на стороне хаоса.
Ему уже пришлось столкнуться вплотную с ужасом и страданием — в 14 лет он схоронил отца, в 22 — любимую сестру. Жестокость белых по отношению к чёрным видел с детства, видел хладнокровное беззаконие, отнимавшее у индейцев землю пядь за пядью, почти физически ощущал те невидимые щупальца, которые тянулись сейчас из далёкого города на Темзе, из-за которых им всем становилось труднее дышать. Но всё это подступало к нему тем открыто чуждым, враждебным и ненавистным, с чем он готов был, с чем чувствовал в себе силы бороться до конца дней своих.
Хуже было, когда любимое и чуждое сливались неразрывно в чём-то одном.
Например в близком человеке.
Тогда разлад мира словно переносился в собственное сердце и сидел там болезненным пятном. По мере приближения к воротам Шедуэлла одно из таких пятен в душе Джефферсона, то, которое было связано с матерью, ныло всё сильнее.
— …Нет, брат Логан, у белых всё не так просто, — втолковывал мистер Уокер ехавшему рядом с ним старейшине индейцев. — Наша ассамблея, которая соберётся весной в Уильямсберге, конечно, похожа на ваше собрание вождей. Но тот, кого мы — я и мистер Джефферсон и представители других графств — выберем в качестве главного, не будет обладать очень большой властью. Он будет следить за порядком в нашей палате, за тем, чтобы говорили по очереди и спорили вежливо, а не ругались непотребными словами и уж тем более не дрались. Мы называем такого человека «спикер». Спикер палаты представителей.
— Значит, главным вождём останется толстяк, сидящий во дворце?
— Губернатор Фуке, упокой Господи его душу, умер недавно.
— Говорят, он целыми днями играл на этой штуке, которую зажимают под подбородком, а по ночам бросал кости в тавернах.
— Что говорить, его светлость поигрывал не только на скрипке. Но был при этом человеком добрым и весьма, весьма учёным. Сейчас прибыл новый губернатор, барон Ботетур.
— Вы хотите избрать его главным вождём?
— Мы не избираем губернаторов, брат Логан. Их присылает его величество английский король.
— Брат Уокер, я учился в вашей школе для индейцев в самом Уильямсберге. Я могу понимать вашу речь и могу понимать, что написано на бумаге. Но этого я понять не мог никогда. Разве английский король завоевал вас? Вы платите ему дань?
— Не то чтобы дань, но некоторые налоги идут в пользу короля. Например, мы оплачиваем содержание губернатора, его свиты, его дворца. Мы содержим также священников, присылаемых из Лондона, хотя, честно сказать, не всем они по вкусу.
— Но зачем?!
— Ты помнишь, как мы расколошматили французов пять лет назад? Война тянулась семь лет, но в конце концов мы разбили их и прогнали отовсюду. Думаешь, одни мы смогли бы победить? Без помощи британцев?
— Моё племя помогало вам в этой войне.
— Французам помогали другие племена. Сегодня вы за нас, завтра переметнётесь — на вас надежды мало. Но пока мы остаёмся под властью и покровительством английского короля, никто не сможет напасть на нас безнаказанно. Наши берега защищает всей своей мощью британский флот. Наш табак, хлопок, мех, мука спокойно переплывают океан, взамен к нам приплывают лучшие вещи, какие только научились делать белые на своей родине.
— Да, это так. Вы умеете делать очень хорошие вещи. Прочные, красивые, полезные. Истина в словах твоих, и я не в силах с ней спорить.
Похоже, индеец был рад предлогу вежливо закончить разговор.
Но вскоре жена померла как на грех, —распевал Джон Джут, —
Не скрою, неделю душил меня смех. На кладбище вёз — смеялся до слёз, Я снова остался один, ну их всех! Потом я женой обзавёлся другой, Как будто мне бед не хватало с одной. Заснул-то с женой — а встал с сатаной, И рад был хотя бы тому, что живой. Юнцы и мужчины, столпитесь вокруг! Бесценный совет даст вам истинный друг: Вы с первой женой обращайтесь добрей, Страшней будет втрое вторая — ей-ей!Поселенцы с западной границы уже въезжали в раскрывавшиеся навстречу ворота Шедуэлла. Юпитер пятился от них через двор, то вздевая чёрные руки к небесам, то хватаясь за голову в деланом испуге. Угощение было накрыто в большом амбаре на длинных столах, и две негритянки, изогнувшись в талии, как раз вносили туда дымящийся котёл с варёной олениной.
— Масса Том, масса Том! — Юпитер подхватил у спешившегося Джефферсона поводья и пошёл рядом, жуя табак и кивая головой в сторону верхних окон бокового флигеля. — Хозяйка очень просила-велела зайти к ней. Сразу, как только приедет, пусть поднимется ко мне — вот что она просила-велела.
Джефферсон подождал, пока гости заполнят амбар, попросил Уокера-старшего начать пир без него и незаметно ушёл в сторону флигеля. Поднимаясь по лестнице, привычно пригибая в опасных местах голову, он подумал, что вся путаница его отношений с матерью ни в чём не отразилась так полно, как в этом глаголе, придуманном Юпитером, — просила-велела. Хотя сын распоряжался всеми работами по дому и в имении, большая часть рабов оставалась собственностью матери, и если она не находила кого-то на месте (молодой хозяин послал работать на дальнее поле), то обижалась до слёз. Болезненное пятно в груди сгустилось, затвердело, но где-то рядом с ним возникла слабая надежда — он гнал её, не разрешал себе принимать всерьёз и в то же время не мог не надеяться, что хотя бы на этот раз, хотя бы в такой день ему не надо будет прятаться от матери за стеной холодной вежливости. В конце концов, разве не могла она звать его просто для того, чтобы поздравить с победой на выборах?
Миссис Джейн Рэндольф Джефферсон сидела на кушетке у окна, далеко отставив руку с раскрытым томиком Фиддинга. Отяжелевшие книзу щёки придавали её всё ещё красивому лицу постоянно скорбное выражение. Красные глаза и мокрый комочек платка на коленях ясно показывали, что речь пойдёт отнюдь не о поздравлениях.
— Я хотела вас спросить, Томас, — сказала она, откладывая книгу и снова беря в руку платок, — хотела спросить и получить искренний ответ: чем заслужила я подобную обиду?
— О какой обиде вы говорите, маман?
Джефферсон почувствовал, что губы его сами собой стянулись в сухую, жёсткую черту, а глаза сощурились так, что узор кружевного воротника на платье матери, переплёт окна, черепица на крыше амбара за ним — всё расплылось, подёрнулось дымкой.
— Умоляю, хотя бы на этот раз не делайте вид, будто вы нанесли мне рану непреднамеренно. Не усугубляйте жестокость лицемерием.
— И всё же я прошу вас выразиться яснее.
— Вы хотите сказать, что уже не помните оскорбительных записей, сделанных вами в своей расходной книге. «Уплачено доктору Эллису 8 фунтов за нанесённый вам визит». «Уплатил вместо вас Джилю Аллегре 4 фунта». Записать такое и с терпеливым злорадством ждать моей реакции. О, как вы не похожи на своего отца!
— Маман, я записываю все траты наличными — на вас, на себя, на сестёр. Абсолютно все траты, вы прекрасно это знаете.
— Но раньше вы всегда писали «для миссис Джейн Рэндольф». Что значит это прямое обращение на «вы»? Что вы хотели им сказать? Вы вознамерились попрекнуть меня тем, что я заглядываю в ваши расходные книги? Но я владею большей половиной имения и я имею полное право как мать и совладелица проверять ваши расходы.
— Мне бы и в голову не пришло отказать вам в этом праве, если б вы обратились ко мне открыто.
— Но есть же понятия такта, душевной тонкости, щепетильности.
— Видимо, мы по-разному их понимаем.
— Значит, вы запрещаете мне проверять ваши книги?
— Я не хочу и не могу запрещать вам что бы то ни было. Я просто искал способ показать вам, что ваш тайный контроль надо мной не является тайной и что он мне неприятен. Особенно в моём нынешнем положении.
— Что это за «нынешнее положение»?
— Маман, ваш сын сегодня был избран в ассамблею колонии Виргиния от графства Албемарл. Честно сказать, я наивно полагал, что вы позвали меня лишь для того, чтобы поздравить с этим событием.
— Ах, ну о чём говорить — я поздравляю вас и желаю успеха. Воображаю, чего вам это стоило. Улыбаться всякому простолюдину, сносить их шутки, их пение, их запах, изображать приветливость и дружелюбие. Для человека вашего вкуса и воспитания это должно быть мучительно.
— Да ничуть не бывало, уверяю вас.
Нет-нет, не уверяйте, я всё равно не поверю. Тот, кто читает Гомера в подлиннике, знаком с музыкой Вивальди и Пёрселла, принят во дворце губернатора, не может не страдать от наших дурацких обычаев, от необходимости заискивать перед чернью. Что у вас общего с этим сбродом? Вы просто умеете держать себя в руках, и за это я восхищаюсь вами. Мне бы такое было не под силу.
Джефферсон подумал, что порой даже похвала матери оставляет тяжёлый осадок в его душе.
— Значит, вы не выйдете к моим гостям?
— Нет, мой друг, увольте. Ваши язвительные записи в книге расстроили меня глубже, чем вы думаете. Если Уокеры захотят меня повидать, пусть поднимутся сюда. Остальным скажите, что я прихворнула — это будет почти правдой.
Она вытерла последний раз глаза, улыбнулась ему страдальческой улыбкой и отпустила кивком головы.
Амбар встретил его гомоном, табачным дымом, головокружительной смесью запахов — сапожной мази, кожаных ремней, пота, мясного соуса, свечного чада. Бетси Уокер разливала пунш и, завидев его, послала ему большой, полный до краёв кубок — он проплыл по рукам к почётному концу стола, и под взглядами десятков требовательных и смеющихся глаз Джефферсону не оставалось ничего другого, как осушить его за здоровье гостей.
Сразу стало легко и жарко, болезненное пятно в груди начало уменьшаться, таять и вскоре почти пропало. Он обводил взглядом лица сидевших, кивал или махал рукой тем, кого знал лично и помнил по именам. Вот сидит Гордон Кольер, которому он помог отсудить у богатого отчима полоску земли. Вон Дэвид Фройм, просивший как-то возбудить дело о клевете против соседа — тот якобы видел его, женатого человека, в постели с другой женщиной. (До суда дело решено было не доводить — уж слишком красочные подробности знал злодей-сосед.) А вон старый Томбол, хорошо помнивший ещё его отца, землемера Питера Джефферсона, составлявшего карту западной границы колонии и нарезавшего новым поселенцам их участки. И этого одноглазого охотника он видел не раз в суде, в Шарлоттсвилле. Являясь туда, охотник обычно требовал, чтобы ему заплатили за убитого волка премию не в 70 фунтов табака, а вдвое больше, как за матёрого, кипятился, показывал зубы мёртвого зверя, бил себя в грудь, а когда его выставляли из здания суда, шёл в таверну и с гордостью рассказывал, какие дошлые клерки в суде — даже ему не удалось провести их.
«Что у меня общего с ними? — с горечью вспомнил Джефферсон слова матери. — Она прожила здесь почти всю жизнь и осталась чужой, и я должен пытаться объяснять ей то, что для меня просто, как воздух».
По адвокатской привычке он пытался выстроить свои мысли в яркую защитительную речь, но хмель уже кружил ему голову, и никак не удавалось уловить то главное, что он почувствовал сейчас, — вот это глубокое сердечное сродство и свою связь с разношёрстной толпой, пировавшей под его крышей. Ну да, конечно, их связывали земля, на которой они жили, и одинаковые заботы о том, как примется в этом году табак и пшеница, и не снесёт ли разлившаяся Риванна мельницы, и найдут ли уголь и железную руду на Северном ручье, и не нагрянет ли оспа или лесной пожар или какая другая беда, и какие будут цены на скот, и как уродятся яблоки для бренди, и сколько будут скупщики платить за пушнину, и всё другое, из чего плелась их повседневная жизнь в этом полудиком краю. Но кроме этого, роднило их ещё нечто неуловимое, то, чего ему порой так не хватало в изящном губернаторском дворце, — независимая повадка, вызывающий, насмешливый и уверенный взгляд, отсутствие подобострастия к кому бы то ни было. Словно каждый точно знал, что, богатый ли, бедный ли, он наделён от рождения — хвала Господу! — свободной и бессмертной душой, и так велик этот главный дар, что рядом с ним все различия по знатности, богатству, престижу лишь маловажные довески, и поэтому жалким и ничтожным можно считать только того, кто не видит и не ценит этого главного дара в себе и других.
— Достопочтенный мистер Уокер, досточтимый мистер Джефферсон! — Джон Джут, отложив в сторону гитару и отирая с подбородка олений жир, поднялся с кружкой в руке во весь свой гигантский рост. — Много уже говорилось о том, но дозвольте сказать вам ещё раз. Мы все хорошо знаем вас, знаем, что вы джентльмены учёные и справедливые, потому и выбрали вас заседать от нашего графства в Уильямсберге. И всякому закону и налогу, который вы там решите принять, мы подчинимся без слова. Но те лорды и джентльмены, которые сидят за три тысячи миль отсюда в лондонском парламенте, — их мы не выбирали, мы знать их не знаем и, если они опять решат обложить нас налогом, мы не заплатим им ни пенса. Верно я говорю, ребята?
— Верно!
— В самую точку!
— Складно сказано, Джут!
— Ни пенса они от нас не получат.
— Сладко поёт паренёк.
— Прямо как под гитару.
— Колонии Виргиния — виват!
— Новым депутатам — виват!
— Поместью Шедуэлл — виват!
Разъезжались засветло, чтобы попасть домой до темноты.
Индейцы, с трудом держась на лошадях, заплетающимися языками требовали от хозяина Шедуэлла поклясться, что он приедет к ним в гости не позже весны.
Одноглазый охотник обещал добыть для него таких бобров, каких не подносили и губернатору.
Уокеры отбыли все вместе. Сомлевшая Бетси ехала рядом с мужем, почти повиснув у него на плече, и при виде этой нежной сцены Джефферсон почувствовал, как мысль о собственном одиночестве прорвалась сквозь нестойкий хмель и кольнула душу привычной иглой.
Зима, 1769
«Осенью в Бостон прибыли таможенные чиновники из Великобритании и высадились первые войска. Вернувшись, я видел, что город полон солдат. Всю зиму полк майора Смола устраивал маршировки как раз напротив моего дома. Резкий звук барабана и пронзительный свист флейты будили меня и мою семью каждое утро очень рано, и возмущение, вызываемое ими, лишь отчасти сглаживалось серенадами, которые устраивали в мою честь Сыны свободы по вечерам. Само появление солдат в Бостоне было весьма веским доказательством того, что намерение Великобритании согнуть нас и заставить платить пошлину за ввоз было серьёзным и неизменным: все наши протесты и действия истолковывались превратно, и ничто из сказанного нами не вызывало доверия».
Джон Адамс. АвтобиографияВесна, 1769
«В течение ста пятидесяти лет своего существования Американские колонии пользовались правом облагать налогом своих жителей только с согласия своих законодательных собраний. Если и бывали исключения из этого правила, то весьма незначительные. В войне 1755 года, события которой были ещё у всех на памяти, парламент ни разу не попытался затребовать у колоний людей или денег без их согласия. Вклад колоний в благосостояние империи осуществлялся за счёт того, что они подчинялись законам, предоставлявшим Великобритании монопольные права на торговлю с ними. К этому времени британский экспорт в Америку оценивался в 6 миллионов фунтов стерлингов, то есть около трети всей её внешней торговли».
Дэвид Рэмси. История Соединённых ШтатовАпрель, 1769
«Поскольку становится всё очевиднее, что наши сиятельные владыки в Великобритании не успокоятся, пока окончательно не лишат Америку её вольностей, нам необходимо что-то предпринять для того, чтобы отвести удар и отстоять свободу, унаследованную от наших предков. Вопрос лишь в том, каким путём можно вернее достичь желаемого. Я глубоко убеждён, что ни один человек не поколеблется поднять оружие для защиты столь бесценного дара, без которого всё в жизни, как доброе так и дурное, теряет смысл. И всё же, позвольте мне заметить, оружие должно быть последним, самым крайним средством. Мы испробовали уже обращения к трону, протесты, петиции парламенту и убедились в их бесполезности. Остаётся посмотреть, не станет ли правительство внимательнее к нашим правам и привилегиям, когда мы начнём подрезать доходы метрополии от торговли с нами».
Из письма Вашингтона Джордоку Мэйсону17 МАЯ, 1769. УИЛЬЯМСБЕРГ, ВИРГИНИЯ
Ошалелый жук влетел в распахнутое окно, стукнулся о стекло и, упав на подоконник, беспомощно замахал в воздухе лапками. Джефферсон протянул ему палец, он уцепился, влез на ладонь и замер, подставляя солнцу зелёную с металлическим отливом спинку.
Голос оратора глухо доносился из глубины палаты.
Как всегда во время утренних заседаний, все кресла были заняты, и даже на диванах, стоявших вдоль стен, депутаты сидели так тесно, что некоторым доставалось не больше нескольких дюймов сиденья — далеко недостаточная поверхность для осанистых задов. Слушали внимательно, но порой казалось, что за словами говорившего пытались расслышать и что-то другое — какие-то звуки, доносившиеся со стороны лестницы и сверху, где размещались комнаты губернаторского совета. Патрик Генри сидел неподалёку от спикера и, сдвинув на лоб очки, откровенно поглядывал на потолок. Нога закинута на ногу, руки в карманах серого жилета, губа оттопырена — вид у него был самый вызывающий.
Джефферсон попытался вспомнить, носил ли Генри очки уже тогда, когда он впервые увидел его вот в этой же зале четыре года назад. Вестибюль в тот день был забит публикой, явившейся хоть краем уха послушать жаркие дебаты о первой попытке обложения колоний, о гербовом сборе. Красноречие Генри обычно вгоняло слушателей в такой транс, что, оглушённые, они потом с трудом могли пересказать смысл его речи. Но то, что он посмел выкрикнуть тогда, врезалось в память, как врезаются лишь слова, грозящие виселицей говорящему. «Цезарь был остановлен Брутом, Карл Первый — Кромвелем, и Георг Третий…» С разных сторон полетели выкрики: «Измена! Измена!» Генри пришёл в себя и, выдержав паузу, закончил: «И Георг Третий, наш государь, да продлит Всевышний его дни, сумеет извлечь урок из этих печальных примеров».
Поднялся невероятный шум, но в конце концов дело было сделано — резолюция, осуждающая гербовый сбор, прошла большинством в один голос. Джефферсон слышал, как Пейтон Рэндольф, выходя из палаты, пробормотал, отдуваясь: «Мой Бог, за один голос я бы отдал сейчас сотню гиней».
Вчера всё было по-другому.
Резолюция против введённого парламентом налога на импорт была принята почти без возражений. Облагать виргинцев налогом имеет право только местная ассамблея, а отнюдь не парламент — с этим теперь были согласны все. Решено было также выразить свою солидарность колонии Массачусетс, этим смелым бостонцам, вступившим первыми в борьбу с королевскими чиновниками. Петиция к королю была составлена со всеми выражениями почтения и верноподданнических чувств, но завершалась настоятельной просьбой избавить колонистов от «опасностей и несчастий», связанных с новым постановлением лондонского министерства.
Да, четыре года прошло — и палату стало не узнать. Что так изменило всех? То ли волна победного ликования, прокатившаяся по всей стране, когда гербовый сбор был отменён. То ли нетерпеливая горячность молодёжи, занявшей места осторожных стариков, умерших за эти годы. То ли и до самых упрямых консерваторов дошло, наконец, что всякое обложение колоний имело своей целью добыть деньги для содержания регулярных войск, а там, где появятся регулярные королевские войска, говорить придётся тише, голову держать ниже, торговать осторожнее, наживаться умереннее. Так или иначе, палата вчера показала небывалую решимость и единодушие и теперь, борясь с нарастающей духотой и тревогой, ждала, что предпримет в ответ королевский губернатор.
Жук вдруг набрался смелости, поднял зелёные надкрылья и с жужжанием умчался в сторону вязов, окружавших здание нового Уильямсбергского театра. Джефферсон проследил за его полётом, увидел, как тот вспыхнул, вылетев из тени на солнце, и потом растворился в небесной голубизне. Левее театра, внизу тянулось открытое пространство (горожане называли его «биржей»), где в тени парусиновых навесов медленно передвигались группы фермеров, плантаторов, скупщиков табака, судовладельцев, капитанов торговых кораблей, между которыми шныряли стряпчие с письменным прибором под мышкой, готовые тут же оформить любую сделку. Ещё дальше виднелись две ровные полосы молодых тополей — там ближе к вечеру устраивались скачки. По мощёной дорожке, проложенной вокруг театра, прогуливались две дамы, болтая о чём-то под большим розовым зонтом, и, заглядевшись на них, Джефферсон не заметил, как в зал вошёл клерк губернаторского совета.
Спикер палаты, всё тот же неизменный Пейтон Рэндольф, поднялся, молча прочёл послание и объявил:
— Джентльмены, его светлость повелевает нам незамедлительно предстать перед ним. Он ждёт нас в зале губернаторского совета.
Глаза его на минуту задержались на жезле — символе его власти, — лежавшем на столе. Он словно прикидывал, взять его с собой или не стоит; потом с трудом протиснул грузное тело мимо стола и двинулся к выходу. Патрик Генри хлопнул себя по обтянутой чулком икре, лежавшей на колене, вскочил и пошёл за ним. Под грохот отодвигаемых кресел и негромкий гул голосов толпа депутатов выливалась в вестибюль и на лестницу.
Губернатор Ботетур встретил их, стоя под королевским гербом, облачённый в алую мантию, увенчанный парадным париком. Полное лицо его выражало обиду и горечь — «я приехал к вам с лучшими намерениями, с протянутой рукой и открытым сердцем, но вы избрали вражду — теперь пеняйте на себя».
— Джентльмены! — произнёс он. — Мне доложили о злонамеренных постановлениях, принятых вами вчера. Так как они выражают прямое неповиновение английской короне, мне не остаётся ничего другого, как распустить ваше собрание. Поэтому властью, данной мне его величеством, объявляю вам — вы распущены.
Патрик Генри открыл рот и сделал шаг вперёд, но спикер Рэндольф заслонил его собой и почтительно поклонился губернатору. Депутаты молча, один за другим покидали залу совета. На лестнице Джефферсон оказался рядом с Уокером-старшим.
— Знаете, что скажут наши избиратели, мистер Уокер? «Ну и прытких парней мы выбрали на этот раз. Управились со всеми делами за десять дней».
Уокер усмехнулся и сжал ему локоть.
— Это ещё далеко не конец, дорогой Томас. В Аполлоновой зале таверны Рэйли мы разместимся с гораздо большим комфортом, чем здесь, в губернаторском дворце. Запахи с кухни будут, конечно, кое-кого отвлекать, но одновременно не дадут нам быть слишком многословными.
Под полуденным солнцем ракушечник, покрывавший улицу Герцога Глостерского, блестел нестерпимо. Редкие прохожие, застыв на тротуарах, со смесью недоумения и испуга смотрели на вереницу депутатов, шествовавших по теневой стороне. Горожане выглядывали из окон, узнавали идущих, окликали их, переговаривались между собой.
— Мистер Генри, что случилось?
— Куда все идут?
— Губернатор распустил ассамблею? Не может быть.
— Как это «не может быть»? Да я вчера ещё вам говорил, что так оно и будет.
— Дорогой сосед, вы всегда предсказываете только самое худшее.
— Распустил — и они послушались?
— Нет, заседания будут продолжены в таверне.
— Очень подходящее место.
— Воображаю, какие решения могут быть там приняты.
— Если вам не нравится, бегите в губернаторский дворец и заплатите все новые налоги и пошлины за год вперёд.
— Хороший совет! Может, тогда его величество отличит вас и наградит персональным ошейником с цепочкой.
— Соседи, соседи, не ссорьтесь. Коли пришла вам охота разбить друг другу нос или голову, теперь можно не утруждать себя. Приплывут солдаты и сделают это за вас.
В дальнем конце улицы сквозь дымку проступал силуэт Колледжа Вильгельма и Марии. Волнения студенческих лет, первые балы, любовные драмы, записки, мечты о славе, ссоры и примирения с друзьями, борьба с институтским начальством вдруг представились Джефферсону такими далёкими, такими облачно-пустячными по сравнению с тем, что надвигалось на них сейчас, что с каждым днём наливалось где-то вдалеке чернотой, громом, бурей. Впрочем, время ещё было, гроза могла миновать их, пройти стороной, раствориться в мирном мареве майских дней.
Уокер раскланялся с обгонявшим их депутатом, потом, словно что-то вспомнив, придержал того за рукав.
— Мистер Вашингтон, позвольте представить вам моего нового коллегу и доброго соседа — Томаса Джефферсона.
Ладонь Вашингтона была шершавой и крепкой, глаза глядели внимательно, но дружелюбно.
— Ну, джентльмены, что думают в графстве Албемарл по поводу бойкота английских товаров?
— Обходиться без чая и красок — на это людей можно будет уговорить. — Низкорослый Уокер, идя между двух великанов, которым он был по грудь, вынужден был всё время задирать голову. — Гораздо труднее заставить их отказаться покупать, например, стекло. Многие поселенцы только-только начали строиться. Не жить же им, действительно, в домах без окон.
— Я слышал, что большой стекольный завод скоро заработает в Пенсильвании. В Массачусетсе начинают понемногу делать бумагу. Да и нам в Виргинии пора уже заводить новые производства и расширять старые.
Многие опасаются, мистер Вашингтон, что бойкот сильнее всего ударит по нам самим, а английским купцам это будет, как слону дробина. Просто повезут чай, краски и стекло в другие страны.
— Полковник Мэйсон сделал кое-какие подсчёты. Если все колонии дружно откажутся покупать не только обложенные пошлиной товары, но и предметы роскоши, английская торговля потеряет к концу года миллион фунтов стерлингов.
— Насколько я могу судить, — сказал Джефферсон, — ваш камзол, сэр, сшит лондонским портным. И шляпа, по-моему, тоже переплыла океан. Да и трость, судя по её изяществу, сделана не местным мастером.
Вашингтон, в свою очередь, оглядел наряд Джефферсона, всмотрелся в кружевные манжеты, в пряжки башмаков и едва заметно усмехнулся.
— Вы правы, мистер Джефферсон. Раболепие перед модой может привести нас на порог настоящего рабства. Кроме того, британские фирмы пользуются постоянной нашей задолженностью и постепенно наглеют. Недавно рыболовные сети, заказанные мною, прибыли без пробковых поплавков, без верёвок, без грузов. Несколько лет назад, решив украсить дом бюстами великих полководцев, я послал своему агенту в Лондоне полный список: Александр Великий, Юлий Цезарь, Карл Двенадцатый, Фридрих Прусский, герцог Мальборо. Знаете, что они мне прислали? Статую Энея, уносящего отца из Трои, и Бахуса в объятиях Флоры.
Он на минуту остановился, откинув руку с тростью, вторя смеху собеседников короткими глухими смешками. Когда он так стоял, делалось понятно, что лондонский портной по присланной мерке не сумел всё-таки оценить всю мощь фигуры виргинского заказчика.
— Я вам так скажу, джентльмены: если даже наш бойкот будет не в силах побороть упрямство английского парламента, он всё равно принесёт Виргинии огромную пользу. Ибо трудно сказать, сколько наших сквайров он спасёт от разорения. Чтобы заполучить новомодную английскую коляску, которая не проедет и мили по нашим дорогам, многие готовы отдать годовой урожай табака. Другие отдадут три урожая вперёд за какие-нибудь клавикорды.
Джефферсон почувствовал, что краснеет, — клавикорды были самой горячей его мечтой.
— Женщины — вот кто вгоняет нас в долги, — сказал Уокер. — Шёлковые наряды, шляпы с цветами, чулки, ленты, духи, позолоченные туфельки! И попробуй отказать им — сразу начнутся слёзы, упрёки в скупости. Нет, я первый подпишу соглашение о бойкоте. И пусть тогда моя невестка попробует заикнуться о новом платье к осеннему балу.
Негромко переговариваясь и пропуская друг друга, депутаты входили в распахнутые двери самой большой таверны в городе. Всё уже было готово к их приходу — в Аполлоновой зале столы сдвинуты к стенам, ряды стульев широким полукругом охватывают высокое кресло, оставленное для спикера, рядом маленький столик с чернильницей и перьями для клерка. Преувеличенной взаимной вежливостью, порядком и неспешностью движений депутаты словно хотели показать всем и себе самим, что ничего особенного не происходит, что заняты они рутинными делами и что никто из них не чувствует себя заговорщиком, бунтарём, ослушником.
Начиналось первое заседание ассамблеи колонии Виргиния, не созванное королевским губернатором, то есть собравшееся вопреки королевской воле. По счастью, королевская воля, одетая в красные мундиры, с примкнутыми штыками и заряженными пушками находилась не ближе пятисот миль, в Бостоне, и ничто пока не могло нарушить торжественного тона собрания.
Пейтон Рэндольф был единогласно избран председателем.
Клерк огласил предложения о бойкоте, привезённые полковником Вашингтоном из графства Фэрфакс.
Присутствующие единогласно постановили образовать добровольную ассоциацию, каждый из участников которой давал обязательство не только отказаться от покупки обложенных товаров, но и не заказывать в Англии никаких предметов роскоши вплоть до отмены парламентом незаконных пошлин. Условия ассоциации и перечень того, что считалось роскошью, решили отпечатать в типографии, с тем чтобы каждый депутат мог отвезти в своё графство копию документа и вербовать новых членов.
Заседание закончилось провозглашением торжественных тостов за здоровье короля, королевской семьи, губернатора Ботетура, за союз между Великобританией и её колониями и, наконец, за здоровье всех истинных патриотов и защитников американской свободы.
Слуги обносили собравшихся подносами с вином.
Джефферсон взял бокал и слегка пригубил вино. Это был тот самый французский портвейн, который он обычно заказывал у английских купцов для своего погреба в Шедуэлле. Ну что ж, надо будет теперь забыть о портвейне и приучить себя к местному элю. В глубине души он благодарил Бога за то, что в список запрещённых товаров не были включены книги. Ведь он и тогда поставил бы свою подпись под соглашением, но, наверное, уже не с таким радостным чувством.
18 мая, 1769
«Мы, лояльные и верные подданные Его Величества, рекомендуем всем джентльменам, купцам, промышленникам и прочим жителям колонии Виргиния присоединиться к нашей ассоциации, которая постановила:
Первое. Всеми законными средствами и путями развивать полезные производства, поощрять бережливость и препятствовать распространению роскоши и излишеств.
Второе. Все подписавшиеся обязуются впредь не ввозить никаких товаров, обложенных пошлиной в соответствии с указом парламента, и направят купцам в Англии соответствующие распоряжения.
Третье. Все подписавшиеся обязуются до отмены указанных пошлин не ввозить из Великобритании или любой другой части Европы следующих товаров: спиртных напитков, маринада, часов карманных и стенных, столов, кресел, зеркал, карет, обивочных материй, ювелирных изделий, лент и кружев, шёлка, батиста, газа, муслина, шляп, чулок, башмаков, туфель, сёдел и т. д.
Пятое. Что они не будут ввозить или покупать ввезённых рабов вплоть до отмены указанных актов парламента».
Из условий «ассоциации, бойкотирующей импорт», принятых на заседании ассамблеи колонии ВиргинияЛето, 1769
«Если в посланных мною недавно заказах содержится упоминание тех товаров (за исключением бумаги дешёвых сортов), на которые недавно актом парламента была наложена пошлина с целью извлечь дополнительный доход из Америки, я сим выражаю своё настоятельное пожелание и просьбу, чтобы они не были посланы, ибо я всем сердцем присоединился к ассоциации, постановившей не ввозить ни одного из обложенных товаров до тех пор, пока соответствующие акты парламента не будут отменены. Я особенно подчёркиваю важность этого пожелания, ибо к участию в ассоциации я отношусь с серьёзностью почти религиозной».
Из письма Вашингтона английским поставщикам7 июня, 1769
«Здесь, в Лондоне, министерство заверило нас, что американские проблемы недавно обсуждались в совете; что было единогласно принято постановление не вводить новые налоги в Америке; что в предстоящей сессии парламента будут отменены налоги на стекло, бумагу и краски. Будем надеяться, что за оставшееся время не случится ничего, что изменит благожелательное отношение к нам, утвердившееся в умах Его Величества и его министров».
Из письма Бенджамина Франклина в Законодательное собрание колонии ДжорджияОсень, 1769
«В сентябре губернатор Ботетур был вынужден вновь созвать ассамблею Виргинии и, когда она собралась в ноябре, обратился к ней с речью, в которой были следующие слова: “Мне могут заявить, что нынешние министры его величества не бессмертны и те, кто придёт им на смену, не будут обязаны выполнять их обещаний; на это я могу сказать лишь одно — план отмены ввозных пошлин принят правительством, и я глубоко убеждён, что оно не имеет намерения отступить от него”. Это сообщение было встречено виргинцами с изъявлениями радости».
Дэвид Рэмси. История Соединённых Штатов20 ДЕКАБРЯ, 1769. УИЛЬЯМСБЕРГ, ВИРГИНИЯ
Рассыльный из портовой конторы ещё пятился к дверям, кланяясь и сжимая в кулаке честно заработанный шиллинг, а сияющий Юпитер уже притащил клещи и молоток, накидывался на принесённый ящик то с одной, то с другой стороны, чмокал, ахал, бестолково колотил по железным полосам, оплетавшим крышку, и безудержно улыбался. Джефферсон, накинув поверх рубашки халат, стоял над ним, с нетерпением притоптывая обутой в мокасин ногой. Потом не выдержал, вырвал инструменты и с двух ударов перерубил запорные скобы.
Крышка приоткрылась сама собой, словно кто-то живой собирался вылезти из-под неё на свет. Рождественские подарки в детстве, азарт картёжной игры или охоты, любовная записка с ещё не сломанной печатью не вызывали в груди такого волнения, как прибытие очередной посылки с книгами из Англии. Джефферсон вспорол водозащитную упаковку и бережно стал выгружать на стол том за томом.
«История парламента».
«Политическая экономия» Стюарта.
«История гражданских войн».
Боже правый — Монтескье в трёх томах!
И Локк! Бесценный Джон Локк!
О, будьте вы благословенны — Перкинс, Бьюкенен, Браун и К0. Всяческих вам барышей и процветания, большой наживы на виргинском табаке!
В приложенном письме аккуратные купцы извинялись, что «Описание Ирландии» удалось достать лишь в томиках ин-октаво, приводили цены всех книг и в конце списка добавили стоимость упаковочного ящика — три шиллинга.
Джефферсон, прихватив Монтескье, отошёл к столу, придвинул горящие свечи. На кровати были разложены парадный камзол, парик с буклями, шёлковые чулки. Он уже опаздывал на бал, но оторваться так сразу от книг было невозможно. Открыл наугад, начал читать:
«…в Древнем Риме неизбежно должны были существовать раздоры; его воины, столь гордые, смелые и грозные для врагов, не могли быть очень смирными у себя дома… Можно установить общее правило, что всякий раз, когда мы замечаем, что в государстве, называющем себя республикой, всё спокойно, то можно быть уверенным, что в нём нет свободы».
«В свободной стране очень часто бывает безразлично (для власти), хорошо или дурно рассуждают люди. Важно лишь, чтобы они рассуждали, так как это порождает свободу, которая обеспечивает от дурных последствий этих рассуждений.
Подобным образом, в деспотическом правлении и хорошие, и дурные рассуждения одинаково пагубны. Вредно само рассуждение, так как принцип этого правления подрывается тем одним, что там рассуждают».
Джефферсон негромко засмеялся, поднял глаза. Юпитер, шевеля лиловыми губами, читал подписи под гравюрами в роскошно изданной «Истории парламента». О том, что в Шедуэлле завёлся обученный грамоте негр, соседи судачили целый год. Одни ворчали, другие посмеивались над причудой молодого сквайра, советовали послать Юпитера в Гарвард для дальнейшего обучения. Третьи намекали, что при случае готовы купить редкую диковинку. Большинству окрестных плантаторов рабство чёрных казалось таким естественным, навеки установленным порядком вещей, что сам Монтескье, восстав из могилы и явившись к ним во плоти и крови, вряд ли смог бы поколебать их убеждённость.
Всё же пора было спешить на бал.
Натягивая чулки, облачаясь в камзол, прилаживая букли к парику, Джефферсон время от времени забывался, раскрывал очередной том и застывал над страницей. «Нет более жестокой тирании, чем та, которая прикрывается законами и видимостью правосудия, когда, если можно так выразиться, несчастных топят на той самой доске, на которой они спаслись». Нет, решено — он пробудет на балу от силы час, исполнит долг вежливости и вернётся домой, к книгам.
Бал давался депутатами ассамблеи в честь губернатора, и не явиться на него было невозможно. В отношении к королевскому наместнику ассамблея строго выдерживала тон почтительности и не позволяла никому из своих членов открыто злорадствовать по поводу краткости наложенного на неё наказания. За лето губернатор вполне мог убедиться, что роспуском наказал в первую очередь самого себя, ибо все дела в колонии, лишённой Законодательного собрания, просто остановились. На новых выборах в сентябре избиратели оказались на высоте — не переизбраны были только те депутаты, которые весной уклонились от вступления в ассоциацию.
Воздух на улице был сырым и тёмным, слабый ветерок тянул с реки. Сквозь тонкие подошвы бальных туфель сочился холод промёрзлого тротуара.
Но до Капитолия было рукой подать.
Сверкающие окна его заливали светом мощёную площадь, крыши карет и колясок, влажно блестящие крупы лошадей. Судя по количеству экипажей, съехался не только весь Уильямсберг, но и вся ближайшая округа.
Ни в звуках музыки, ни в гуле голосов, долетавших в вестибюль, ни в лице слуги, принявшего у него плащ и шляпу, Джефферсон не заметил ничего необычного. И, лишь войдя в зал, ахнул.
Ну да, ему говорили, он что-то слышал про готовившийся заговор виргинских дам, но из-за присланных книг совсем позабыл об этой затее. И теперь стоял в дверях, широко улыбаясь, провожая их взглядом одну за другой, проплывавших мимо в котильоне, кланялся знакомым и восхищённо качал головой.
Они все или почти все явились в платьях, сшитых из домотканого полотна!
Конечно, у этих платьев были такие же замысловатые оборки и фестоны, как и у тех, из шёлка и муслина, что присылали по заказу из Лондона, и тот же покрой, они были украшены кружевами, лентами, вышивкой, но ведь никто и не собирался накладывать запрет на импорт моды. Колония решила отказаться от предметов роскоши — и дамы показывали губернатору, английским купцам, всему миру, что они не станут помехой патриотическому делу.
— Наконец-то явился! — Джон Уокер протиснулся к Джефферсону с двумя бокалами (вина? нет, сидра, конечно). — Как тебе наши дамы?
— Восхитительны! Полотно само собой избавляет их от самого ужасного, что только может быть в любой женщине, — от чопорности.
— Надо отдать должное Ботетуру — он проглотил пилюлю не поморщась. Иногда у меня возникает ощущение, что в глубине души он на нашей стороне. Бетси даже получила от него комплимент.
— Где она?
— Вон там, справа. В паре с Патриком Генри. Она готовилась к этому дню месяца за два. Уговаривала меня переодеться индейцем. Чтоб было больше похоже на маскарад.
— Нам бы поучиться у неё умению радоваться праздникам. Зато другие ухитряются делать вид, будто ничего особенного не происходит. Взгляни-ка на Вашингтонов.
— Чудная пара. Танцуют лучше двадцатилетних. Можно подумать, что музыка сначала звучит в их ушах и лишь потом в зале.
— А кто вон там, рядом со старым Вэйлсом? -Где?
— Да вон, позади стола с пирожными.
— Неужели не узнаёшь?
— Не могу я узнать женщину со спины по волосам, уху и четверти подбородка.
— Да это же дочь Вэйлса, Марта Скелтон.
— Господь всемогущий…
Джефферсон почувствовал, как вспышка сострадания, уже пережитого раньше, давно, вдруг снова обожгла такой же болью, как год назад.
— Бедняга Бафурст, — вздохнул Джон. — Он ведь был даже моложе тебя.
— В колледже я шёл на год впереди.
— Со дня его смерти она, кажется, ни разу не появлялась в Уильямсберге.
— У них были дети?
— Мальчик. Ему сейчас года два.
— Пойду поздороваюсь. Объясню хоть, почему не приехал на похороны. Мы в Шедуэлле всё узнаём на неделю позже.
Он хотел перейти зал по прямой, но начался новый танец — его оттеснили к стене. Дойдя до угла, он протиснулся за столы с угощением, сделал несколько шагов и неожиданно близко от себя увидел горбоносый профиль старого Вэйлса, обсыпанный пудрой бант парика и плечи, и наполовину скрытое за ними лицо его дочери.
Марта. Марта Скелтон. Вдова Скелтон. Марта Скелтон Вэйлс.
Она смотрела на него, пока он шёл, не отводя глаз, не улыбаясь, чуть настороженно и в то же время с любопытством. Он понял, что она давно заметила и узнала его. С её покойным мужем они были дружны в студенческие годы, но после свадьбы молодая чета почти не появлялась в Уильямсберге. Он запомнил новобрачную застенчивой, пугливой девочкой с большим узлом тёмно-рыжих волос, который казался слишком тяжёлым для тонкой шеи. Теперь перед ним стояла спокойная, печальная женщина, пережившая такое горе, после которого перестают пугаться по пустякам. Рука, просунутая под локоть отца, закрывала и раскрывала расписной веер с двумя маркизами, укрывшимися в ажурной беседке.
— А-а, наш юный законодатель! — старый Вэйлс приветствовал его сердечным рукопожатием. — Марта, ты узнаёшь этого джентльмена?
— Да, хотя мистер Джефферсон делал всё возможное, чтобы мы его забыли.
— Что — получили? И поделом. Ну и манера у нынешней молодёжи. За два года вы не появились у нас в Форесте ни разу. А ведь каждый раз, как вы едете домой в Шедуэлл, вам всего-то надо дать несколько миль крюку.
— Я знаю, мне нет оправданий. И всё же… Адвокатская практика съедает человека целиком. Особенно при нашем бездорожье. Пока доберёшься от клиента до суда, рискуешь десять раз сломать шею, утонуть, провалиться в трясину.
— Слышишь, Марта? Теперь он намекает, чтобы мы наняли его вести какую-нибудь тяжбу. Только таким путём нам удастся заполучить его в гости.
— Помилуйте, мистер Вэйлс…
— Да полноте, дорогой мой, не краснейте. Примите мою болтовню как растянутое, витиеватое, но при этом искреннее и радушное приглашение. О, мистер Генри, на два слова! Марта, оставляю мистера Джефферсона на тебя. Надеюсь, ты поверила в его раскаяние и не станешь больше точить об него свой язычок.
Он помахал рукой и исчез за спинами гостей. Музыка гремела уверенно, но флейты всё время отставали. Свет от настенного канделябра падал на лицо Марты Скелтон сверху, углублял тени, усиливал выпуклость лба, скул, подбородка.
— Значит, вы вернулись в Форест после… Джефферсон замялся, не зная, какими словами сказать о
смерти — мужа? мистера Скелтона? Бафурста? — и Марта, чуть помедлив, пришла ему на помощь.
— Да. Одной было просто невыносимо. С отцом и сестрами гораздо легче. И с малышом они помогали мне на первых порах.
— Похож он на отца?
— Больше на деда. Вот здесь, — она провела по горбинке носа, — типичный Вэйлс.
— Вы будете теперь приезжать в Уильямсберг? Многие были бы очень рады увидеть вас вновь.
— Но меня не посвятили заранее в этот полотняный заговор, и я теперь чувствую себя ужасно. — Она сердито провела веером по складкам нарядного шёлкового платья. — Настоящая белая ворона. Вернее, сиреневая.
— Не огорчайтесь. Если бы все явились в полотне, нас бы обвинили в том, что мы учредили палочную дисциплину среди наших дам, что заставляем их носить униформу, точно новобранцев.
— За последний год я так отстала от всего. Даже в театре не была ни разу.
— Может, я не вправе бередить вашу рану… И всё же хочу сказать вам — весть о смерти Бафурста и для меня была тяжким ударом. Мы все помнили его таким горячим, живым. Он так умел любить жизнь. Я даже завидовал ему в этом.
— Он тоже часто вспоминал вас. Вас — чаще, чем других. И тоже с завистью. Он говорил, что ваше трудолюбие просто убивало его, постоянно служило живым укором. Что иногда, вернувшись с очередного кутежа и застав вас ещё за книгами, он просто опрокидывал ваш стол от злости.
— Да, было однажды такое, — усмехнулся Джефферсон. — Но, честно сказать, я повесничал ничуть не меньше. И лисья охота, и конские бега, и вино, и карты. Иногда играли за полночь, до самозабвения. Помню, один шутник незаметно для нас насыпал тонкую полоску пороха от стола к дверям, спрятался в коридоре и, когда кто-то в сердцах помянул дьявола, поджёг порох со своего конца. Мы все чуть не сгорели. Был великий переполох.
Она улыбнулась — в первый раз за время всего разговора, — и он подумал, что и в улыбке её, как и в манере говорить и двигаться, появилась какая-то плавная мягкость, несуетность.
— Что ещё рассказывал вам обо мне Бафурст?
— Что вы кладезь всяких знаний. Что кроме юриспруденции и истории увлекаетесь литературой, архитектурой, музыкой и ботаникой. Что у себя в саду вы высаживаете десятки сортов всевозможных фруктов и ягод и надеетесь путём скрещивания получить на яблоне дыни, а на виноградной лозе — чуть ли не бутылки с вином.
— Браво.
— И ещё я знаю — но это уже чистые сплетни, — что девушкам вы оказываете внимание диковинным способом — исчезая с их глаз долой на год, на два. И что с тех пор как Ребекка Барвел устояла перед таким неотразимым ухаживанием и вышла за другого, вы стали заядлым женоненавистником.
— Как сказал Фрэнсис Бэкон: «Клевещите, клевещите — что-нибудь да останется».
— Значит, это не вы переписали в записную книжку стихи Отуэя? Что-то вроде:
…О, женщина! Какое в мире зло Тобой и для тебя не совершалось? Кто был причиной долгой Десятилетней бойни, Трою обратившей В конце концов в горсть пепла?— Вам и это известно?!
— Елена погубила Трою! Вот образец мужского способа рассуждений. Интересно, если бы вам довелось вести дело о Троянской войне в суде, кого бы признали виновным? Неужели Елену? Почему бы тогда не оправдать и всех обычных насильников. «Бедняга не мог сдержать своего вожделения, ибо его жертва была слишком хороша собой — сама виновата».
Джефферсон молчал, ошарашенный неожиданной жёсткостью её тона.
«Откуда она могла узнать про стихи? Неужели я показывал их Бафурсту, а он запомнил и пересказал? Хорошо ещё, что она не привела тех, что на следующей странице.
О, Хлоя — твой Купидон уж знает, Что грудь твоя красива, но хладна, Два снежно-ледяных холма, не боле…Впрочем, кому какое дело до моих выписок?» Она легонько постучала веером по его локтю и сказала грустно и разочарованно:
— Вы рассердились.
— Нет, просто задумался. Гибель Трои — интересная тема для большого процесса. Беда лишь в том, что вы никогда не сможете вынести окончательный приговор. Суд истории любит в каждом веке возвращаться к старым делам и пересматривать их заново.
Он говорил спокойно, но в глубине души был уязвлён. И сильно. Не столько самими нападками, сколько тем, что раковина, в которую он привык прятать свои чувства, дала такую трещину. Что он оказался так на виду. С какого времени он начал замечать за собой эту улиточную скрытность? Кажется, при жизни отца он не был таким. Но с матерью… Если бы ей стало что-то известно о его сердечных привязанностях, она и это постаралась бы использовать для достижения главной своей цели: спасения в нём Рэндольфа, потомка шотландских графов Мюррей. И если бы его избранница показалась ей недостойной, неспособной подняться на такую высоту — горе несчастной.
«Исчезая с их глаз долой на год, на два… Неотразимое ухаживание…»
Знали бы они, чего ему стоило тогда сдерживать себя, не морочить Ребекке голову, не разбивать ей жизнь. Он страдал искренне, но знал, что привезти её в Шедуэлл женой, представить матери, сестрам, погрузить в тягостную путаницу и двусмысленность своих семейных отношений, денежной зависимости от родных значило бы своими руками убить ту нежность, которая жила в его душе. Меланхолия его тогда дошла до того, что мысли о смерти стали привычными, почти утешительными. Хотел уехать в Европу, но и это сорвалось. Порой он чувствовал себя просто бездомным. Почему-то ему казалось, что Марта Скелтон могла бы и должна была это понять. Он был разочарован.
И всё же не уходил.
Они стояли рядом, изредка перебрасывались замечаниями, смотрели на танцующих. Среди пудреных париков снова мелькнуло лицо Бетси Уокер — она послала ему многозначительную гримаску, потом улыбнулась ободряюще. Справа старый Вэйлс, прижав Патрика Генри к колонне и перекрикивая оркестр, доказывал, что в условия ассоциации никак нельзя было включать запрещение ввоза рабов, что без притока свежей рабочей силы пункт о развитии полезных производств становится бессмыслицей. Ещё дальше, рядом с губернатором, стоял в окружении своего семейства генеральный прокурор Джон Рэндольф. Джефферсон подумал, что, собрав все земли, которыми владели в Виргинии бесчисленные Рэндольфы, можно было бы образовать новую колонию, этакую небольшую, но крепкую Рэндольфинию. Впрочем, с Джоном, несмотря на разницу в возрасте, они были в отношениях почти приятельских. Жена и обе дочери генерального прокурора не сочли возможным принять участие в дамском бунте — все три явились в подчёркнуто дорогих платьях из шифона. Только сын Эдмонд, казалось, разделял общее возбуждение и держался от семьи особняком.
Джефферсон пригласил Марту танцевать, и та, чуть поколебавшись, согласилась. Разговор перешёл на музыку, оба оживились. Джефферсон начал рассказывать о любительских концертах, которые покойный губернатор устраивал в своём дворце и в которых ему довелось несколько раз принять участие; о присланных ему недавно пьесах Гайдна для клавесина. А у Марты есть клавесин? И она играет на нём? Ну тогда он непременно снимет для неё копии с этих пьес — они очаровательны.
После танца он вернул её отцу, откланялся и до конца бала больше не перемолвился с ней ни словом. На следующий день ассамблея должна была закончить свою работу, депутаты разъезжались, и сегодня была последняя возможность переговорить с единомышленниками, обсудить упущенные детали, возможности, средства предстоявшей борьбы. Заверения губернатора в том, что пошлины будут отменены, оставались всего лишь словами — никто из них не был так наивен, чтобы отступить под воздействием красноречивых уговоров. Адвокат Уайт, в конторе которого Джефферсон провёл пять лет, постигая тайны юриспруденции, нашёл его в толпе, отвёл в угол и долго объяснял все правовые и моральные трудности, которые встанут перед ними, если они попытаются принуждать людей выполнять условия запрета на импорт. И лишь когда начался разъезд, он снова столкнулся с Вэйлсами в вестибюле, пошёл проводить их до кареты, и здесь, на ступенях Капитолия, Марта вдруг повернулась к нему и сказала, прямо глядя в глаза:
— Я так вам благодарна, мистер Джефферсон.
Лицо её белело под тёмным мехом бобровой шляпки, тонко очерченные губы приоткрылись в улыбке. Старый Вэйлс ушёл искать кучера, и они на минуту остались на ступенях вдвоём, обтекаемые толпой, говором, слабеющими звуками скрипок и флейт.
— Да, конечно, я пришлю вам ноты сразу, как только попаду в Шедуэлл.
— И за это тоже. Но главное, за то, что вы рассердились на меня. Что не отгородились скорбно-сочувственной маской. Это было такое облегчение — почувствовать себя наконец необерегаемой, неопекаемой, неоплакиваемой. Я так устала быть несчастной вдовой, которой всё прощают.
Отец позвал её из темноты, она кивнула на прощание и сбежала по ступеням. Кареты и коляски разъезжались, поблёскивая стёклами и спицами колёс, чтобы увезти обратно в поместья окрестных сквайров. Слуги зажигали ручные фонари, готовясь провожать до дому тех гостей, которые жили в самом Уильямсберге.
Джефферсон велел Юпитеру идти кружным путём, через улицу Герцога Глостерского. Он хотел освежиться, собраться с мыслями. Эта женщина — как легко она проникала через скорлупу любезной и холодноватой приветливости, которой он научился окружать себя в последние годы. И как больно. Может быть, всё дело было в той вспышке сострадания, которую он испытал, увидев её сегодня? Но знакомая с юности истома, заливавшая грудь, ясно говорила, что нет, сострадание тут ни при чём, и он, забегая мыслями вперёд, пытался вообразить себя показывающим Марте любимые места по берегам Риванны, въезжающим вместе с ней в ворота Шедуэлла, но сразу представлял лицо матери и что она может сказать и как посмотреть, и тут же ненавидел себя за то, что думает об этом, за то, что опасливо прикидывает, калькулирует, инстинктивно пытается свернуть, пока не поздно, в сторону от всякой сердечной боли, и, окатив себя презрением за такую расчётливость, снова и снова вызывал в памяти тяжёлый узел медных волос, насмешливый и мягкий голос, несуетную манеру и эти редкие две-три улыбки, которые так трудно было вызвать и которые радовали, как подарок.
Присланные книги он так и не раскрыл за тот вечер больше ни разу.
Февраль, 1770
«Возвратившись в Бостон, я увидел большую толпу народа у Дерева свободы — спросил и выяснил, что собираются хоронить двенадцатилетнего мальчика, убитого во время последней демонстрации против нарушителей бойкота. Отогревшись в доме знакомых, отправился на похороны. Впереди гроба шло множество подростков, позади — толпа мужчин и женщин и несколько карет. Никогда глазам моим не доводилось видеть такой похоронной процессии; она растянулась невообразимо.
Это показывает, что многие готовы отдать, если понадобится, свои жизни для служения отчизне.
Это показывает также, что движение не слабеет, что народный пыл невозможно подавить, убив одного ребёнка и ранив другого».
Джон Адамс. ДневникиФевраль, 1770
«До нас дошёл слух, что недели две назад в Албемарле дом Томаса Джефферсона, эсквайра, сгорел до основания вместе со всеми книгами, бумагами, мебелью и т. п. Джентльмен понёс большие убытки. Он был в отъезде, когда случилось это несчастье».
«Виргиния газетт»Март, 1770
«Я послал Вам немного абрикосовых и персиковых черенков и отростки виноградной лозы, лучшее из того, что у меня имелось; велел также Вашему посланцу заглянуть к моему соседу и спросить, не найдётся ли чего-нибудь и у него. Кроме того, Вам доставят два каталога Фулиса. Миссис Уайт пришлёт семян садового горошка.
Вы переносите своё несчастье с такой стойкостью, что я уверен, сумеете одолеть все затруднения, в которые оно Вас повергло, и предвижу даже, что Вам удастся извлечь из него кое-какие выгоды».
Из письма Джорджа Уайта Томасу ДжефферсонуВесна, 1770
«Я провёл подсчёты того, сколько негров погибает во время транспортировки в Америку через океан. Какое лицемерие со стороны Англии — поддерживать и развивать эту позорную коммерцию под предлогом улучшения торговли с Гвинеей. Британия гордится своими добродетелями, своей приверженностью свободе, беспристрастием своих судов, но хоть бы раз они освободили от рабства хоть одного негра. Мне было отрадно узнать, что в Северной Америке движение за отмену рабства набирает силу. В Англии тоже появлялись аналогичные выступления в печати, и можно было надеяться, что со временем будут приняты законодательные меры для отмены его».
Бенджамин Франклин. АвтобиографияАПРЕЛЬ, 1770. ШАРЛОТТСВИЛЛ, ВИРГИНИЯ
— Итак, ваша честь, история рождения моего клиента подтверждена записями в книгах хозяина его матери и не вызывает сомнений. Установлено, что бабка его была мулаткой, рождённой белой женщиной от негра. Установлено также…
— Вы хотели сказать, мистер Джефферсон: «…рождённой белой женщиной, которую изнасиловал негр».
— У нас нет никаких объективных данных, подтверждающих факт изнасилования.
— Позвольте, здесь ясно сказано, что впоследствии у этой женщины были другие дети. Нормальные белые дети от белого отца.
— О чём же это говорит?
— Разве вам неизвестно, что женщина, добровольно уступившая негру, никогда уже не сможет иметь белых детей?
— Это всего лишь народное поверье, ваша честь. Наукой оно никогда не проверялось и не доказывалось.
— Слишком вы ещё молоды, мистер Джефферсон, чтобы подвергать сомнению то, во что верили наши отцы и деды. Для меня их «поверья» в десять раз убедительнее ваших так называемых научных фактов.
Судья со стуком откинул крышку табакерки, запустил в нос щепотку табаку и, зажмурясь, втянул воздух, уже заранее разворачивая покрытый пятнами платок. Оглушительное «апчхи» сотрясло всё его костлявое тело, выплеснуло слёзы из зажмуренных глаз.
Джефферсон оглянулся на скамью, стоявшую в глубине комнаты. Сэмюэл Хоуэлл так же неподвижно сидел там, прижавшись спиной к синей дощатой стене, испещрённой тёмными луковицами сучков. Камзол на нём был явно с чужого плеча, под мышкой серела свежая штопка, даже пуговицы, похоже, пришлось обрезать с чьих-то обносков и наспех пришивать самому. Зато купленный в лавке шейный платок слепил глаза красно-белыми полосами и новизной. Джефферсон накануне пытался уговорить Хоуэлла не являться в суд, но тот только вежливо улыбался и качал головой. Ведь должен он был показать судье, какая светлая у него кожа, какие приличные манеры и платье, как непохож он на обычного негра. Библия, зажатая под мышкой, должна была поведать всем о том, что этот молодой человек к тому же ещё умеет читать и верит в Бога.
— По закону колонии Виргиния ребёнок наследует статус матери, а не отца. — Джефферсон теперь смотрел прямо в красноватые с набрякшими веками глаза судьи. — То, что бабушка моего клиента оставалась в рабстве до тридцати одного года, уже было нарушением закона. И то, что мать его постигла такая же судьба, нужно признать явной несправедливостью. Неужели же из цепи несправедливостей мы должны сделать правило и заранее обречь на тяготы рабства не только самого Хоуэлла, но и всех его детей, внуков и правнуков?
— Уж коли вы заговорили о справедливости, мистер Джефферсон, неплохо было бы подумать и о новом хозяине вашего Хоуэлла. Он купил себе раба, честно заплатил за него сколько положено, и вдруг выясняется, что раб ему не принадлежит и вообще никому принадлежать не желает. Что какой-то безответственный болван обучил негра чтению, и тот теперь пытается увильнуть от работы, прикрывшись страницами священной книги. Кто же вернёт хозяину его деньги? Вы? Я? Мистер Уайт?
Джордж Уайт скользнул глазами по уставленному на него жёлтому пальцу и снова уткнулся в бумаги. С самого начала слушания дела лицо его приняло устало-брезгливое выражение, углы сухого рта застыли в горькой усмешке. Хозяин Хоуэлла, нанимая его, не предупредил, что адвокатом противной стороны будет его ученик и близкий друг, и теперь Уайт был полон досады на себя за то, что так глупо попался. В бедной новостями колониальной жизни подноготная всякого мало-мальски известного человека скоро делалась всеобщим достоянием, и из простого знания дружеских и родственных связей дошлый делец мог извлечь тысячи выгод — найти нужную протекцию, наложить лапу на выморочное имущество, нагреть руки на семейной ссоре или вот так, в опасном для себя деле свести у судейского стола двух друзей в расчёте на их взаимную уступчивость.
— …Человеческие законы, — говорил Джефферсон, — создаются людьми. Удобство и безопасность совместной жизни людей — вот главная цель закона. Когда закон перестаёт удовлетворять этой цели, люди — если только у них хватает разума и силы воли держать свои страсти в узде — собираются вместе и по общему согласию изменяют закон. Поэтому мы видим человеческие законы постепенно меняющимися от века к веку, от поколения к поколению. Сегодня закон разрешает одному человеку иметь другого в рабстве, завтра, может быть, запретит. Неизменными остаются только законы природы. И в соответствии с этими главными законами мы знаем, что каждый человек по природе своей свободен. Что он рождается свободным, и свобода его включает в себя право распоряжаться своей личностью, своими силами и способностями по собственному усмотрению.
— Довольно!
Рука судьи, промахнувшись мимо лежавшего рядом молотка, ухватила табакерку и застучала ею по столу.
— Довольно, мистер Джефферсон! За всю свою судейскую практику я не слышал подобной ереси из уст дипломированного адвоката. Стыдитесь! Удобство и безопасность совместной жизни? В безопасности мы будем лишь тогда, когда закон запретит ввозить книги французских вольнодумцев, которые засоряют мозги нашей молодёжи. Мистер Уайт, вы можете не утруждать себя речью в защиту прав своего клиента. Я решаю дело в его пользу. Бесповоротно и окончательно. Этот человек, вообразивший, что чёрную кожу можно спрятать под драным камзолом и пёстрым платочком, останется его рабом вплоть до положенного срока. Всё! С этим покончено. Суд переходит к слушанию следующего дела.
С каждым словом судьи Хоуэлл серел лицом, вжимался в стену, вдавливал Библию себе в рёбра, словно пытаясь спрятаться от этого скрипучего голоса, сбрасывавшего его обратно в ужас и безнадёжность. Как расправлялись хозяева с рабами, пытавшимися вырваться на волю, было слишком хорошо известно. Крупные капли пота, собираясь на лбу, ручьями текли по щекам, и мухи, обманутые неподвижностью человека, густо вились над его головой.
Оба адвоката вместе покинули здание суда, в молчании проехали пустынную — главную и единственную — улицу городка. Весенняя вода с шумом несла мусор по канаве у самых копыт коней. Придорожные кусты и деревья были окутаны прозрачными облачками апрельской листвы. Уайт ехал немного сзади, но когда дома Шарлоттсвилла исчезли за поворотом, поравнялся с Джефферсоном и негромко сказал:
— Всё же не понимаю, зачем вам понадобилось бесить судью. При таком ходе ведения дела вы не оставили бедняге Хоуэллу никаких шансов получить свободу.
Джефферсон глянул на него исподлобья и пожал плечами.
— Думаю, что шансов не было с самого начала. Я предупреждал Хоуэлла, что надежды почти никакой, и даже отказался взять с него плату.
— Самое время для вас после такого пожара браться за безгонорарные дела.
— Принцип — вот что было главным для меня в этой тяжбе. Вы знаете моё отношение к рабству. Его можно определить тремя словами: ужас, ненависть, отвращение.
— Вы часто высказывались в таком плане. Однако этой осенью, когда раб сбежал у вас самого, вы дали объявление в «Виргиния газетт» с обещанием награды тому, кто вернёт его вам.
Сарказм в голосе Уайта был хорошо спрятан, но Джефферсон расслышал его и покраснел.
— Британцы тоже любят иронизировать на наш счёт подобным образом. «Странно, заявляют они, что наиболее громкие крики о попираемой свободе приходится слышать от рабовладельцев». Они забывают при этом, что навязанные ими же законы запрещают нам отпуск рабов на волю.
— И всё же согласитесь, что здесь наша позиция наиболее уязвима.
— Ненависть к рабству как общественному установлению ещё не означает, что я намерен завтра же дать своим рабам разбежаться. Эти люди, выращенные в полном невежестве и темноте, совершенно не готовы к самостоятельной жизни среди свободных людей. Сбежавший у меня Сэнди был пьяницей, дебоширом, вором. Просто опасно, чтобы такой человек шатался по колонии без присмотра.
— Вам вернули его? — Да.
— И что вы с ним сделали?
— В моём поместье негров не бьют, мистер Уайт. Но если этот Сэнди не исправится, я вынужден буду продать его менее сентиментальному хозяину.
— Дорогой Томас, с завтрашнего дня я предоставляю вам высшую законодательную и исполнительную власть в колонии Виргиния. Я вручаю вам корону и скипетр. Что ваше величество предпримет в отношении рабства с высоты трона?
— Не знаю. Я так часто ломал себе голову над этой проблемой, что почти отчаялся найти приемлемый выход. Просто объявить чёрных свободными, дать им землю, инструменты, жильё? Но столько уже накоплено взаимной ненависти, обид, предрассудков, что мы все расколемся на партии и утонем в кровавом хаосе. Выделить их в отдельное государство, выселить на свободные земли? Но у них нет ни знаний, ни культуры, ни опыта, необходимых для политического самоуправления.
— Сумели же покончить с рабством в Древнем Риме.
— Там было проще. У вольноотпущенника кожа была такая же белая, как у любого римского гражданина. Их дети могли уже поселиться рядом и просто не знать о происхождении друг друга. У нас же чёрные и много поколений спустя при взгляде на белых будут думать: их отцы мучили, истязали, морили голодом наших отцов. Какие чувства будут рождаться при этом в их груди?
— Меня даже больше волнуют чувства и взгляды, которые усваивают наши собственные дети. В поместье одного сквайра я видел, как его пятилетний сын выходил играть со своими чёрными сверстниками непременно с кнутиком в руке.
— Возможен ещё путь постепенного освобождения. Я бы уже сейчас готов был отпустить на волю тех, кто показал себя честным и трудолюбивым.
— Отпустить? Но куда?
— Во всяком случае, пробуя то один путь, то другой, мы сумели бы рано или поздно покончить с рабством, если бы королевское правительство не мешало нам.
— Ну, не обольщайтесь. Нынче стало модным всё валить на Лондон, а самих себя выставлять безгрешными ангелами. Взять ту же вольную. Нынче осенью в ассамблее Блэнд предложил закон, разрешающий давать её, — вспомните, какая поднялась буря.
— Да, бедный Блэнд. До сих пор чувствую себя перед ним виноватым.
— Виноватым? — Уайт придержал коня, всмотрелся в лицо Джефферсона, потом хлопнул себя по лбу. — Я наивный глупец. Всё ломал голову, откуда простодушный Блэнд набрался таких идей. Значит, это вы подбили его?
Джефферсон кивнул и грустно улыбнулся:
— Меня, новичка, просто не стали бы слушать. Но и Блэнду крепко досталось. Многие депутаты просто кипели от злости. Хотя если б даже удалось провести законопроект через ассамблею, губернатор наверняка не утвердил бы его. Англичане наживаются на работорговле и будут пресекать все наши попытки покончить с рабством.
— Итак, ваше величество, с поставленной задачей вы не справились, и я лишаю вас престола. Послушайте, а куда это нас занесло? Мне казалось, что мы собирались обедать в Шедуэлле.
— Эта дорога ненамного длиннее. Я хочу вам кое-что показать.
Широкая тропа плавно огибала склон большого холма, то сужаясь, то расширяясь, но при этом неуклонно поднимаясь вверх. Кора крайних деревьев кое-где была содрана, нависавшие над головой ветки тоже белели свежими надломами. Судя по глубоким разбитым колеям, фургоны, проезжавшие здесь, были загружены до отказа, и дорога давалась им нелегко.
Потом справа открылось расчищенное от леса пространство, простроченное рядами молоденьких вишнёвых саженцев. Каждое деревце стояло посреди чёрного круга свежевскопанной земли, как стрела, вонзившаяся в мишень, подрагивало зелёным оперением. Неяркие пятна апрельского солнца медленно плыли вверх по склону. Дорога поднималась всё выше и на самой вершине упиралась в широкую строительную площадку, покрытую кучами брёвен, песка, кирпича, изрезанную канавами, окаймлённую завалом выкорчеванных пней.
— Здесь? — Уайт с изумлением обернулся к Джефферсону. — Вот это и будет ваше Монтичелло? На такой высоте?
— Дом как человек. Он тоже любит солнце и воздух.
— Но вы подсчитали, во что вам обойдётся строительство? Поднять сюда необходимые материалы — только на это вы угробите целое состояние. Сколько вам стоило выровнять площадку?
— Лучше не спрашивайте.
— А вода? Где вы будете брать воду? Придётся рыть колодец футов на 50 — не меньше.
— Зато какой вид. Представьте себе, что каждое утро, выходя на порог собственного дома, вы будете видеть не забор, хлев, свинарник или кухню, а всё это.
Он обвёл рукой уходящие вдаль холмы, вздымающиеся и опадающие волны буро-зелёного весеннего леса, красные квадратики крыш Шарлотгсвилла, затерянные в них, и далеко, на самом горизонте, голубую гряду гор, отделяющих колонию с запада от бескрайнего и всё ещё загадочного континента.
— Присланную вами виноградную лозу я попробую высадить по южному склону. На северном будет парк — дубы, вязы, бук, липа. Разведу оленей, фазанов. Иногда фантазия у меня разыгрывается, и тогда я вижу среди деревьев небольшие храмы в китайском и греческом стиле, аллеи, выходящие к журчащим каскадам, мраморных нимф, слышу звучание эоловой арфы.
— Архитектурный план вы заказывали в Англии?
— Ну нет. Я кое-чему научился у отца, гораздо большему — из книг. Особенно из альбомов Палладио. Попробую сделать проект сам от начала до конца. В Шедуэлле я покажу вам свои эскизы.
— Наверное, я буду не первым зрителем.
— Судя по хитрому блеску глаз и поднятой брови, мистер Уайт, вы на что-то намекаете.
— Последнее время вас часто видят у Вэйлсов, в Форесте. Рассказывали вы там о своих строительных прожектах?
— О, эти виргинские пересуды! Мы несколько раз музицировали с миссис Скелтон — только и всего.
— Виргинским сплетникам во всякой музыке прежде всего слышатся гимны Гименея.
— У неё оказался чудесный голос.
— И много других достоинств.
— И очень много поклонников. Гораздо более решительных и уверенных в себе, чем я. Каждый раз, как я туда приезжаю, чья-нибудь коляска уже стоит около дома.
— Томас, о своей нерешительности вы можете рассказывать кому угодно, только не мне. Я, слава богу, знаю вас десять лет. Просто вы воображаете, что держать собственное сердце в узде — полезное и похвальное занятие.
— Быть может, когда я закончу строительство Монтичелло…
— И съезжу в Европу, и изучу итальянский язык, и усовершенствуюсь в греческом, и выдам замуж сестёр… Всё это мы уже слыхали много раз. Кстати, насколько я себе представляю ваши отношения с матушкой, она, скорее всего, не переедет сюда?
— Скорее всего, останется в Шедуэлле. Её флигель почти не пострадал.
— Простите мне мой цинизм, но, видимо, именно это я имел в виду, когда писал, что и у пожаров могут быть полезные последствия.
Весна, 1770
«В Бостоне толпа, вооружённая палками, дубинками и камнями, окружила группу британских солдат. Один из них, получив удар камнем, не выдержал и выстрелил, и шестеро товарищей последовали его примеру. Трое из нападавших были убиты, шестеро опасно ранены. Немедленно смятение охватило весь город. Страсти разгорелись до такой степени, что только удаление гарнизона и уговоры умеренных людей удержали жителей от прямого восстания. Капитан, который командовал отрядом, открывшим огонь, и восемь его солдат были заключены в тюрьму и затем подвергнуты суду. На суде подтвердилось, что солдатам угрожали, что их оскорбляли и забрасывали камнями, прежде чем они открыли огонь. Капитан и шестеро рядовых были оправданы, двое признаны виновными в человекоубийстве. Процесс этот принёс честь адвокатам подсудимых, Джону Адамсу и Джозайе Куинси, и присяжным, которые сумели сохранить объективность вопреки нажиму общественного мнения».
Дэвид Рэмси. История Соединённых ШтатовИюнь, 1770
«Среди бостонцев только и разговоров, что о приближающемся британском флоте и солдатах, о кораблях и армии, о том, что прибудет десять полков и много линейных кораблей.
Если нас попробуют согнуть при помощи вооружённой силы, что станет делать народ? Будет ли он сопротивляться ей? В Салеме обедал с незнакомцем, который не назвал своего имени. Выглядел он джентльменом, ему прислуживал слуга-негр. Видно было, что он разбирается в американских событиях, говорил, что, приехав из Лондона по торговым делам, побывал уже в Мэриленде, Филадельфии, Нью-Йорке и так далее. Ещё год, сказал он, и американцы снова станут послушными, как ягнята. Не смогут они обходиться без Великобритании, не осилят своей тяги к роскоши».
Джон Адамc. ДневникиЛето, 1770
«Только после реставрации Стюартов парламент в Лондоне узурпировал право выпускать законы для американских колоний, которого он ранее не имел. Какое-то время мы подчинялись этой узурпации, частью по невежеству, частью по невнимательности, а частью по слабости и неумению сопротивляться. Я надеюсь, что со временем наши права будут осознаны и мы будем уравнены в них с другими подданными британской короны. Пока же я призываю исключить из печатных публикаций и официальных обращений такие выражения, как высшая власть парламента или подчинённое положение американских ассамблей парламенту. Нельзя мириться с положением, при котором жители одной части королевских владений становятся господами над жителями другой. Англия и Шотландия долго были отдельными государствами под властью одного короля, и это никогда не означало, что лондонский парламент может управлять Шотландией».
Из письма Бенджамина Франклина друзьям в БостонеОСЕНЬ, 1771. ПОМЕСТЬЕ ФОРЕСТ, ВИРГИНИЯ
…В Небесах Давно уже носился общий слух, Что Он намерен вскоре сотворить Подобный мир и населить его Породою существ, которых Он Возлюбит с Ангелами наравне. На первый случай вторгнемся туда Из любопытства иль в иное место: Не может бездна адская держать Небесных духов до конца времён В цепях, ни Хаос — в непроглядной тьме. В совете общем надо эту мысль Обдумать зрело. Миру — не бывать! Кто склонен здесь к покорности? Итак, Открытая иль тайная война![1]Джефферсон опустил книгу на колени и потянулся к стакану с оранжадом. Веранда была ещё в тени, и жара здесь не слишком донимала, но от чтения вслух в горле у него всегда пересыхало очень быстро. Стакан с лёгким стуком отклеился от стола, оставив липкий круглый след. Марта Скелтон перевязала пучок отобранной сушёной травки, подняла голову и сказала с улыбкой:
— Как символично, что вы остановились именно на этом месте. «Миру не бывать!» — это скоро станет любимым кличем виргинских мужчин. Но скажите, нет ли всё же опасности, что тайная война перейдёт в открытую?
— Американских патриотов вы готовы уподобить духам ада? Премного благодарен. Впрочем, с этим сравнением я ещё готов примириться. Но я никогда не соглашусь сравнить Георга Третьего с Творцом.
— Любая метафора имеет свои пределы. Если растягивать её до бесконечности, она, конечно, превратится в глупость.
— Судя по всему, английский кабинет одумался и идёт на попятный. Но мне сдаётся, они так и не поняли причин нашего возмущения. Им кажется, будто нами движет исключительно корысть и жадность. Отменив все пошлины и оставив лишь крохотную пошлину на чай, они воображают, что откупились от нас деньгами. В то время как речь идёт именно о принципе. «Никакого обложения без представительства». Будем читать дальше?
— Нет, давайте отдохнём от Мильтона. Расскажите лучше, как дела в Монтичелло? Как подвигается строительство?
— Вы хотите пересадить меня с одного любимого конька на другого? С политики на архитектуру?
— А потом ещё и на садоводство.
— Может быть, сейчас рано говорить, но, кажется, сад на южном склоне принялся превосходно. Видели бы вы его весной в цвету. В низине я сейчас высаживаю фиги, гранаты, орех. Всё пошло гораздо быстрее с тех пор, как я перебрался в законченный осенью павильон. Мы уже заложили фундамент главного здания и скоро примемся за стены.
— Я слышала, зимой вы даже принимали гостей.
— О, в моём павильоне есть всё необходимое для жилья — гостиная, кухня, холл, спальня, кабинет. Правда, всё это пока в одной комнате. Так что гостям моим после обеда приходится искать ночлега в Шарлоттсвилле.
— Не в Шедуэлле?
— Там всё ещё слишком тесно. Люси после замужества уехала, зато подросли близнецы и заполнили своей беготнёй весь дом. Иногда приезжает сестра Марта с детьми. Да и Элизабет не круглый день сидит в своей комнате.
— Бедняжка. Как она?
— По-своему счастлива. Подолгу может сидеть перед зеркалом, примерять наряды. Сестры дарят ей старые шляпы, бусы, браслеты. Считать она так и не выучилась, но помнит, где лежат её сокровища, и готова искать потерявшуюся брошку часами. В общем, беспокойства от неё немного. Только иногда, испугавшись чего-нибудь, она начинает кричать и биться. Негры её любят.
— Интересно, замечали вы сами, что ваши рассказы о Шедуэлле, о семье, о детстве похожи на очень подробную, скрупулёзную, изящно вырисованную карту с большим белым пятном посредине?
Она на секунду подняла на него взгляд, улыбнулась, не разжимая губ, и снова склонилась над работой. Отобранный пучок сухого донника исчез в медной ступке, и она принялась растирать его пестом, уминая торчащие наружу стебли.
— Вы имеете в виду миссис Рэндольф Джефферсон? Мою матушку?
— Главным образом. Но не только. Вы никогда не рассказываете… Не знаю, как это выразить… Ни о чём таком в вашей жизни, что доставило вам настоящую боль. Будто вам никогда не доводилось испытать стыд поражения, быть униженным. Даже в детстве. Порой я ловлю себя на том, что тоже пытаюсь выглядеть перед вами такой же неуязвимой. Но мне это нелегко.
Джефферсон почувствовал, что створки его невидимой раковины поспешно захлопнулись, но, как всегда, слишком поздно. Остриё уже торчало внутри. Он так и не научился улавливать заранее те моменты, когда обычная обезоруживающая мягкость этой женщины вдруг сменялась надменностью, приветливый тон — сарказмом. «Мысль, что я могу вас когда-нибудь утратить, — только она доставляет мне настоящую боль». Но вслух он этого не сказал.
Из освещенных солнцем кустов выскочил встрёпанный негритёнок лет шести. Влетев в тень, отбрасываемую верандой, он раскрыл было рот, но, разглядев чужого, испуганно умолк.
— Джеймс, ты ведь уже разбил себе нос на этой тропинке, — сказала Марта. — Если будешь так носиться, разобьёшь и голову.
— Да, мэм.
— Беги к маме и скажи, что я сейчас приду. Негритёнок подпрыгнул, сверкнул в воздухе светлыми пятками и исчез.
Марта высыпала на полотняный лоскут растолчённый донник, завернула его и уложила в миску. Затем ушла в дом, вернулась с котелком, полным кипятка, и залила им приготовленный свёрток. Тонкий аромат свежего сена поднялся из миски вместе с паром.
— Вы подождёте меня? Я ненадолго.
— Мне бы хотелось пойти с вами.
— О нет, прошу вас.
Она с таким испугом замотала головой, что Джефферсон удивлённо поднял брови.
— Но почему?
— Я иду в негритянскую хижину. Там бедность, грязь. Вам совершенно незачем ходить туда.
— Можно подумать, что вид негритянской хижины будет мне в диковинку.
— Я обещала помочь одной женщине. У неё началось воспаление под коленом, а припарки из донника иногда помогают от нарывов.
— Да, у нас в доме из него делают мазь. Я даже запомнил, как он называется по латыни: melilotus officinalis.
— Так вы подождёте меня? Отец и сестры скоро уже должны вернуться.
— Всё же мне странно, что вы так упорно не хотите взять меня с собой. Я езжу к вам больше года и до сих пор ещё не видел, как живут ваши негры.
— Как и всюду. Там совершенно не на что глядеть. Ничего интересного.
— Вы упрекнули меня в том, что я оставляю белые пятна в своих рассказах о доме, о семье. А сами тут же окружаете покровом тайны какой-то пустяк.
— Здесь нет никакой тайны. Простоя… — Марта досадливо поморщилась, потом посмотрела на него с вызовом и сказала: — Впрочем, как вам будет угодно.
Приподняв край платья, она осторожно спустилась по ступеням веранды и направилась к просвету в кустах. Джефферсон, секунду поколебавшись, пошёл за ней. Он и сам не знал, что им двигало — любопытство? упрямство? Пойти открыто наперекор её желаниям — до сих пор он на такое не решался.
Тропинка шла сквозь цветущий шиповник и вся была усеяна розовыми лепестками. Потом она круто нырнула вниз, под ивовые ветки, дальше открылись выжженный и вытоптанный луг, колодец, два высоких вяза и под ними — скопление дощатых лачуг. Низкие двери, низкие крыши, крохотные дворики с двумя-тремя грядками, в лучшем случае с кустом смородины, кое-где куры. Куры, кошки и дети — больше ничего живого. Всё казалось каким-то нарочито уменьшенным, детским. Только рубахи и штаны, сушившиеся на верёвках, выпадали из общего масштаба, казались непомерно большими.
Марта свернула к крайней хижине, сердито покосилась на Джефферсона и вошла. Дверь была как раз по её росту, ему же пришлось сильно пригнуться. Зато внутри, когда он распрямился, между макушкой и потолком ещё остался целый дюйм.
Нет, грязи он не заметил. Всё было выметено, протёрто, поверхность стола выскоблена ножом, горшки, кастрюли и сковородки начищены. Под полкой висело чисто выстиранное полотенце с незатейливой вышивкой по углам, на стенах кое-где приклеены раскрашенные картинки и ярлыки от английских товаров. В щелях торчали пучки полыни — защита от насекомых. Бросались в глаза несколько предметов, совершенно необычных для негритянской хижины: зеркало в раме, фарфоровая чашка, свеча в канделябре. Всё это были несомненные знаки особого хозяйского благоволения.
Светлокожая мулатка лет тридцати пяти поднялась им навстречу от громоздкой ручной мельницы, стоявшей в углу.
— Бетти, этот джентльмен наш друг, — сказала Марта. — Можешь не тревожиться, он не собирается никого покупать. Просто хотел взглянуть, как вы живёте.
— Я сразу узнала мистера Джефферсона, Патти, золотко моё. Чтобы такой видный джентльмен ездил к нам целый год, а мы бы ничего о нём не знали — это уж надо быть совсем слепыми и глухими.
— Да уж, от вас мало что скроешь. Как нога?
— Болит — мочи нет. Под коленом вспухло и кожа так натянулась, что стала белее твоей. Наверное, гной. Зато я точно узнала, кто наслал на меня порчу. Криворожая Лилиан. Когда выздоровею, поймаю её, зажму голову под мышкой и начну вырывать волосы — вот так! вот так!
В движениях её было столько скрытой внутренней силы, что казалось, будто она сама немножко опасается дать себе полную волю, чтобы не оторвать голову этой несчастной Лилиан совсем.
— Очень ты стала грозная, Бетти Хемингс. Иди-ка лучше сюда к свету. Я сделаю тебе повязку из донника.
Бетти, хромая, подошла к топчану, уселась и без смущения выпростала из-под платья ногу, обнажив её почти до бедра. Марта поставила рядом уже остывшую миску, достала размокший свёрток с травой, подула на него и принялась осторожно укладывать на опухоль.
— Джеймс! — рявкнула вдруг Бетти. — Хватит там бездельничать. Ну-ка, берись за работу.
Негритёнок, таившийся до этого в каком-то укромном углу, одним прыжком перелетел к мельнице, ухватился за рукоятку и с натугой начал вертеть её. Тонкая струйка маисовой муки потекла в подставленный внизу кувшин.
— А что, Бетти, — спросил Джефферсон, — всякая болезнь бывает от порчи и дурного глаза?
— Отчего же ещё?
— Священники учат, что все несчастья Бог посылает нам за грехи.
— Может, оно и так, да только последний месяц у меня никаких грехов не было. Ничего я не крала, никого не обманывала, хозяев слушалась. Вроде бы не за что было Богу так меня карать. Ой, больно!
— Терпи, — сказала Марта, осторожно подсовывая бинт под мощное шоколадное колено.
— В Библии сказано, что первородный грех Адама и Евы лежит на их потомках до скончания веков.
— Ну, мистер Джефферсон, сэр, ведь Адам и Ева были белыми. Если б только в них было всё дело, чёрные давно бы должны оказаться в раю. Нет, у нас рассказывают, что всё зло на земле пошло от мясной кости.
— Вот как?
— Будто при сотворении мира назначено было состязание в скорости между псом и жабой. И такое условие: победит пёс — жить людям счастливо и безмятежно, победит жаба — все погрязнут в грехах, заботах и болезнях. Никто не беспокоился за исход этих скачек, так все были уверены в том, что пёс победит. Но вот пустились они, и пёс сразу обогнал жабу, но тут заметил здоровую мясную кость, накинулся на неё, начал грызть, сосать, рычать, чавкать. А жаба тем временем ни на что не отвлекалась, ползла себе и ползла, болотная тварь, и первая приползла к конечному столбу. С тех пор и лежит на всех нас проклятие, с тех пор и живём в горе да болезнях.
Она осторожно потрогала наложенную Мартой повязку, потом любовно погладила себя по ляжке и нехотя опустила подол платья.
— Спасибо тебе, Патти, золотко моё. Если б мне ещё найти заговоренный зуб бобра, я бы уже завтра была здорова.
— Ох, Бетти Хемингс! Как родилась ты язычницей, так, видно, в суевериях своих и помрёшь.
— Похоже, что так. А почему это с утра такая тишина в верхнем доме?
— Отец с сестрами поехали в Уильямсберг. Будут покупать приданое для Тибби.
— Скоро мистер Вэйлс совсем один останется. Все разлетятся из дома.
В это время детские голоса, приглушённо доносившиеся с заднего дворика, приблизились, сделались явственными, и двое детей, мальчик и девочка, ввалились в комнату, крича наперебой:
— Мама, мама! Питер проснулся в люльке, Питер плачет, мама! Иди скорей.
Вид постороннего не очень смутил их. Мальчик, которому было лет восемь-девять, смело подошёл к Марте и, улыбаясь, протянул ей на ладони главное своё сокровище — улитку, укрывшуюся в радужном витом домике.
Джефферсон всмотрелся в светлокожее лицо мальчика, в тонкий с горбинкой нос, потом перевёл взгляд на Марту, снова на мальчика и почувствовал, как жаркая волна начинает заливать ему шею, лоб, щёки. У девочки лицо было слишком детским, неоформившимся, но сходство мальчика со старым Вэйлсом было разительным.
Марта стояла молча, отвернувшись к стене, не принимая протянутой ей улитки.
Бетти Хемингс пошла к дверям, но, заметив взгляд Джефферсона, задержалась на полдороге и протянула то ли мечтательно, то ли насмешливо:
— И самое главное, что и грехов-то за собой никаких не знала, и хозяев слушалась во всём, во всём.
В том, как широко раздвигались её губы, как катались вверх и вниз белки глаз, как надувались щёки, тоже ощущался неисчерпаемый запас скрытых жизненных сил, которые ей, казалось, приходилось постоянно сдерживать в себе, чтобы не быть разорванной ими на части. Выходя на задний двор, она задела плечом дверной косяк — стена затряслась, листочки полыни посыпались на пол.
Марта постояла ещё немного, потом рассеяно погладила мальчика по голове и вышла из хижины, прижимая к подолу платья пустую миску.
Джефферсон поспешил за ней.
Они уже наполовину пересекли луг, когда зычный голос Бетти Хемингс догнал их, заставил разом оглянуться.
Она стояла теперь на пороге, заполнив собой дверной проём, и кормила грудью притихшего малыша.
— Миссис Марта! Патти моя золотая, хочешь правду тебе скажу? Из всех гостей, что к вам ездят, вот этот джентльмен, что с тобой рядом стоит, один мне по сердцу пришёлся. Лучшего и искать нечего, уж поверь старой няньке.
Марта повела в воздухе рукой, то ли грозя ей, то ли отмахиваясь, повернулась и пошла дальше. Под ивами она позволила Джефферсону догнать себя и сказала, не оборачиваясь:
— Ну вот, теперь вы знаете. Больше никаких белых пятен. И слава богу, я рада. Точно камень с души.
— Я много ездил по колонии. С этим сталкиваешься почти на каждой плантации.
— О да. Часто хозяйка дома с готовностью пускается обсуждать вероятных отцов тех светлокожих негритят, которые бегают по дворам соседей. Но о тех, которые копошатся в её собственном доме, — о тех ни слова. Они, очевидно, просто падают с неба.
— Когда это началось?
— Лет десять назад, после смерти моей мачехи. У Бетти к тому времени уже было четверо детей от негра.
— Сдаётся мне, её хватит ещё на добрую дюжину.
— Самое ужасное, что я так и не смогла разлюбить отца. Я говорила себе, что мой отец живёт в грехе, что я должна вырвать его из сердца, но знала, что никогда не смогу этого сделать. И Бетти тоже. Ведь она растила меня с детских лет. Неужели я должна теперь проклясть её? Но за что? Она-то чем виновата?
Тон её вдруг стал гордым и вызывающим, она повернулась к нему, но, видимо, не рассчитала своих сил — губы искривились, слёзы брызнули из глаз. Она закрыла лицо руками.
— Марта, что с вами? Умоляю, перестаньте. Это всё моё проклятое упрямство. Остался бы на веранде, и ничего бы не случилось.
Он пытался повернуть её к себе, отнять руки от лица.
— Нет, рано или поздно вам рассказали бы, и это было бы ещё хуже. А эти дети? Кто они для меня? Презренные выродки? Единокровные братья и сестры? Что я должна испытывать к ним? Этот Роберт — вы видели, как он тянется ко мне. А я приказываю себе не распускаться, не быть с ним слишком ласковой, не растравлять сердце себе и ему. И вот с такой смутой в душе надо жить с утра и до вечера каждый день, каждый день!
— Марта, я давно хотел вам сказать… — Джефферсон всё ещё держал её за руки. — Вы, конечно, замечали… Мне мало что удавалось скрыть от вас, да и меньше всего хотелось именно от вас. В общем, я давно собирался просить вас: станьте моей женой.
Она на минуту застыла, потом вздохнула и сказала то ли с изумлением, то ли с укоризной:
— Разве можно сейчас об этом.
— Но почему же нет?
— Конечно, я догадывалась и ждала от вас этих слов. Но не в такую минуту… Мои слёзы просто разжалобили вас, но я не хочу…
— Не разжалобили, но придали смелости.
— Признаюсь, вы застали меня врасплох.
— Как хорошо нам будет вдвоём в Монтичелло! Вы оставите всё это позади, и душевная смута пройдёт. Вы почувствуете себя там воскресшей.
— Сердце моё требует, чтобы я сказала вам «да», и в то же время…
— О, не перечьте ему! Я слышу стук колёс — ваши родные возвращаются. Скажите «да», пока никто не помешал нам.
Она отёрла щёки в последний раз, улыбнулась ему, набрала полную грудь воздуха и несколько раз кивнула. Потом притянула его голову к себе и осторожно поцеловала. Он услышал над самым ухом её шёпот:
— Не правда ли, как радостно и как страшно?
— Да. Словно вся жизнь висела на волоске. Но для меня так оно и было, любовь моя.
— Вы верите, что мы будем счастливы?
— Всем сердцем.
— И что нам никогда не станет пусто и скучно друг с другом?
— Для меня это невозможно.
— Знаешь, ты ведь так много уже забрал себе. Мне без тебя всё тускло, скучно, безлюбо.
— Скажи это ещё раз.
— Да, это правда. Я просто тупею, когда тебя нет рядом.
— Какое счастье, что я заупрямился и потащился за тобой сегодня.
— Боже мой! Ведь ещё утром самое большее, о чём я мечтала, — чтобы ты просто приехал. И улыбнулся бы. И позвал бы меня прогуляться до ручья. Вот и всё.
Июнь, 1771
«Уважаемый сэр, я прошу Вас воздержаться от покупки вещей, включённых мною в заказ до тех пор, пока ассоциация не примет окончательных решений по поводу бойкота. Скоро состоится общее собрание членов, и, судя по настроению тех, кто должен принять в нём участие, ограничения и запрещения будут сняты со всех товаров, кроме непосредственно обложенных пошлиной. Если это произойдёт, соблаговолите сделать одно изменение в списке. У меня были заказаны клавикорды. Но недавно мне довелось увидеть фортепиано, и я был совершенно очарован его звучанием. Купите для меня инструмент хорошей работы, целиком изготовленный из красного дерева, чтобы вид его был достоин той леди, для которой он предназначен.
Подобное изменение накладной сделает меня Вашим должником, но думаю, что я смогу увеличить свои поставки табака, так как в ближайшем будущем собираюсь осесть в имении и стать главой семейства».
Из письма Томаса Джефферсона торговому агенту в АнглииАвгуст, 1771
«Почему бы Вам тоже не перебраться поближе к Монтичелло? Вечера мы бы проводили вместе, обсуждая уроки дня, или тратили их на музыку, шахматы и семейные увеселения. С лёгким сердцем отправлялись бы затем на покой, засыпали бы, едва коснувшись головой подушки, и жили бы долго и счастливо. Сердечный привет Тибби — мера моей симпатии к ней уступает только Вашей. Пусть молитвы мои достигнут через Вас также предмета моего поклонения, моей святыни. Передайте ей, что в любых мечтах о будущей счастливой жизни она всегда стоит на переднем плане, занимает центральное место. Стоит ей исчезнуть, и вся картина обращается в пустоту, в ничто».
Из письма Джефферсона Фрэнсису Эппсу, мужу сестры Марты СкелтонЛето, 1771
«Зашёл вечером к Ч. и проболтал с ним около часа. Он страшно озлоблен на бостонцев. “Ненавижу их всей душой, — говорил он. — Великие патриоты! Были за бойкот, пока у них оставались запасы старых тряпок для выгодной продажи, а когда всё продали по сумасшедшим ценам, сразу стали против. Больше не слыхать о развитии собственных производств — чужие товары снова текут к нам потоком. Что же касается чая, его сейчас можно купить именно у тех, кто громче всех проклинал его».
Джон Адамc. ДневникиЛето, 1771
«Визит в Ирландию произвёл на меня очень тягостное впечатление. Вот что случается со страной, уступившей свою независимость другой нации. Малая часть общества — знать, землевладельцы, джентльмены, живущие в роскоши; остальные — арендаторы, бедные до крайности, обитающие в грязных хижинах из грязи и соломы, одетые в тряпьё. Если мои американские соотечественники когда-нибудь пожелают тоже завести класс исключительно богатых помещиков, которым будет принадлежать вся земля, советую им приглядеться к судьбе ирландцев. По сравнению с ними любой наш индеец живёт в комфорте».
Бенджамин Франклин. АвтобиографияОсень, 1771
«В Законодательном собрании штата я пытался провести закон, облегчающий освобождение рабов, но не имел успеха. Во времена королевского правления никакие либеральные перемены произойти не могли. Наши умы были ограничены привычной верой в то, что нам следует подчиняться метрополии во всех вопросах правления, подчинять наши действия её интересам и даже ханжески подавлять все формы религии, кроме господствующей англиканской церкви. Королевский совет вёл себя так, будто ему принадлежала и законодательная власть в колонии, и члены ассамблеи подчинялись этому порядку».
Томас Джефферсон. АвтобиографияДекабрь, 1771
«Мы, Томас Джефферсон и Фрэнсис Эппс, обязуемся уплатить 50 фунтов в виргинской валюте в том случае, если обнаружатся какие-то законные обстоятельства, препятствующие заключению брака между вышеупомянутым Томасом Джефферсоном и Мартой Скел-тон из графства Чарлз-Сити, вдовой, о разрешении какового брака мы и ходатайствуем, принося данное поручительство».
(Разрешение было выдано 30 декабря 1771, брак совершён в поместье Форест 1 января 1772 года.)ИЮЛЬ, 1772. ГРАФСТВО ГУЧЛЕНД, ВИРГИНИЯ
Верёвка была натянута между берегами, и Джон Джут, держась за неё обеими руками, медленно перемещал каноэ вдоль бурлящей кромки порогов. Джефферсон, стоя на корме, время от времени погружал в воду шест с отметинами и кричал стоявшему на берегу Уокеру-младшему:
— Шесть!.. Пять с половиной!.. Ещё раз пять с половиной… Пять… Четыре…
Вода этим летом спадала медленно, но откладывать дело дальше не было смысла. Рабочие, нанятые для расчистки Риванны, и так уже трудились больше месяца, и деньги, собранные с таким трудом по подписке с местных фермеров и сквайров, катастрофически таяли. Вчера провели испытание — барка, гружённая шестью бочонками табака, легко спустилась по расчищенному руслу от Шедуэлла до нижних порогов. Теперь оставалось самое трудное: убрать огромный камень, перегораживавший единственную судоходную стремнину. Широкий каменный лоб блестел посредине реки, окружённый пеной и брызгами.
Опершись на водомерный шест, Джефферсон выпрыгнул на берег и пошёл к пеньку, на котором Уокер пристроил чернильницу и бумаги с расчётами. Склонившись над чертежом, они начали прикидывать, куда сподручнее откатывать камень. О том, чтобы вытащить такую махину из реки, нечего было и думать. Откатить в сторону — того бы и довольно.
Тем временем два негра, неся бухту каната, сели в каноэ и поплыли обратно к камню. Свободный конец каната был привязан к широкому брусу, закреплённому за стволами двух сикамор, оставленных специально на берегу посреди вырубленной прогалины. Несущаяся вода начала задевать, наваливаться на провисший канат, и Джуту приходилось напрягать все силы, чтобы не оторваться от пружинящей, как тетива, верёвки.
— У них уйдёт на обвязку часа два, не меньше, — сказал Уокер. — Мы вполне успеем перекусить.
Они поднялись на прогретый солнцем пригорок, уселись в тени сосен на расстеленный плащ.
— Боюсь, Бетси не положила мне в сумку ничего поинтереснее варёных яиц. А что у тебя?
— Жареный кролик. И бутылка сидра.
— Боже, благослови эту святую женщину — Марту Джефферсон. Как она обживается в Монтичелло?
— Сейчас хорошо. Но весной, когда пришла весть о смерти её мальчика, ужасно убивалась. Простить себе не могла, что поддалась уговорам деда и оставила его в Форесте. Говорит, что уж нашего-то она никому не доверит. Даже мне.
— Когда вы ждёте его?
— Наверное, в сентябре.
— И что ты думаешь теперь о семейной жизни, испытав её на собственной шкуре?
— Не отвечу даже под дулом пистолета.
— Почему?
Джефферсон бросил на него быстрый взгляд, потом наклонился к уху и прошептал:
— Потому что я от счастья стал суеверным. Решил никому ничего не рассказывать.
Он тихо засмеялся. Малиновые ожоги на лбу и прилипшая к груди рубаха придавали ему несколько маскарадный вид. Уокер вздохнул с завистью.
— А у меня всё труднее. За время бойкота Бетси так изголодалась по обновкам, что теперь с ней нет никакого сладу. Но это ещё не самое худшее. Ведь у неё не столько к вещам жадность, сколько именно к новизне. Иногда она смотрит на меня таким взглядом, что я начинаю чувствовать себя виноватым — зачем я сам не новый каждое утро.
Горестное недоумение, звучавшее в его голосе, никак не отражалось на круглощёком, круглоглазом лице. Оно по-прежнему сохраняло всё то же выражение неомрачённого жизнелюбия, приветливости и любопытства.
С берега донеслись крики — подошла новая партия рабочих с лошадьми, навьюченными пилами, заступами, верёвками, топорами. Головы и плечи двух негров мотались в пенной воде вокруг камня, иногда исчезали совсем. Джут что-то кричал рабам, размахивая свободной рукой, потом помог забраться в каноэ и поплыл обратно. Натянувшийся канат косо уходил под воду, поблескивал стекавшими каплями. Брус, к которому он был привязан, заметно вмялся в кору деревьев.
— Как тебя приняли в ассамблее? — спросил Джефферсон.
— Довольно скептически. Если человека избирают на место, принадлежавшее ранее его отцу, всегда найдётся несколько старых пней, которые постараются показать ему, как они сожалеют о такой замене. Патрик Генри спрашивал о тебе. Я сказал, что счастливого молодожёна мы теперь не скоро увидим в Уильямсберге.
— Мне нужно до осени закончить хотя бы центральную часть дома. С новорождённым в павильоне нам будет не разместиться.
— Ничего, справимся и без тебя. Теперь, когда буря улеглась, всё пойдёт гладко.
— Улеглась? По-моему, это просто затишье.
— Думаешь, смута будет продолжаться? Из-за какой-то трёхпенсовой пошлины на чай?
Джефферсон метнул объеденную кроличью ножку в ствол сосны, достал дорожный серебряный стаканчик, налил себе сидра и ткнул горлышком бутылки в сторону реки.
— Ты знаешь, что отец Джута воевал под командой Вашингтона против французов? И что платили им чаще не деньгами, а векселями на западные земли? Так вот, они уже восемь лет не могут получить свои участки. Вашингтон, правда, хлопочет за них в губернаторской канцелярии, но ничего не может добиться. Он и сам в таком же положении: плата землёй была обещана, но вступить во владение ему не разрешают.
— При чём здесь это?
— А при том, что Джут, его отец и все прочие ветераны скрипят зубами от злости. Или взять прихожан из Нэнсмондского графства. Они обратились ко мне с просьбой помочь им избавиться от навязанного им священника — пьяницы, дебошира, сладострастника. В нижней инстанции суд поддержал нас, но королевский прокурор утверждает, что суд не властен решать такие дела, что мы покушаемся на прерогативу англиканской церкви, и поэтому тянет дело. Преподобный отец тем временем куражится пуще прежнего, богохульствует и развлекает себя тем, что спускает штаны на глазах у паствы.
— Да, я слыхал о нём. Он допрыгается до того, что прихожане вываляют его в дёгте и перьях.
— И останутся с пустой церковью. Я к тому всё это говорю, что у тысяч людей накопилось много злости на Лондон, но у каждого для неё свой повод. Ветераны хотят получить участки — нельзя. Фермеры хотят осваивать новые земли за Аппалачами — закон запрещает. Купцы хотят торговать со всем миром — нарушение английской монополии. Верующие хотят выбирать себе пастырей по вкусу — нет, терпите присланных из-за океана. Промышленник хочет завести сталеплавильню или прокатный стан — нет, везите железо в Англию и потом покупайте там стальные изделия втридорога. Мы хотим покончить с жестокостью законов, с бесчеловечием рабства — нет, будете жить по законам, присланным из Вестминстера. Но если бы каждый начал кричать о своём, получился бы нестройный гвалт — ничего больше. Пошлина же хороша тем, что всех объединяет. «Долой чай!» — это вырывается разом из миллионов глоток, это впечатляет. Хотя каждый при этом вкладывает в такой крик свою личную боль.
Они покончили с едой, спустились к кромке воды, вымыли руки. Рабочие тем временем расчистили от кустов площадку позади сикамор и прилаживали постромки по всей длине бруса. Уже два каната тянулись теперь от него, захлёстывая камень гигантской петлёй. Негры, раздевшись догола, пританцовывали у костра, поворачиваясь то одним, то другим боком. Джут затянул бинт на окровавленной ладони и поднялся навстречу подошедшим сквайрам.
— Мистер Джефферсон, вы бы всё же поглядели ещё раз на эти канаты. На каждом из них можно спокойно подвесить сорокапушечный бриг.
— Канаты отличные, Джут. Но что с того?
— Может, хватит двух? Боюсь, с третьим мы провозимся дотемна.
— Дорогой Джут, я знаю, что вы не трус. Говорят, вы схватывались в одиночку с шайкой бродяг, хаживали и на медведя. Но послушайтесь моего совета: никогда не идите против математики. В нашем случае она отвечает твёрдо: на камень такого веса необходимо иметь не меньше трёх канатов данного сечения.
— Сечения?
— То есть толщины.
— Учёными словами меня, конечно, запугать нетрудно. Что ж, будь по-вашему. Эй вы, привязывайте ещё одну бухту! Придётся плыть в третий раз.
Джут оказался прав.
Они закончили обвязку лишь тогда, когда тени сосен покрыли реку от берега до берега. Лошади уже были впряжены в постромки, люди подняли брус, упёрлись в него грудью. Те, кому не хватило места, взялись за канаты. Джефферсону и Уокеру досталось тянуть у самой кромки воды. Джон Джут, держа под уздцы двух передних лошадей, оглядел согнутые спины, удовлетворённо хмыкнул и с криком «навались!» потянул лошадиные морды вперёд.
Десятки ног упёрлись в гальку, в песок, в корневища, жилы натянулись на шее, дыхание стало хриплым, прерывистым:
— Разом!.. Разом!.. Разом!..
На каждый рывок канаты откликались глухим струнным звуком. Вдруг шум воды как-то странно переменился, и сквозь пот, заливавший глаза, Джефферсон увидел, что каменная туша начала медленно вырастать из своего пенного воротника. Почувствовав, что брус сдвинулся, пошёл вперёд, люди, сбив ритм, с воплем навалились из последних сил, заскребли ногами по земле, камень поднялся ещё выше, со всхлипом выворачиваясь из своего невидимого тысячелетнего ложа, и Джефферсон, уже понимая, что сейчас произойдёт, но не в силах отстать от общего порыва, всё тянул, упираясь каблуками, откидываясь телом чуть не до песка, пока развернувшаяся громада не перекатилась на другой бок и не сбросила с себя канатную петлю.
Лошади, почувствовав внезапную лёгкость, рванули вперёд, проволокли по земле тех, кого подмяло упавшим брусом. Люди пытались выбраться друг из-под друга, копошились, хохотали, чертыхались. Кто-то свалился в уголья костра и теперь катался по земле, гася тлеющую одежду.
Камень торчал из воды, вздымая ещё более высокий бурун. И всё же главное было сделано. Они сдвинули его с места. Завтра можно будет начать всё с начала, накинуть новую петлю, выиграть ещё несколько футов. Сияющий Уокер подошёл к Джефферсону и, потирая ушибленный локоть, кивнул на расширившийся поток:
— А ведь похоже, этой осенью урожай к океану отправим уже водой, а?
Зима, 1773
«В это время начались споры по поводу независимости судей. Король запретил членам нашего Верховного суда получать жалованье от ассамблеи Массачусетса, как это делалось до сих пор, и учредил им жалованье от короны. Таким образом губернатор мог в любой момент лишить судью места и средств к существованию. “Что нам делать, чтобы спасти себя?” — таков был общий крик среди патриотов. Ведь поскольку губернатор и его совет целиком зависели от королевского правительства, потеря судьями своей независимости означала бы почти полную утрату вольностей нашей страны и отдавала каждого человека на милость губернатора и его прислужников».
Джон Адамc. АвтобиографияВесна, 1773
«В это время политическая напряжённость в Англии усилилась. Правительство оказалось глубоко повязанным с проблемами Ост-Индской компании. В письме, отправленном моему сыну Уильяму Франклину (в то время губернатору Нью-Джерси), я саркастически отмечал, что “отказ американцев пить чай чуть не разорил эту крупную фирму”. Падение её акций вызвало панику на бирже, какой в Англии не видели за последние 50 лет. Фабриканты были вынуждены увольнять тысячи работников, и это вызвало волнения во многих промышленных городах».
Бенджамин Франклин. АвтобиографияОсень, 1773
«На складах Ост-Индской компании скопилось 17 миллионов фунтов чая, который некому было продать, ибо американцы отказывались покупать обложенный пошлиной товар. Тогда министерство, идя навстречу нуждам компании, разрешило ей везти чай непосредственно в колонии, не уплачивая экспортной пошлины, обычно налагаемой при выезде из Великобритании. Благодаря такой мере чай, обложенный только импортной пошлиной в три пенса, делался столь дешёвым, что контрабандный товар не мог с ним конкурировать.
И вновь крик об угрозе, нависшей над свободой, прокатился от Нью-Хэмпшира до Джорджии. В столицах многих колоний прошли митинги и собрания, на которых были обсуждены и приняты различные планы, каким образом можно вернее отвратить зло и воспрепятствовать продаже чая».
Дэвид Рэмси. История Соединённых Штатов6 октября, 1773
«После долгого и серьёзного обдумывания данного вопроса я пришёл к заключению, что парламент не имеет никакого права выпускать законы для колоний. Только король — а не король, лорды и общины вместе — является суверенным повелителем американцев; поэтому король в сотрудничестве с выборными ассамблеями колоний является единственным законодателем для них. Я знаю, что твои чувства по этому вопросу отличаются от моих. Ты предан британскому правительству, являешься частью его, и я не собираюсь обращать тебя в свою веру. Я только призываю тебя действовать осмотрительно и по совести, не впадая в то двуличие, которое продемонстрировал губернатор Массачусетса, чем снискал вдобавок к возмущению ещё и презрение. Если ты можешь способствовать процветанию жителей Нью-Джерси и оставить их в более счастливом состоянии, чем они были в момент твоего вступления в должность губернатора, память о тебе будет доброй, независимо от твоих политических принципов».
Из письма Бенджамина Франклина сыну УильямуОктябрь, 1773
«…Мы единодушно признаём, что…
5. Разрешение, данное Ост-Индской компании везти чай в Америку, с тем чтобы по выгрузке он был обложен пошлиной, является открытым покушением английского министерства на вольности Америки.
6. Что долгом каждого американца является сопротивление этому беззаконию.
7. Что всякий, кто вольно или невольно поддержит замысел министерства и примет участие в выгрузке, получении или продаже привезённого чая, является врагом отечества».
Из резолюции, принятой жителями Филадельфии17 декабря, 1773
«Прошлой ночью в гавани Бостона груз чая с трёх судов был выброшен в море. Это самое знаменательное событие. Есть какое-то достоинство, величие, торжественность в этом последнем ударе патриотов, которые вызывают моё восхищение. Народ невозможно поднять на борьбу, если не совершить чего-нибудь необычайного — такого, что поразит воображение и запомнится. Уничтожение чая показывает такую смелость, решимость, несгибаемость, что я уверен — оно будет иметь самые важные последствия и станет вехой в истории.
Что предпримет в ответ министерство? Выразит ли своё возмущение? Решится ли наказать нас? Каким образом? Расквартировав новые войска? Лишив нас самоуправления? Запретив нам вести торговлю? Принеся в жертву отдельных людей?»
Джон Адамc. ДневникиДЕКАБРЬ, 1773. МОНТИЧЕЛЛО
Джефферсон пересчитал разложенные на холсте черепа и внёс получившуюся цифру в первую графу таблицы. Другие графы были приготовлены для рёбер, зубов, позвонков, фаланг, для костей локтевых, бедренных, тазовых. Сами кости лежали тут же рядом тёмной кучей — их ещё надо было очистить от земли и рассортировать.
Со стороны могильного кургана донеслось звяканье лопаты. Джефферсон сердито обернулся и прокричал:
— Эй вы там! Опять размахались? Сколько можно повторять — осторожнее, мягче.
Голова Юпитера высунулась из траншеи, прорезавшей курган от края к центру.
— Хозяин, тут снова камни пошли.
— Тогда соберите то, что накопали, и несите сюда. Голова исчезла, и немного погодя оба негра вылезли на
свет, таща за утлы мешок с новой партией костей. Джефферсон велел раскладывать их в сторонке, чтобы не смешались с содержимым первого слоя. Заиндевелые стебли прошлогодней травы топорщились под расстеленным холстом, превращая его в горный рельеф. Юпитер достал кисть из конского волоса и принялся сметать грязь и пыль с добытых костей. Второй негр, Мартин Хемингс, каждый раз, извлекая из мешка череп, заглядывал ему в глазницы и гримасничал, скаля зубы. В начале раскопок он не был таким смелым. Жаловался, что тени мёртвых индейцев приходят к нему ночью и грозят отомстить за разорение могилы.
Со стороны Риванны показался всадник в тёмно-синем плаще и треуголке. Он издалека начал махать рукой, и Джефферсон, всмотревшись, узнал сына генерального прокурора — Эдмунда Рэндольфа.
— Силы небесные, Эдмунд, как вы сумели меня здесь отыскать?
— Я заехал в Шедуэлл, и ваша матушка рассказала, где вас найти и чем вы тут занимаетесь. Хорошо, что вам не пришлось увидеть, какое у неё при этом было выражение лица.
— Могу себе представить. Но всё равно, ужасно вам рад. Вы приехали как нельзя кстати. Идёмте, мне позарез нужно было с кем-то поделиться.
Эдмунд спешился, отдал поводья подошедшему Мартину и пошёл вслед за Джефферсоном к взрезанному кургану. Судя по остаткам стерни на его склонах, летом он шёл под распашку. Видимо, плуг год за годом сглаживал, закруглял макушку, хотя и сейчас она изрядно возвышалась над землёй — футов на десять. Дальше поле спускалось к реке ровно, без единого бугорка.
Джефферсон вошёл в поперечный раскоп и стал так, чтобы Эдмунду была видна стена траншеи, косо прорезанная цепочкой камней, отделявших верхний слой от нижнего.
— Ну, что скажете?
— Скажу, что никогда не видел земли, так густо перемешанной с человеческими костями.
— И только? Но разве вы не слышали всех этих толков, будто такие холмы складывались из воинов, погибших в сражениях? А теперь обратите внимание, насколько кости в нижнем слое хуже сохранились, чем в верхнем. Разве не ясно, что они оказались в земле намного раньше?
— Индейцы без конца воюют друг с другом. Может быть, они стаскивали сюда своих мертвецов после каждого крупного боя?
— Так вот, ни на одной из костей мне пока не удалось найти никаких следов ранений, нанесённых оружием. Ни пробитого черепа, ни разрубленного сустава. Кроме того, часто попадаются останки детей. Или, по-вашему, у них воевали и дети? Наши легковеры не любят, когда простое наблюдение над природой опровергает их кабинетные теории и домыслы. Но придётся им проглотить и эту пилюлю: военное объяснение никуда не годится.
Возбуждённый своим открытием Джефферсон говорил быстро и весело, жестикулировал почерневшим ребром, как указкой.
— Какова же ваша версия? — спросил Эдмунд.
— Ещё не могу сказать с уверенностью. Меня смущает то, что все кости мы находим лежащими вперемешку — ни одного цельного скелета. Может быть, эти захоронения устраивались после эпидемий, поражавших посёлок. Или после землетрясений. Судя по всему, в памяти индейцев курганы окружены какой-то печальной славой. Несколько лет назад здесь ещё не было поля, всё покрывали деревья. Небольшое племя проходило неподалёку, отправляясь в Уильямсберг. Ни у кого не спросив дороги, они свернули сюда, нашли захоронение и долго простояли, вздымая руки к небу и громко стеная.
— Вы будете раскапывать дальше?
— Непременно. Если снег не помешает, дойдём до самого основания. Впрочем, на сегодня, пожалуй, хватит. Едемте обедать в Монтичелло. По дороге расскажете мне, что случилось. Похоже, тени краснокожих не сумели отвлечь вас от сегодняшних забот.
Они сели на коней, медленно поехали вверх берегом реки. Эдмунд всё не решался начать, и Джефферсон, словно забыв о нём, снова говорил или думал вслух о том, что так занимало его последние месяцы, — об истории земли, лежавшей у них под ногами. Была ли она когда-нибудь связана со Старым Светом? Почему некоторые животные обитают по обе стороны океана, а некоторые — только здесь? Прав ли Бюффон, утверждая, что американские животные мельче европейских? Каким образом остатки морских раковин оказались заброшены на высоту в тысячу футов и больше? Можно ли объяснить это Всемирным потопом? Или гигантское землетрясение вздыбило то, что когда-то было дном океана? И снова об индейцах: почему в языках разных племён нет ничего общего? Ведь в Европе общие корни сохраняются в языках разных народов веками. Не следует ли отсюда, что разделение индейцев на племена произошло много тысячелетий назад? И каким же невероятным сроком надо измерять тогда возраст рода человеческого?
— Как вы стали далеки от нас! — воскликнул вдруг Эдмунд. — И не только в пространстве — во времени тоже.
В голосе его было столько искренней горечи, что Джефферсон оборвал фразу на полуслове и примирительно сжал юноше руку.
— Счастье эгоистично, дорогой Эдмунд. Если и вам когда-нибудь доведётся жить анахоретом, не видя ничего вокруг, кроме природы и родных лиц, вы поймёте меня. Поймёте, с какой изобретательностью можно каждый день изыскивать оправдания тому, чтобы и дальше не ездить в Уильямсберг.
— Предоставляя старых друзей их судьбе? Какой бы она ни была?
— Что-нибудь случилось?
— Я поссорился с отцом. Смертельно. Мы сказали друг другу ужасные слова. Я ушёл из дома и снял комнатёнку за Капитолием.
— О боже правый. Бедный Джон.
— Бедный Джон, бедный мистер Рэндольф, бедный господин прокурор. Одно это и слышишь. Все жалеют несчастного отца, никто не скажет — «бедный Эдмунд». Только сестры иногда прибегут тайком, пришьют пуговицу, сунут кусок домашнего пирога, поплачут и убегут.
Он прикусил губу с такой силой, что когда разжал зубы, она секунду оставалась мертвенно-белой. Тропа свернула от реки в заросли бересклета; с ветвей, задетых лошадиными боками, посыпались на землю остатки красно-чёрных ягод.
— С чего началось на этот раз? — спросил Джефферсон.
— Точно не помню. Кажется, он сказал что-то язвительное о Патрике Генри. Я вступился. Он заявил, что ему отвратительно видеть, как обычное тщеславие рядится в тогу патриотизма и свободолюбия. Я сказал, что из тщеславия люди обычно не склонны рисковать головой. Он ответил, что смутьяны и крикуны пользуются гуманностью английского законодательства и мягкотелостью судей. «Какие же это судьи проявили мягкотелость?» — «А хотя бы те, которые оставили безнаказанным разбой в Бостонской гавани».
— Боюсь, он не останется безнаказанным, — вставил Джефферсон.
— Я сказал, что ящики с чаем были разрублены и выброшены в море индейцами. На что он ответил, что если бы с этих индейцев смыть боевую раскраску, обнаружилось бы несколько хорошо известных джентльменов, по которым давно плачет виселица. Тут уж я совсем взвился. «Когда у нас в гавани произойдёт что-нибудь похожее, не советую вам заниматься отмывкой. Можете под боевыми узорами обнаружить своего сына!» — «Не беспокойся, я исполню то, что велит закон, и по отношению к сыну». — «И получите орден от кровавого тирана, которому вы служите!» — крикнул я. Он побагровел и закричал… Нет, не хочу повторять. Про меня, про вас, про Вашингтона, Уокера, Уайта — про всех. Я хлопнул дверью и убежал.
— Да, тяжело всё это. Очень тяжело. И всё же я снова скажу: бедный Джон. Ведь вы, убегая, знали, что почти любой дом в Виргинии откроет вам двери. А он? К кому пойдёт, на кого сможет опереться? На одного губернатора?
— Ах, мистер Джефферсон! Насколько бы мне было легче, если б он был глуп, жесток, напыщен, несправедлив. Если б дурно обращался со мной или сестрами. Если б сделал что-нибудь такое, за что бы я мог перестать любить его.
Эдмунд хлюпнул носом, и Джефферсон, поспешно обняв его за плечи, принялся говорить о том, что дело ещё не безнадёжно, что он при случае попробует поговорить с Джоном и помирить их, что на пятом десятке человеку трудно так сразу перестать верить тому, чему он верил и служил всю жизнь, что старшее поколение, особенно те, кто родился или учился в Англии, связаны с нею тысячью живых нитей и нельзя ждать, чтобы они оборвались быстро и безболезненно. И пока он говорил, ему ни разу не пришлось подыскивать слова, ибо с такими же уговорами он много раз обращался к самому себе перед каждым визитом в Шедуэлл, к матушке — к миссис Джейн Рэндольф Джефферсон.
Когда подъезжали к Монтичелло, с запада ненадолго пробилось солнце и насквозь прошило незастеклённые окна в правом крыле нового дома. Центральная часть и левое крыло были уже совсем закончены, две каминные трубы усердно дымили. Джефферсон мысленно приставил к фронтону четыре колонны, которые он недавно добавил на плане — передвинул, сделал толще, перечеркнул.
В гостиной Бетти Хемингс, которую Марта после смерти отца забрала к себе вместе со всем потомством, нянчила маленькую Пэтси. При виде вошедших девочка соскользнула с её колен и затопала, заковыляла навстречу отцу, улыбаясь и что-то лопоча про яблоки, про те яблоки, которые укатились, куда-то они укатились, никому не достать, даже Бетти не знает, где искать их. Джефферсон уже протягивал к ней руки, но в это время из боковой двери вылетела Марта и с укоризненным воплем: «Томас, опомнись! прямо из могилы!» — подхватила девочку и отбежала в угол, прижимая её к груди. Джефферсон виновато постучал себе кулаком по лбу и ушёл умываться.
Стол был накрыт в столовой рядом с горящим камином. Пэтси, чуть заробев, позволила Эдмунду усадить себя рядом с ним и, закрыв глаза, проглотила с протянутой ложки несколько горошин. От тепла, от детского лепета, от всей мягкой, дружеской атмосферы дома лицо Эдмунда постепенно разглаживалось, искусанные губы всё чаще растягивались в улыбку.
Марте рассказали о его горестях, она слушала сочувственно, но потом вдруг покачала головой и сказала:
— Мне ли не знать, каково это — нелады с любимым отцом. Сколько я натерпелась от своего! Мои тайные счёты с ним были подлиннее тех, что мистер Джефферсон получает от своих поставщиков. Я тоже негодовала, возмущалась, плакала втихомолку, страдала! Но вот он умер — и как я хочу вернуть теперь эти свои страдания, слёзы, обиды. Вернуть, вернуть их! Но нет — поздно.
Январь, 1774
«Новости, полученные из Америки, воспламенили и без того перегретые страсти в британском министерстве. 19 января английский корабль “Хэйли” приплыл из Бостона в Дувр, и три дня спустя газета “Сент-Джеймс кроникл” напечатала подробное описание “бостонского чаепития”. Ещё днём позже корабль “Полли” отшвартовался в Грейвсенде с полным грузом чая, отвергнутого в Филадельфии. 27 января в Лондон прибыл полный отчёт массачусетского губернатора Хатчинсона о нападении на британскую собственность, и лорд Норт и его кабинет собрались на совещание для обсуждения возникшего кризиса».
Бенджамин Франклин. АвтобиографияЗима, 1774
«Возмущение и измена вырастают в Америке в таком же изобилии, как табак и картофель. Американцы — вьючные животные, они созданы на то, чтобы тащить воз податей. Спрашивают, почему мы не облагали их раньше. Но кто же запрягает в плуг телёнка, не дождавшись, пока он вырастет в быка?»
Из речи, произнесённой в британском парламентеЗима, 1774
«Пишу коротко, чтобы сообщить, что правительство уволило меня с должности помощника почтмейстера… Что-то говорит мне, что они намерены уволить и тебя тоже с твоей должности губернатора. Может быть, они ожидают, что, возмутившись их обращением со мной, ты подашь в отставку и тем самым избавишь их от стыда увольнения человека, заслужившего продвижение по службе. Но я не советую тебе этого делать. Дай им лишить тебя места, если они так хотят, потому что, говоря по совести, я не вижу смысла держаться за пост, который оплачивался так плохо, что год за годом ты оставался моим должником».
Из письма Бенджамина Франклина сыну УильямуЗима, 1774
«В наказание за уничтожение чая английское правительство постановило с июня закрыть порт Бостона. Известие об этом пришло в Уильямсберг во время весенней сессии палаты представителей. Было решено открыто выразить нашу солидарность с Массачусетсом и выработать соответствующие меры, для каковой цели несколько депутатов, и я в том числе, собрались в комнате совета, где размещалась библиотека. Мы были убеждены в необходимости пробудить людей от летаргии, в которую они впали, и полагали, что этому будет способствовать назначение дня общего поста и молитвы. С помощью старинных хроник мы изучили прецеденты и формы времён пуританской революции XVII века и согласно им выработали резолюцию, призывавшую всех жителей посвятить 1 июня посту и покаянию, призывавшую их молить Небеса об избавлении нас от ужасов гражданской войны, о даровании нам твёрдости в защите наших прав и о том, чтобы сердца короля и членов парламента обратились к умеренности и справедливости».
Томас Джефферсон. Автобиография21 ФЕВРАЛЯ, 1774. МОНТИЧЕЛЛО
Тот памятный день начался с приятного сюрприза: синьор Альберта, нанятый Джефферсоном для музыкальных занятий, явился на урок с новым дуэтом Луиджи Боккерини для скрипки и клавесина, только что присланным из Парижа. Марта, несмотря на беременность, согласилась оставить полуторагодовалую Пэтси на попечение кормилицы Урсулы, и они с увлечением музицировали втроём два часа в достроенном крыле главного дома. Юпитер растопил камин с раннего утра, запах сосновых поленьев витал в нагретом воздухе.
Весь прошедший год для Джефферсона был наполнен Италией. Новый альбом великого Палладио приплыл из Лондона, и Томас сверялся с гравюрами в нём, проектируя архитектурные детали для левого крыла. Ноты произведений Вивальди, Корелли, Джеминиани, Локателли уже не умещались на отведённой для них полке. С поселившимся неподалёку виноделом из Сиены он имел возможность упражняться в итальянском, обсуждая перспективы разведения виноградников в Виргинии. Марта посмеивалась над ним, когда видела, что даже списки огородных посадок он составляет не на английском. «Ты думаешь, что чеснок будет лучше пахнуть, если его назвать Aglio di Toscanal А бобы станут быстрее расти под звучным именем Fagiuoli d'Agustal»
После ленча Джефферсон заставил себя погрузиться в финансовые отчёты. Отец Марты умер год назад, и полученная ею доля наследства увеличила их состояние чуть ли не втрое. 11 тысяч акров земли и 135 рабов перебросили их в верхние ряды виргинских богачей. Правда, оказалось, что поместье старого Вэйлса было обременено многими долгами и для покрытия хотя бы части их половину земли пришлось тут же продать. Кроме забот о своём имении, Джефферсон принял на себя хлопоты по делам внезапно овдовевшей сестры и её четверых детей, а также незамужних сестёр, ещё живших с матерью в Шедуэлле. Слабоумная тридцатилетняя Элизабет вызывала в нём особенное сострадание и тревогу. Что ждёт её в будущем?
Сделав копию месячного отчёта по расходам на Шедуэлл, он вложил её в конверт и отправил Юпитера отвезти послание матери. Раньше он ездил с отчётом сам, и это было удобным поводом выразить сыновнюю почтительность. Но в декабре пришли новости из Бостона, и стена, всегда отделявшая его от матери, стала ещё выше.
— Я не могу понять, Томас, как вы можете выступать в защиту пиратов, выбросивших в море груз чая с британских судов! — восклицала она. — Вы всегда были защитником собственности. Представьте себе, что кто-то по политическим мотивам поджёг бы груз табака, отправляемого вами за океан.
Насколько он знал, во многих виргинских семьях «бостонское чаепитие» стало яблоком раздора. Возможно, тот факт, что миссис Джейн Рэндольф Джефферсон родилась в окрестностях Лондона, сделал её навеки сторонницей всего британского. Правда, жена Марта родилась в Америке, однако и её отпугнул разбой, учинённый массачусетскими патриотами. Нет, она не говорила об этом вслух. Но за два года супружеской жизни Джефферсон научился разгадывать оттенки её молчания.
Подготовкой очередного судебного иска он решил заняться на следующий день. Адвокатская практика отнимала даже больше времени и сил, чем дела семейные. За шесть лет он заслужил хорошую репутацию в колонии, от клиентов не было отбоя. Но они так тянули с оплатой счетов, что в конце концов получить с них удавалось едва ли треть оговоренной платы. Дошло до того, что они с Патриком Генри и ещё четырьмя виргинскими адвокатами дали объявление в газете, что отныне не будут браться ни за какое дело, пока клиент не уплатит вперёд половину причитающегося гонорара.
Попытки разобраться в хитросплетениях расписок, обязательств, нотариально заверенных договоров и завещаний безотказно вызвали у Джефферсона тяжёлый приступ мигрени. Необходимо было проветриться. Он натянул сапоги, завязал на горле тесёмки плаща, нахлобучил шапку из бобрового меха и вышел на крыльцо. Лёгкий снежок припорошил ночью облетевшие деревья, и теперь они посеребрёнными волнами уходили вниз по склону холма. Да, ради такого вида стоило обрекать себя на все мучения, связанные со строительством дома на вершине горы. А сколько ему довелось слышать уговоров-отговоров, призывов образумиться, даже насмешек. Но он упорно, шаг за шагом одолевал силу земного тяготения, телегу за телегой доставлял наверх кирпичи, брёвна, камни и возводил своё жилище по трём главным заветам Палладио: удобно, прочно, красиво.
Конечно, до завершения строительства было ещё далеко. Лишь половину комнат можно было считать пригодными для жилья. Джефферсона ранили жалобы Марты на постоянные сквозняки, на протекавшую крышу, на чад, поднимавшийся из кухни. Но он призывал её смотреть вперёд и разделять его мечты о множестве гостей, друзей, родственников, которые вскоре заполнят музыкой и смехом их горное обиталище.
За конюшней начиналась тутовая аллея. Невольничьи хижины, увенчанные дымками, неровными рядами выстроились под деревьями. От них во все стороны расходились следы работников, посланных управляющим с утра на разные задания. Работы хватало всем и зимой: прокладывать новую дорогу в Шедуэлл и Шарлоттсвилл, заготавливать дрова, варить мыло, ремонтировать мост через Риванну, копать второй колодец, выпиливать бруски льда из замёрзшего пруда для летнего погреба. Он также всерьёз обдумывал завести в ближайшем будущем мастерскую по производству гвоздей.
Но вообще-то душа его не лежала к промышленным затеям. Ему мечталось, чтобы мануфактуры с рядами ткацких станков, угольные шахты, корабельные верфи, выплавка чугуна и стали оставались уделом Европы. Земледелие — вот священное занятие, которое должно стать основой процветания Америки. А все необходимые плоды тяжёлых фабричных трудов можно будет получать из-за океана, посылая взамен пшеницу, рожь, картофель, лён, хлопок, табак, коноплю.
Он решил спуститься в сад и проверить, как гранатовые саженцы перенесли первые заморозки. Тропинка шла через небольшую открытую площадку, посредине которой на перекладине висел медный колокол, сзывавший по утрам невольников на раздачу заданий. В тихую погоду звон его долетал даже до Шарлоттсвилла. Разгадать тайну распространения звука в воздухе — это принесло бы не меньшую славу, чем открытие электричества в атмосфере, сделанное Бенджамином Франклином. Иногда Джефферсону казалось, что каждая частица творения таит в себе миллион сверкающих тайн, упрятанных под коркой привычного и обыденного. Загадочно звёздное небо над головой, но загадочен и каждый миллиметр холодного воздуха, обтекающего лицо. Как в нём могут уживаться — пересекаться — сливаться, не оттесняя друг друга, — лучи света, волны звука, силы тяжести, магнитные линии? Непостижимо.
Саженцы перенесли холода неплохо — он был доволен. На обратном пути увидел, как из хижин посыпалась негритянская ребятня, затеяла перестрелку высохшими желудями. Сын Бетти Хемингс, восьмилетний Джеймс, опустившись на четвереньки, с лаем гонялся за младшей сестрёнкой вокруг столбов, на которых лежала перекладина с колоколом. Черты старого Вэйлса проглядывали в его лице так ясно, будто кто-то сделал слепок с мертвеца и просто обтянул его свежей светлокоричневой кожей.
Год назад, сразу после смерти отца, Марта настояла, чтобы Бетти Хемингс с потомством переехала в Монтичелло. И в те же месяцы Джефферсон купил супружескую пару невольников: Большого Джорджа и его жену Урсулу. Это обернулось спасением для маленькой Пэтси Джефферсон. Потому что первые месяцы после рождения жизнь её висела на волоске. Простуда, понос, температура, кашель непредсказуемо сменяли друг друга, и врачи не могли найти причину. У Марты явно не хватало молока для ребёнка. А приехавшая Урсула как раз кормила новорождённую дочь. Она просто приложила Пэтси к другой груди, и чудо случилось — девочка начала поправляться на глазах. Вид Урсулы, выпроставшей из расстёгнутого платья две шоколадные дыни, чем-то напоминал Джефферсону древнеримскую богиню плодородия Помону, виденную им в альбоме гравюр, присланном из Милана. Но две припавшие к соскам детские головки — черноволосая и светловолосая — разрушали античный образ, переносили сцену в горячий сегодняшний день.
Марта рассказала ему, что к тому времени, когда Бетти Хемингс стала наложницей плантатора, Вэйлс потерял одну за другой трёх жён и не надеялся, что какая-нибудь белая дама рискнёт стать четвёртой. Бетти была дочерью невольницы, изнасилованной капитаном Хемингсом во время перевозки партии рабов из Африки. Так что в детях, рождённых ею Вэйлсу, была только четверть негритянской крови.
К вечеру из Шедуэлла вернулся Юпитер. Воздевая руки к потолку, он стал рассказывать хозяину о том, что слабоумная Элизабет, похоже, совсем утратила остатки разума. Она убегает от всех, кто пытается к ней приблизиться, прячется в тёмных углах, наваливая на себя одеяла и подушки. Действие чьего-то дурного глаза налицо — в этом не может быть никакого сомнения.
— А ещё была дурная примета: прямо перед моим конём дорогу переползли две змеи. Где это видано, чтобы змея выбралась из своей норы в феврале?! Такого не бьшало на моей памяти никогда. Масса Томас, прикажите хоть на этот раз сжечь клок овечьей шерсти и окурить углы спальни. Надо верить старикам. Они учили нас, что нет лучшего средства от вредного сглаза и грозящей беды.
Масса Томас велел ему не лезть с глупостями, а пойти и приготовить постель в кабинете. Пэтси опять покашливала, и встревоженная Марта хотела уложить её с собой. Подсунув под спину вторую подушку, Джефферсон перед сном полистал ноты Боккерини, тихо напевая мелодию под нос. Музыка, почему она живёт своей жизнью, абсолютно неподвластная словам? Всё остальное человек может описать словами — только не музыку. Впрочем, нет. Есть ещё одна важная вещь, остающаяся всегда невыразимой, всегда вне власти слов, — боль. Можно указать место, где болит, можно говорить «сильнее — слабее», но описать? Будем хвататься за слова-подмены: «режет, тянет, ноет, жжёт, дёргает». Всё не то. То же самое и запахи. Скажем «пахнет рыбой, левкоем, тухлым яйцом, палёной шерстью». Слух, чувство боли, обоняние — мы пользуемся ими наравне с животными. Не потому ли поневоле становимся бессловесными, как и они?
Сон подкрался незаметно, утянул его в свою пучину. Он проснулся посреди ночи от звука колокола. Звон был слабым, нерешительным, медный язычок будто заплетался со сна, не знал, что хотел сообщить. Человеческая рука дёргала его или ветер?
Джефферсон не успел додумать.
Раздался удар, треск, звон разбитого окна.
Прогрохотали, осыпаясь, кирпичи в каминной трубе.
Диван ожил, дёрнулся под ним, словно лодка, задумавшая выбросить путешественника в воду.
Он вскочил, но и пол начал уходить из-под ног.
Шатаясь, хватаясь руками за кресло, за стол, за стены, он бросился в сторону спальни.
В слабом лунном свете увидел Марту, бегущую ему навстречу с Пэтси на руках.
— Томас! Томас! Что это? Мы гибнем? Рушится дом?! Что происходит?
— Это землетрясение! На двор! Скорее!
Он подхватил одеяло с дивана, набросил его на жену, повёл к лестнице. Ступени дёргались и пытались выскользнуть из-под ног.
Сброшенная с петель дверь лежала на полу. Ледяной воздух лился в чёрный проём.
Они выбежали наружу и остановились под облетевшим клёном, словно надеясь найти защиту под его крепкими ветвями.
Земля под ногами опять затряслась. Казалось, невидимый великан ворочался там во сне, пытаясь устроиться поудобнее. Джефферсон в страхе оглянулся на дом. Нет, постройка выдержала удар. Чёткий силуэт крыши упрямо чернел на фоне лунного неба.
Марта тихо плакала, её била мелкая, неудержимая дрожь. Джефферсон забрал у неё почти голенькую Пэтси, спрятал к себе на грудь, под халат. Босые ступни быстро немели на снегу.
Со стороны негритянских хижин доносились крики, детский плач. Лошади ржали в конюшне. Кто-то вынес зажжённый факел. В его свете стали видны фигуры полуодетых слуг, жавшихся друг к другу. Великан, довольный произведённым испугом, затих.
Всё же возвращаться в повреждённое здание было слишком опасно. Остаток ночи Джефферсоны провели во флигеле Хемингсов, который почти не пострадал.
При утреннем свете стали видны трещины в штукатурке фасада и колонн. Однако кирпичная кладка выдержала испытание неплохо. Джефферсон послал слуг расчищать комнаты от обломков, вставлять стёкла, навешивать двери. Сам же отправился в Шедуэлл.
Там разрушения оказались незначительными, дом тоже устоял. Но мать и сестры были так напуганы, что начали умолять его увезти их в Шарлоттсвилл. Он с трудом убедил их, что если землетрясение повторится, укрываться в городских постройках будет гораздо опаснее. Потом появилась горничная и объявила, что они нигде не могут найти Элизабет. Джефферсон отправил нескольких рабов на поиски сестры, а сам поспешил обратно в Монтичелло. Марта была на седьмом месяце — перенесённое потрясение могло закончиться для неё преждевременными родами.
Подъезжая к тутовой аллее, он заметил на снегу странную чёрную завитушку. Спешился, подошёл, нагнулся. Головка замёрзшей змеи была беспомощно откинута, нестрашные зубки нацелены в небесную пустоту. Видимо, коршуны и вороны сами были так напуганы, что ещё не успели заметить лёгкую добычу. Раз Юпитер видел выползших змей за несколько часов до землетрясения, не означает ли это, что они в своих норах ощущают подземные толчки гораздо раньше, чем люди? Нельзя ли использовать этот природный феномен как знак, как предупреждение о приближающейся опасности? А непонятный испуг Элизабет? Может быть, и она, взамен утраченной ясности ума, получила способность ощущать тайные движения в глубинах Творения, недоступные обычным людям? Опять тайны, загадки…
Тело утонувшей Элизабет удалось отыскать только два дня спустя. В двадцати ярдах от него на берег Риванны выбросило маленькую лодчонку, служившую обитателям Шедуэлла вместо парома. Река ещё не успела замёрзнуть, наоборот, вспухла от дождей. Видимо, испуганной Элизабет несущаяся вода казалась менее опасной, чем земля, готовая разверзнуться под ногами, и она пыталась спастись на лодке.
Из-за разлива реки похороны пришлось отложить на две недели. В расчётной книге Джефферсона появилась запись, аккуратно отметившая неожиданный расход: за надгробную службу и похороны он заплатил пастору пять фунтов. Правда, тот согласился вместо наличных получить два приглянувшихся ему книжных шкафа. Для новых фолиантов, присланных из Англии, эти шкафы всё равно были малы, пора было заказать новые.
Под крышей Монтичелло снова звучали голоса, стучали молотки рабочих, скрипка пыталась справиться с трудными пассажами Боккерини. А месяц спустя раздался и тонкий крик новорожденной. Девочку назвали Джейн Рэндольф — в честь бабушки.
Из полученных газет стало известно, что подземные толчки ощущались на огромном пространстве от Ричмонда до Северной Каролины, что дома срывало с фундаментов, а церковные шпили падали, как спички. Джефферсон считал, что он вправе гордиться прочностью своей постройки. Но с тех пор под поверхностью всех обыденных событий и новостей, долетавших до них из других колоний, ему тоже стал мерещиться затаившийся великан, который в любую минуту может повернуться и выбить почву из-под ног.
Весна, 1774
«Здесь в Лондоне страсти против Америки кипят. Готовится билль, который передаст королевскому губернатору в Массачусетсе право назначать местных администраторов без согласования с ассамблеей. Любые собрания будут проходить только с разрешения губернатора. Также изменят порядок назначения присяжных заседателей. В обеих палатах парламента билль встретит некоторое сопротивление, но очень мало надежды на то, что он не пройдёт. На сегодняшний день у Америки слишком мало друзей здесь. Генерал Гейдж будет назначен вашим губернатором».
Из письма Бенджамина Франклина другу в Бостон15 июня, 1774
«Британское министерство должно понять, что американцы никогда не согласятся платить налоги, учреждённые без их согласия. Деспотические и жестокие меры, предпринятые им против Бостона, мы всегда будем считать направленными также и против всей Америки (хотя мы и не одобряем поведение тех, кто уничтожил груз чая). Мы не позволим министерству подавлять колонии по отдельности. Одному Богу известно, что ждёт нас впереди, когда такое множество угроз нависло над нами сегодня».
Из письма Джорджа Вашингтона Уильяму Фэрфаксу20 июня, 1774
«Новое и важное поприще открывается передо мной — еду участвовать в Континентальном конгрессе в Филадельфии. Это будет собрание мудрейших людей континента. Все они принципиальные американцы, то есть не признают права парламента облагать нас налогами.
Чувствую себя недостаточно подготовленным для такого важного дела. Мне бы следовало иметь более обширные познания о королевстве, о колониях, о коммерции, о законах и политике. Что можно предпринять? Предложить комитетам собираться ежегодно? Подавать петиции? Королю, палате лордов, палате общин? Одни обсуждения не помогут… Идеи людей различаются так же радикально, как их лица. Одни думают, что петиций недостаточно. Так много их уже было отвергнуто с презрением. Другие считают, что пришла пора действовать решительно».
Джон Адамc. ДневникиЛето 1774
«Каким образом 160 тысяч человек, участвующих в выборах парламента в Англии, могут диктовать свою волю четырём миллионам американцев? Его Величество не имеет права посылать солдат к нашим берегам, а те, которые прибудут с нашего согласия, должны подчиняться нашим законам. Короли — слуги народов, а не господа их… Вы, Ваше Величество, не имеете министров, которые могли бы ведать американскими делами, потому что рядом с Вами нет наших представителей. Не приносите в жертву права граждан одной части Вашей империи в угоду корыстным интересам другой. Мы, со своей стороны, готовы сделать всё разумно возможное, чтобы восстановить добрые отношения с Великобританией. Отделение от неё противоречит нашим желаниям и нашим интересам. Но одно условие остаётся обязательным: наша собственность и наша земля может облагаться только теми налогами, которые назначены нашими собственными законодателями».
Томас Джефферсон. Общий обзор прав Британской АмерикиЧасть вторая. ПОЖАР
ОКТЯБРЬ, 1775. РЕКА ДЕЛАВЭР БЛИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ
Вёсла галеры плавно опускались в воду и потом выныривали, будто зачерпнув новую порцию солнечного блеска в глубине. Деревья по берегам Делавэра только-только начинали желтеть. Джефферсон вглядывался в их силуэты, отыскивая знакомые породы: клён, ива, вяз, ясень, дуб, сосна. А вот и северный гость, которого в Виргинии можно встретить только в горах, — могучая многолетняя ель. Стоит рядом с рощей, как колокольня рядом с храмом, — так и ждёшь, что гроздья шишек зазвучат в молитвенном перезвоне.
— Кажется, сегодня нам повезёт с погодой, — сказал сидевший рядом Джон Адамc. — Три дня назад мы попытались доплыть до залива, но ветер и начавшийся прилив заставили нас повернуть назад. Капитан был очень огорчён и разочарован.
Семь новых галер были построены комитетом безопасности колонии Пенсильвания в рекордный срок. Конечно, в открытом океане они не смогли бы противостоять британским фрегатам. Но в тихих водах Делавэрского залива их преимущество в маневрировании могло оказаться решающим и принести победу. Особенно если Провидение пошлёт штиль и парализует парусные корабли. Гордые своей работой пенсильванцы пригласили делегатов Континентального конгресса совершить прогулку на новых боевых судах.
— Мы с вами уже много раз заседали этим летом в различных комитетах, — продолжал Адамc, — но ещё ни разу не имели случая встретиться с глазу на глаз. Я рад, что такой случай наконец представился. Мне кажется, у нас найдётся много общих тем и помимо политики. Насколько я знаю, мы оба по профессии адвокаты, оба по призванию и сердечной увлечённости фермеры и садоводы, оба любим музыку, книги, стихи. Мне говорили, что вы знаете французский, итальянский, приступили к изучению немецкого. Здесь у меня неминуемо начинается прилив чёрной зависти. Я пытаюсь учить язык Вольтера, но времени не хватает ни на что. Кроме того, мы оба повязаны семейными узами, знаем, что такое тревога за родных и близких, когда они отделены от тебя сотнями миль. Примите мои соболезнования в связи со смертью вашей младшей дочери. Сколько ей было?
— Почти полтора года. Врачи не смогли определить характер её недуга. Моя жена уже потеряла сына от первого брака и новый удар перенесла очень тяжело. Уезжая на конгресс, я оставил её и старшую дочь в поместье её замужней сестры, но сердце болит за них непрестанно. А тут ещё почта запаздывает на недели, если не на месяцы.
— Я тоже давно не имел известий из дома. В наших краях свирепствует дизентерия; мой брат, капитан милиции, умер в лагере под Бостоном. Трёхлетний сын болел очень тяжело, мать моей жены лежит при смерти. Наш городок Брейнтри находится так близко от Бостона, что может быть в любой момент атакован британцами, как Лексингтон и Конкорд. Кроме того, он совершенно беззащитен с океана. Несколько залпов корабельных батарей могут стереть его с лица земли.
— Вы думаете, адмирал Хоу может решиться на такое?
— Чарлстаун они уже сожгли почти дотла. В вашей Виргинии губернатор Данмор рассылает по колонии агентов, подбивающих индейцев убивать мирных жителей. Чёрным невольникам обещаны свобода и вознаграждение, если они запишутся в армию короля. Британский парламент, в своём высокомерии, воображает, что американцев можно вернуть к повиновению только силой и что для этой цели все средства хороши и оправданны. Они не понимают, что разрушенные дома можно отстроить заново, сожжённые поля снова засеять по весне. Одну лишь свободу возродить невозможно. Её утрачивают раз и навсегда.
Джефферсон покосился на собеседника. Он уже и раньше замечал за Адамсом склонность впускать в повседневную речь высокопарные интонации оратора на трибуне. Однако раздражения это не вызывало. Может быть, потому, что кипучая энергия мысли маленького бостонца изливалась всегда с абсолютной искренностью. Поза была чужда ему. Он говорил с одинаковой страстью, обращаясь к заполненному залу конгресса, или к двум-трём членам очередного комитета, или к единственному слушателю.
— Каким образом тори удалось перехватить ваше письмо к жене? — спросил Джефферсон. — Воображаю, как вы были огорчены и возмущены, когда они напечатали его в своей газете. Но торжествовали они напрасно. В этом письме так ясно и убедительно перечислены труднейшие задачи, стоящие перед конгрессом, что многие колеблющиеся американцы, прочитав его, могли склониться в нашу сторону. Да, нам можно посочувствовать. Приходится ломать голову не только над конституцией будущей страны, но также над тем, как оборонять территорию, растянувшуюся на полторы тысячи миль, как договариваться с индейцами, что делать с рабством, как создавать флот, как вооружать и обучать солдат, как регулировать торговлю.
— Наши враги усмотрели в этом письме готовность пишущего к полному отделению от метрополии. Не стану отпираться — такая готовность во мне созрела. Другое дело, что оглашение этих мыслей я считал преждевременным и был раздосадован опубликованием письма. А вы, что вы думаете о перспективах объявления независимости? Созрели американцы для такой кардинальной перемены или нет?
— Колонии уже полгода находятся фактически в состоянии войны с Британской империей. Мы все, собравшиеся на Континентальный конгресс, объявлены бунтовщиками, заслуживающими виселицы. Британский парламент не намерен отказаться от права выпускать законы для нас, а я скорее приложу руку к тому, чтобы потопить весь их остров в океане, чем подчинюсь такому порабощению. Но убедить остальных американцев? Мне даже в собственной семье не удалось достичь согласия по этому вопросу. Завидую тому, что ваша жена, судя по всему, полностью разделяет ваши убеждения.
— О да! Могу сказать, что в некоторых вопросах она заходит даже дальше меня. Например, она настаивает, чтобы в будущей конституции было специально оговорено расширение прав женщин. Им должен быть открыт доступ к образованию, разрешено владеть имуществом наравне с мужчинами, даже требовать развода с мужем, если тот жестоко обращается со своей семьёй или ведёт её к разорению. Боюсь, в какой-то момент она может потребовать для женщин и права участвовать в выборах. О, извините, я вижу, что доктор Франклин закончил беседу с делегатами из Джорджии. Воспользуюсь моментом и расспрошу о его взглядах на возможность полного отделения.
Галера тем временем приблизилась к берегу. Две цепи с коротким лязгом опустили якоря в воду — один с кормы, другой — с носовой надстройки. Капитан поднялся на мостик, поднёс рупор ко рту:
— Джентльмены! Мы заготовили для вас небольшое развлечение. Видите тот старый амбар на пригорке? Хозяин давно собирался снести его, чтобы построить новый. Мы предложили избавить его от лишних трудов, да ещё приплатили немного за беспокойство. Нашим канонирам необходима тренировка. А делегатам конгресса важно убедиться, что выделенные ими деньги не были потрачены впустую.
Канониры тем временем хлопотали у четырёх небольших медных пушек, установленных на верхней палубе вдоль правого борта. Движения их были слаженны, мешочки с порохом один за другим исчезали в блестящих жерлах, за ними следовали чёрные ядра. Наводчики, припав к стволам, выверяли точность прицела. Замелькали огоньки фитилей.
Джефферсон подошёл к перилам.
От первого выстрела палуба сильно дёрнулась под ногами зрителей. Стоявший рядом делегат ухватился за его плечо.
Амбар всё так же высился на фоне осеннего неба, сияя просветами в сгнивших досках.
Второе ядро тоже просвистело мимо.
Третье разнесло крышу, деревянная труха и солома посыпались внутрь.
Четвёртое ударило в нижние брёвна, и вся постройка начала оседать и разваливаться с жалобным треском.
Меткий выстрел делегаты приветствовали криками и аплодисментами. Многие впервые видели боевую артиллерию в действии. Устроенное зрелище явно подогрело боевой дух собравшихся. Два-три десятка таких галер — и британскому флоту будет перекрыт вход в устье Делавэра!
Джефферсон тоже хлопнул несколько раз в ладоши, но не очень уверенно. Ему никогда не удавалось пробудить воинственный энтузиазм в своей душе. Описания сражений в исторических книгах он часто пропускал, благоговения перед великими полководцами не испытывал. Умом он понимал необходимость и неизбежность грядущей войны, но в мечтах всегда пытался перескочить эту кроваво-грязную полосу дней, месяцев, лет и унестись сразу в будущее царство наступившего благоденствия и справедливости.
Когда дым рассеялся, Джефферсон хотел вернуться к своей скамье, но делегат от Пенсильвании Джон Дикинсон перехватил его, взял под локоть, отвёл в сторону.
— Я не хотел прерывать вашу беседу с мистером Адамсом. Уверен, что он пытался склонить вас к более радикальной позиции, чем та, которую мы с вами выработали, составляя «Декларацию о необходимости вооружённого сопротивления». Позвольте и мне, в свою очередь, представить некоторые аргументы…
— Дорогой мистер Дикинсон, мы просидели с вами бок о бок десятки часов на летней жаре, составляя эту декларацию, и имели достаточно времени, чтобы уяснить взгляды друг друга. Я уступил вашему нажиму, согласился на включение в текст слов «речь не идёт об отделении колоний от метрополии» и теперь горько жалею об этом.
— Но конгресс одобрил предложенный нами текст!
— Да, одобрил. Однако два дня спустя без консультаций со мной вы уговорили делегатов отправить королю очередную петицию о примирении. Поймите, логика тиранов проста: «Если противник просит о мире, значит, он слаб и боится меня; нужно только надавить на него посильнее, и он поддастся».
— Имеем ли мы право уже сейчас заклеймить Георга Третьего словом «тиран»? Он вступил на трон молодым, за 15 лет не раз демонстрировал способность противодействовать решениям парламента. А ведь обе палаты имеют в своём арсенале множество отработанных приёмов давления на волю монарха.
— Вы всё ещё тешите себя иллюзией, будто король и парламент не единодушны в своём стремлении подавить колонии, лишить их всякой самостоятельности. В своих «Письмах пенсильванского фермера» вы в своё время так ясно обрисовали несправедливость закрытия Законодательного собрания колонии Нью-Йорк, несправедливость запрета производить многие товары в Америке, несправедливость требования покупать в Англии полотно, бумагу, порох и другие необходимые нам вещи. Куда же девалась ваша проницательность и чуткость к утрате наших традиционных прав и свобод?
— Уверяю вас, мистер Джефферсон, она ничуть не ослабла. Но кровавая реальность событий последних месяцев наглядно показала, какую ужасную цену придётся платить нашему народу за попытку отделения от Великобритании. Эти сожжённые дома, эти разрушенные церкви, трупы, плывущие по рекам, женщины с детьми на руках, оставшиеся без крова, бредущие неведомо куда. И ведь это только начало. Уверен, мы должны, мы обязаны испробовать все пути к примирению — возможные и невозможные.
— В нашей декларации были слова: «Перед лицом всего человечества мы являем собой народ, подвергшийся свирепой атаке врага, которому не было дано никаких поводов для нападения». Сегодня вы готовы отказаться от этих слов?
— Вовсе нет. Всё, о чём я прошу — удержите своих друзей от новых резких заявлений в адрес короны. По крайней мере дайте правительству в Лондоне время обдумать нашу последнюю петицию и ответить на неё.
— Думаю, что ждать нам осталось недолго. Уверен, что ответ уже прозвучал под сводами Вестминстера и сейчас плывёт к нам через океан в сопровождении десятков фрегатов и тысяч солдат.
Дикинсон развёл руками и, наклонив голову, отступил от собеседника на несколько шагов. Потом растворился в толпе других делегатов.
Джефферсон перевёл взгляд на проплывающий берег. Стая растревоженных стрельбой гусей пролетела над стогами сена, опустилась на водную гладь за кормой. Несколько всадников появилось из-за дубовой рощи. Протуберанцы из перьев грозно вздымались над их головами, стволы мушкетов пока торчали вверх, но в любую минуту, казалось, готовы были опуститься, взять на прицел неведомых пришельцев.
— Вот кто остаётся для меня загадкой. — Незаметно вернувшийся Джон Адамc стал рядом с Джефферсоном. — В Новой Англии индейцев почти не осталось, у меня не было возможности встречаться с ними, изучить их нравы и обычаи. Полтора столетия белые живут рядом с ними и до сих пор не научились мирно договариваться о границах, спокойно и честно торговать, помогать друг другу. Что движет ими? Почему они так часто нападают на нас без всяких поводов и причин?
— Ещё чаще они нападают друг на друга. Каждый индеец прежде всего воин. В глазах своего племени индейский юноша никто, пока он не украсил себя скальпом врага. Вождь может заключить с белыми договор, получить в уплату порох, виски, металлическую посуду, табак. Но его власть над соплеменниками слишком слаба. Он не сможет никого покарать за нарушение договора. Если несколько воинов решат, что пришла пора показать свою доблесть, напав на бледнолицых, вождь не сможет удержать их.
— Что же делать? Неужели из этого заколдованного круга нет выхода?
— Вот вам трагическая история, случившаяся в Виргинии полтора года назад. Два индейца из племени шауни ограбили и убили белого поселенца. Как водится, была организована карательная экспедиция. Конечно, в таких обстоятельствах отыскивать виновных невозможно. Каратели убивают тех, кто попадётся. Увидели, что пирога с индейцами пересекает реку, затаились, подпустили на 20 ярдов и дали залп. Убили всех, но оказалось, что в пироге был только один мужчина. Остальные — женщины и дети.
— Какой ужас!
Это была семья вождя племени минго, по имени Логан. Я его хорошо знал, он бывал у меня в доме. Умел писать и читать, к белым относился с самыми дружескими чувствами. Но тут из мести ступил на тропу войны. А губернатору Данмору послал письмо, которое я бы причислил к лучшим образцам ораторского искусства. «Найдётся ли хоть один белый, который приходил в дом Логана голодным и не был накормлен? — писал он. — В течение последней войны Логан оставался в своей хижине и призывал к миру. Соплеменники показывали на него пальцами и говорили: “Логан перекинулся к белым”. И вот теперь, мстя за одного убитого, вы убили всех моих родных. Кто сможет оплакать Логана, когда придёт его время? Никто».
— У вас в южных штатах невольник представляет собой немалую ценность. Я однажды задумался: почему ни один плантатор никогда не попытался обратить в рабство индейца?
— О, это абсолютно невозможно! Индеец скорее умрёт, чем позволит надеть на себя ярмо. Мы пытались приучать их к земледельческому труду, но в них живёт глубочайшее отвращение к занятиям пахаря и скотовода. Их шаманы учат, что пахать, то есть терзать тело земли — матери всего живого, — это всё равно что взять нож и вспороть грудь собственной матери; добывать руду — это как докапываться до её костей, косить сено — всё равно что сбривать все волосы на её теле.
Всадники на берегу тем временем исчезли так же беззвучно, как и появились. Устье реки расширялось, ветер с залива усыпал мелкие волны белопенными гребешками. Они колотились о борта галеры, выбивая ритмичную дробь, похожую на топот сотен копыт.
— Я говорил с мистером Франклином, — сказал Адамc. — Вы могли заметить, что в конгрессе он редко выступал с заявлениями, предпочитал обсуждать все проблемы в узком кругу. В этом он похож на вас, не правда ли? Но сейчас он высказался довольно решительно. «Американцы больше готовы к независимости, чем конгресс», — сказал он.
— Вряд ли найдётся среди нас депутат, который был бы теснее связан с Англией, чем мистер Франклин. Он прожил там много лет, пользуется огромным авторитетом как учёный, дружен со многими министрами. Его сын вот уже 12 лет занимает пост королевского губернатора колонии Нью-Джерси. Такой коллизии судьбы не позавидуешь. Заиметь в качестве идейного противника собственного сына! Вот уж кому придётся резать по живому, коли дело дойдёт до отделения. Так что если за независимость открыто выскажется сам Бенджамин Франклин, остальным трудно будет не последовать его примеру.
— А что вы думаете о делегате от Пенсильвании, докторе Раше? Мне кажется, он искренний и убеждённый сторонник отделения. Правда, описывая на днях в своём дневнике его выступление в конгрессе, я охарактеризовал его словами «оратор, но не мыслитель».
— Вы ведёте дневник?
— Конечно, с ранней юности. Я не знаю другого способа учиться на собственных ошибках и исправлять их. А вы?
— У меня есть подробные книги расходов по поместью, хроника семейных событий, учёт погодных условий. Но настоящий дневник?.. Нет, не получалось. Всё самое важное в жизни — отношения с близкими, музыка, размышления о загадках Творения — всё это так неуловимо для наших слов. Слова возвращают всё на тот уровень, на котором важность утрачивается.
В это время капитан поднёс рупор ко рту и прокричал несколько команд. Нос галеры начал поворачивать влево, боковая волна с неожиданной силой ударила в борт. Палуба дёрнулась под ногами собеседников, оба поспешно ухватились за перила.
— Догадываюсь, почему капитан решил закончить нашу прогулку, — сказал Джефферсон. — Мы достигли той точки, где сходятся границы трёх колоний. Наша корма ещё в Пенсильвании, нос — в Делавэре, а вёсла, полагаю, вторглись в водное пространство Нью-Джерси. В каждой колонии свои правила судоходства, и капитан опасается нарушить их по неведению. Если три близких соседа до сих пор не сумели согласовать такую немаловажную деталь, вы представляете, какой гигантский труд предстоит тем, кто попробует соединить в единое целое 13 колоний, растянувшихся на две тысячи миль?
Ноябрь, 1775
«Так как многие из наших подданных в различных колониях Северной Америки, откликнувшись на призывы злоумышленников и нарушив верность защищавшей их верховной власти, совершили множество незаконных деяний, ведущих к нарушению общественного спокойствия, обрыву торговых связей, и вылились в открытый бунт, в отказ подчиняться постановлениям властей и законам и во враждебные военные действия, мы решили, по согласованию с нашими советниками, выпустить королевскую прокламацию, объявляющую, что не только наши официальные лица, военные и гражданские, должны приложить все усилия к подавлению бунта и привлечь изменников к суду, но также все подданные королевства обязываются направить все силы к разоблачению преступных заговоров, устроенных против нашей короны и достоинства, и сообщать имена и действия злоумышленников соответствующим властям».
Из королевской прокламации, прибывшей в Америку 31 октября 1775 года31 декабря, 1775
«Сегодня — последний день службы солдат, записавшихся в армию в этом году… В нашем лагере под Бостоном — растерянность и смятение… Мы очень страдаем от холода и нехватки дров. Во многих полках доставляемые продукты едят сырыми, потому что нечем топить печи. И это при том, что мы уже сожгли все ограды в округе и вырубили все деревья в радиусе мили вокруг лагеря. Лишения солдат трудно описать. Завтра армия ослабеет как никогда».
Из письма генерала Натаниэля Грина14 января, 1776
«Нам говорят, что Англия — наше отечество. Тогда ей тем более должно быть стыдно за своё поведение. Даже звери не пожирают своих детёнышей, и даже дикари не идут войной на своих семейных; так что это утверждение, если бы было верным, обернулось Англии упрёком. Но оно, при всём том, и неверно. Выражение “отечество” или “родина-мать” было иезуитски присвоено королём и его приспешниками, чтобы воспользоваться доверчивостью нашего ума. Европа, а не Англия является отечеством для Америки».
Томас Пейн. Здравый смыслЯнварь, 1776
«Отчёты о парламентских дебатах по делам колоний, речь короля и отказ в последней петиции конгресса прибыли в Америку в начале 1776 года. Вместе с ними пришли известия о том, что королевское правительство ведёт наём солдат в графстве Гессенском и других европейских государствах и что эти наёмники должны будут помогать в окончательном подавлении колоний… Трудно описать возмущение, вызванное во всех слоях общества этими новостями. Речь короля была осуждена и сожжена посреди военного лагеря в Кембридже. Колеблющиеся обрели решимость, робкие осмелели, философски настроенные поклонники мира покинули свои умозрительные схемы и облачились в доспехи и шлемы. Решительные действия сделались единственно возможной формой поведения».
Мерси Отис Уоррен. История революции3 марта, 1776
«Дом трясётся от рёва пушек. Выглянув наружу, я поняла, что огонь ведут наши войска под Бостоном. Заснуть невозможно, моё сердце колотилось в унисон с канонадой всю ночь. День прошёл спокойно, но что принесёт завтрашний день, знает один только Бог».
Из письма Абигайль Адамc мужуМарт, 1776
«Американцы не препятствовали отплытию британского флота, артиллерийский огонь был прекращён… Генерал Вашингтон с небольшим отрядом въехал в Бостон с развёрнутыми победными знамёнами и наблюдал, как остатки британской армии в панике оставляли город, так долго страдавший под их властью. Бескровная победа, с одной стороны, и постыдное бегство — с другой были встречены, в зависимости от политических пристрастий, одними с радостным удивлением, другими — с горестным изумлением».
Мерси Отис Уоррен. История революции31 марта, 1776
«Город был найден в лучшем состоянии, чем можно было бы ожидать… Мне не терпится услышать, что вы в Филадельфии объявите независимость. Видимо, потребуется составить новый свод законов, и я надеюсь, что в нём будут расширены права женщин и что вы будете щедрее к нам, чем ваши предки. Не оставляйте такую неограниченную власть в руках мужей. Помни, что большинство мужчин легко превращаются в тиранов, если только им предоставить такую возможность. Если этого не будет сделано, мы поднимем восстание и не станем подчиняться законам, выпущенным без нашего участия. Разумные люди во все века отвергали обычаи, превращавшие нас в ваших вассалов. Так и вы отнеситесь к нам как к существам, отданным самим Провидением под вашу защиту, и используйте своё положение для того, чтобы сделать нас счастливыми».
Из письма Абигайль Адамc мужу в ФиладельфиюВесна, 1776
«Рождение Америки связано не с Англией, а со всей Европой. Этот новый континент стал приютом для всех преследуемых сторонников гражданских и религиозных свобод из всех европейских стран. Они бежали не от нежных объятий матери, а от жестокого чудовища. В этой стране есть выходцы из Германии, Голландии, Швеции, Дании и других стран, выходцы из Англии составляют хорошо если треть. Та же самая тирания, которая заставила их покинуть Британские острова, преследует их и сегодня. Британия, сделавшись сейчас откровенным врагом, не может называться родиной-матерью. Говорить, что примирение с ней является нашим долгом, есть полная нелепость. Первым английским королём был Вильгельм Завоеватель, француз, и половина британских лордов ведёт своё происхождение от французов; но никто не станет говорить, что на этом основании Англия должна управляться Францией».
Томас Пет. Здравый смысл26 мая, 1776
«Огромная военная сила, надвигающаяся на Америку, делает необходимым усилить нашу армию. Нужны новые мотивы для привлечения рекрутов на службу. Если бы конгресс выпустил закон, обещающий материальную поддержку семьям тех, кто погибнет или будет покалечен в боях, это привлекло бы многих в армейские ряды и вдохнуло бы новое мужество в тех, кто уже служит. У нас остаётся слишком мало времени для набора достаточного числа новобранцев, и все усилия должны быть направлены на то, чтобы увеличить их приток».
Из письма генерала Натаниэля Грина, посланного в Филадельфию Джону Адамсу из военного лагеря Континентальной армии под Нью-Йорком4 июля, 1776
«Когда в мировой истории ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден расторгнуть политические узы, связывающие его с другим народом, и занять самостоятельное и равное место среди держав мира, на которое он имеет право по законам природы и её Творца, уважительное отношение к мнению человечества требует от него разъяснения причин, побудивших его к такому отделению.
Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определёнными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить её и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье».
Томас Джефферсон. Декларация независимостиИЮЛЬ, 1776. ФИЛАДЕЛЬФИЯ
Воздух в студии художника был пронизан лучами света, врывавшимися в неё не только через два больших окна в стене, но и через застеклённый квадрат в потолке. Джефферсон подумал, что такую новинку он был бы не прочь использовать при намеченной перестройке своего дома в Монтичелло. Правда, придётся искать какое-то сверхпрочное стекло, чтобы оно смогло выдержать груз снега в зимние месяцы. А может быть, просто прикрывать его крепкими ставнями?
Художник Чарлз Пил обещал ему, что позирование не займёт больше часа, что речь идёт только о предварительном эскизе, ибо он мечтает — считает своим долгом — написать в конечном итоге портреты всех депутатов конгресса, проголосовавших за Декларацию независимости. А уж упустить шанс запечатлеть на полотне её автора — нет, такого он никогда бы себе не простил.
Выглядывая из-за мольберта, бросая быстрый взгляд, нанося несколько штрихов то карандашом, то углём, Пил развлекал гостя рассказами о годах своей учёбы в Англии у знаменитого Бенджамина Уэста, потом перескакивал на годы юности, когда он зарабатывал на жизнь ремеслом седельщика в Аннаполисе, а его кредиторы-лоялисты, узнав о том, что он вступил в общество «Сыны свободы», сговорились и довели его до разорения, так что ему пришлось на время сбежать в Бостон, где у него открылись способности к рисованию и он нашёл своё настоящее призвание.
Оглядывая висевшие на стенах картины, Джефферсон то и дело невольно возвращался взглядом к портрету женщины, застывшей над кроваткой с мёртвым ребёнком. Пил уже рассказал ему, что его дочь умерла полгода назад от оспы и что его супруга Рейчел захотела иметь память о ней навсегда. Лицо четырёхлетней покойницы выглядело неожиданно взрослым, почти старушечьим, чепчик с кружевами обрамлял его светящимся полукругом.
«Захотела бы Марта иметь портрет нашей Джейн? Наверное, нет. Болезненные воспоминания и так живут в её душе слишком долго, отказываются умирать. А может быть, это она сама не даёт им умереть, раствориться в реке забвения? Будто ощущает, что забыть — это предать любовь к умершей? А я? Моя мать умерла всего три месяца назад, а я готов забыть эту смерть уже сегодня. Зато я шесть недель после её смерти мучился дикими мигренями. Не было ли это наказанием свыше за слабость сыновних чувств?»
Его рука время от времени поглаживала портфель, лежавший рядом на стуле. Ему не терпелось перечитать новое издание трактата Томаса Пейна «Здравый смысл», лежавшее там, но он опасался обидеть художника таким явным невниманием.
— …Однако мы с женой надеемся, что Всевышний пошлёт нам многочисленное потомство, — продолжал тем временем Пил. — Нашего сына, которому уже два года, мы назвали Рафаэль. Следующего назовём Рембрандт. Дальше пойдут Рубенс, Леонардо, Тициан. Если, конечно, война не разрушит наши планы. Моя рота ополченцев отправляется под Нью-Йорк послезавтра. Надеюсь, там мне удастся снова встретиться с генералом Вашингтоном. Я побывал у вас в Виргинии, когда писал его портрет в Маунт-Верноне. Он изображён там в форме полковника виргинской милиции. Тогда мне казалось удачным сочетание тёмного камзола с густо-красным жилетом и бриджами. Боюсь, сегодня красный цвет может вызвать только досаду.
— Значит, вас можно уговорить на поездку в дальние края? — сказал Джефферсон. — Приняли бы вы приглашение посетить нас в Монтичелло? Если моя жена даст согласие позировать, я бы очень хотел иметь её портрет.
— Вы полагаете, у неё могут быть возражения? Я готов прислать ей отзывы нескольких дам, которые были очень довольны тем, как их облик запёчатлён на моих полотнах.
— Ваше мастерство общепризнанно, слухи о нём достигли даже нашего провинциального угла. Но природная застенчивость моей жены с годами только усугубляется. Мне трудно уговорить её поехать в гости, посетить театр в Уильямсберге, принять участие в бале. Даже написать письмо сестре или старинной приятельнице для неё тяжкий труд, к которому надо готовиться неделями.
— С огромным удовольствием посещу ваши края. Как только последний британский корабль отплывёт от наших берегов, я буду готов путешествовать по всему континенту. Моя вторая страсть после живописи — коллекционировать растения и чучела птиц. Когда вглядываешься в узоры цветка или птичьего оперения, понимаешь, как безнадёжно далеки мы от совершенства Художника, сотворившего всё живое. Я мечтаю основать в Филадельфии музей, который отразил бы богатство американской флоры и фауны. В этом музее первый этаж был бы отведён… О, слышу шаги! Скорее всего, это доктор Раш. Он тоже обещал уделить мне час — с одиннадцати до двенадцати.
Бенджамин Раш вошёл радостно возбуждённый, размахивая шляпой, будто всё ещё видел перед собой ликующую толпу на площади.
— Победа, мистер Джефферсон, полная победа! В городе праздничные шествия и банкеты, Декларацию зачитывают вслух в церквях, в тавернах, перед полками. Даже для роты недавних иммигрантов из Германии был сделан перевод на немецкий. Лоялистов и прочих сторонников примирения с Британией не видно, никто из них не смеет рта открыть. Не зря мы с вами просиживали дотемна в конгрессе, доводя текст до предельной ясности. Отпечатанные копии уже отправлены во все колонии. Теперь пути назад нет. Эти четыре странички разожгут в стране не меньший пожар, чем сто страниц книги «Здравого смысла».
— Я как раз вчера получил третье издание этого трактата и успел пролистать его, — сказал Джефферсон, уступая пришедшему кресло для позирования. — Вы ведь знакомы с автором, с мистером Пейном? Мне бы очень хотелось встретиться с ним и задать ему несколько вопросов.
— Нет ничего проще. Он как раз собирался зайти за мной через полчаса. Тогда я вас и познакомлю.
— Мне хотелось бы узнать, почему он убрал с титульного листа слова, которые были там в первом издании: «Написано англичанином».
— Думаю, что пока Пейн писал свой трактат прошлой осенью, он всё ещё чувствовал себя подданным Британской империи. Однако огромный успех книги показал ему, насколько он близок к американцам и складом ума, и настроем души. Хотя он прожил здесь меньше двух лет, круг его друзей и знакомых на сегодняшний день очень широк. И всё же я готов сказать, что его читатель, его аудитория — не англичане и не американцы. Как и вы в тексте Декларации, он обращается в своём труде ко всему человечеству.
— Чем он занимался, живя в Англии?
— О, хватался то за одно, то за другое. Какое-то время был матросом на торговом корабле, потом овладел ремеслом отца и занялся изготовлением женских корсетов. Служил сборщиком налогов на алкоголь и табак, однако был уволен за какие-то нарушения. Настоящего образования получить не смог, но зачитывался газетами и журналами. Видимо, к тридцати годам в его памяти скопилось достаточно знаний о текущей политике, чтобы произвести благоприятное впечатление на доктора Франклина, когда они встретились в Англии. Рекомендательное письмо от нашего прославленного учёного — вот единственное богатство, с которым Томас Пейн пересёк океан.
— В прошлом году в «Пенсильванском журнале» мне попалось интересное эссе под названием «Купидон и Гименей». Оно было подписано «Эзоп», но знающие люди утверждают, что вышло оно из-под того же пера, что и «Здравый смысл». Там Купидон устраивает выговор Гименею, объясняя, что это ему Юпитер поручил соединять любящие сердца в браке, а Гименею оставил только роль мелкого чиновника, скрепляющего союз брачной церемонией. Гименей отвергает такое истолкование своей роли и заявляет, что он устраивает браки в соответствии с распоряжениями бога Плутоса.
— Волнующая тема! Доктор Франклин в своё время тоже опубликовал эссе под названием «Размышления об ухаживании и бракосочетании».
— Возможно, именно на это эссе Томас Пейн откликнулся своими «Заметками о несчастливых браках», — сказал Чарлз Пил. Он к тому времени уже поставил холст с эскизом портрета Джефферсона лицом к стене («Нет-нет, показывать ещё рано!») и теперь набрасывал портрет доктора Раша. — Там он со знанием дела описывает, как взаимная страсть угасает после бракосочетания, как супруги перестают щадить чувства друг друга, как начинают искать приятное общество вне дома, находят его и пускаются в череду любовных связей на стороне, вступив в сговор взаимной покладистости и равнодушия.
— Насколько я знаю, Пейн был женат дважды и оба раза неудачно, — заметил Раш. — Многие считают его неуживчивым, но мне нравится его характер. Уж если он верит во что-то, так станет отстаивать свой взгляд, не считаясь с обстоятельствами. Мы с ним одинаково убеждены в необходимости отделения от Англии, в греховности работорговли, в нелепости передачи титулов по наследству.
— Я слышал, что «Здравый смысл» принёс ему и издателю изрядный доход, но почти все деньги он отдал на покупку тёплого обмундирования для ополченцев, отправлявшихся в Канаду.
— И это при том, что у него нет никакого постоянного дохода. Злые языки утверждают, что Пейн не начнёт писать, не опорожнив бутылку рома. Но я-то вижу и знаю, как долго он оттачивает каждую мысль, каждую фразу. Мне, например, не составляет труда начать и окончить памфлет за один день, в перерывах между визитами больных. А он будет весь вечер корпеть над одной страницей. Конечно, у него есть свои причуды и странности. Но у кого их нет?
— Я встречался с ним несколько раз, — сказал Пил, — и заметил, что он никогда не скажет «здравствуйте», или «добрый день», или «как поживаете». Его форма приветствия всегда одна и та же: «Что нового?!» Похоже, он действительно так жаден до новостей, как будто для него каждый наступающий день таит в себе зёрнышко чудесного и неведомого. Придя в таверну, первым делом начнёт листать свежие газеты и журналы.
Пейн появился в студии пять минут спустя, и Джефферсон с трудом сдержал улыбку, когда из уст вошедшего вылетело предсказанное «есть новости?». Самой заметной частью его лица был грушевидный нос, сильно нависавший над губами. Пожатие руки было крепким и быстрым, острый взгляд за секунду вбирал облик нового человека и отправлял в прочную копилку памяти. Форменная шапка пенсильванского ополченца поблёскивала медной пряжкой.
— Мы как раз говорили о вас, Томас, — сказал доктор Раш. — Другой Томас — мистер Джефферсон — сравнивал два издания вашего трактата.
— К нам в Виргинию они пришли с некоторым запозданием, но произвели сильнейшее впечатление на меня и на всех моих знакомых. Из разговоров с ними я понял, что взволновало людей больше всего. Отсылка к Ветхому Завету! Для большинства американцев Библия была главным чтением с детства, многие куски они знают наизусть. И вдруг Томас Пейн посмел прочесть ту же книгу глазами историка и политического мыслителя. Трактат «Здравый смысл» показал, что осуждение королевской власти содержится уже в священных текстах. «Вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали перед очами Господа, прося себе царя», — говорит евреям пророк Самуил.
— А как точно предсказал пророк поведение царя! — воскликнул доктор Раш. — «И поля ваши виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмёт и отдаст слугам своим… И юношей ваших лучших и ослов ваших возьмёт и употребит на свои дела… И сами вы будете ему рабами».
— Но для меня важнейшим местом трактата, почти откровением, стала его первая страница, — продолжал Джефферсон. — «Правительство и общество — вещи глубоко различные по сути своей. Ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между ними». Я сам давно кружил вокруг этой мысли, но всё не мог сформулировать её с такой ясностью. Общество вырастает из потребности людей в солидарности и содружестве, поэтому оно всегда благо. Правительство возникает как инструмент противодействия нашей злобе и вражде, поэтому оно всегда будет злом. Поиски наилучшего способа правления — это просто поиски наименьшего зла. Никто до вас не смог выразить эту истину так точно и немногословно.
Пейн слушал, наклонив голову, едва заметная улыбка то и дело кривила его губы.
— Очень рад, очень рад. Услышать слова одобрения от автора Декларации независимости — большая честь. Польщён — да. Но также имею серьёзные опасения. Я подумывал включить в последнее издание моё раннее эссе о работорговле в Америке. И если бы я решился на это, боюсь, ваше отношение к моему трактату резко изменилось бы.
— Почему же?
— Прошу извинить меня… Я могу сказать что-то невпопад… Всегда так, ляпну что-то наобум и потом расплачиваюсь… Но всё же… Не имел опыта… Ха, до меня только сейчас дошло… Это первый случай в моей жизни… Да-да… Сегодня я впервые пожал руку настоящему рабовладельцу!
Пейн поднёс ладонь к глазам и стал рассматривать её с таким опасливым любопытством, будто ждал, что она вот-вот начнёт покрываться волдырями или пятнами проказы.
Тягостная тишина повисла в комнате.
Джефферсон почувствовал, как горло ему сдавила петля обиды, возмущения, гнева. Или и стыда тоже? Да, ему доволилось слышать не раз обвинения американцев в двуличии. Лондонские газеты постоянно поднимали эту тему. «О свободе и порабощении вопят люди, которые держат в рабстве миллион чёрных невольников. Торгуют ими как скотом! Отрывают детей от родителей, мужей — от жён!» Депутаты конгресса от южных колоний получали письма от северян с призывами включиться в борьбу за отмену рабства. «Всевышний накажет нашу страну за этот непростительный грех!» — взывали проповедники баптистов и квакеров.
Джефферсон подавил гневный порыв и сказал почти спокойно:
— Мистер Пейн, завтра я передам полторы сотни моих невольников в вашу собственность. Что вы намерены с ними сделать? Немедленно отпустите всех на волю? И будете думать, что это облегчит их судьбу?
— В конце своего эссе я делюсь с читателями мыслями по этому вопросу. Кому-то из отпущенных можно будет выделить участки земли за умеренную ренту. Кого-то обучить ремеслу и устроить на работу в соответствующие мастерские. Старые и больные, конечно, какое-то время должны оставаться на попечении бывшего хозяина. Всё это я не выдумывал из головы. У меня перед глазами был пример Мозеса Брауна, богатого квакера из Род-Айленда. Три года назад он отпустил на волю всех своих рабов и помогал им начать новую жизнь.
— Но при этом его брат, Джон Браун, остался активнейшим работорговцем в колонии. Должен ли был Мозес убить брата за то, что тот не последовал его примеру? Законодательное собрание у нас в Уильямсберге в своё время приняло закон: все освобождённые рабы должны немедленно покинуть Виргинию. Другой закон объявляет уголовным преступлением попытку обучить раба грамоте. Куда уедут освобождённые вами рабы, не умеющие читать и писать? Или вы предложите мне разогнать плохих виргинских законодателей и откуда-то набрать новых, разделяющих идеалы христианского милосердия?
— Я не говорю, что желаемые перемены можно осуществить за один день, месяц, год. Но начать стремиться к ним, настаивать на них можно уже сейчас. В тексте же Декларации, подготовленном вами, я не нашёл никаких призывов к запрету торговли людьми.
— Текст Декларации? — Джефферсон упрямо нагнул голову, поколебался какое-то время, потом взял со стола свой портфель и начал извлекать оттуда исписанные листы бумаги. — Доктор Раш, вчера вы спросили меня, отчего я не разделяю всеобщего ликования по поводу объявления независимости Америки. Позвольте мне теперь объяснить вам причину.
Он расчистил место на столе, положил рядом две стопки страниц.
— Слева я кладу текст Декларации, который был утверждён конгрессом. Справа — мою рукопись. В ней отмечены места, не попавшие в окончательный текст. Прошу вас, прочтите их вслух.
Раш взял протянутый листок, бросил укоризненный взгляд на Пейна, начал читать.
«Английский король поднял жестокую войну против самой природы, попирая священные права на жизнь и свободу жителей далёких африканских стран, которые не представляли никакой угрозы для его государства. Он пленял их и отправлял в рабство в другое полушарие, в таких условиях, что многие погибали во время перевозки. Пиратство было всегда прерогативой язычников, но тут этим занялся христианский монарх. Стремясь держать открытым тот рынок, на котором продают и покупают людей, он подавлял все наши попытки законодательными мерами покончить с этой позорной торговлей. А сегодня он подстрекает тех самых людей, которых обрёк на неволю, поднять оружие против нас и тем самым купить себе свободу, которой он же и лишил их».
Голос доктора Раша постепенно набирал уверенность, звонкие ораторские интонации прорывались на ключевых словах. Чарлз Пил слушал, застыв с углём в руке. Томас Пейн качал головой, вздыхал, поднимал глаза к солнечному квадрату на потолке.
— Я предъявлял обвинения не только королю, — сказал Джефферсон. — В условиях парламентской монархии избиратели тоже несут ответственность за действия избираемого ими правительства. Прочтите вот отсюда.
«Мы взывали к великодушию и справедливости англичан, призывая их воспротивиться узурпаторам, сеявшим раздор между нами. Но на своих свободных выборах они снова избирали этих людей в парламент. И сегодня они не протестуют, когда их повелитель посылает против нас не только своих солдат, но также иностранных наёмников. Это вынуждает нас забыть прежнюю братскую любовь к соотечественникам и отнестись к ним так, как относимся к остальному человечеству: друзья в мирную пору, враги в пору войны. Путь к счастью и славе открыт для нас так же, как и для них».
Томас Пейн встал со стула, направился к Джефферсону, не глядя нащупал его ладонь и начал сжимать и трясти её обеими руками.
— Да, я согласился на эти вымарывания, — сказал Джефферсон. — Но чувство было такое, будто моё любимое детище у меня на глазах искалечили. Я уговаривал себя смотреть на происходящее как на жертвоприношение. Принести жертву на алтарь единства колоний — это казалось мне оправданным. Если мы все будем придерживаться только высоких принципов, мы никогда…
— Да ведь и я тоже! — с горячностью перебил его Томас Пейн. — Тоже не решился включить своё эссе о рабовладении ни в одно из изданий «Здравого смысла». На сегодняшний день… Половина страны живёт невольничьим трудом… То, что вызревало в течение столетия, невозможно переделать ни в год, ни в два…
— Особенно посреди полыхающей войны, — сказал доктор Раш. — Мистер Джефферсон, эти два американских патриота через несколько дней отправляются на бастионы, возводимые нынче вокруг Нью-Йорка. Не кажется ли вам, что двум депутатам конгресса было бы уместно на прощание хотя бы угостить их хорошим обедом в таверне за углом? И поднять тост за их благополучное возвращение?
12 июля, 1776
«Адмирал лорд Хоу прибыл к берегам Стейтен-Айленда с мощной эскадрой. Имея под своей командой такие силы, он был уверен в успехе. Однако, демонстрируя военную мощь Великобритании, он всё ещё был в плену иллюзии, что примирение возможно. В выпущенной пышной декларации он обещал полное прощение главным руководителям колоний, уклонившимся от исполнения своего долга, при условии, что они поспешат вернуться к подчинению власти законного короля, и обещал им возвращение монаршей милости».
Мерси Отис Уоррен. История революции2 сентября, 1776
«Мы высадились на Лонг-Айленд 22 августа, не встретив сопротивления. Отступая, янки сжигали все посевы и угоняли скот и лошадей… Ночью 26-го генерал обошёл левый фланг мятежников, я был послан обойти правый, имея восемь батальонов, два отряда лоялистов Нью-Йорка и десять орудий. Утром 27-го я занял выгодную позицию перед укреплениями мятежников. В течение нескольких часов длились стычки и артиллерийская дуэль, которые отвлекли всё внимание неприятеля на мой отряд, так что они не заметили продвижения основных сил, пока не были полностью окружены. План этот держался в абсолютном секрете, так что ни рядовые, ни офицеры не знали направления удара, что принесло нам полную победу… Всего противник потерял примерно три тысячи человек — убитыми, ранеными, утонувшими, взятыми в плен. На нашей стороне всего 50 убитых и 200 раненых, многие из них — легко».
Из письма британского генерала Джеймса Гранта5 сентября, 1776
«Наши войска в настоящий момент так разбросаны на территории Манхэттена, что любая часть может быть легко отрезана от других. Было ясно, что если неприятель оккупирует Лонг-Айленд и Говернор-Айленд, защитить Нью-Йорк будет невозможно. Сейчас ему удалось осуществить это. Две трети Нью-Йорка и пригородов принадлежат лоялистам. По моему убеждению, общее и быстрое отступление абсолютно необходимо. Город же и пригороды следует сжечь, чтобы враг не получил удобные зимние квартиры. Если неприятель укрепится в Нью-Йорке, выбить его оттуда без сильного флота будет невозможно».
Из письма генерала Натаниэля Грина Джорджу ВашингтонуСентябрь, 1776
«Ничто не может сравниться с радостью жителей Нью-Йорка по поводу появления британских войск на их улицах… Некоторых офицеров носили на плечах, женщины и мужчины безумствовали наравне… Флаги Континентальной армии срывали и топтали, вместо них поднимали британский флаг… Город, который эти хвастливые джентльмены так долго укрепляли с таким старанием, был сдан в дватри часа, без всякого серьёзного сопротивления».
Из письма британского офицераНоябрь, 1776
«Так как я был с войсками в Форте Ли, на западном берегу Гудзона, и потом отступал вместе с ними через Нью-Джерси до самой Пенсильвании, я хорошо знаком с обстоятельствами этой кампании. Наши силы были в четыре раза слабее того, что генерал Хоу мог выставить против нас. Поблизости не было армии, которая могла бы прийти нам на помощь. Запасы пороха, лёгкая артиллерия и военное снаряжение были вывезены, чтобы они не попали в руки неприятеля. 20 ноября разведка донесла, что неприятель совершил высадку на берег в семи милях вверх по реке, прибыв туда на двухстах судах. Через три четверти часа появился генерал Вашингтон и повёл войска в сторону моста через реку Хакенсак. Противник не преследовал нас и дал возможность переправиться по мосту и с помощью парома».
Томас Пейн. Американский кризис25 декабря, 1776
«Вечером 25 декабря генерал Вашингтон под прикрытием снежной пурги пересёк Делавэр вместе с частью своей армии, к тому времени уменьшившейся до двух тысяч солдат. Они совершили неожиданную атаку на город Трентон. Гарнизоном, состоявшим из двенадцати сотен гессенских наёмников, командовал полковник Рал, опытный офицер, известный своей смелостью. Штурм американцев, начавшийся на рассвете, застал защитников города врасплох. Их сопротивление было коротким и слабым, полковник Рал получил смертельную рану и вскоре умер, около тысячи солдат противника были взяты в плен. Армия Вашингтона, вместе с пленными и захваченным военным снаряжением, вернулась на правый берег реки. Эта победа необычайно подняла дух армии и народа. На гессенцев смотрели как на самых опасных врагов. Поэтому их полное поражение и дерзость атаки воодушевили многих сторонников революции, которым военное положение до этого казалось почти безнадёжным».
Мерси Отис Уоррен. История революцииОКТЯБРЬ, 1777. МОНТИЧЕЛЛО
Джефферсону казалось, что со дня смерти их новорождённого сына Марта погрузилась в какое-то вязкое облако, которое следовало за ней повсюду, как наброшенный саван. Мальчик прожил всего две недели, его даже не успели окрестить, он умер безымянным. Роды опять были тяжёлыми, Джефферсон проводил долгие часы у постели выздоравливающей жены. Она иногда бредила по ночам, часто повторяла фразу: «Грехи отцов падут на детей». Неужели она считала свои несчастья расплатой за грехи отца, любвеобильного мистера Вэйлса? Нужно будет при случае напомнить ей, что библейский праотец Иаков имел потомство от служанок своих жён, Лии и Рахили, и никаких кар за этим не последовало ни ему, ни его детям.
Бетти Хемингс иногда подменяла хозяина у постели больной, приносила какие-то снадобья из трав. Вот над кем время было не властно, так это над Бетти. В свои 40 с лишним лет она недавно родила одиннадцатого ребёнка и щедро оделяла крепкого малыша грудным молоком из своих объёмистых кувшинов. Отец новорождённого, белый столяр Джозеф Нельсон, нанятый для внутренней отделки главного дома, соорудил для своего отпрыска узорную кроватку, которая теперь занимала почётное место в хижине Хемингсов.
В конце лета здоровье начало возвращаться к Марте, вскоре она уже давала первые уроки игры на фортепьяно пятилетней дочери. В августе её порадовало появление оленёнка, купленного Джефферсоном для домашнего парка. В сентябре занялась варкой пива, в чём была большой мастерицей. Октябрь традиционно отводился для изготовления мыла, потому что в холодные дни в доме начинали топить и из каминов выгребали достаточно золы, а второй необходимый компонент — жир — получали при забое овец и свиней. Марта отдавалась хозяйственным хлопотам с энергией, однако вязкое облако не покидало её. Джефферсон буквально чувствовал его под руками, когда пытался обнять жену. Она вся сжималась, будто от страха, будто ждала не нежных ласк, а мучительной процедуры, за которой ещё последует тягостная расплата.
Доктор Раш в своё время рассказывал Джефферсону, что у хрупких женщин, переживших несколько трудных беременностей, часто возникает панический ужас перед ними, парализующий и жажду любви, и жажду иметь потомство. В нём самом при виде страданий жены вскипало чувство вины, её холодные безответные губы гасили сердечный жар. Что ему оставалось делать? С какого-то момента он начал ложиться спать в кабинете. Ночью вслушивался в шум ветра, в стук ставней, в скрип половиц. И думал — мечтал — об этой прелестной, немного загадочной женщине, которая жила с ним под одной крышей, но которую теперь ему, наверное, придётся завоёвывать заново, спасать из вязкого облака бесчувственности, возвращать её лицу способность расцветать улыбкой ему навстречу.
А дневная жизнь вся теперь была заполнена одним геркулесовым заданием: пересмотром и переработкой устаревшего свода законов колонии Виргиния. Законодательное собрание включило его в комитет из пяти депутатов, который должен был подготовить соответствующие рекомендации. Тома юридической премудрости, трактаты по англо-саксонскому праву, книги на латыни и французском громоздились на рабочем столе, на креслах, на полу. В уголовном кодексе колонии больше половины преступлений каралось смертной казнью. Она полагалась даже за содомию и скотоложство. Нужно было отыскивать прецеденты судебных дел, выстраивать аргументацию в пользу смягчения наказаний. Казнить следовало только за убийство и государственную измену — в этом Джефферсон был убеждён. Но его оппоненты заявляли, что смягчённые законы будут годиться для управления какой-то новой расой людей — не той, которая населяла Виргинию сегодня.
И может быть, они были в какой-то степени правы. Джефферсону доводилось видеть толпы, стекавшиеся на публичные экзекуции в Уильямсберге, Ричмонде, Шарлоттсвилле. Лица зрителей загорались звериной радостью при виде голой спины осуждённого, с которой свисали клочья окровавленной кожи. Приговор в 50 ударов плетью из девяти жгутов с узлами на концах почти наверняка означал смерть. Присутствующий врач мог потребовать перерыва и отсрочки исполнения наказания. А что, если он был где-то в отъезде? По старинным законам человека могли осудить за преступление, совершённое его женой. Изнасилование не считалось преступлением, если два свидетеля покажут, что женщина не сопротивлялась и не звала на помощь. Как удобно при таком законе насиловать втроём! У каждого подозреваемого два свидетеля будут готовы заранее.
А что было делать с институтом рабовладения? Эта проблема выглядела неразрешимой во всех аспектах: юридическом, моральном, политическом, религиозном. Даже в экономическом плане подневольный труд был явно менее эффективен, чем труд свободных. При строительстве Монтичелло Джефферсон имел возможность сравнивать и видел, что нанятые работники вели кладку кирпича вдвое быстрее, чем рабы. Моральный же ущерб для подрастающих поколений оценить было просто невозможно. Дети плантаторов, видя жестокость и произвол родителей по отношению к невольникам, утрачивали представление о свободе человека как бесценном даре Творца, вырастая, превращались в деспотов, верящих только в право силы.
Взаимоотношения между государством и Церковью стояли особняком. Джефферсон был убеждён, что светская власть не имеет права, не должна преследовать людей за их религиозные убеждения. То, что в Пенсильвании начали арестовывать квакеров за их пацифистские проповеди, казалось ему недопустимым. Среди депутатов последнего созыва он нашёл горячего единомышленника. Посланец графства Орандж, Джеймс Мэдисон, в свои 26 лет был самым молодым членом виргинской ассамблеи. Он происходил из семьи богатых плантаторов, имевших пять тысяч акров земли в окрестностях Ричмонда и множество рабов. Во время обучения в Принстоне он изучал классические языки, историю, географию, математику, философию, овладел даже древнееврейским. Многообразие человеческих верований и ярость, с которой люди отстаивали их, убедили его в том, что веротерпимость должна лежать в основе государственной политики. Джефферсон со дня на день ожидал обещанного визита молодого депутата, чтобы вместе наметить план пересмотра законов о вероисповеданиях.
Известия о военных событиях не радовали. В компании 1777 года американцы терпели поражение за поражением. В июле они были вынуждены оставить форт Тикондерога. В августе проиграли стычки при Орискани и Беннингтоне. Приближаясь к Филадельфии, британцы для устрашения жителей жгли дома, церкви, общественные здания. В сентябре армия Вашингтона попыталась остановить врага, но потерпела поражение в битве при Брейнтри. Конгресс был вынужден поспешно оставить населённый пункт посреди ночи. 26 сентября победители вошли в город, и толпы лоялистов приветствовали их на улицах.
Как ни странно, известия об успехах прилетали только с океанских просторов. Могучий британский флот оказался не в состоянии угнаться за сотнями небольших американских бригов и шхун, нападавших на торговые суда англичан. Их называли «приватирами», но, по сути, это были пираты, действовавшие с согласия и по поручению портовых городов. Подогреваемые жаждой наживы, они нападали днём и ночью и потом делили добычу между капитаном, командой и снарядившими их частными предпринимателями. Лондонские купцы несли огромные убытки, многие фирмы разорились.
Джефферсону нравилось угощать гостей овощами и фруктами, выращенными им самим в саду или оранжерее. Всё, что происходило на грядках, кустах и деревьях, регистрировалось в специальной «Садовой книге». Утром в день намеченного приезда Джеймса Мэдисона он листал её страницы, выбирая, чем бы побаловать гостя. Скупые строчки вызывали в памяти запах свежевскопанной земли. «10 марта: посеяли грядку раннего и грядку позднего горошка. 11 марта: треугольную клумбу на верхней террасе засеяли лиловой капустой; рядом с ней — брокколи; также салат и редиска. 12марта: посеяли две грядки клубники. 1 апреля: начали цвести персиковые деревья и черешня. 19 апреля: посеяли огурцы, бобы, ирландский картофель. 4 июня: ранний горошек подали к столу».
«Пожалуй, в оранжерее сейчас можно собрать салат и огурцы, — решил Джефферсон. — Нужно будет послать Бетти Хемингс с корзинкой».
Он заранее описал Марте внешность Джеймса Мэдисона, чтобы появление гостя не вызвало у неё изумления или обидной улыбки. Этот учёнейший джентльмен, уважаемый член ассамблеи, прекрасный оратор был так мал ростом, что на улице его иногда принимали за мальчика. Лёгкий пушок на подбородке, мягкие губы, искрящиеся любопытством глаза усиливали впечатление детскости и застенчивости. И когда изо рта этого юного создания вылетал убийственный сарказм, или парадоксальное сравнение, или длинная цитата на латыни — с переводом для невежд, — не подготовленный к такому собеседник в первые минуты невольно впадал в оторопь.
Услышав топот копыт, Джефферсон вышел на крыльцо и сразу, по лицу гостя, понял, что тот привёз какое-то важное известие.
— Чудесные новости, мистер Джефферсон! Полный разгром британской армии на севере! Депеша пришла в Ричмонд только вчера! — выкрикивал Мэдисон, спрыгивая с седла, передавая поводья подскочившему Юпитеру и взбегая по ступеням.
Взволнованный, улыбающийся хозяин ввёл гостя в библиотеку, усадил в кресло, очистив его от груды томов, сам уселся напротив.
— Рассказывайте всё по-порядку.
— Первоначальный план британцев был задуман очень коварно. Генерал Бергойн должен был двигаться с севера, из Канады, генерал Хоу — ему навстречу, вдоль берега Гудзона. Если бы эти две армии соединились, вся Новая Англия была бы отрезана от остальных колоний.
— Почему же генерал Хоу предпочёл нанести удар в Пенсильвании?
— Этого мы не знаем. Не исключено, что он рассчитывал захватить Филадельфию быстрее и после этого двинуться на север, однако бои с армией Вашингтона замедлили его продвижение. В результате семитысячная армия Бергойна должна была вступить в сражение с американцами без поддержки с юга.
— Кто командовал нашими войсками?
— Генерал Горацио Гейтс. У него насчитывалось примерно столько же солдат, но среди них было много ополченцев-минитменов с нарезными ружьями, которые бьют гораздо точнее, чем мушкеты. И добровольцы стекались в лагерь американцев со всей округи. Битва длилась три дня вблизи Саратоги. В конце Бергойн понял, что положение его безнадёжно, и решил избежать дальнейшего кровопролития. Капитуляция была подписана 17 октября. По её условиям побеждённым разрешено было выйти из лагеря со своими знамёнами, дойти до берега Гудзона и там сложить оружие. Пять тысяч пленных британцев и гессенцев, мистер Джефферсон! Плюс захваченные пушки, мушкеты, порох и прочее снаряжение!
— Надеюсь, эта победа убедит Францию, что с американцами стоит заключить военный союз против Британии.
— В качестве союзников генерал Бергойн использовал индейцев. Им было обещано вознаграждение за каждого пленного американца. Но они вместо пленных приносили скальпы и уверяли, что снимали их с пленников, пытавшихся бежать. Не исключено, что жертвами этой охоты становились также канадцы, французы и даже британцы.
— Обмануть белокожих у индейцев считается не только не постыдным, но скорее почётным проявлением хитроумия.
— Ещё в конце лета мне довелось услышать трагическую историю. Индеец племени вайандотов по имени Пантера принёс в лагерь Бергойна пышный пучок чёрных волос. Он требовал награду, но свидетели изобличили его и показали, что скальп снят с убитой невесты британского лейтенанта, находившегося в том же лагере. Индейца схватили, судили военным судом, приговорили к повешению. Однако помощник Бергойна объяснил ему, что если Пантеру повесят, все индейцы покинут лагерь. Перед надвигающимся сражением с американцами генерал не мог остаться без союзников, составлявших чуть ли не треть его армии. Негодяя пришлось отпустить.
— Наши поселенцы на западной границе рассказывают страшные истории о жестокости индейцев. Пленника связывают, вспарывают живот и начинают вытягивать внутренности у живого. Сдирают кожу, отрубают конечности по кускам. Любят пытать детей на глазах у матерей. А ведь нам с вами в ассамблее придётся сочинять правила, регулирующие отношения также и с краснокожими. В какие законы можно вписать подобную меру дикости, какими наказаниями карать за неё?
К обеду Марта спустилась принаряженная, в платье с кружевной отделкой, которое в последний раз надевала на свадьбу сестры. Янтарная брошь украшала её корсет, завитые локоны, покачиваясь, слегка касались подрумяненных щёк. Она оживлённо начала расспрашивать гостя о его семье и детских годах, и у Джефферсона мелькнула надежда, что вязкое облако сегодня хоть ненадолго выпустит её из плена.
— Да, я рос старшим в толпе братьев и сестёр, но всегда страдал из-за маленького роста. Представьте, как это обидно! Братья, которых ты ещё недавно мог повалить или обогнать, через несколько лет вдруг становятся выше и сильнее тебя… Поневоле начнёшь состязаться с ними там, где тебе ещё светит надежда на победу, — в учёбе…
— …Нет, образование получил не в Уильямсберге. Считалось, что климат там слишком сырой и моему слабому организму не будет спасения от лихорадки. Меня послали в Принстон… О, Нью-Джерси не зря называют Садовой колонией… Да, родители мои живы, растят обильное потомство в нашем поместье в Монпелье. Это недалеко отсюда, в графстве Орандж…
Марта слушала рассказы гостя с неподдельным интересом, роняла одобрительные замечания, изумлялась, восхищалась, сочувствовала. Давно уже Джефферсон не видел её такой радостно-возбуждённой, такой приветливой и доверчивой. Она снова стала похожа на ту чаровницу, которая со страстью защищала от него Елену Троянскую на балу в Уильямсберге — сколько? Неужели уже восемь лет назад?
— …Нет, сам я ещё не женат, — продолжал Мэдисон. — Хотя в студенческие годы был влюблён в сестру однокурсника, делал ей предложение… Увы, моя избранница объявила, что ценит меня, но решила никогда не выходить замуж, потому что в Виргинии оставаться незамужней — это единственная возможность для женщины сохранить независимость и интеллектуальную свободу.
— Какое заблуждение! — воскликнула Марта. — Эта девушка сама не знает, чего она лишила себя. Если бы она ответила вам «да», ее дни проходили бы в самых увлекательных занятиях. На рассвете она раздавала бы задания служанкам. Потом кормила завтраком детей и мужа. Потом надзирала за штопкой и стиркой простыней и одежды. Потом — за изготовлением мыла и свечей. За два часа до обеда ей нужно было бы спуститься на кухню и прочесть кухарке из поваренной книги подробные инструкции готовки всех блюд. Озаботиться доставкой воды, потому что колодец в горах имеет привычку пересыхать в самый неподходящий момент. Разобрать ссору управляющего с женой, закупить в деревне масла и яиц, творога и молока, и так далее, и так далее, и так далее.
Джефферсон понимал, что Марта — скорее всего — просто без запинки описывала свой сегодняшний день. Однако в её сарказме не было ни горечи, ни раздражения, а вернувшаяся улыбка превращала обвинительную речь в милый домашний фарс. Порой он и сам напоминал себе, как нелегко жене было жить в вечно достраивавшемся и переделываемом доме, как раздражали строительная пыль, стук молотков, капающая с потолка вода. Это только у него перед глазами всегда стояла сияющая картинка их будущего дворца, помогавшая забывать о временных недоделках и неустройстве. Ей же приходилось терпеть их день за днём, а прятаться от них в мире фантазий она не умела. Или не хотела.
После обеда мужчины уединились в кабинете. Им нужно было обсудить стратегию предстоящей борьбы в законодательной ассамблее. Для обоих учреждение веротерпимости в колонии представлялось первоочередной задачей. Никакого обложения налогами в пользу установленной государством Церкви — с этим они были согласны. Но готовы ли другие делегаты к идее полного отделения религии от светской власти?
— У нас в Виргинии число сектантов уже сильно превышает число прихожан епископальной церкви, — говорил Мэдисон. — Скоро придётся защищать англикан от преследований со стороны пресвитериан и баптистов. Недавно мне довелось читать жалобы англиканского священника. В его церковь бесчинствующие пресвитериане являлись с собаками и устраивали собачьи бои посреди службы. Жалобы в городскую управу не помогали, потому что сидящие там чиновники покрывали своих единоверцев. В другой раз у него украли облачение, и какой-то человек, переодевшись в него, нанёс визит проститутке. Местные газеты раздули историю о развратном служителе Божьем.
— Англиканская церковь доминировала в колониях целое столетие и разучилась бороться за сердца верующих. Теперь ей придётся состязаться с другими вероисповеданиями за человеческие души. Будем надеяться, что это пойдёт ей на пользу.
Беседа двух виргинских законодателей затянулась до сумерек. Мэдисон хотел ещё навестить родственников в Шарлоттсвилле, поэтому уехал, не дожидаясь полной темноты. Проводив его, Джефферсон вернулся в кабинет, принялся сортировать свои заметки и рекомендации. Наутро ему предстоял отъезд в Уильямсберг, он хотел пуститься в дорогу пораньше.
Дом затихал.
В столовой раздались детские шаги, зазвенел голосок Пэтси, и домашний попугай Шедуэлл ответил ей скрипучим возгласом: «В добрый путь!» Вошёл Юпитер с ворохом подушек и простыней, застелил диван. Вздохнул неизвестно чему, ушёл.
Раскладывая бумаги в ящике стола, Джефферсон задержался над рисунком, изображавшим слона с огромными бивнями. Этот рисунок был сделан для него вождём индейского племени делаваров, с которым он встретился в своё время на конференции во дворце губернатора. Индеец объяснил ему, что, по их поверьям, гигантские кости неведомых животных, которые они иногда находят на берегах Огайо, являются останками огромных мамонтов, бродивших в тех краях много лет назад. Эти мамонты якобы пожирали медведей, оленей, лосей, бизонов, бобров и прочих животных, созданных Верховным вождём для пользы индейцев. Верховный вождь разгневался на такую несправедливость и уничтожил всех мамонтов молниями. Рассказывалась легенда с таким благоговением, что ни у кого не повернулся бы язык спросить, кто и для чего создал мамонтов.
Засыпая, Джефферсон видел оленей, выбегающих в испуге из знакомого леса на берегу Риванны. Птицы разлетались из-под копыт, лунный свет серебрил пятнистые шкуры, ветвистые рога. Вслед за ними появилась неясная фигура в белом, начала беззвучно приближаться к нему.
Скрипнула половица.
Сновидение растаяло, но белая фигура не исчезла. Она двигалась бесшумно, росла, склонялась над ним.
Он протянул руки ей навстречу, нашёл плечи, шею, рассыпавшиеся волосы.
— О Боже! — только и мог сказать он. — Ты пришла! О Боже мой, иди ко мне!.. О щедрый Верховный вождь!.. О счастье моё!.. О свет и радость!..
Утром следующего дня любимый конь Карактакус уносил своего переполненного счастьем хозяина под золотые шатры осенней листвы, на восток. В Уильямсберге съехавшиеся депутаты с нетерпением ждали мистера Джефферсона, который должен был помочь им найти выход из дремучих лесов старинных виргинских законов. Ему придётся провести с ними много недель, прежде чем государственные заботы позволят ему вернуться в родное Монтичелло.
Но та счастливая ночь не прошла бесследно.
И 1 августа следующего, 1778 года у супругов Джефферсон родится дочь, которой дадут имя Мария, хотя, по неизвестным причинам, все в семье начнут называть её Полли.
Январь, 1778
«Еда ужасная, теснота, холод, усталость, одежда в лохмотьях, рвота, дым — не могу больше выносить всё это. Приходит солдат, его босые ноги видны сквозь дырявые башмаки, икры едва прикрыты остатками изорванных чулок, штаны и рубаха свисают в виде полос, волосы спутаны, лицо грязное; весь вид выражает заброшенность и уныние. Он входит и плачет с отчаянием: всё болит, ноги воспалены, кожа мучительно чешется, одежда распадается, холод и голод, сил нет; скоро меня не станет, и в награду я только услышу: “Бедный Билл помер”».
Из дневника хирурга Албигенса Валдо, находившегося с Континентальной армией на зимовке в Вэми-Фордж (Пенсильвания)Май, 1778
«Христианнейший король Франции Людовик XVI заключает союз с Соединёнными Штатами Америки, ведущими в настоящий момент войну с Англией. Цель этого оборонительного союза — эффективно защищать свободу, суверенитет и независимость Соединённых Штатов как в вопросах управления, так и в делах торговых. Христианнейший король и Соединённые Штаты призывают другие страны, страдавшие от притеснений Англии, присоединиться к этому союзу на условиях, которые будут оговорены специальными соглашениями в результате справедливых и равноправных переговоров».
Из соглашения, заключённого Бенджамином Франклином в Париже и зачитанного перед американскими войсками в Вэлаи-ФорджИюнь, 1778
«Битва длилась весь день, и к вечеру неприятель занял позицию, прикрытую с обоих флангов густым лесом и болотами. Тем не менее я принял решение атаковать и для этой цели отдал соответствующие приказы генералам Пуру и Вудфорду. Но их бригады смогли достичь исходных позиций только с наступлением сумерек. Атака была перенесена на утро, однако в полночь неприятель бесшумно покинул свой лагерь и продолжил отступление в направлении Нью-Йорка. Необычайная жара, усталость войск, почти полное отсутствие воды сделали преследование невозможным. Хочу закончить свой отчёт, отдав должное доблести, проявленной многими офицерами и солдатами в этом бою. Особо следует отметить действия генерала Уэйна, а также эффективный огонь артиллерийских батарей».
Из отчёта о битве под Монмутом, штат Нью-Джерси, посланного генералом Вашингтоном в конгрессЯнварь, 1779
«Конгресс постановил перевести британских военнопленных из Кембриджа в Шарлоттсвилл, штат Виргиния. Никогда ещё жители американских городов не видели такого зрелища: тысячи смелых воинов и офицеров врага были проведены через леса и равнины, так что даже самые робкие и неосведомлённые американцы могли увидеть, насколько уязвимы британские батальоны. Военная мощь, нагонявшая страх на колонии, теперь превратилась в объект любопытства, вызывала не страх, а сочувствие. Народ Англии и парламент больше не смотрели на войска Соединённых Штатов как на сброд, те наглядно продемонстрировали свою силу».
Мерси Отис Уоррен. История революцииИюнь, 1779
«Первого июня я был назначен губернатором колонии Виргиния. Одновременно меня избрали в совет директоров Колледжа Вильгельма и Марии. Выступая в этой роли во время пребывания в Уильямсберге, я способствовал внесению перемен в организацию этого учреждения. Мы закрыли кафедру грамматики и восточных языков. Вместо этого были учреждены кафедры юриспруденции, медицинской анатомии и химии, а также современных языков. По уставу колледжа мы могли иметь только шесть профессоров. Поэтому на профессора этики мы возложили преподавание политических наук, естествознания и искусства, а на профессора математики и природоведения — преподавание естественной истории».
Томас Джефферсон. АвтобиографияОКТЯБРЬ, 1779. УИЛЬЯМСБЕРГ, ВИРГИНИЯ
В Ричмонде Юпитер посадил Джеймса Хемингса на пассажирский шлюп, ходивший вверх-вниз по реке, оплатил его плавание до Уильямсберга и отправился обратно в Монтичелло верхом, ведя освободившуюся лошадь в поводу. Среди пассажиров Джеймс очень скоро выбрал миловидную чёрную девушку, путешествовавшую со своей хозяйкой, и принялся рассматривать себя её глазами.
«Какой симпатичный молодой человек, — думала девушка. — Интересно, где он мог раздобыть такую отличную коричневую куртку, такой жилет в бежевую полоску, такие крепкие башмаки, такую модную шляпу? Любопытно было бы узнать, куда он направляется. Не может ли оказаться, что он держит путь в губернаторский дворец в Уильямсберге? На вид ему можно дать все 16 лет (неужели только 14?), но внешность бывает обманчива. А главное, непонятно: он белый или цветной?»
Ах, если бы человеку дано было управлять цветом своей кожи! Тогда бы при встрече с чёрными девушками Джеймс поспешно темнел, а при встречах с белыми безотказно светлел. Что было бы совсем нетрудно юноше, в котором переливалась только четверть негритянской крови. Мама Бетти, сама мулатка, не скрывала от своих светлокожих детей, что отцом их был покойный мистер Вэйлс, а миссус[2] Марта приходилась им, таким образом, сводной сестрой. Но Джеймс очень скоро усвоил, что обсуждать эту тему вслух не следовало. Дети и внуки Бетти Хемингс и так пользовались в Монтичелло многими привилегиями. Разжигать лишнюю зависть в чёрных соседях по Муллен-Роду — кому это нужно?
Соседи выделяли Джеймса среди отпрысков Бетти и часто заманивали его в свои хижины. Каким-то образом — никто уже не мог вспомнить, когда и почему, — за ним установилась слава целителя, а его руки стали считать колдовскими. Бетти научилась от миссус Марты делать лечебные мази и припарки из трав, но почему-то считалось, что только мазь, наложенная рукой Джеймса, может принести избавление от страданий. Соседи заманивали его то вкусным пирожком, то миской клубники, то вареным яйцом. Но вскоре заметили, что самой верной приманкой для ловли Джеймса Хемингса — да, очень рано, лет с десяти — служили обычные, невкусные деньги.
— Смешно сказать, — признавала Бетти то ли с печалью, то ли с усмешкой, — но мальчишка делается сам не свой, если ему в руки приплывает пенс или два. А от шиллинга его будет трясти лихорадка. И зачем они ему? Он ничего не может купить такого, чего бы я не дала ему даром. Миссус Марта подарила ему глиняную свинью-копилку, и он складывает туда свои сокровища. Надеюсь, повзрослеет и успокоится.
Нет, мама Бетти, напрасны были твои надежды! Джеймс никому не сознавался, но сам-то отлично знал, для чего он копил деньги, каким светом сияли для него бока глиняной свиньи. Ещё лет в семь-восемь, слушая разговоры взрослых, он узнал, что бывают такие невероятные случаи, когда негр-невольник, правдами и неправдами накопивший много-много денег, может выкупиться на свободу. Джеймс понятия не имел, как люди живут на свободе и что таится для них за этим словом. Но именно потому, что идея не имела никаких ясных очертаний и примет, она воцарилась в его душе как полновластная мечта.
Ему уже довелось побывать в большом городе, в Филадельфии, когда масса Томас возил туда трёх сыновей Бетти для прививки оспы. Джеймс видел толпы на улицах, витрины богатых лавок, разодетых щеголей, фонтаны в садах, однако городские соблазны вовсе не связывались в его душе со словом «свобода». Мечта оставалась мечтой, и от каждой монетки, опускаемой в прорезь копилки, к ней тянулся маленький лучик, и где-то в далёком будущем лучи сливались в ослепительный световой столп — этот столп, и только он, заслуживал названия «свобода».
Джеймс сам не знал, сколько у него накоплено денег и как далеки размеры его сокровища от исполнения мечты. Однако год назад облако неясной угрозы надвинулось на неё, начало размывать, превращая любые сокровища в труху. Из-за войны деньги на глазах теряли свою силу и власть, дешевели, обесценивались. Звонкие монетки куда-то исчезли, их заменили бумажки, выпускаемые конгрессом, которые торговцы брали с большой неохотой. Корзинка яблок, которую он ещё недавно покупал по поручению мамы Бетти за шиллинг, месяц спустя стоила три; дюжина яиц дорожала с каждым днём; к башмакам и чулкам в шарлоттсвиллской лавке было не подступиться. Война, ещё не докатившись до них пулями и ядрами, размывала привычный строй жизни, подтачивала мечты, отравляла надежды.
И вот, незадолго до отъезда в Уильямсберг, зайдя по своим лечебным делам в бедную хижину, стоявшую в самом конце Муллен-Рода, он застал там всё семейство вокруг незнакомого негра, читавшего вслух при свете коптилки какую-то смятую страницу с напечатанным текстом. В верхнем углу страницы можно было разглядеть красиво нарисованного льва в короне. То, что Джеймс услышал, наполнило его душу страхом. Однако сквозь страх пробивалось что-то светлое, знакомое, возвращающее надежду. Казалось, мечта, раздавленная неумолимым умиранием власти денег, вынырнула где-то в другом, совершенно неожиданном месте и снова протянула к нему свои манящие лучи. Опасно — да, очень. Родным про такое лучше не рассказывать, с друзьями не делиться. Но зато можно снова жить с мечтой в душе. А разве это не самое главное?
Брат Роберт встречал Джеймса на причале. Он тоже был одет франтовато, медные пряжки блестели на ремешках, крепивших его штаны к жилету. Два нарядных светлокожих молодых человека уселись в бричку, покатили по своим делам, оживлённо болтая, — нет, никто из местных не мог бы даже предположить, что это обычные невольники, которых можно купить или продать по сходной цене. А если бы кто и догадался, такому можно было объяснить, что хозяин молодых людей, масса Томас Джефферсон, давно уже перестал продавать рабов, особенно если это было связано с отрывом их от семьи.
— Приготовься к тому, что наш брат Мартин в очень мрачном настроении, — говорил Роберт. — Он никак не может привыкнуть к тому, что деньги дешевеют, и ругается с поставщиками до хрипоты, требуя снижать цены до прежних. Пока миссус Марта болела, он распоряжался всем хозяйством, нанимал работников и лошадей. А теперь снова масса Томас часто выдаёт деньги для закупок жене. Наш Мартин считает, что она переплачивает, балует торговцев, и из-за этого ходит мрачнее тучи.
— А что достанется делать мне? Не знаешь, кто послал за мной, — хозяин или хозяйка?
— Думаю, оба. Будешь прислуживать за столом, топить камины, убирать комнаты, выносить горшки. По сравнению с Монтичелло работы здесь прибавилось втрое. Губернатор должен каждый день принимать толпу посетителей и гостей, многие из них остаются на обед, а некоторые даже ночуют. У кухарки есть свои помощники, ещё наняты две прачки. Одна очень хорошенькая, но, к сожалению, замужем. Спать будешь в одной комнате со мной, на третьем этаже.
Вид губернаторского дворца поразил Джеймса. Эти ворота с узорной решёткой, эти львы в коронах на столбах, и сверкающие ряды окон, и вознесённая в небеса башенка на крыше — неужели ему выпало пожить в такой красоте? Внутреннее убранство оказалось ещё более роскошным: столы и кресла с изогнутыми ножками, ковры, часы в стеклянном футляре, тяжёлые портьеры, позолоченные канделябры. И ведь всё это было привезено из-за океана, всё было изготовлено загадочными британцами, которыми мама Бетти стращала младших детей и которых пастор в Шарлоттсвилле объявлял посланцами Сатаны.
Нет, пастору Джеймс больше не верил. Ранней весной тысячи пленных британцев и немцев были поселены неподалёку от Монтичелло, и их офицеры много раз навещали массу Томаса. Не было в них ничего сатанинского или злобного. И на чёрных они смотрели без пренебрежения; если заговаривали с ними, то часто могли даже вставить слова «пожалуйста», или «будьте любезны», или «сердечно благодарю», или даже «мистер».
Особенно нравилось Джеймсу, когда в гости приезжали британский генерал-майор Филлипс или немецкий барон фон Ридезель со своим семейством. У толстой и шумной баронессы голос был сказочной красоты, и Джеймс не раз прятался за дверью, чтобы послушать её пение. Однажды ему повезло: она начала петь, когда он осторожно раздувал мехами огонь в камине гостиной. Джеймс замер, а потом, обернувшись, увидел, что на него пристально смотрит старшая дочь баронессы, прелестная Маргарита. Глаза в глаза они застыли на долгую-долгую минуту под звуки загадочных немецких рулад — ах, одно воспоминание об этом сжимало сердце Джеймса сладким волнением. Наверное, его кожа в эти минуты сама собой посветлела до полной белизны.
Миссус Марта встретила Джеймса приветливо, подарила серебряный шиллинг, долго расспрашивала про Бетти и её потомство. Семилетняя Марта-младшая потребовала, чтобы он послушал её игру на клавикордах и поговорил с домашним попугаем Шедуэллом, сидящим в красивой клетке. Годовалая Полли была на попечении няньки, но её мать, похоронившая уже троих детей, впадала в панику от каждого случайного покашливания и часто отказывалась выходить к гостям, оставалась с дочерью. В такие дни Джеймс приносил ей и детям обед из кухни в их комнаты на втором этаже.
Прислуживать за столом было для него делом привычным, он умел двигаться бесшумно, не звякать посудой, появляться и исчезать, не привлекая внимания. Наиболее частыми гостями губернатора были два молодых джентльмена, мистер Джеймс Мэдисон и мистер Уильям Шорт. Из разговоров Джеймс понял, что мистер Шорт только-только закончил Уильямсбергский университет и что масса Томас был среди тех, кто принимал у него адвокатский экзамен. Мистер Мэдисон выглядел постарше, он уже был депутатом ассамблеи, но когда обращался к хозяину дома, в тоне его тоже звучала подчёркнутая почтительность ученика к учителю.
Однажды в разговоре за обедом мелькнули те же слова, которые вычитал из британской листовки незнакомый негр в хижине в Монтичелло и которые так запали Джеймсу в душу: «армия чернокожих». Он вздрогнул, откатил столик с приборами в угол, начал для вида осторожно перетирать ножи и стаканы. Мистер Мэдисон рассказывал о том, что конгресс в Филадельфии одобрил проект, предложенный офицером из Южной Каролины, Джоном Лоуренсом: создать полк из негров. В качестве платы чёрным воинам предлагалось освобождение из рабства, а их хозяевам уплачивалась справедливая компенсация.
Постановление далёкого конгресса вызвало бурю возмущения в собрании виргинских джентльменов. Депутаты ассамблеи вставали один за другим и страстно доказывали невыполнимость и опасность задуманного. Белые ополченцы идут сражаться за свою страну — а за что станут сражаться чёрные? Послушание невольников гарантировано их страхом перед хозяином и надсмотрщиком — а кого станет бояться человек с заряженным мушкетом в руках? Овладев военным делом, чёрные смогут поднять вооружённое восстание, и их мстительное озлобление против белых может оказаться страшнее и сильнее ненависти индейцев. Молодые отпрыски плантаторов, заразившиеся мечтаниями гуманистов в европейских университетах, понятия не имеют о реальных страстях, кипящих в душах чёрных под маской покорности и незлобивости, и не отдают себе отчёта в том, какими кровопролитиями могут обернуться их новации.
Подслушанный разговор наполнил душу Джеймса бурей страхов, надежд, сомнений, упований. Королевская прокламация, тайно читавшаяся в Монтичелло, обещала освобождение невольникам, вступившим в британскую армию. Теперь оказывалось, что и американцы готовы предложить рабам такую же сделку. Война, обесценившая деньги, разрушившая мечту о выкупе на свободу, теперь вдруг возрождала эту мечту, придавая ей новый — красивый и понятный — облик. Чёрный солдат, с мушкетом и пистолетом, под развевающимся знаменем, под взглядом девичьих глаз — ах, как это было бы прекрасно!
Теперь, засыпая, Джеймс часто видел себя в мундире, марширующим в шеренге чёрных новобранцев, под звуки флейт и барабанов. Синий или красный мундир, не имело для него значения. Нельзя было позволить мечте опуститься на землю, напороться на все трудные вопросы, превратиться в будничные планы, невыполнимость которых погубит её, как губит летящего фазана охотничья сеть. Как он решится расстаться с братьями и сестрами, с мамой Бетти? Какая армия примет в свои ряды четырнадцатилетнего? На войне могут ранить, изувечить — какими глазами посмотрит на него прекрасная Маргарита, если он явится перед ней одноруким, хромым или обожжённым?
Мечта не слабела, не исчезала, но всё чаще отождествлялась теперь с одним и тем же понятным предметом — военным мундиром. Если Джеймсу доводилось выезжать с братом Мартином на закупки продовольствия, он впивался глазами в ополченцев, маршировавших перед зданием городского совета, в часовых у ворот арсенала, в военных моряков, охранявших здание таможни. Блестевшие пуговицы и пряжки, сиявшие галуны, узорные шнуры завораживали его. А что, если купить в лавке сукна, ниток, иголок и сшить мундир самому? Или попросить помощи у сестры Мэри, работавшей на кухне в губернаторском дворце? Но его начнут спрашивать, зачем ему понадобился военный мундир, его планы откроются — и что тогда? Не объявят ли это попыткой бегства, не накажут ли продажей какому-нибудь жестокому плантатору?
Самые красивые мундиры носили двое ополченцев, двое Андерсонов — белый и чёрный. Белый был флейтистом, чёрный — барабанщиком. Они являлись почти каждое утро к дворцу, чтобы приветствовать губернатора военным маршем. Потом флейтист отправлялся к Мартину с надеждой получить от него стаканчик виски в уплату, а барабанщик — на кухню, где надеялся снискать расположение Мэри Хемингс.
Целый месяц Джеймс жил мечтой о мундире, без всякой надежды на её осуществление. И вдруг непредсказуемая судьба подбросила ему случайную встречу — схватку — передрягу, которую всякий другой мог бы легко упустить — но только не Джеймс Хемингс. О нет, сэр, не на такого напали!
В тот вечер обслуживать за столом гостей губернатора была очередь Роберта. Через час он поднялся в их комнату озабоченный, держа в руках пачку купюр.
— Джеймс, срочно беги в таверну. В кладовке кончилась мадера, а гости, я чувствую, вот-вот потребуют следующую бутылку. Купи на всякий случай четыре. Если трактирщик откажется записать на наш счёт, держи наличные.
Джеймс взял деньги, натянул куртку, вышел под быстро темнеющее небо. Таверна была на улице Герцога Глостерского, всего в четырёх кварталах от дворца. Трактирщик уже знал его, легко согласился записать стоимость вина на счёт губернатора. Даже укутал бутылки овечьей шерстью, чтобы не разбились в мешке.
— А сколько стоит сегодня пинта яблочного бренди? — спросил Джеймс.
— Если бумажными деньгами, то восемь шиллингов, а если монетами, то два.
Джеймсу уже доводилось несколько раз воспарять в царство хмельного блаженства, уготованное для взрослых мужчин. Соблазн был велик, деньги жгли руку. Они с Робертом разделят волшебный напиток перед сном, а потом как-нибудь восполнят недостачу. Он отсчитал восемь бумажек, протянул их трактирщику, и плоская фляжка с тихим звяком нырнула в мешок.
На улице было уже совсем темно, только бусинки звёзд поблёскивали сквозь ветви деревьев. Стук подошв о камни тротуара отлетал эхом от стен домов. Два-три окна ещё слабо светились, между ними стояли столбы сплошного мрака. Вдруг что-то засопело, заворочалось, сдвинулось в одном из столбов. Будто рождённая густой чернотой тёмная фигура выпрыгнула на освещенный квадрат тротуара, бросилась на Джеймса, занесла над ним две чёрные лапы, почти ухватила за ворот куртки.
Нет, он увидел её не глазами, не ушами услышал, не носом учуял пьяное дыхание. Наверное, так куропатка взлетает в дюйме от собачьих зубов, как мышцы его шеи без команды успели совершить спасительный кивок, мышцы поясницы нагнули корпус вбок, мышцы ног пружинно бросили всё тело вперёд, прочь от угрозы.
Нападавший промахнулся, испустил злобный крик, рухнул на мостовую.
Джеймс уже несся прочь, колени его мелькали, дыхание свободно вырывалось из горла. Он уже видел отблески света на спинах позолоченных львов у ворот губернаторского дворца, он был почти спасён…
И вдруг остановился.
И мысленно вгляделся в отпечаток тёмной фигуры, ухваченный памятью.
Мозг Джеймса словно вынырнул из-под пелены мгновенного куропаточьего испуга, вернул себе власть над мышцами. И по каким-то своим — непостижимым, непредсказуемым, губительным! — причинам приказал ногам повернуть и двинуться назад, навстречу опасности.
Нападавший теперь сидел на земле, прислонившись спиной к стволу дерева. Изо рта его лились невнятные жалобы и угрозы, обещания разделаться со всеми врагами Кеннета Макдугала, которые ещё не знают, с кем они связались, которые ещё горько пожалеют. Густой запах блевотины мешался с ночной прохладой. Грязные пальцы ноги торчали из драного сапога.
Но главное, но волнующее, то, что заставило Джеймса вернуться к месту схватки, было ухвачено его памятью без ошибки.
На Кеннете Магдугале был мундир виргинской милиции!
Могла ли эта вожделенная вещь свалиться к ногам Джеймса Хемингса без вмешательства высших сил? Не светился ли здесь явный знак милости Всемогущего и Всеведущего, его сочувствия задуманному плану?
Джеймс извлёк из мешка фляжку бренди, осторожно приблизился к пьяному ополченцу.
— Эй, Кеннет, старина… Погляди, что у меня есть. Не хочешь ли добавить? Ты ведь явно недобрал сегодня…
Пьяный с изумлением вгляделся в протянутый ему сосуд. Его боевой пыл истощился, мышцы протянутой руки с трудом могли раскачивать её на уровне глаз. Другую руку он запустил в карман штанов, начал шарить там, вывернул пустую подкладку.
— Нет денег? Не беда. Готов меняться. Я тебе бутылку, а ты мне свой мундир. Ночь тёплая, да ещё и изнутри согреешься. А капитану наутро скажешь, что тебя ограбили индейцы. Он поверит. Всем известно, что индейца хлебом не корми — дай покрасоваться в мундире.
Голова пьяного моталась на непослушной шее. Видимо, какие-то отблески чувства долга ещё блуждали в ней, но делались слабее с каждой секундой. Зато фляжка с бренди блестела в лучах, падавших из освещенного окна, всё ярче. Потом все десять пальцев обессилевшего воина вознеслись к горлу, встретились у ворота и, мешая друг другу, принялись расстёгивать оловянные пуговицы.
Нет, не было у Джеймса Хемингса ни одного человека, с кем бы он мог поделиться свалившейся на него удачей. Мундир был поношенный, с большой дырой под мышкой, с навозным пятном на локте, с оторванным позументом, с бахромой на обшлагах. Когда новый владелец попытался примерить его, стало ясно, что ему придётся ещё долго расти и толстеть, прежде чем его размеры смогут заполнить пространство мундира хотя бы с малой долей правдоподобия. Но всё равно, всё равно! Теперь он сделался обладателем сокровища, перед которым бледнело всё, что могло уместиться внутри глиняной свиньи-копилки.
Мысль о мундире, аккуратно сложенном и спрятанном под матрасом, светилась перед его внутренним взором, как путеводная звезда, выводящая на верную дорогу к свободе. То он видел себя возвращающимся после боя, со знаменем, отбитым у врага, опускающимся на колено перед генералом, который с благодарной улыбкой надевал ему на шею орден на красной ленте. То его уносило на морской простор, на корабль с раздутыми парусами, который гнался за неприятельской шхуной, догонял её, брал на абордаж. Мечта оставляла неясным, на чьей стороне он участвует в сражениях. Но если оказывалось, что на этот раз ему удалось перебежать к британцам, сияющий и восхищённый взгляд прелестной Маргариты легче вписывался в ликующий финал.
Однажды брат Мартин выдернул его из сладких сновидений ещё до рассвета, растолкал, усадил в кровати.
— Джеймс, выручай! Мы с Мэри вчера немного перебрали, она не может дойти до плиты. Подмени её только для завтрака, сготовь тот омлет, который тебя научила жарить мама Бетти. К середине дня Мэри придёт в себя, обед сделает сама.
Джеймс послушно протёр глаза, ополоснул лицо, потащился на кухню.
Да, омлет мамы Бетти он мог бы сделать не просыпаясь. Насчёт колдовских свойств своих рук он не был уверен, но вот уж что знал за собой точно — это умение слышать утекающее время. Будто точнейшие часики были спрятаны у него в затылке, они отсчитывали секунды и минуты и безошибочно говорили ему, пора или не пора. А ведь в этом и был главный секрет умелой готовки!
Бросить несколько полосок бекона на горячую сковородку, дать им пошипеть, обжариться, выпустить жир — раз!
Одновременно разбить полдюжины яиц, смешать их в миске с кружкой молока — два!
Бекон вынуть из сковородки, нарезать мелко-мелко, перемешать с нарезанным луком и ломтиками чёрных маслин — три!
Теперь вылить яичную массу на сковородку, туда же высыпать бекон, перемешанный с овощами, — четыре!
Дальше наступало главное: поймать тот момент, когда омлет надуется, поднимется к краю сковородки и на поверхности его появятся лопающиеся пузырьки.
Пять — готово!
Благодарный Мартин подхватил сковородку, исчез за дверью, затопал по лестнице.
Прислуживать за обедом в тот день была очередь Джеймса. Вслушиваясь в разговоры, он настораживался каждый раз, когда речь заходила о возможном приближении британского флота к их берегам. Трудное название «Чесапикский залив» он уже запомнил, но неясно представлял себе, где этот залив находится. Мистер Мэдисон говорил о том, что пора объявить призыв виргинской милиции, что для обороны побережья понадобится около десяти тысяч человек. Масса Томас согласился с ним, но, повернувшись к мистеру Шорту, спросил:
— Сколько мушкетов имеется в арсенале колонии?
— Едва наберётся четыре тысячи. И в большинстве своём это старьё, заржавевшее от долгого бездействия. Нарезных ружей почти нет, а все говорят, что их дальнобойность и точность намного превосходят старинные образцы.
Миссус Марта выглядела явно обеспокоенной разговорами о войне.
— Джентльмены, насколько я знаю, ни один из вас ещё не имел случая скакать на врага с саблей в руке или стрелять в него из пушки. Даже если вам удастся собрать милицию и вооружить её, кто поведёт её в бой? Разве не следует озаботиться тем, чтобы пригласить на помощь опытных офицеров и генералов?
— Все опытные командиры сейчас служат в Континентальной армии, — сказал масса Томас. — Или командуют гарнизонами в портовых городах: Бостоне, Чарлстауне, Саванне.
— Иногда я просыпаюсь ночью от неясного шума за окном и со страхом думаю: «А вдруг это британцы? Вдруг они подплыли бесшумно и уже высадились на берег?» Для них захватить губернатора штата Виргиния вместе с женой и детьми было бы заманчивым призом.
— Твои страхи, конечно, преувеличены, дорогая, — сказал масса Томас. — Однако наша ассамблея до какой-то степени разделяет их. Идут разговоры о том, что Уильямсберг расположен в опасной близости к океану. Возможно, будет принято постановление о переводе правительства колонии в Ричмонд.
Джеймс не знал, как ему отнестись к услышанному. Объявят призыв в милицию — но будут ли принимать в неё чёрных? Если британцы высадятся неподалёку, даст ли это ему шанс перебежать к ним и поступить в их армию? А переезд в Ричмонд — приблизит он исполнение мечты или отдалит?
Вечером, оставшись один, он уже собирался извлечь мундир и попытаться поработать над ним с иголкой и ниткой. Но тут за дверью раздались шаги. Вошёл Мартин и мрачно объявил брату, что хозяин призывает его к себе в кабинет.
— Не знаешь зачем? — испуганно спросил Джеймс.
— Не знаю. Но сердитым не выглядит. Иди, не бойся.
Масса Томас уже переоделся в халат, сидел за столом с пером в руке. Он обернулся к вошедшему Джеймсу, улыбнулся, указал на стул перед собой.
— Присаживайся. Хочу поговорить с тобой о деле, которое может представить интерес для нас обоих. Ты помнишь иностранных гостей, посещавших нас весной?
— Я помню пленного британского генерала. И толстую баронессу, которая распевала немецкие песни. Она приезжала с мужем и дочерьми.
Вот-вот. Не знаю, заметил ли ты, как эти гости вели себя за столом. Они явно опасались брать в рот некоторые непривычные для них продукты. К помидорам, например, не прикасались. То же самое и с устрицами. Картофель ели осторожно и лишь после того, как мы с миссис Мартой показали им пример. Авокадо, артишоки, батат всегда оставались на тарелках нетронутыми.
— Миссус Марта специально просила нас, чтобы мы потом на кухне не дали пропасть такому добру. Попировали на славу.
— То, что для нас деликатес, непривычным людям кажется просто несъедобным. И я подумал: иностранцы будут приезжать в Америку всё чаще, многие нанесут визит в Монтичелло. Хорошо бы на эти случаи иметь в доме повара, который умел бы готовить европейские — и особенно французские — блюда. Не хотел бы ты стать таким поваром?
— Я?!.. Но как же?.. Почему вдруг я?..
— Твоя сестра Мэри призналась миссис Марте, что утром ей нездоровилось и что завтрак готовила не она. Мы с женой в жизни не ели такого вкусного омлета. И подумали: а вдруг Творец наделил Джеймса Хемингса особым кулинарным талантом? И если его развить, из него может получиться превосходный повар. Что скажешь?
— Ох, прямо не знаю, масса Томас… Это ж надо столько лет учиться… А где? У кого?
— В Ричмонде есть неплохой ресторан, которым владеет эмигрант из Парижа. Когда мы зимой переедем туда, для начала я мог бы отдать тебя ему в апрентисы[3]. Если у тебя учёба пойдёт, будем думать, искать настоящих мастеров этого дела. Может быть, даже в Филадельфии.
— Вы же знаете, масса Томас, для меня слово хозяина — закон. Как вы скажете, так и будет.
— Это я знаю. Но также я знаю, что талант насиловать нельзя. Нельзя человеку приказать: «Научись играть на скрипке». Если в нём не будет таланта и желания, ничего не получится. Думаю, и в искусстве кулинарии дело обстоит таким же образом. Поэтому и позвал тебя для разговора. Ну как: хотел бы ты выучиться и стать первоклассным поваром?
— Вообще-то… Всё это так неожиданно… Не знаю, что сказать… Наверное «да»… Даже очень, очень «да».
— Не исключено, что мне, мистеру Мэдисону и другим удастся добиться, чтобы ассамблея отменила закон, требующий немедленной высылки освобождённых рабов из колонии. В этом случае я смогу освободить тебя и нанять поваром как свободного человека, за жалованье.
Про заключительную часть разговора Джеймс не стал рассказывать братьям. Его пошлют учиться поварскому ремеслу — вот всё, о чём шла речь. Уже и этого было довольно, чтобы возбудить зависть в окружающих. Но волна ликования и надежд поднималась в душе будущего шеф-повара с такой силой, что рот в самые неподходящие моменты растягивался в дурацкую улыбку — хоть руками возвращай его в серьёзную мину.
И как быстро мечта о свободе меняла свои обличья! Ещё недавно она воплощалась в свинье-копилке, потом в военном мундире, теперь в поварском колпаке. Всё это перемешивалось в неправдоподобных причудливых сновидениях. Он видел себя верхом на коне, объезжающим празднично накрытый стол, расставленный на просторной лужайке, а красавица Маргарита выходила из дверей дома, всплёскивала руками и восклицала в тревоге: «Мы забыли купить мадеру!» А он отвечал ей со спокойной улыбкой: «Мадера вышла из моды. Теперь пьют только яблочное бренди».
Зима, 1780
«Всё упирается в деньги. И главный вопрос: как добыть их? Налоги, даже очень высокие, не поступают достаточно быстро; занимать мы не можем, потому что никто не даст нам в долг, пока над армией висит угроза голода или роспуска. Если увеличивать налоги, те самые люди, которые раньше были готовы отдать половину своего имущества, если не всё, на пользу своей стране, сегодня могут поднять восстание, если у них потребуют всего две сотых. Может возникнуть такое напряжение, которое расколет наш союз. С другой стороны, если не увеличить налоги, это может означать конец нашей борьбы. Эти трудности усугубляются успехами неприятеля, вгоняющими в уныние армию и народ. Но я не отчаиваюсь. Одна энергичная и успешная военная кампания может принести славное завершение войны. Нужно только напрячь наши усилия. Нам придётся выбирать между славой, честью и счастьем, с одной стороны, или позором, бесчестьем и горем — с другой».
Из письма спикера ассамблеи Массачусетса, Джеймса Уоррена, генералу ВашингтонуВесна, 1780
«Совместное наступление с французами на Квебек, на котором настаивает конгресс, не вызывает во мне энтузиазма. Эта территория настолько привязана к Франции своими традициями, языком, религией, способами управления, что если французский флаг будет водружён там, он останется надолго… Людям свойственно впадать в крайности; ненависть к Англии может во многих породить преувеличенное доверие к Франции… Я всем сердцем питаю добрые чувства к нашим новым союзникам и рад поддерживать их в других до определённого предела… Но весь опыт человеческой истории учит нас, что любое государство станет действовать исключительно в своих интересах. Ни один разумный государственный деятель или политик не должен забывать этого».
Из письма Вашингтона Генри Лоуренсу, американскому послу в НидерландахЛето, 1780
«Немедленно после получения известия о том, что генерал Линкольн сдал Чарлстаун и вся его армия попала в плен, генерал Гейтс, прославленный победитель под Саратогой, был назначен командующим войсками Южного фронта. Армия лорда Корнуоллиса подошла к окрестностям города Камден, где и завязалось большое сражение 16 августа 1780 года. Поначалу обе армии проявили изрядное мужество с обеих сторон, но потом ополченцы из Виргинии и Северной Каролины не выдержали, побросали оружие и бежали в полной панике. Видя свои войска полностью разбитыми, генерал Гейтс тоже бежал, что в какой-то мере запятнало его лавры, полученные под Саратогой».
Мерси Отис Уоррен. История революцииЗима, 1781
«Прибывший в Виргинию генерал Арнольд высадился в Вестовере и двинулся на Ричмонд, сжигая и разрушая всё на своём пути и почти не встречая сопротивления. Лорд Корнуоллис презирал его и писал главнокомандующему в Нью-Йорке, генералу Генри Клинтону, что для достижения победы в Виргинии необходима иная тактика, а не те действия, которые предпринимал Арнольд. Не приходится удивляться тому, что многие достойные офицеры в британской армии были возмущены тем чином и тем доверием, которым их главнокомандующий наделил это беспринципное ничтожество».
Мерси Отис Уоррен. История революцииВесна, 1781
«Из разговора с мистером Бёрдом я узнал, что он был ограблен британцами, когда они проходили мимо его дома, двигаясь к Вестоверу, преследуя армию Лафайета, и когда возвращались в Уильямсберг, не сумев настигнуть маркиза. Фрукты, птица, скот были унесены авангардом, армия забрала то, что оставалось, даже офицеры забрали ром и провизию всякого рода, не заплатив ни фартинга. А потом началось самое страшное — оборванцы и всякая шваль, называвшая себя лоялистами, шли вслед за армией не для того, чтобы принять участие в боях, а для того, чтобы присоединиться к грабежам. Они опустошали дома, и мистер Бёрд с возмущением рассказал, что они силой сорвали с его ног сапоги».
Из путевых заметок французского генерала ШастеллюИЮНЬ, 1781. МОНТИЧЕЛЛО
Ночь на 4 июня прошла почти без сна. Джефферсон пытался скрасить её, мысленно повторяя слова «конец», «всё позади», «отслужил», «избавился». Не помогало. Да, двухлетний срок его губернаторства истёк, но желанного облегчения это не принесло. Тем более что накануне ассамблея так и не смогла на смену ему выбрать нового губернатора. Формально бремя власти всё ещё лежало на его плечах и пригибало до земли.
Ассамблея! Он по привычке всё ещё называл кучку растерянных адвокатов и плантаторов, гонимых из города в город, правительством гордой колонии Виргинии! Сначала они были вынуждены покинуть Уильямсберг, опасаясь близости британского флота, переехали в Ричмонд. Через год враг подошёл к стенам этого города, под грохот артиллерийской канонады им пришлось срочно бежать и оттуда. Теперь остатки ассамблеи укрылись в Шарлотгсвилле, но и там они не могли чувствовать себя в безопасности.
И кто же вёл британские полки? Кто безнаказанно сжигал дома, мельницы, кузни, угонял скот и рабов, захватывал склады зерна и пороха, рубил сады на дрова, насиловал женщин? Кто хвастливо обещал поймать главных смутьянов, взбунтовавшихся против английской короны, и доставить их к подножию виселицы? Грязный предатель, покрывший позором не только своё имя, но и само понятие «офицер Континентальной армии» — генерал Бенедикт Арнольд.
Воспользовавшись попутным ветром, британские суда поднялись по реке Джеймс до Вестовера, высадили на берег полуторатысячную бригаду Арнольда, которая быстрым маршем двинулась на Ричмонд. Отряд милиции, охранявший город, едва насчитывал 200 ополченцев, не могло и речи идти об обороне. Джефферсон едва успел отправить семью в своё поместье Файн-Крик, а сам носился по округе, пытаясь связаться с бароном фон Штойбеном, только что назначенным командиром военных сил колонии.
За три дня оккупации столицы британцы успели захватить несколько пушек, арсенал, а главное, сжечь все государственные архивы колонии. В доме губернатора они допрашивали оставшихся рабов, куда ускакал их хозяин, уверяли, что они не намерены причинять ему зла, только наденут «вот эти изящные серебряные наручники». Потом разграбили винный погреб и кладовые, кормили своих коней заготовленной кукурузой, увели с собой нескольких рабов, включая кормилицу Урсулу и её сына Айзека.
Печальным было возвращение губернатора в дымящийся, разорённый город, который он не сумел отстоять. Чувство беспомощности рождало бессильную ярость, которая искала выхода. В какой-то момент Джефферсон начал носиться с идеей похищения злодея Арнольда. Свои секретные планы подробно описал в письме старинному знакомому, бригадному генералу Мюленбергу:
«Было бы в высшей степени желательно похитить худшего из предателей из-под крыла его новых покровителей. Для этой цели хорошо было бы использовать смелых и предприимчивых поселенцев, живущих к западу от Аппалачских гор. Вы лично знакомы с многими из них, и я прошу Вас выбрать несколько надёжных, которым можно было бы доверить такое важное и опасное предприятие. Если им удастся доставить пленника живым, в качестве вознаграждения им будет предложена сумма в пять тысяч гиней. В тылу неприятеля они должны будут притворяться лоялистами, но действовать нужно с крайней осторожностью, потому что по законам войны разоблачение будет чревато для посланных самыми суровыми наказаниями».
Конечно, ничего не вышло бы из этих планов, даже если бы сумма вознаграждения была увеличена в пять раз. Золотой телец стремительно утрачивал свой былой блеск и власть над душами. Ассамблея устанавливала размеры налогов на новый год зимой, но деньги, собранные летом, были уже дешевле в десять раз. Оклад губернатору в первый год был назначен в 4500 фунтов, однако уже осенью его пришлось поднять до 7500, а на следующий год, вместо денег, в качестве платы Джефферсон получил 60 тысяч фунтов табака.
Пять лет назад война началась с того, что британцы послали четыре батальона в Конкорд и Лексингтон, чтобы арестовать несколько видных патриотов, скрывавшихся там. Каким чудом тысячи простых жителей колонии Массачусетс, схватив мушкеты, за одну ночь стеклись к этим городам, чтобы защитить своих вождей? И почему он, Томас Джефферсон, губернатор колонии с населением в полмиллиона, не смог собрать военную силу, достаточную для отражения полуторатысячного отряда Арнольда?
Его упрекали за то, что в течение двух лет своего правления он безотказно посылал новобранцев и военное снаряжение в Континентальную армию, сражавшуюся в других штатах, а Виргинию оставлял беззащитной. Что распылял силы милиции, отправляя отряды на западную границу для борьбы с индейцами, или организовывал безнадёжную военную экспедицию в далёкий Детройт. Известие о появлении британского флота в Чесапикском заливе показалось ему недостаточно достоверным, и он тянул два дня, прежде чем отдать приказ о призыве ополченцев, да и то поначалу призвал только половину.
Неужели прав был барон фон Штойбен, приславший в ассамблею горькое письмо с упрёками правительству штата за пассивность, за неумение организовать военную оборону?
По сути, на своём ломаном английском барон повторял азбучные истины. Что состояние войны требует временной отмены гражданских свобод и вольностей. Что правительство обязано ввести чрезвычайные налоги для вербовки солдат и закупки военного снаряжения. Что имущество неплательщиков налогов должно реквизироваться неукоснительно. Что люди, защищающие своей кровью дома мирных жителей, имеют право ночевать под крышами этих домов, а не мёрзнуть под открытым небом. И что дезертиров следует карать безжалостно, а имущество лоялистов конфисковывать, не считаясь с высокими словами Декларации независимости.
Джефферсон пытался объяснить барону, что предложенное им срочное строительство укреплённого форта на реке Джеймс невозможно осуществить, ибо у ассамблеи нет средств для найма рабочих. Барон не мог понять его: «Давать мне рота ополченец, и мы строить форт за два недель. Или сотня чёрный невольник — и дело бывать сделан».
На это губернатор штата Виргиния говорил, что он не станет вводить у себя прусские порядки. По виргинским законам гражданская власть не имеет права вынуждать свободного человека бесплатно трудиться, даже если он находится в данное время на военной службе. Не может она также использовать невольников без согласия их хозяина.
— Ваш свободный людей переставать быть свободный и ваш владелец рабов переставать иметь свой невольник, потому что британцы приплывать на незащищённый река и увозить и тех и других! — кричал фон Штойбен.
Военные и гражданские правители колонии не могли расслышать и понять друг друга.
Беда была в том, что все меры, предлагаемые фон Штойбеном, представляли собой сгусток того, что Джефферсон ненавидел всеми силами души. Это была та самая тирания, против которой они начали свою борьбу. Как же он мог теперь своими руками — своими приказами — осуществлять то, за что ещё недавно проклинал королевскую власть и британский парламент? Да, возможно, роль военного лидера была ему не по плечу. Разве мог бы он когда-нибудь сделать то, что, например, Вашингтону приходилось совершать чуть ли не каждый день? Отдавать приказ о бичевании полуголого дезертира на морозе? О расстреле бунтовщика? Разве смог бы отказать в помиловании несчастному юноше, Джону Андре, шпиону, схваченному с секретными бумагами?
Когда он согласился занять пост губернатора, война полыхала где-то далеко от Виргинии. Ему всё время казалось, что Лондон вот-вот поймёт безнадёжность затеянного противоборства, отзовёт войска и корабли, даст американцам возможность самим устраивать свою судьбу. А пока его задачей, как он её понимал, было проводить в жизнь самые разумные законы и отдавать полезные и необходимые распоряжения. Если же эти законы почему-то не соблюдались, а распоряжения не выполнялись, в этом уже не было никакой вины губернатора, разве не так?
Ему всё время приходилось выслушивать упрёки за то, что он не горит желанием получать посты, уклоняется от своего гражданского долга, предпочитает отсиживаться в своём горном гнезде. Джон Адамc писал ему: «Нам нужна Ваша энергия и таланты… Умоляю, вернитесь в конгресс и помогите нам побороть инфляцию… Ваша страна ещё не достигла той степени безопасности, которая позволила бы предаться радостям домашней жизни…» Эдмунд Пендлтон корил за то же: «Нас ранит, когда Вы заговариваете об уходе на покой. Вы ещё слишком молоды, чтобы уйти от служения обществу».
Радости домашней жизни!
Ах, знали бы они, какой болью сжималось его сердце каждое утро, когда побледневшая и исхудавшая Марта спускалась к завтраку, неуверенно нащупывая ногой ступени лестницы, ведя прозрачной рукой по перилам. Когда она пыталась поднять с пола и усадить на стул трёхлетнюю Полли, а потом разжимала пальцы и виновато смотрела, как восьмилетняя Салли Хемингс справляется с этой — уже непосильной для неё самой — задачей. Как страшно было слышать по ночам сиплый кашель, переходящий в свистящее дыхание и стоны.
Из Ричмонда им пришлось бежать под порывами безжалостного январского ветра. Нет сомнения в том, что новорождённая Люси Элизабет именно тогда подхватила простуду, которая три месяца спустя унесла её в мир иной. К двум детским могилам на склоне его любимой горы добавилась третья.
Смерть дочери привела Марту в состояние, близкое к помешательству. Она ходила взад-вперёд по спальне, тихо подвывая, мотая головой, хлопая себя по щекам будто в наказание. У неё появилась потребность рвать или ломать всё, что попадало ей в руки: постельное бельё, свечи, перья, детские игрушки. В какой-то момент она начала выдирать страницы из Библии и разрезать их ножницами на мелкие кусочки. Если Джефферсон пытался утешать её, она смотрела на него как на чужого, как на забредшего в дом незнакомца. Но однажды вдруг замерла, устремила недобрый взгляд прямо ему в лицо и начала говорить.
Будто все накопленные за десять лет обиды, горечь, разочарования прорвали плотину и обрушились на него волной упрёков и обвинений. Это он, он был во всём виноват. Он оставлял её одну в недостроенном доме, посреди диких лесов, сражаться с непогодой, болезнями детей, тяготами домашних трудов. Он исчезал на месяцы, чтобы вместе со своими друзьями раздувать смуту, разрушившую мирную жизнь людей, залившую всю страну огнём и кровью. «Это вы разожгли непосильную войну, а теперь не можете защитить нас от врага. И мы вынуждены бежать, бежать всё дальше и дальше, под снегом и дождём, как зайцы от зубов собаки, как крысы, выгнанные из своих нор!»
Таковы были его «радости домашней жизни» этой весной.
В мае военная ситуация стала катастрофической. Корпус лорда Корнуоллиса соединился с бригадой Бенедикта Арнольда, и таким образом численность британской армии в Виргинии достигла семи тысяч. Генерал Лафайет имел только три тысячи, и он умело маневрировал этими полками, угрожая британцам то в одном месте, то в другом, но тщательно избегая решительного сражения, которое могло бы обернуться полным разгромом. Он даже сумел не допустить вторичного захвата Ричмонда, однако выбить врага из колонии — на это нужна была более серьёзная сила.
В конце мая Джефферсон наконец пересилил себя и воззвал о помощи к самому Вашингтону. «Дорогой сэр, — писал он, — кроме пехоты и кавалерии противника, оперирующих на территории нашего штата, нам противостоят соединённые силы британцев и индейцев на западной границе, против которых, как вам известно, мы должны держать там около трёх тысяч ополченцев. Также суда врага, поднимающиеся по нашим рекам, разоряют прибрежные поселения и не дают возможности различным графствам оказывать помощь друг другу. Я не могу судить о том, как обстоят дела в других частях Союза, общая картина видна только Вам и только Вы можете решать, существует ли сейчас возможность прийти на помощь Виргинии, которая все эти годы посылала свои войска сражаться на территории других штатов. Однако если бы Вы смогли появиться среди нас в этот трудный момент, это воодушевило бы войска и вернуло всему населению веру в возможность победного исхода нашей борьбы».
Небо уже посветлело, когда Джефферсон оставил попытки заснуть, оделся и вышел в сад. Листья на саженцах персиковых деревьев поблёскивали каплями росы, невидимые корни наливались в глубине соками удобренной навозом земли. Огуречные плети уверенно обвивали натянутые для них шпагаты, но грядки зеленели свежими ростками сорняков. Надо будет сегодня послать работниц на прополку.
Вдруг снизу раздался топот копыт. Кто бы это мог быть в такую рань?
Всадник появился из-за поворота дороги внезапно. Бока его коня были исхлёстаны, да и сам ездок выглядел не лучше: казалось, он проделал долгий путь, на котором то ли встречные кусты безжалостно хлестали его по лицу и рукам, то ли мстительные эринии гнали плётками за неведомую вину. Завидев Джефферсона, он подскакал к нему, спрыгнул с седла, сорвал шапку:
— Сэр! Капитан шестнадцатого полка виргинской милиции Джон Джут!
Тонкий голос и внешняя моложавость плохо сочетались с мощной фигурой и высоким ростом утреннего визитёра. Он тяжело дышал, под глазами темнели круги. Видимо, за долгий путь ноги его отвыкли нести груз могучего тела. Пошатнувшись, он ухватился одной рукой за шею коня, другой — за седло.
— Я, кажется, знаком с вашим отцом, — сказал Джефферсон. — Он был среди жителей нашего графства, подписавших петицию против короля, — так?
— Совершенно верно: Джон Джут-старший. Моя семья живёт в Шарлоттсвилле. Отец владеет таверной «Белый лебедь», ведёт и другой бизнес.
— Вижу, что вам пришлось скакать всю ночь, капитан Джут. Что-нибудь случилось?
— Вчера вечером я был в таверне в сорока милях отсюда, в графстве Луиза. Большой отряд британских драгун остановился там на короткий привал. Мне удалось подслушать их разговоры. Из них мне стало ясно, что это не просто сторожевое подразделение. Отряд направляется в Шарлоттсвилл. Ему дано задание захватить правительство Виргинии. Включая и губернатора. То есть вас.
— Благодарю вас, капитан. Я немедленно пошлю гонца к генералу Лафайету с просьбой прислать войска для защиты членов ассамблеи.
— Сэр, боюсь, на это нет времени. Драгуны могут быть здесь с минуты на минуту.
— Вы же сказали, что они остановились на ночлег. Наверное, они только-только проснулись.
— Не на ночлег — на привал. Их ведёт подполковник Тарлтон. Он знаменит своими стремительными марш-бросками. От семидесяти до восьмидесяти миль за сутки. Мне пришлось пользоваться боковыми тропинками, которые я хорошо знаю. Но они-то поедут по главной дороге, что гораздо легче и быстрее. Я должен немедленно скакать дальше, чтобы предупредить наших законодателей в Шарлоттсвилле.
— Неужели вы не дадите себе и коню передохнуть? Хотя бы освежиться стаканчиком мадеры?
Джут помотал головой, нащупал ногой стремя, с трудом перебросил усталое тело в седло.
— Никак не могу, сэр. И настоятельно взываю к вам: покиньте свой дом немедленно. Уверен, что подполковник Тарлтон имеет хорошие карты и найдёт дорогу сюда. Заполучить такого пленника, как вы, — большой соблазн для него.
Джут ускакал.
Джефферсон посмотрел ему вслед, потом пошёл к дому.
Как всегда, приближение опасности не подхлёстывало его, а, наоборот, притормаживало, заставляло вглядеться в контуры угрозы, чтобы не поддаться первому импульсу, не впасть в панику. Кроме того, уязвлённая гордость тоже подавала свой голос. Он просто устал убегать. Последние полгода он только и делал, что спасался бегством от безжалостного и непобедимого врага. Неужели прав был фон Штойбен и такова была плата за строгое следование идеалам свободы и справедливости в разгар беспощадной борьбы?
Так или иначе, первым делом надо было отправить семью в укрытие. Он подозвал Джеймса Хемингса, коловшего дрова у бокового входа, и велел ему запрягать фаэтон. Сам с тяжёлым сердцем поднялся в спальню жены. Видимо, Марта услышала топот коня утреннего гостя, всё поняла и уже одевала детей. Она повернула к нему застывшее лицо и спросила голосом сдавленным и усталым:
— Опять? Куда теперь? На край земли?
— Джеймс отвезёт вас в поместье полковника Картера. К обеду я присоединюсь к вам. Со дня на день меня должны освободить от должности губернатора, и тогда мы все вместе уедем в Поплар-Форест.
— А что будет здесь? Британцы, которых мы принимали в качестве пленных гостей, въедут сюда хозяевами?
— Надеюсь, этого не случится. Но получено сообщение, что их войска продвинулись довольно близко. Нам следует принять меры предосторожности.
— Мне не жалко, если они разграбят наше имущество. Но если они угонят и распродадут наших негров — это будет для меня невыносимо. Вот уж кто будет страдать без всякой вины!
Чёрные страдают без вины, вся вина лежит на белых — сколько раз ему приходилось выслушивать эту сентенцию! И сдерживать себя, скрывать боль и раздражение. Причём вина вторгшихся британцев, врагов, в глазах Марты была явно меньше вины американцев, затеявших безнадёжную борьбу.
Джефферсон вздохнул, поднял на руки Полли, отнёс её вниз, усадил в фаэтон.
— А где Салли? — захныкала девочка. — Я хочу, чтобы и Салли поехала с нами.
Пришлось вызывать из хижины Салли Хемингс, а заодно уж и кухарку Мэри. Роберт и Джеймс взобрались на козлы. Нагруженные рессоры издали протестующий скрип, но выдержали. Колёса оставили глубокий след на мокром песке.
Оставшись один, Джефферсон пошёл проверить, выполнили ли его вчерашнее поручение, подкован ли Карактакус. От дверей конюшни открывался вид на Шарлоттсвилл. В объективе карманного телескопа улицы городка выглядели безмятежно, спокойными, не ведающими близкой угрозы. Не может ли оказаться, что капитан Джут преувеличил опасность? Что подслушанные им слова «Шарлоттсвилл», «Монтичелло» были произнесены всадниками случайно? А если даже и нет, не будет ли более достойным прервать бесконечное бегство и встретить врага на пороге собственного дома со шпагой и пистолетом в руках?
Джефферсон ещё раз поднёс телескоп к глазам и чуть не отшатнулся от представшей перед ним картины. Драгуны в бело-зелёных мундирах проносились по улицам городка волна за волной, спешивались, стучали в двери домов эфесами сабель. Полуодетых испуганных горожан сгоняли на площадь. Женщины с детьми на руках бежали за уводимыми мужьями.
Джефферсон перевёл объектив вправо. Там просвет между деревьями позволял увидеть то место, где от главной дороги конная тропа отделялась и начинала подъём к его поместью на вершине горы. И как раз в этот момент по зеленоватому стеклу один за другим беззвучно заскользили силуэты всадников. Они были так близко, что он мог разглядеть лица: разгорячённые охотой и близостью добычи.
Времени на колебания больше не оставалось.
Джефферсон вывел из конюшни Карактакуса, вскочил в седло, направил коня к боковой калитке. По тайной лесной дороге до поместья полковника Картера было около часа езды. А что, если и эту дорогу какой-нибудь предатель-лоялист уже успел указать британцам? Ну что ж, тогда ему придётся испытать на себе ту судьбу, которую он готовил предателю Бенедикту Арнольду. Ведь в глазах лондонского парламента он, Томас Джефферсон, тоже был изменником, а для таких в Тауэре всегда найдётся подходящий каменный мешок.
Лето, 1781
«В моём поместье Элк-Хилл войска лорда Корнуоллиса сожгли весь урожай кукурузы и табака на полях и в складах — всё, что они не могли использовать; как и следовало ожидать, они забрали коров, овец и свиней для себя, а также лошадей, годных для военной службы; жеребятам перерезали горло. Также были сожжены все ограды на плантациях и были уведены 30 негров. Если бы они были отпущены на свободу, это было бы правомочно, но они были обречены на гибель от оспы и тифа, свирепствовавших в британском лагере. Насколько мне известно, из уведённых 27 умерли. Об остальных трёх я не имел известий, но, полагаю, и их постигла та же участь».
Из письма Джефферсона другуОктябрь, 1781
«Летом британцы ожидали атаки соединённых сил американцев и французов на Нью-Йорк. Но генерал Вашингтон и генерал Рошамбо тайно изменили планы и решили перебросить свои армии в Виргинию, где силы лорда Корнуоллиса оккупировали город Йорктаун. Под покровом секретности десять тысяч человек совершили марш длиной в 400 миль и заперли британцев между устьями двух рек, Джеймс и Йорк. Десятидневная осада сопровождалась мощным артиллерийским обстрелом. Армия лорда Корнуоллиса была ослаблена болезнями и голодом, порох был на исходе, и 17 октября она была вынуждена капитулировать. При сдаче в плен британцам были даны только те права, которые они дали американцам за год до этого при захвате города Чарлстауна в Южной Каролине».
Мерси Отис Уоррен. История революцииАпрель, 1782
«Позвольте дать вам портрет хозяина Монтичелло: ему ещё нет сорока, он высок, выражение лица мягкое и приятное, но приметы внешнего изящества перестаёшь искать, когда прикасаешься к глубине его ума. Американец, никогда не покидавший свою страну, но сумевший стать одновременно музыкантом, рисовальщиком, геометром, астрономом, философом, законодателем и государственным деятелем…
Поначалу его характер показался мне весьма серьёзным, почти холодным; но после двух часов общения мы сделались так близки, как будто прожили наши жизни рядом; прогулки, книги, но главное — беседа, всегда интересная и разнообразная, дающая огромное удовлетворение двум людям, которые обмениваются своими мнениями и чувствами, всегда созвучными, которые понимают друг друга по первому намёку. Четыре дня пролетели, как четыре минуты».
Из путевых заметок французского академика генерала Франсуа ШастеллюСЕНТЯБРЬ, 1782. МОНТИЧЕЛЛО
Джефферсон не верил в игры с судьбой, но в этот раз он пытался заклясть её — вырвать договор — повязать обетом: пока он пишет свою книгу, его жена не может умереть!
О, книга должна быть очень большой!
Описание Виргинии — это только начало. Потом он перейдёт к другим штатам, в которых уже успел побывать, — Пенсильвании, Мэриленду, Нью-Йорку. Затем совершит путешествие в остальные. И ни на один день, ни на минуту не прервёт писания. Потому что пока он пишет, Марта останется среди живых.
«Месье Бюффон полагает, что мамонт, скелеты и бивни которого находят к северу от реки Огайо, является, по сути, тем же животным, что и слон. На это можно возразить, что: 1) скелеты мамонта соотносимы с животным, которое превосходит своими размерами слона в пять-шесть раз; 2) жевательные зубы мамонта тоже в пять раз больше и имеют выступы, в то время как у слона они плоские; 3) мне никогда не доводилось слышать, чтобы зубы слона были найдены в Америке; 4) слоны обитают только в тропической зоне, и они никогда не могли бы выжить в тех холодных районах, где находят останки мамонтов, а их находят даже в Канаде».
Всё же хорошо, что он весной уговорил свою овдовевшую сестру, Марту Карр, поселиться в Монтичелло со всеми шестью детьми. Двум старшим дочерям скоро придёт пора выходить замуж, понадобятся деньги на приданое, но он вёл финансы этой семьи уже почти десять лет, с самой смерти дорогого его сердцу Дэбни Карра, и знал, откуда можно будет взять дополнительные средства. Он всегда мечтал иметь сына, и двенадцатилетний племянник Питер Карр, похоже, сумеет заполнить эту лакуну. У мальчика были явные способности к математике и иностранным языкам, и Джефферсону удавалось выделять время на занятия с ним.
Девочку, родившуюся у них в мае, Джефферсоны назвали Люси Элизабет, в память о дочери, умершей год назад. Бетти Хемингс говорила, что этого не следовало делать, что духи не любят, когда им бросают такой дерзкий вызов, но Марта настояла на своём. Она болела всю зиму, рожала опять тяжело — шутка сказать, седьмой раз! — и здоровье не возвращалось к ней даже под лучами летнего солнца. Доктор Гилмор только разводил руками и больше не пытался предлагать слабительные и кровопускания — знал, что Джефферсоны решительно разуверились в этих методах лечения.
«Племена американских индейцев не управляются законами, у них нет никаких форм принуждения, ни тени правительства. Их поступки контролируются только принятыми у них нормами поведения, моральным чувством, отделяющим правильное от неправильного. Нарушения наказываются общим презрением, изгнанием из племени или, в серьёзных случаях, как, например, убийство, возмездие берут на себя родственники погибшего. Такая система выглядит несовершенной, но преступления в их среде крайне редки. Примечательно, что языки разных племён так отличаются друг от друга, что общаться с иноплеменниками они могут только с помощью переводчика… Существует представление, что белые отнимали у них территорию при помощи военной силы. Однако в исторических отчётах и архивах мы находим бесчисленные упоминания о покупке земельных участков у индейцев за деньги и товары».
После разгрома британцев под Йорктауном война ушла из Виргинии. Доходили известия о военных стычках на юге, мощный британский гарнизон оставался в Нью-Йорке, цепь вражеских фортов на западной границе и в районе Великих озёр по-прежнему угрожала американским поселениям. Однако в Париже Бенджамин Франклин и Джон Адамc встретились с представителями Вестминстера, чтобы прощупать возможность заключения мирного договора.
Предварительные условия этого договора, зачитанные в парламенте, вызвали бурю негодования. Видные члены палаты лордов и палаты общин вставали один за другим и в своих речах объявляли любые уступки бунтовщикам национальным позором. Нет, Британия ещё не исчерпала своих ресурсов до конца! Её армия, её флот, её промышленность ещё способны противостоять объединённым силам Франции, Голландии и Испании, примкнувшим к восставшим колониям. А что будет с теми британскими подданными, которые в течение семи лет войны сохраняли верность короне? По предварительным условиям мира, решение судьбы лоялистов отдавалось на усмотрение законодательных собраний американских штатов. Не означало ли это отдать своих преданных союзников на милость их злейших врагов?
Пожар войны переместился на просторы океана. В апреле французский флот под командой адмирала де Грасса попытался соединиться с флотом испанцев. Но британцы перехватили его на пути, и в районе острова Мартиника завязалась тяжёлая битва. На французских кораблях помимо моряков находились солдаты десанта, поэтому их потери от артиллерийского огня были огромными: несколько тысяч человек по сравнению с несколькими сотнями англичан. Победа британского флота была полной, но теперь ему нужно было спешить на защиту Гибралтара. Вестминстер, похоже, был готов искать мира с американцами.
Джефферсон со вздохом откладывал газеты и возвращался к своим «Заметкам о Виргинии».
«Монтичелло расположено на возвышении, и это позволяет иногда наблюдать странный феномен, который редко случается на суше, но довольно часто на море. Моряки называют его “раздутие”. Учёные отстают от мореплавателей и ещё не дали названия этому явлению. Оно заключается в том, что удалённые предметы начинают выглядеть крупнее, чем близкие. Был случай в Иорктауне, когда наблюдатели на берегу увидели вдали лодку с тремя гребцами и она показалась им кораблём с тремя мачтами. В сорока милях к югу от Монтичелло есть гора Уиллис, имеющая обычную коническую форму. Но благодаря эффекту “раздутия” она иногда выглядит полушарием; иногда её стороны поднимаются перпендикулярно горизонту, а вершина кажется плоской и такой же широкой, как основание. Причём эти перемены могут происходить в течение одного утра».
Джефферсон иногда спрашивал себя: взялся бы он за писание этого труда без толчка со стороны? Вряд ли. Политическая жизнь, семейные заботы, хозяйственные хлопоты так тесно заполняли каждый день, что казалось — времени не могло остаться ни на что другое. Но вот два года назад он, как и все остальные губернаторы штатов, получил письмо от секретаря французского посольства маркиза Барбе-Марбуа с подробным списком вопросов о природе и населении Америки. Любознательного француза интересовало всё: реки, морские порты, горы, водопады, климат, организация милиции, индейцы, законы, финансы, история. Подробный вопросник, включённый в его письмо, избавлял от необходимости думать о композиции книги, он естественным образом превратился в её оглавление. К весне 1782 года объёмистый труд был почти закончен, теперь надо было работать над стилем, уточнять некоторые детали.
У постели больной дежурили по очереди: Бетти Хемингс — ночью и ранним утром, сестра Марта — днём, Джефферсон — вечерами. Новорождённую кормила одна из дочерей Бетти, у которой недавно родился сын. Жена просила приносить ей Люси Элизабет каждый день, клала рядом с собой на подушку, вглядывалась в личико спящей, трогала пальцем щёки и губы. В те дни, когда болезнь ослабляла свои тиски, она хотела, чтобы Джефферсон читал ей перед сном. Он старался выбирать тексты, не содержавшие ничего печального и горестного, однако замечал, что и чистые комедии — Шеридана, Бомарше, Вольтера — не веселили её.
— Не старайся угодить моему вкусу, — говорила больная, — следуй только своему. Потому что твой голос звучит гораздо лучше, когда ты читаешь то, что увлекает тебя самого.
Ей нравились знаменитые эссе Бенджамина Франклина, собранные в сборнике, названном «Альманах бедного Ричарда». Их простые и нравоучительные сентенции создавали у читателя иллюзию, что всё на свете можно упорядочить, улучшить, закрепить, исправить. «Если ты любишь жизнь, не растрачивай попусту время, ибо это тот самый материал, из которого она ткётся». «Налоги правительства уплачивать нелегко, но в пять раз тяжелее налоги, которые налагает на нас собственная лень и тщеславие». «В дом трудолюбивого голод может заглянуть, но войти не посмеет».
Летом пришло письмо от Томаса Пейна, в котором были вложены стихи молодого шотландца Роберта Бёрнса. Джефферсон читал их больной с таким воодушевлением, будто это был любовный мадригал возлюбленной, сочинённый им самим:
Любовь, как роза, роза красная, Цветёт в моём саду. Любовь моя — как песенка, С которой в путь иду. Сильнее красоты твоей Моя любовь одна. Она с тобой, пока моря Не высохнут до дна. Не высохнут моря, мой друг, Не рушится гранит, Не остановится песок, А он, как жизнь, бежит… Будь счастлива, моя любовь, Прощай и не грусти. Вернусь к тебе, хоть целый свет Пришлось бы мне пройти![4]Слово «прощай» Джефферсон на ходу заменил словом «цвети».
Однажды Марта попросила его почитать ей какой-нибудь отрывок из книги, над которой работал он сам. Джефферсон выбрал главу о религии.
«…В своих верованиях мы ответственны только перед Богом. Законная власть правительства может запрещать только такие наши поступки, которые наносят вред другому. Если мой сосед говорит, что Бога нет или что существуют 20 богов, я не терплю от этого никакого ущерба. Он не залез в мой карман, не сломал мне ногу. Принуждение может сделать его лицемером, но не приблизит к истине. Только разум и свободное исследование могут исправлять ошибочные суждения. Если бы правительство Римской империи запрещало свободный поиск, христианство никогда не появилось бы на свет… Разница мнений обогащает религиозную жизнь… Достичь единомыслия в этой сфере невозможно… Миллионы невинных мужчин, женщин и детей были сожжены, подвергнуты пыткам, тюремному заключению, штрафам — и всё безрезультатно».
Не имея представления о том, насколько серьёзна была болезнь его жены, друзья и сторонники Джефферсона в графстве Албемарл снова выбрали его делегатом в Законодательное собрание штата. Он сразу письменно известил ассамблею о том, что не сможет принять участие в её работе. Но оказалось, что этого недостаточно. По установленным когда-то правилам избранный должен был явиться перед делегатами лично и изложить причины отказа. Председатель собрания прислал ему письмо, полное упрёков за уклонение от общественного долга и скрытых угроз послать за ним вооружённого шерифа.
Свою горечь и возмущение по этому поводу Джефферсон излил в длинном послании к молодому делегату Джеймсу Монро. «Тринадцать лет жизни я отдал общественному служению, — писал он. — За эти годы мои личные дела пришли на грань разорения. Моя семья была лишена заботы и внимания, которых она была вправе ожидать от меня. И теперь мне говорят, что я не имею права отказаться от участия в политической жизни, потому что, уклонившись, я могу освободить место корыстным и злонамеренным невеждам. Это ли не настоящее порабощение индивидуума государством? В нашей стране со дня объявления независимости сотни людей отказывались от предложенных им постов или уходили в отставку, и никому не приходило в голову поставить им это в вину. Чего будет стоить наша свобода, если наше священное право служить своей стране будет превращено в обязанность?»
Больная с трудом проглатывала две-три ложки супа, потом лежала без сил. Миска клубники, ломтик хлеба с мёдом, творог на блюдце оставались нетронутыми. Корица, растёртая в порошок, настойка из мяты, малиновый чай и прочие домашние средства не приносили облегчения. Джефферсон возвращался к своей рукописи, пытаясь растянуть ответ на последний, двадцать третий вопрос французского дипломата до бесконечности. «Исторические хроники колонии, мемуары, отчёты о последних событиях» — о, на эту тему он мог писать и писать. Горы документов, скопированные для него Уильямом Шортом, лежали перед ним, и он описывал их с таким старанием, словно это занятие действительно могло вернуть силы умирающей.
«9 октября 1651 года. Принято постановление об увеличении морских перевозок.
12 марта 1652 года. Подписаны условия принятия власти парламента Англии в колонии Виргиния.
16 августа 1654 года. Капитуляция Порт-Рояля.
1655 год. Зачитана прокламация лорда-протектора Кромвеля касательно острова Ямайка.
26 сентября 1655 года. Зачитано послание лорда-протектора ассамблее колонии Мэриленд.
3 ноября 1655 года. Договор между Англией и Францией, одобренный Вестминстером.
27 марта 1656 года. Послание ассамблеи Барбадоса лордупротектору.
9 августа 1656 года. Протокол заседания, посвященного развитию торговли».
В конце августа в состоянии больной произошла перемена. Она стала дышать ровнее, лицо разгладилось, синева под глазами исчезла. Луч надежды зажёгся в душе Джефферсона, но вскоре погас. По каким-то неуловимым признакам он понял — догадался — почувствовал, что Марта не победила болезнь — просто перестала бороться с нею. В ней появился покой, который возможен лишь для тех, чей внутренний взор перестаёт жадно ловить завтрашний день, обращается лишь на прошлое, на прожитое. Утром 1 сентября слабым голосом она попросила позвать всю семью.
В спальню пришли Марта-дочь, Полли, племянник Питер, сестра Марта привела остальных своих детей. Больная оглядела собравшихся, потом поманила мужа пальцем, жестом попросила нагнуться и прошептала на ухо:
— Хемингсов тоже…
Бетти Хемингс появилась в сопровождении дочерей; Мартин, Роберт и Джеймс пришли позже, прямо из леса, где они занимались уборкой сушняка.
Каждый подходил по очереди к больной, каждому она тихо говорила несколько слов, потом отпускала. Марта-дочь, с трудом сглатывая слёзы, обняла мать за шею и долго не отрывалась от неё. Джеймс вдруг опустился на колени рядом с кроватью, так чтобы рука умирающей могла погладить его по волосам. Для младшей, девятилетней Салли, у Марты был заготовлен маленький сувенир: колокольчик на цепочке, которым детей созывали к столу.
Джефферсон не запомнил, какими словами Марта прощалась с дочерьми, с племянником и племянницами, со сводными братьями и сестрами, доставшимися ей от любвеобильного отца. Лишь когда она повернула лицо к нему, её слова достигли его сознания.
— Ты знаешь — помнишь, — что в детстве мне довелось много терпеть от моих мачех. У меня тяжело на сердце от мысли, что и моим дочерям достанется пережить подобное. Очень прошу тебя: выбирая новую жену, убедись, что она способна быть доброй к чужим детям.
Тоска, ужас, горечь вскипали в сердце Джефферсона, но сильнее всего было чувство вины. Раньше, когда оно накатывало на него, он умел утешать себя расплывчатыми «искуплю», «это не повторится», «в будущем всё пойдёт по-другому». Но теперь будущего не осталось, искупить ничего было нельзя. И он услышал, как рот его почти без его воли, но страстно и убеждённо произносит слова:
— Никогда!.. Пусть все слышат… Обещаю тебе… Никогда и ни на ком я больше не женюсь!.. Дочери будут расти со мной… До конца жизни… Никакой мачехи у них не будет!.. Клянусь тебе!
Джефферсон не помнил точно, когда именно в нём истаяла вера в загробную жизнь, в рай и ад, в грозную неизбежность последнего суда. Во всяком случае, четырнадцатилетний подросток, стоявший когда-то над фобом отца, уже точно не верил ни в возможность будущей встречи, ни в воскрешение из мёртвых. Бог присутствовал в мире как бесконечно творящая сила, как даритель жизни, который, конечно же, не мог заниматься по отдельности судьбами миллиардов существ, выпущенных им в короткое земное плавание. Право — и обязанность — судить доброе и злое было оставлено человеку, именно потому всё связанное с поисками и защитой справедливого переживалось людьми как самое важное, сакральное, самим Творцом порученное им дело.
Но каким облегчением было бы сейчас вернуть себе простую веру раннего детства! Да, наши души бессмертны! Да, нас ждёт встреча в будущей жизни! Да, смерть лишь иллюзия, недолгая разлука! Ушедшая в мир иной будет невидимо витать над нами, вместе с нами радоваться и горевать, помогать нам отыскивать путь к жизни вечной!
Когда умирал их новорождённый сын, Марта, глядя на судороги, сотрясавшие маленькое тельце, в отчаянии прокричала пришедшему пастору Клэю:
— За что?! Чем он мог успеть заслужить такие страшные муки? Как вы можете называть Всеблагим того, кто допускает страдания миллионов невинных младенцев, гибнущих в пожарах, наводнениях, землетрясениях, от смертельной болезни, от ножа злодея?
Обуреваемая горем, она не стала слушать то, что ответил пастор Клэй. Но Джефферсон запомнил короткую проповедь, произнесённую негромко, но с большой убеждённостью:
— Страдания посланы в мир не в наказание нам. Всякая боль дана Творцом для того, чтобы его создания яростно защищали дар жизни. Представьте себе, что вы пытаетесь уговорить свою дочь не совать руку в горящий камин. Никакими словами вы не могли бы убедить ребёнка, что нужно оставить эти красивые пляшущие язычки в покое, если бы огонь не обжигал ей пальцы. То же самое — и боль сострадания. Только она заставляет нас устремляться на помощь друг к другу, искать пути спасения попавших в беду, строить больницы и приюты, доставлять еду голодным и лекарства — больным. Способность испытывать боль — главный защитный дар Божий, главное условие выживания, побуждающее спасать себя. Способность испытывать сострадание дана для спасения друг друга.
Конец, которого все ждали, всё равно наступил как-то внезапно. В тот день Джефферсон пришёл в спальню жены с томиком стихов Оссиана. Ему хотелось прочесть ей понравившееся ему описание бури:
Ужасна ночь, а я одна Здесь на вершине одинокой. Вокруг меня стихий война. В ущелиях горы высокой Я слышу ветров свист глухой. Здесь по скалам с горы крутой Стремится вниз поток ревучий, Ужасно над моей главой Гремит Перун, несутся тучи. Куда бежать? где милый мой? Увы, под бурею ночною Я без убежища, одна! Блесни на высоте, луна, Восстань, явися над горою![5]Дежурившая у постели сестра Марта прижала палец к губам, кивком головы показав на уснувшую. Потом испуганно вгляделась в её лицо, взяла запястье, попыталась нащупать пульс. Пульса не было. Зеркало, поднесённое к губам, тоже осталось незамутнённым.
Джефферсон повернулся и на цыпочках перешёл в библиотеку. Приблизился к столу, открыл дневник и аккуратно записал: «6 сентября 1782 года. Моя дорогая жена умерла сегодня днём в 11.45».
После этого какие-то светящиеся круги начали сыпаться на него с потолка, они делались всё больше и больше, и, падая на пол, он попытался прикрыть лицо рукой, всё ещё сжимавшей перо.
Сентябрь, 1782
«В течение трёх недель отец оставался в своей комнате, и я старалась ни на минуту не оставлять его. Он непрестанно ходил взад-вперёд, днём и ночью; только когда силы кончались, ложился на подстилку, принесённую в комнату во время его длительных обмороков. Мои тётушки тоже оставались при нём все эти недели. Когда он наконец покинул комнату, он отправился верхом в горы и ездил там по запущенным дорогам, а иногда просто через лес. В этих печальных поездках я была его постоянным спутником, единственным свидетелем взрывов его безутешного горя».
Из воспоминаний дочери, Марты Джефферсон РэндольфЭпитафия на могиле Марты Джефферсон
В мир скорбных теней загляни: Любви там гаснут огни. Но мой огонь будет гореть, Прорвётся сквозь твердь, Прорвётся сквозь смерть, Сквозь ночь — в светлый день Принесёт твою тень. Строчки из поэмы Гомера «Илиада»[6]Ноябрь, 1782
«Ваши письма пришли в тот момент, когда я постепенно выходил из умственного омертвения, в которое повергла меня смерть жены. Они напомнили мне, что среди живых есть ещё дорогие мне люди.
Причиной того, что я раньше не выразил Вам радости по поводу нашего короткого знакомства весной, было ужасное состояние неопределённости, длившейся всё лето, и катастрофа, завершившая её. До этого мои планы жизни были ясны. Я намеревался уйти на покой и искать счастья в домашней жизни и литературных занятиях. Но это единственное событие смыло всё задуманное мною и оставило в пустоте, которую нечем было заполнить. Находясь в таком состоянии, я получил сообщение, что Континентальный конгресс хочет направить меня на другой берег Атлантического океана, на помощь нашим посланникам во Франции».
Из письма Джефферсона маркизу ШастеллюОсень, 1782
«При французском дворе мистер Адамc не пользовался популярностью, его манеры не соответствовали принятой там утончённой вежливости. Но он твёрдо защищал интересы своей страны на переговорах об условиях мира. Так же и мистер Джон Джей внимательно и неутомимо следил, чтобы все статьи соответствовали принципам справедливости и равенства. Дипломатические таланты доктора Франклина тоже сыграли огромную роль в успешном завершении переговоров. Предварительный мирный договор между Соединёнными Штатами и Великобританией был подписан в ноябре 1782 года».
Мерси Отис Уоррен. История революции18 апреля, 1783
Из генерального приказа по армии
«Главнокомандующий приказывает остановить враждебные действия между Соединёнными Штатами Америки и королём Великобритании, и это сообщение должно быть зачитано завтра в 12 часов перед всеми полками и подразделениями армии. После этого капелланы бригад должны возблагодарить всемогущего Бога за все Его милости, особенно за то, что Он обернул гнев человека в орудие достижения славы и дал силы прервать ужасы войны между народами. Главнокомандующий с ликованием в сердце поздравляет всех офицеров и всех солдат армии Соединённых Штатов, особенно тех доблестных и решительных американцев, которые записались в армию на условиях службы до самого конца военных действий, ибо они составляют главную гордость и славу нашей армии. Слава тем, кто приложил руку к созданию нашей независимой и свободной страны — убежища для всех гонимых и угнетаемых людей во всём мире».
Лето, 1784
«7 мая конгресс вынес постановление о том, что необходимо назначить постоянного посла в помощь мистеру Адамсу и доктору Франклину в Париже для переговоров о торговле с иностранными государствами, и я был назначен на эту должность. 5 июля я вместе с дочерью Мартой отплыл из Бостона, и 31 июля мы достигли Гавра. Прибыв в Париж 6 августа, я немедленно нанёс визит доктору Франклину в его доме в Пасси, и мы вместе написали мистеру Адамсу, находившемуся в Гааге, письмо с просьбой присоединиться к нам».
Томас Джефферсон. АвтобиографияЧасть третья. СТРЕМЛЕНИЕ К СЧАСТЬЮ
ВЕСНА, 1785. ПАРИЖ
— Как? — воскликнул Джефферсон. — Вы готовы пропустить запуск нового воздушного шара братьев Монгольфье? Ваши внуки спросят вас: «Бабушка, неужели ты видела первые полёты человека по воздуху?» Что вы ответите им? «Да, я была в Париже, но не пошла смотреть»?
Абигайль Адамc, прищурившись, вдела нитку в игольное ушко, сделала узелок, откусила хвостик и вернулась к важному делу — перелицовке своего платья для подросшей дочери.
— Мистер Джефферсон, дорогой Томас, мы вместе уже смотрели один запуск в сентябре — с меня довольно. Вся эта шумиха и баллономания, охватившая Париж, слава богу, пока проносится мимо моего семейства. Я своими глазами видела шляпы в форме летучих шаров, именами изобретателей называют новые танцы и причёски, изображения рисуют на камзолах и плащах. Моё же отношение к происходящему определяется простым фактом: купить билеты на это модное зрелище для нас четверых будет стоить больше тридцати ливров. И я знаю, что мы не можем позволить себе такой расход, до тех пор пока конгресс не увеличит жалованье моему мужу.
Они сидели в саду, окружавшем большой полузаброшенный дом, арендованный Адамсами в парижском предместье Отёйль. Каменные плиты тропинки едва виднелись из-под прошлогодней подгнившей листвы, цветущие ветви апельсиновых деревьев нависали над потрескавшейся оградой, заросший кувшинками пруд был украшен давно бездействующим фонтаном. Внутри дома Адамсам удалось расчистить один этаж для своего проживания, на двух других десятки комнат оставались в состоянии романтического запустения. Бродя по ним, Джефферсон однажды попал в восьмиугольный зал, каждая стена которого представляла собой большое зеркало. Толпа собственных пыльных отражений потом несколько раз возвращалась к нему в сновидениях.
— Вы сегодня едете к доктору Франклину? — спросила Абигайль. — Вам уже довелось встретиться там с неповторимой, возвышенной, талантливой, непревзойдённой мадам Гельвециус?
— О да! И не раз. Для вашего сарказма есть достаточно оснований. Но знаете, я заметил, что с мужчинами она ведёт себя совершенно по-другому. Если же в комнате появится дама, она начинает двигаться и говорить в три раза быстрее — видимо, чтобы не оставить сопернице просвета ни в пространстве, ни во времени.
— Через месяц после нашего приезда в Париж добрый доктор Франклин сказал, что хочет представить нас лучшей женщине в мире, воплощению французского обаяния, предельно раскованной, свободной от светских условностей. Мадам Гельвециус, войдя в зал и увидев меня и Нэбби, вскричала: «Боже мой, где Франклин? Почему меня не предупредили, что здесь женщины? Как я выгляжу?» Появившегося хозяина дома эта шестидесятилетняя кокетка немедленно облобызала в обе щеки и в лоб. За обедом она сидела между доктором и моим мужем, закидывала руки на спинки их кресел, время от времени обнимала доктора за шею. Если всё это называется раскованностью, то что же мы назовём распущенностью и вульгарностью?
— Я тоже поначалу был шокирован многими непривычными для нас манерами и всем стилем французской жизни. Другая поклонница доктора Франклина, мадам Бриллон, развлекающая его музыкой и пением, взяла за правило время от времени садиться к нему на колени, даже в присутствии своего мужа. Впрочем, говорят, что муж не возражает, потому что имеет много утешений на стороне.
— Мы с вами вот-вот утонем с головой в болоте сплетен. Но согласитесь, что количество бастардов вокруг нас пугает. Хорошо, внебрачный сын доктора Франклина явился плодом юношеского увлечения и вырос серьёзным человеком, стал губернатором Нью-Джерси. Но почему так должно было случиться, что и его сын родился вне брака? Сейчас это любимый внук нашего доброго доктора, для которого он пытается выхлопотать место секретаря при посольстве. Если мы будем так небрежно относиться к святости брачных уз, не ждёт ли Америку судьба Парижа, в котором промышляют 50 тысяч проституток? Директриса сиротского Приюта Святых сестёр сказала мне, что каждый год к ним поступает до шести тысяч подкидышей.
— Кроме брачных отношений есть большая разница и в отношении к труду. В Америке мы привыкли считать нормальным и похвальным, что человек проводит свои дни в полезных занятиях, а для досуга ему остаются выходные и праздники. И доктор Франклин всю жизнь не стеснялся демонстрировать окружающим трудолюбие и целеустремлённость. Но во Франции он пытается скрывать эти достоинства. Потому что французы ведут себя так, будто жизнь должна проходить в погоне за удовольствиями и развлечениями, а любое отклонение от этой цели считают проявлением дурного вкуса.
— И это не только в светском обществе! — воскликнула Абигайль. — Посмотрите на слуг! Кучер скажет, что он занимается исключительно коляской и лошадьми, а убрать навоз с дорожки — дело дворника. Дворник скажет, что передвинуть стол из одной комнаты в другую не его работа. Кухарка готовит обед, но требует, чтобы для мытья посуды наняли специальную помощницу. Мы вынуждены содержать в доме восемь слуг, и все они половину рабочего времени сидят без дела или сплетничают о хозяевах.
— Восемь слуг? А знаете ли вы, сколько слуг в доме английского посла? Пятьдесят! А у испанского — семьдесят пять. В конгрессе не понимают, как дорога жизнь в Париже. Они воображают, что посол может прожить на жалованье в девять тысяч долларов, не роняя при этом престижа и достоинства страны, которую он представляет. На самом же деле…
Джефферсон чувствовал, что разговор опять может соскользнуть на опасную тему, но уже не знал, как свернуть. Бережливость и практичность Абигайль Адамc были для него постоянным живым укором. Да, виргинский сквайр оказался совершенно неготовым и беззащитным перед соблазнами огромного европейского города. Он привычно заносил в бухгалтерский журнал все свои расходы до мелочей, однако просуммировать их и сопоставить с размерами доходов откладывал на потом. В конце концов, откуда ему было знать, какие будут в этом году цены на табак, отправляемый его людьми из Виргинии в Европу? И сколько его удастся собрать с полей? Цифры дохода расплывались в розовом тумане грядущих месяцев и лет и не могли удержать от сегодняшних трат, каждой из которых находилось своё оправдание.
Хорошо, снять жильё в окрестностях Парижа стоило бы меньше той безумной арендной платы, которую он отдавал за дом в центре города. Но тогда ему пришлось бы тратить массу времени для поездок на деловые встречи, — разве не так? А карета? Покупая её, он не мог предвидеть, что ремонт обойдётся так дорого, что внутренняя обивка из зелёной марокканской кожи доведёт этот расход до пятнадцати тысяч ливров. Приятельница генерала Шастеллю, графиня де Брийон, любезно предложила дать рекомендацию двенадцатилетней Пэтси-Марте для поступления в престижную школу-пансион при монастыре Аббе Руаяль де Пантеон. Правила школы обещали, что ученицы из протестантских стран не будут подвергаться никакой католической пропаганде. Только математика, география, литературные композиции, рисование, музыка, латынь, вышивание. Плата за обучение была немалая. Но образование любимой дочери — не та статья, на которой стоит экономить.
За обучение Джеймса Хемингса искусству французской кухни тоже нужно было платить. Ему, как и Пэтси, понадобилось купить новую одежду, обувь, шляпу, перчатки. Чтобы облик американского посланника соответствовал требованиям версальского двора, пришлось обзавестись шёлковыми рубашками, кружевными манжетами и жабо, парадной саблей. В стране, где внешний вид ценился выше всех внутренних достоинств, даже экономной Абигайль Адамc пришлось нанять куафёра, делавшего причёски ей и дочери Нэбби.
Список трат возрастал неудержимо. Мебель для дома, клавикорды, струны для скрипки, канделябры, жалованье шести слугам, ящики бордо, картины, скульптуры… А книги! Парижские книготорговцы не могли нарадоваться на американского дипломата. Он покупал толстые тома по истории, философии, юриспруденции, естествознанию не только для себя, но ящиками отправлял их друзьям в Америку — Мэдисону, Монро, доктору Рангу, генералу Вашингтону.
Сущим разорением были праздники и торжества, устраиваемые королевским двором. Чтобы явиться на приём, посвященный рождению наследника престола, Джефферсону пришлось заказать новый костюм из шёлка. Летом двор переезжал в Версаль и цены на жильё в окрестностях тамошнего дворца подскакивали втрое. По протоколу дипломатический корпус должен был присутствовать на еженедельных банкетах по вторникам. Американцам приходилось после обеда уезжать из Версаля, что сопровождалось презрительными насмешками за их спинами.
В поучительных письмах дочери к Джефферсон наставлял её не покупать ничего, на что бы у неё не было в тот момент наличных денег в кармане, предупреждал о мучительных переживаниях, связанных с любой задолженностью. Сам же с каждым месяцем погружался в пучину долгов. Кредит Америки стоял невысоко, и ему было всё труднее находить покладистых французских банкиров. В какой-то момент Джон Адамc помог занять денег у банка в Амстердаме. Но это спасло ненадолго. Оставалось лишь надеяться, что Континентальный конгресс откликнется наконец на вопли-призывы своих дипломатов и поднимет их оклады до приличного уровня.
Отец и сын Адамc появились в саду после утренней прогулки оживлённые, разгорячённые спорами о судьбах Америки, Франции, мироздания, собственной семьи. На что решиться молодому Джону Куинси: искать должность секретаря посольства в Европе или вернуться в Массачусетс и поступить в Гарвардский университет?
— Папа, не ты ли всегда внушал, что лучший путь к независимости — образование? Конечно, жизнь в Европе, путешествие в Россию, овладение языками дали мне очень много. Но без диплома хорошего университета я не смогу свободно выбирать тот жизненный путь, к которому будет тянуться моя душа.
За последние месяцы Джефферсон необычайно привязался к молодому Адамсу. В беседах с ним можно было непринуждённо путешествовать по страницам мировой истории, поэзии, философии. Готовясь к поступлению в университет, он уже переводил на английский Вергилия, Горация, Овидия, Цицерона, Цезаря, Аристотеля, Плутарха, Лукиана, Ксенофонта. Алгеброй, геометрией, арифметикой они занимались по вечерам вместе с отцом, а перед сном вся семья позволяла себе отдохнуть за партией в вист. Джефферсон уговорил молодого человека пользоваться его домом в Париже не стесняясь, обедать и ночевать в нём, когда это только будет ему удобно. Абигайль он признавался, что Джон Куинси в какой-то мере воплотил для него мечту о собственном сыне.
Для утоления отцовских чувств в Париже у Джефферсона оставалась лишь дочь Пэтси-Марта. В первый месяц её пребывания в пансионе Аббе Руаяль он навещал её там каждый день, потом не реже раза в неделю, а в перерывах засыпал письмами с поучениями. Вдруг в январе маркиз Лафайет привёз из Америки ужасное известие: Люси Элизабет, оставленная в семье тётки, умерла от коклюша, не дожив до трёх лет. Снова, как и после смерти жены, Джефферсон так заболел от горя, что Адамсы умоляли его обратиться к докторам, может быть, даже прибегнуть к лечению магнетизмом, которое тогда завёз в Париж знаменитый венский медик Месмер.
К врачам Джефферсон не пошёл, но твёрдо решил вызвать к себе во Францию Полли-Марию. Не обещал ли он умирающей Марте взять на себя всю заботу о дочерях? Семейство Марты Эппс он не мог обвинить в небрежности, та же болезнь в те же недели унесла жизнь их собственного ребёнка. Но всё равно, всё равно! Полли Мария должна быть с ним! Он отдаст её в ту же школу-пансион, где учится Пэтси-Марта. И сестры станут поддержкой и утешением друг для друга.
Он написал письмо супругам Эппс с просьбой посадить девочку на корабль, как только начнётся летняя навигация.
И что же?! В ответ пришло несколько строчек аккуратных круглых букв, выведенных самой Полли-Марией, в которых семилетняя упрямица объявляла, что будет рада повидать отца и сестру, но для этого им надо приехать в Америку. О том же, чтобы она покинула дом любимых ею дядюшки и тётушки, не может быть и речи.
Последние недели безжалостная подагра не позволяла доктору Франклину вставать с постели, поэтому американским посланникам приходилось собираться для своих совещаний в его доме. Карета покрывала расстояние от Отёйля до Пасси за 20 минут. По дороге Адамc не смог удержаться и опять начал жаловаться Джефферсону на трудности своих отношений с главой американской дипломатической миссии.
— Не понимаю, откуда он берёт время заниматься делами. Встаёт поздно, завтракает долго, а после завтрака сразу начинается поток посетителей, как важных, так и тех, кто просто мечтает увидеть самого знаменитого американца. Приглашения на обеды — каждый день. Он любезно звал меня с собой, но с какого-то момента я начал придумывать отговорки, чтобы иметь время для писания необходимых писем, для занятий французским, для общения с семьёй.
— Продолжал ли он здесь свои опыты с электричеством?
— Насколько мне известно, — нет. Честно сказать, я не понимаю, почему эти наблюдения за молниями вызвали такой ажиотаж в Европе, принесли ему мировую известность.
— Мне кажется, человеку приятно отвоёвывать у небожителей их прерогативы. Прометей прославился, похитив огонь, доктор Франклин — похитив молнии у Зевса-громовержца. На Прометея в наказание наслали орла, клюющего его печень. Не за открытие ли электричества боги наслали на бедного доктора подагру и камни в почках?
— При встречах с французскими и британскими дипломатами мы с ним ведём себя совершенно по-разному. Там, где я пытаюсь воздействовать на оппонента твёрдостью и доказательствами, он будет обольщать и уговаривать. Я стараюсь держаться принципов морали, он действует игривостью и юмором. Девять лет назад по пути на встречу с британским генералом для переговоров нам довелось ночевать в гостинице в одном номере. Мы проспорили полночи о том, что лучше: задыхаться в комнате с закрытым окном или замерзать — с открытым.
Колёса кареты простучали по деревянному мостику, утиное семейство с возмущёнными воплями посыпалось в воду.
— А рассказывал я вам о том, как была устроена его встреча с Вольтером во Французской академии? Оба прославленных мудреца согласились на это торжество под большим напором. Они воображали, что им удастся ограничиться дружеским рукопожатием на глазах у публики. Не тут-то было! Вся аудитория начала скандировать: «Обнимитесь! Поцелуйтесь!» Что оставалось делать несчастным старикам? Они подчинились и облобызали друг друга. На следующий день газеты пестрели заголовками в стиле: «Жаркое объятие нового Солона с новым Софоклом».
«Новый Солон» приветствовал гостей, лёжа в постели, помахивая одной рукой, придерживая костыль другой. Светлые глаза его поблёскивали за стёклами бифокальных очков — его собственного изобретения, позволявшего то разглядывать посетителей, то переводить взгляд на строчки письма.
— Хотите послушать куплеты, которые прислала мне очаровательная и безжалостная мадам Бриллон? «Наш мудрец опять в постели! / Он мечтал о женском теле, / но врага в кровать впустил, / потому что много пил, / позволял себе паштеты / и креветок, и котлеты. / Враг-подагра тут как тут. / Его норов очень крут». Я должен сочинить в ответ какую-нибудь сатиру и отпечатать на своём домашнем прессе. Например, о даме, пытавшейся вернуть меня на путь добродетели и воздержания, а вместо этого ввергнувшей в пучину греха и соблазна.
— Для вашего домашнего пресса, — сказал Адамc, — я бы очень рекомендовал книгу нашего друга, сидящего рядом со мной. Такая досада, что он отпечатал свои «Заметки о Виргинии» тиражом всего лишь в 200 экземпляров. Её должны прочесть все культурные люди в Европе. Страницы о природе, об индейцах, о рабстве — на вес золота.
— Мистер Джефферсон, я был бы рад получить экземпляр. Открывать европейцам глаза на Америку — такая же важная задача, как и открывать посольства в их столицах. Год назад я опубликовал на французском и английском нечто вроде наставления для тех, кто подумывает об эмиграции в Соединённые Штаты. Главная мысль: ехать стоит тем, кто готов заниматься нужными делами — торговлей, ремёслами, фермами, плавильнями. Тем, кто мечтает о быстром обогащении и беспечной жизни, в Америке делать нечего.
Вошедший слуга тем временем придвинул к постели широкий стол. Адамc и Джефферсон разложили на нём последние послания из других стран, проекты договоров, вырезки из газет. Весь последний год три американских дипломата пытались наладить прочные торговые связи с остальной Европой, но пока им удалось заключить конкретное соглашение только с Пруссией. Предстояло возрождать разрушенную войной торговлю с Англией, но это представлялось возможным только после открытия американского посольства в Лондоне.
Другой постоянно всплывавшей темой на совещаниях была борьба с пиратством в Средиземном море и восточной Атлантике. Алжир, Тунис, Марокко, Триполи и другие мусульманские страны на севере Африки превратили охоту за торговыми судами в доходный бизнес. Пока Америка была частью Британской империи, английские фрегаты защищали её корабли. Но после отделения этот щит исчез. Теперь британцы не без злорадства следили за печальной судьбой американских пленных моряков, попавших в рабство к африканцам. Потери конкурентов были выгодны английским купцам. Франклин любил повторять печальную шутку: «Если бы Алжир не существовал, Англии было бы полезно создать его».
Джефферсон, столкнувшись с этой проблемой, испытал одновременно два чувства: яростного возмущения и унизительной беспомощности. Захваченные товары не так интересовали пиратов, как пленники, за которых они требовали — и получали — выкуп. Пока деньги не поступали, моряков отправляли на адские работы в каменоломнях, где многие погибали. Конгресс сообщил, что в этом году он сможет выделить на выкуп только 80 тысяч долларов. В среднем получалось по 200 долларов за человека. Алжирский бей рассмеялся в лицо американскому посланцу. Он требовал шесть тысяч за капитана, четыре тысячи за помощника и 1500 за простого моряка.
— Построить десять фрегатов, отдать их под команду адмиралу Полу Джонсу и послать патрулировать африканский берег! — горячился Джефферсон. — За каждое нападение на американский корабль бомбардировать тот порт, из которого вышли пираты. Такие люди понимают только язык силы.
Миролюбивый Франклин не то чтобы возражал ему, но предлагал глубже исследовать мирные варианты.
— Я говорил много раз, повторю и ещё: «Не бывает хороших войн, так же как не бывает плохого мира». Вся история человечества показывает, что война есть самое дурацкое, разорительное и жестокое занятие из всех придуманных людьми. Насколько мне известно, многие средиземноморские страны сумели тайно договориться с пиратами и платят им постоянную дань, так сказать, выкуп заранее. Нужно отправить специального посланника, чтобы он выяснил, сколько запросят алжирский бей, марокканский султан и остальные за обещание оставить американские суда в покое.
Споры между Франклином и Адамсом вскипали вокруг другого вопроса. Адамc считал, что Америка ведёт себя слишком уступчиво в отношениях с версальским двором. Да, Франция оказала огромную поддержку Соединённым Штатам в Войне за независимость, но делала она это, преследуя собственные интересы, стремясь ослабить своего вечного противника. Франклин же считал, что несмотря на окончание военных действий, на Америке до сих пор лежит груз моральных обязательств и нет ничего зазорного в том, чтобы время от времени демонстрировать благодарность Людовику XVI и его министрам. Иметь в Европе такого могучего союзника — важнейшее условие успеха американской дипломатии в Старом Свете.
— А что, если подбить французов использовать изобретение братьев Монгольфье в военном деле?! — воскликнул Джефферсон. — Представьте себе, воздушный шар появляется над Алжиром и сбрасывает бомбу на дворец бея. Дикие язычники могут решить, что сам Аллах разгневался на них и послал небесный корабль в наказание за грехи.
Технические новинки были любимым коньком Франклина, и он с удовольствием подхватил новую тему разговора.
— Вы не представляете, как далеко ушли французы за два года, прошедших с первого полёта человека в корзине воздушного шара. Летом 1783 года я своими глазами видел запуск первого аппарата, наполненного не горячим воздухом, а водородом. Его создатель Жак Шарль, вскоре сам совершил полёт, длившийся два часа и покрывший 24 мили. Другой изобретатель, Жан-Пьер Бланшар, уехал в Англию, и там ему удалось сконструировать шар, который перелетел через Ла-Манш. Пилоты уже научились неплохо изменять высоту полёта, выпуская часть газа или сбрасывая мешки с балластом. Проблемой остаётся направление. Никакие воздушные лопасти-вёсла не помогают, шар летит по воле ветра.
— Я слышал, что однажды шар без пилота был унесён за 20 миль от Парижа, — сказал Адамc. — Он приземлился на поле рядом с деревней. Крестьяне сначала до смерти перепугались, а потом накинулись на небесного гостя с вилами и топорами. Интересно, как реагировали бы фермеры у нас в Новой Англии. Наверное, стали бы кружком на колени и призвали пастора для совершения молитвы.
В конце совещания поговорили о надвигающихся переменах. Было известно, что конгресс признал необходимым открыть посольство в Лондоне. Сторонники Джона Адамса настаивали на его кандидатуре, им возражали скептики, считавшие, что Георг III откажется разговаривать с бунтовщиком, ещё недавно поносившим его в своих памфлетах. 75-летний Франклин давно просил у конгресса разрешения удалиться на покой. При этом он не был уверен, дадут ли ему камни в почках и подагра возможность и силы пересечь океан. Даже поездки в карете порой оборачивались для него невыносимыми страданиями.
— В любом случае, — сказал он, обернувшись к Джефферсону, — я уверен, что по решению конгресса вам предстоит заменить меня на посту американского посла во Франции.
— Заменить вас невозможно, — сказал Джефферсон. — Но если конгресс примет такое решение, я сочту за честь унаследовать вашу должность.
26 апреля в Париж было доставлено послание, подтвердившее предсказание доктора Франклина: он освобождался от должности посла, его обязанности переходили к Джефферсону, а Джону Адамсу следовало срочно отправляться в Лондон, чтобы успеть представить двору верительные грамоты до 4 июня, до празднования дня рождения короля. Опечаленная предстоящим расставанием Абигайль Адамc согласилась принять от Джефферсона прощальный подарок: два билета для себя и дочери на очередной запуск воздушного шара.
Утро выдалось солнечное, лёгкий, неопасный ветерок слегка покачивал яйцеобразное сооружение размером с двухэтажный дом, привязанное к столбам и покрытое зелёными и красными изображениями небесных светил. Вокруг него концентрическими кругами шли ряды стульев, заполненные возбуждёнными парижанами и гостями, приехавшими из других городов. Каждый запуск требовал немалых расходов, и продажа билетов должна была обеспечить бесперебойность модного зрелища.
— Я помню, — говорил Джефферсон, — что вы не раз высказывались критически о французской толпе, отдавали явное предпочтение англичанам. Но взгляните на эти оживлённые лица, столь открытые ожиданию чудесного! Нет, никогда я не отдам моих вежливых, приветливых, ироничных, щедрых, гостеприимных, чувствительных французов за тех заносчивых, плотоядных, хвастливых, бранчливых, надутых обитателей Альбиона, среди которых вам предстоит оказаться. Если бы местному народу удалось заполучить правительство получше и очистить свою религию от суеверий, жизнь здесь стала бы завидным уделом.
— Порой мне начинает казаться, что страстные антибританские эмоции так кипят в вашем сердце только потому, что большинство безжалостных кредиторов, сдирающих с вас грабительские ежегодные проценты, — англичане.
Да, их банкиры поймали меня в свои сети ещё до революции. Когда умер мой тесть, мистер Вэйлс, его большое наследство было поделено между дочерьми. Все мужья дочерей, принимая свою долю, согласились принять и часть долгов, лежавших на имении. Не зная хитросплетений британских финансовых законов, мы просто подписали соответствующие поручительства. Но, оказывается, мы должны были оговорить, что проценты будут выплачиваться только с доходов, приносимых собственностью покойного. Теперь кредиторы могут доить лично каждого из нас до конца жизни, независимо от того, приносит наследство какой-нибудь доход или нет. Конечно, за создание такой хитроумной системы для ловли простофиль я имею право возненавидеть лондонских финансовых крючкотворов.
Абигайль иронично улыбалась, прикрывая глаза, подставляя моложавое лицо весеннему солнцу.
— Ожидание чудесного? Не кажется ли вам, что для собравшихся зрителей самым чудесным подарком было бы падение одного из воздухоплавателей с высоты в тысячу футов?
— Не спорю, элемент опасности присутствует в этих зрелищах и возбуждает. Но и к нему можно относиться по-разному. Когда планировался первый полёт человека, его чувствительное величество Людовик XVI предложил взять для этой цели преступника из Бастилии. Куда там! Множество представителей знатной молодёжи кинулись оспаривать честь совершить первый полёт. По жребию выиграли маркиз Д'Арланд и Пилатр де Розье.
— Смотрите, корзина загорелась! — воскликнула Нэбби Адамc. — Пилоты могут погибнуть на земле!
Джефферсон поспешил успокоить девушку.
— Нет, они просто зажгли топливо в металлической печке. Смесь соломы и шерсти, сгорая, посылает горячий воздух и дым внутрь шара. Другие конструкции создают подъёмную силу иначе: наполняют пустоту водородом, который намного легче воздуха. Доктор Франклин пошутил по этому поводу: «Если вы нуждаетесь в веществе легче воздуха, наполните шар обещаниями любовников и придворных».
— Вы, я вижу, очень увлечены этим изобретением, — сказала Абигайль. — А может быть от него какая-нибудь практическая польза?
— Да, я ещё до отплытия в Европу выписал книгу месье Сэндфорда с подробным описанием первых полётов и конструкций шаров. Применение на практике? О, десятки возможностей. Перевозка тяжёлых и громоздких грузов. Пересечение пустынь и джунглей. Во время войны разведка позиций противника. Или доставка сообщений осаждённому гарнизону. Путешествие к Северному полюсу над вечными льдами. Уже был совершён перелёт через Ла-Манш. Представьте себе, если через год я прилечу к вам в гости на воздушном шаре.
Абигайль повернулась к нему, посмотрела долгим взглядом в глаза и сказала без улыбки:
— Это было бы просто чудесно.
Что-то было в её голосе, что заставило Джефферсона смущённо умолкнуть. Шутливый тон вдруг стал неуместен, улыбка окаменела на губах. Общение с этой женщиной порой вызывало в нём желание приоткрыть створки своей душевной раковины. Когда подобное случилось с ним в последний раз? Да пожалуй, 15 лет назад, когда он стоял рядом с Мартой Вэйлс-Скелтон в бальном зале губернаторского дворца в Уильямсберге. Кажется, и музыка действовала на Абигайль столь же безотказно, как и на него самого. Когда они сидели рядом в соборе Парижской Богоматери и загремел хорал Куперена в честь рождения наследника престола, им не удалось скрыть друг от друга навернувшиеся на глаза слёзы.
— Единственное, что меня печалит в предстоящем отъезде, — всё так же серьёзно сказала Абигайль, — это расставание с вами. За прошедшие месяцы мы с мужем так привыкли к тому, что у нас есть человек, с которым можно поделиться главными чувствами и мыслями. Быть с кем-то самой собой — большая радость. Даже счастье.
Возникла неловкая пауза. Нужно было чем-то заполнить её, но на ум — на язык — просились только пустые любезности, которыми он уже научился успешно отгораживаться от собеседников в парижских салонах. На самом деле ему хотелось сказать Абигайль Адамc, что и для него предстоящая разлука — огромная утрата. Что он никогда не встречал таких женщин, как она. Что он завидует её мужу. Что иметь подругу, спутницу, жену, с которой можно чувствовать себя совсем-совсем на равных — по уму, чуткости, начитанности, силе желаний — должно быть чем-то волнующим, даже пугающим. Что знакомство с ней открыло ему такие комнаты и окна в доме души, которые он считал запертыми навсегда. Но ничего этого он сказать не посмел.
В это время раздался звон сигнального колокола, и служители начали отвязывать верёвки. Под восторженные крики собравшихся гондола оторвалась от земли и начала возноситься в небеса. Лёгкий ветерок подхватил наполненное горячим воздухом яйцо, бережно перенёс через верхушки деревьев. В какой-то момент нарисованные на боках изображения глазастого солнца заслонили солнце настоящее, и шар оказался в кольце протуберанцев.
Абигайль повернула к Томасу улыбающееся лицо и сказала с едва заметной иронией:
— Если бы перенести эту картину на холст, получилась бы прекрасная иллюстрация к обещанному вами в Декларации независимости «стремлению к счастью».
Июнь, 1785
«Кажется, где-то я прочла, что Париж всегда покидают с грустью. Сознаюсь, мне было грустно расставаться с нашим садом, ибо я не надеюсь найти ему замену в этих краях. Но ещё грустнее было расставаться с единственным другом, в котором мой спутник жизни находил полную свободу общения… Неделю назад я ходила слушать музыку в Вестминстерском аббатстве. Исполняли “Мессию”. Это было неописуемо возвышенно. Мне так хотелось, чтобы Вы были рядом, потому что Ваша любимая страсть получила бы необычайное удовлетворение. Я могла бы вообразить себя перенесённой в разряд высочайших существ, если бы не одна шумливая дама, сидевшая, к несчастью, позади меня. Ее голос музыке заглушить было не по силам».
Из письма Абигайль Адамc Томасу Джефферсону в ПарижВесна, 1786
«В феврале 1786 года мистер Адамc настоятельно просил меня безотлагательно присоединиться к нему в Лондоне, потому что ему почудились знаки потепления британского министерства по отношению к Америке. Я выехал из Парижа 1 марта, и по прибытии в Лондон мы выработали общие формы желательного договора, касавшегося кораблей, гражданства и товарообмена. Как полагается, я был представлен королю и королеве на одном из их приёмов. Невозможно себе представить более нелюбезное поведение, чем то, которым они удостоили мистера Адамса и меня. Британский министр иностранных дел на первой же конференции продемонстрировал такую холодность и отчуждённость, говорил так уклончиво и туманно, что мне стало ясно: они не хотят иметь с нами никакого дела».
Томас Джефферсон. АвтобиографияЛето, 1786
«Я приложил некоторые усилия, чтобы разузнать обстоятельства, связанные с медалями для Общества Цинцинната, которые месье Шарль Ланфан изготовил и приобрёл для нас во Франции. Похоже, что когда он поехал в Европу в 1783 году, ему были вручены деньги для закупки медалей, но он купил больше, чем планировалось. Комитет общества, изучив счета, нашёл, что ему следует доплатить 630 долларов. Эти деньги Общество Цинцинната готово уплатить месье Ланфану, после того как выплата будет утверждена общим собранием. Генерал Нокс является председателем и собирается послать письмо маркизу Лафайету, в котором объяснит всю эту ситуацию подробно».
Из письма Вашингтона Томасу Джефферсону в ПарижОсень, 1786
«Туфли, заказанные Вами, будут готовы сегодня и отправлены Вам вместе с этим письмом. Только не шлите мне деньги за них. Из вложенного отчёта Вы увидите, что в нашей торговле это я всегда в долгу у Вас, а не наоборот. Здесь ходят слухи, что кто-то готовил покушение на английского короля. На свете нет человека, за продление жизни которого я возносил бы такие молитвы, как за него. Для Америки он был настоящим Мессией, да продлит Господь его дни. 20 лет он трудится, толкая нас в сторону добра, и мы нуждаемся в нём ещё на 20 лет вперёд. Здесь во Франции мы имеем только пение, танцы, смех и веселье. Никаких убийств, никаких предательств, никаких бунтов. Когда наш король выходит гулять, французы падают ниц и целуют землю, по которой он ступает. Потом кидаются целовать друг друга. В этом и есть их величайшая мудрость. Они имеют столько счастья за один год, сколько англичанин не получит и за десять лет».
Из письма Томаса Джефферсона Абигайль Адамc в ЛондонОКТЯБРЬ, 1786. ПАРИЖ
Непостижимое — неведомое — всегда являлось Джефферсону в обличьях непредсказуемых. Всю жизнь, сталкиваясь с ним, он в первую очередь спешил узнать, имеет ли очередной лик непостижимого название — имя — на человеческом языке. Довольно часто названия имелись. Смерч. Электричество. Землетрясение. Наводнение. Мираж. Магнетизм.
Теперь ему предстояло дать имя тому, что происходило с ним в течение последних двух месяцев. Спрашивать у знакомых и мудрецов не было смысла. Он заранее знал, что ему ответят. ЛЮБОВЬ. Но это был ответ неправильный, ответ-увёртка. Любовью называлось то, что он испытывал к дочерям, к племянникам, к друзьям, к покойной жене. Он хорошо знал это чувство, дорожил им, горевал, когда оно ослабевало. То, что опалило его при первом же взгляде на лицо Марии Косуэй, при первом звуке её голоса, при первом прикосновении аромата её духов, должно было иметь другое — совершенно особое — название. У древних греков был праздник, называвшийся «Великие дионисии». На нём вакханки впадали в экстаз, носились по улицам в бурном танце, забрасывали друг друга гирляндами цветов.
Может быть, этот праздник каким-то чудом перенёсся через века и закружил их обоих в осеннем Париже?
Как всегда у него постижение чего-то неведомого должно было осуществляться с пером в руке. Но как это сделать, если правая кисть, упрятанная в толстый слой бинтов, лежала тут же, рядом с чернильницей, и распухшим пальцам не удавалось удержать даже зубочистку? Река боли вытекала из сломанных костей, поднималась до плеча, растекалась по шее и позвонкам.
Ну что ж — надо было учиться орудовать левой.
Джефферсон взял перо и коряво, буква за буквой, вывел на листе бумаги:
«Дорогая мадам! Исполнив свою печальную обязанность, посадив вас в карету у павильона Сен-Дени и увидев, как колёса пришли в движение, я повернулся и — полуживой — побрёл к противоположной двери, к ожидавшему меня экипажу».
Нет, надо было унестись прочь из этого печального октябрьского дня, на два месяца назад, в тёплое августовское утро, обещавшее лишь обычную цепочку лёгких визитов и мимолётных встреч с парижскими знакомыми.
Джон Трамбалл — вот кто был во всём виноват!
Молодой американский художник приехал из Лондона с рекомендательным письмом от Адамсов — конечно, его пришлось принять со всем радушием, поселить у себя, в доме посольства. Джона обуревали идеи создания целой серии исторических полотен на темы Американской революции. В Лондоне он сделал несколько эскизных портретов Джона Адамса для задуманной картины «Подписание Декларации независимости», теперь делал портретные зарисовки Джефферсона. Но в то утро он отложил мольберт и стал уговаривать своего гостеприимного хозяина отправиться на прогулку в Сен-Жермен.
— Там завершено строительство нового крытого рынка, — объяснял он. — Вы же не только дипломат, но и архитектор. Вам будет интересно взглянуть на конструкцию огромного деревянного купола.
— Дорогой Джон, мой день расписан по часам, намечено много важных встреч. И уж конечно, я никак не могу пропустить обед у герцогини Данвиль.
— Час ещё ранний, мы успеем вернуться к полудню. Кроме того, я хочу познакомить вас со своими лондонскими друзьями, мистером и миссис Косуэй. Они много слышали о вас и тоже очень хотели бы встретиться. Оба художники, весьма талантливые. А Мария вдобавок поёт и сочиняет музыку. Уверен, она вам понравится.
Коварный Трамбалл! Выбрал такое заурядное, повседневное слово — «понравится». Не мог честно сказать: ослепит, заворожит, пронзит сердце, затуманит разум.
Да, именно так: появление Марии внесло раздор в отношения между его разумом и его сердцем. Нужно описать происходившее как диалог между этими двумя.
Джефферсон опять взял перо непривычными пальцами левой руки и продолжил послание:
«РАЗУМ (обращаясь к Сердцу): В тот день, пока я пытался привлечь твоё внимание к архитектурным деталям купола нового рынка, ты только строило планы, как избежать расставания с супругами Косуэй. Гонцы с лживыми посланиями, отменявшими намеченные встречи, были разосланы всем знакомым. Ты даже осмелилось сообщить герцогине Данвиль, что в последний момент пришли важные дипломатические депеши, которые требовали принятия срочных мер, что лишает нас возможности явиться к ней на обед. Ты требовало у меня, чтобы я придумал более убедительную отговорку, но я не желал быть замешан в этом обмане. А ты увлекло новых знакомых на обед в Сен-Клу, потом на фейерверки на улице Сен-Лазар, потом в гости к Крумхольцам, где жена Джулия услаждала вас игрой на арфе до позднего часа. Если бы день был долгим, как лето в Лапландии, ты бы ухитрилось заполнить его новыми развлечениями, лишь бы вам не расставаться».
Брюзжание Разума воспроизводить было нетрудно. Но и ответный монолог Сердца полился на бумагу легко и вдохновенно.
«СЕРДЦЕ: Говори, говори, вспоминай этот день! Всё выглядело ослепительно прекрасным. Зелёные холмы по берегам Сены, радуга над дворцом в Сен-Жермене, сады, статуи. А развалины старинной башни с винтовой лестницей внутри, по которой королева Екатерина Медичи со своим звездочётом поднималась на вершину, чтобы прочесть на ночном небе тайну будущего! Колесо времени состязалось в скорости с колёсами нашей кареты, но казалось, что и сотни часов не хватит, чтобы вместить всё счастье того незабвенного дня».
Джон Трамбалл рассказал Джефферсону, что супруги Косуэй в Лондоне владели домом, заполненным живописными полотнами, элегантной мебелью, японскими ширмами и веерами, персидскими коврами, мозаичными столиками с инкрустациями из яшмы и перламутра, музыкальными часами, вделанными в черепаховый панцирь, и прочими редкостями. Их салон посещали аристократы и художники, а воскресными вечерами устраивались музыкальные представления, на которых Мария развлекала гостей игрой на арфе и пением итальянских песен.
В художественном мире репутация обоих была очень высока. Они выставлялись в академии, были близки с такими знаменитостями, как Джошуа Рейнолдс и Томас Гейнсборо, а наследник трона принц Уэльский заказывал Ричарду Косуэю миниатюрные портреты своих возлюбленных. Среди лондонских повес и ловеласов Ричард также был известен тем, что изготавливал табакерки, расписанные эротическими сценами, которые тайно продавал за большие деньги. Его манеры и речь до такой степени были окрашены преувеличенной светской любезностью, что их можно было считать проявлением искренности. «Да, я даже не пытаюсь притворяться правдивым и откровенным». Сразу можно было заметить, что близость, если она когда-то и была между супругами Косуэй, уже давно испарилась в водовороте светской жизни.
После первого дня, проведённого вместе, последовали другие, заполненные посещениями Лувра, Версаля, Королевской библиотеки, новой церкви Святой Женевьевы. Вместе с Джоном Трамбаллом они посетили мастерские художника Давида и скульптора Гудона. По поручению ассамблеи Виргинии Джефферсон заказал Гудону бюст Лафайета, который должен был быть установлен в парижской мэрии как дар благодарных виргинцев герою, защищавшему их от британцев. А Континентальный конгресс выделил тысячу гиней на создание статуи Вашингтона, и Джефферсон уговорил знаменитого скульптора совершить для этой цели путешествие в Америку.
Вскоре Ричард Косуэй должен был приступить к выполнению тех заказов, для которых он приехал в Париж, и ошеломлённый своей удачей Джефферсон смог остаться с Марией один на один, показать ей свои любимые места в Париже и окрестностях. Ей особенно понравился идиллический парк Дезерт де Рец, украшенный гротом, развалинами готической церкви, китайской пагодой, храмом бога Пана. Ах, какой был бы восторг, если бы он смог пересечь с ней океан и открыть для неё красоты родной Виргинии!
Левая рука старательно продолжала выводить на бумаге нежные каракули.
«СЕРДЦЕ: А разве это невозможно? Где, как не в Америке, талантливая художница найдёт пейзажи, достойные её карандаша и кисти? Ниагарский водопад, причудливая вулканическая арка, образовавшая мост через реку Джеймс, ущелье Потомака, разрезающее Голубые горы! И наше родное Монтичелло, где природа разостлала свой богатейший покров из лесов, скал, холмов, рек. Мы будем вместе созерцать сверху все чудеса Творения у наших ног: облака, снег, град, дождь, радугу. А солнце, встающее из водных глубин, будет золотить отроги дальних вершин».
Мария рассказывала ему о своём детстве. Она жила с родителями в Италии, поэтому её английский был окрашен очаровательным итальянским акцентом. Страшное несчастье постигло семью незадолго до рождения Марии: четверо из пяти детей, появившихся на свет, внезапно умерли в одну ночь от неизвестной причины. Отец подозревал, что кто-то приложил к этому руку, поэтому нанял специальную надёжную гувернантку и велел ей не спускать глаз с новорождённой. Однажды гувернантка подслушала, как итальянская горничная, качая Марию, нежно приговаривала: «Золотое дитя, я уже отправила четверых на небеса, скоро отправлю и тебя». Горничную арестовали и поместили в сумасшедший дом. Мария хранила нежную память об отце, спасшем её и потом заботившемся о её образовании.
После смерти отца во Флоренции девочка выразила желание стать монахиней. Но мать-протестантка не хотела и слышать об этом. Семья вернулась в Англию, где Марию взяла под своё покровительство знаменитая художница Анжелика Кауфман. Многие были покорены очарованием Марии, искали её руки, но Ричард Косуэй сумел так привлечь на свою сторону — деньгами и лестью — её мать, что под давлением обоих девушка дала согласие на брак. Первые годы супруги прожили в мире и взаимном уважении, но потом начались измены Ричарда — с женщинами и мужчинами, — и к моменту встречи с Джефферсоном Мария чувствовала себя одинокой и несчастной.
В послании пора было дать голос и Разуму.
«РАЗУМ: Взвешивай каждый свой шаг. Положи на одну чашу удовольствие, которое может доставить тебе встретившийся человек, на другую — страдания, которые он может причинить, и смотри, какая чаша перевесит. Не хватай приманку радости, не проверив, не спрятан ли в ней крючок. Искусство жить есть искусство избегать боли. Умелый штурман знает, как огибать скалы и мели. Приобретение новых друзей — дело нешуточное. Нам хватает собственных несчастий. Представь себе, каково тебе будет, если добавятся боль и несчастья других. Друг всегда может попасть в беду, заболеть или просто покинуть тебя, и ты останешься доживать кровоточащим обрубком. Не лучше ли ограничить себя наслаждением, даруемым созерцанием мира и всех чудес Творения, вознесясь над мирской суетой?»
Мария прочитала «Заметки о Виргинии» и говорила ему, что у неё открылись глаза. До встречи с ним её представление об Америке складывалось из прочитанного в лондонских газетах, переполненных бранью и клеветой. Новая республика представала там государством бандитов и головорезов, царством анархии и беззакония, в котором не уважались ни собственность, ни религия, ни жизнь человека.
Всё предстало для неё в новом свете. Она заразилась его любовью к американцам, увидела их его глазами — занятых строительством школ и университетов, прокладкой дорог и судоходных каналов, терпимых к разным верованиям и законопослушных. И, да, она мечтала бы увидеть его страну. «О, если бы я была мужчиной и могла отправиться туда, куда захочется!» — восклицала она.
С печальной иронией Мария описывала ему, каким бы она изобразила Джефферсона на живописном полотне, если бы ей довелось рисовать его на фоне Монтичелло: одинокий и задумчивый сидит он на большом камне, одетый в монашеское облачение, а над головой его витает душа покойной жены, заслоняющая своими крыльями блеск восходящего солнца.
Да, они оба почувствовали душевное одиночество друг друга. Не в этом ли таилось ощущение глубокого внутреннего родства, пронзившее обоих? Но могли ли они спастись от одиночества, разрушив стены житейских обстоятельств, разделявшие их? Позволила бы её глубокая религиозность решиться на развод? А его любовь к дочерям — решиться нарушить обещание, данное умирающей жене? Или нужно было просто дать волю своему чувству и бездумно кинуться в объятия друг друга, как это делали сотни пар вокруг?
В то лето лихорадка любовных страстей в Париже, казалось, достигла размаха эпидемии. Подлинные и выдуманные амурные истории передавались сплетниками из салона в салон. В письме молодому американскому другу Джефферсон писал, что не рекомендует ему приезжать для получения образования в Европу, потому что «…сильнейшая из человеческих страстей здесь господствует над душами и здешние красавицы могут убедить его в том, что соблюдение супружеской верности недостойно джентльмена и разрушительно для счастья». До него уже доходили слухи о любовных приключениях внука доктора Франклина, который явно вознамерился обогнать деда на этом поприще. Не отставал от него и художник Трамбалл, сведения о незаконнорождённом ребёнке которого вызвали недавно в Америке настоящий скандал. Лафайет, расставшись с одной красавицей, тут же подпал под чары другой. Даже секретарь американского посольства Уильям Шорт заразился лихорадкой и завёл пламенный роман с пятнадцатилетней дочерью хозяев дома, где он снял себе жильё.
Ричард Косуэй, конечно, не подходил на роль одураченного мужа из водевиля, который последним узнаёт об увлечениях своей жены. Следуя правилам светского этикета, он приветливо улыбался американскому дипломату при встречах, но с каждым разом улыбка делалась всё напряжённее. Мария объясняла Джефферсону, что высокие мужчины вызывают особенное раздражение и нелюбовь в её низкорослом муже. Он говорил жене, что им надо будет покинуть Париж, как только он закончит работу над заказанными портретами.
Уильям Шорт оказался прекрасным помощником, и Джефферсон мог перекладывать на него большую часть деловой переписки посольства. В каждом дне нужно было выкроить время для встречи с Марией, придумать новую загородную прогулку, поход в музей, визит в мастерскую художника, посещение оперы. Но в сентябре почти все его светские друзья вернулись в Париж, и на него посыпался град приглашений, многие из которых было невозможно проигнорировать.
Его популярность неудержимо росла с того момента, когда Лафайет объяснил своим соотечественникам, кто является автором американской Декларации независимости. Потом генерал Шастеллю опубликовал свои путевые заметки, в которых был приведён лестный портрет хозяина Монтичелло. «Заметки о Виргинии» для многих членов французской академии стали главным источником знаний о далёком загадочном континенте. Джеймсу Мэдисону наконец удалось провести в Виргинской ассамблее законы о веротерпимости, над которыми они вместе трудились восемь лет назад, и опубликование этих законов в переводе на французский и итальянский языки стало сенсацией в политических кругах Парижа.
Знакомить европейцев с подлинной Америкой, прославлять её достижения во всех сферах научной и культурной жизни Джефферсон считал своим долгом. Поэтому он с радостью извлёк из очередной почты первый сборник стихов Филипа Френо, с поэзией которого был немного знаком по газетным публикациям. Поэт был сокурсником Джеймса Мэдисона в Принстоне, во время войны служил на флоте, попал в плен к англичанам, провёл несколько недель в трюме тюремного корабля в Нью-Йорке, что добавило огня в его антибританские сатирические стихотворения.
Листая сборник, Джефферсон хотел выбрать произведения, которые могли бы увлечь Марию Косуэй. Может быть, прочесть ей раннюю поэму «Сила фантазии»? Он читал отрывки из неё 15 лет назад Марте Скелтон, когда она ещё не была его женой, и до сих пор помнил одну строфу:
Все чудеса, что мы видим вокруг: Солнце и звёзды, море и луг, Люди и звери, цветы и листва — Что это всё, как не труд Божества? Жизни и смерти незваный черёд, И время само, что за солнцем идёт — Твердь и вода, и весь шар земной, Сиянье и тьма, холод и зной, Что этот вечный круговорот — Как не Всевышнего замысла плод[7].Так же хорошо звучит «Политическая литания», но она слишком пронизана ненавистью к лордам и королям, а Мария как-никак подданная британской короны. Нет, уместнее всего будет вот это: «Обитель ночи». Не важно, что там поэт затрагивает тему смерти. Он делает это с такой приподнятой романтичностью, с такой смелостью. Душевное прикосновение к тайнам гроба возбуждает в нём обострённо-радостное переживание жизни и человеческой судьбы — это главное.
Человеческая судьба! Думал ли ни в чём не повинный поэт, что его строчки могут когда-нибудь обернуться такой бедой и болью для его ни в чём не повинного читателя?!
Был чудный сентябрьский день. Они с Марией шли по уединённой аллее в Булонском лесу. Он предупредил её, что у него есть поэтический сюрприз для неё, но такой, который нужно читать, непременно стоя на возвышении. Валун, белевший посреди травы в двух ярдах от дорожки, показался ему вполне подходящим постаментом. Он выпустил локоть своей спутницы, легко разбежался и…
Видимо, перед валуном, скрытая травой, в земле была незаметная вмятина, ямка, углубление. Его правая нога, готовясь оттолкнуться, утонула в ней на два-три дюйма, левой ноге, нацелившейся вознести его на валун в виде монумента, не хватило тех же двух-трёх дюймов, она стукнулась носком о камень, и прославленный американский дипломат, одетый в модный парижский камзол, на глазах у дамы своего сердца рухнул во весь свой рост на жёсткий французский суглинок, спрятанный под обманчиво мягким клевером.
Да, он успел выставить вперёд руки, и левая немного смягчила удар. Но правая инстинктивно продолжала сжимать томик стихов, и кисть скрипача затрещала под навалившейся на неё тяжестью.
В глазах потемнело от боли.
Мария кинулась к нему на помощь, опустилась рядом на колени.
Он кое-как повернулся, сел, попытался улыбнуться.
Не вышло.
Все силы уходили на то, чтобы не застонать вслух.
— Ничего, ничего, это пустяки… Вот когда я падал с лошади, то было посерьёзнее…
Пришлось возвращаться к карете.
День, начинавшийся так чудесно, померк.
Каждая выбоина под колесом откликалась толчком боли в сломанных костях.
Вызванный хирург качал головой, укоризненно вздыхал, настаивал на постельном режиме. Наложенная повязка казалась сделанной из раскалённого железа. Джеймса Хемингса с рецептом на обезболивающую микстуру лауданум послали в аптеку. Потянулись тоскливые дни.
Мария присылала справляться о здоровье, иногда появлялась сама, полная участия и неподдельной нежности. Но день её отъезда неумолимо приближался. С трудом ей удалось вырваться, чтобы нанести ему прощальный визит. Они говорили о том, что разлука не будет долгой, что она вернётся в Париж весной, а пока — письма, письма! Им так много нужно сказать друг другу. И лучше вести переписку через верного Трамбалла — он умеет хранить секреты.
Несмотря на предупреждения врача, несмотря на её возражения, Джефферсон встал с постели и поехал провожать супругов Косуэй до Сен-Дени. Конечно, поездка не способствовала выздоровлению. Боль вернулась с прежней силой.
Джефферсон отложил перо и потянулся к пузырьку с лауданумом.
А не было ли его падение подстроено судьбой как наказание за вечные прятки, которые он устраивает своим главным, самым сильным чувствам? Может быть, пришёл момент перестать притворяться, будто он пишет двоим? Закончить галантный диалог Сердца и Разума? Дать им примириться, слиться в простом и ясном призыве: оставь мужа, стань моей женой, уедем вместе в Америку. Да, там не будет блистательного общества, которое окружает тебя в Лондоне и Париже. Но разве за эти недели не стало ясно, что мы можем заполнить жизнь друг друга с утра до вечера, что пока мы вместе, нам никто, никто не нужен?
Он глубоко вздохнул и возобновил писание:
«СЕРДЦЕ: Холмы, долины, дворцы, сады, реки — всё было исполнено радости только потому, что она радовалась, взирая на них. Пусть унылый монах, замкнувшийся в своей келье, ищет удовлетворения, удаляясь от мира. Пусть возвышенный философ хватается за иллюзию счастья, облачённую в наряд истины! Их высшая мудрость есть не что иное, как высшая глупость! Они принимают за счастье простое отсутствие боли. Если бы им довелось хоть раз пережить трепетное содрогание сердца, они были бы готовы отдать за него все холодные спекуляции ума, наполняющие их жизни».
Закончив писать, Джефферсон, неловко орудуя одной рукой, вложил листки в большой конверт и написал на нём: «Англия, Лондон, мистеру Джону Трамбаллу, в собственные руки».
Ноябрь, 1786
«Моё сердце переполнено и готово разорваться… Я вчитывалась в каждое слово в Вашем письме, в ответ на каждую фразу могла бы написать целый том… Здесь всё покрыто туманом и дымом, печаль захватывает душу в неприветливом климате… Ваши письма никогда не могут быть слишком длинными… Но что означает Ваше молчание? Каждый раз, когда в почте нет письма из Парижа, я впадаю в тревогу… Боль расставания превратилась в постоянное беспокойство…»
Из писем Марии Косуэй Томасу ДжефферсонуОсень — зима, 1787
«Депрессия 1786 года ударила по Массачусетсу с особой силой. Торговля с Вест-Индией прервалась, цены на сельскохозяйственные продукты резко упали, налоги приводили многих к разорению и к продаже ферм с молотка. Это вызвало широко распространившуюся враждебность по отношению к судьям и адвокатам, городские собрания требовали реформ. Но ассамблея оставалась глуха к этим призывам, и осенью в центральном и западном Массачусетсе вспыхнуло восстание. Под руководством капитана Дэниела Шейса разгневанные толпы врывались на заседания судов и попытались захватить арсенал в Спрингфилде. Во многих сердцах эти события вызвали страх и отчаяние, и среди американцев стало распространяться убеждение в необходимости сильного центрального правительства. После того как восстание было подавлено, ассамблея провела многие реформы, которых требовали восставшие».
Г. Р. Мино. История восстания в МассачусетсеВесна, 1787
«Восстание Шейса сыграло свою роль в том, что американцы осознали дефекты имевшегося федерального правительства. Стремление к реформам набирало силу, и 14 мая 1787 года в Филадельфии собрался конвент для выработки новой конституции. Меня включили в делегацию от штата Пенсильвания. Сознавая критическую важность происходившего, я посещал заседания почти ежедневно.
Последние запасы жизненной энергии мне хотелось потратить на создание американской нации, которой я уже отдал так много в своей жизни. Во время весьма острых дебатов я старался находить компромиссы и играть роль примирителя».
Бенджамин Франклин. АвтобиографияВесна, 1787
«Дорогой маркиз, Вы, наверное, будете удивлены, получив от меня письмо, отправленное из Филадельфии. Вопреки моим публичным заявлениям и искренним намерениям, я снова вовлечён в общественную жизнь. Глас народа и давление, оказанное на меня, были настолько сильными, что я согласился принять участие в конвенте штатов. На этом съезде будет решаться, получим ли мы сильное правительство, способное обеспечить права на жизнь, свободу и собственность, или окажемся в плену анархии, в которой власть достанется энергичным демагогам, заботящимся не о благе страны, а только о своих корыстных интересах».
Из письма Вашингтона маркизу ЛафайетуМай, 1787
«Надеюсь, это письмо будет вручено Вам моей дорогой Полли, когда она прибудет к Вам, желательно в том же добром здравии, в каком она сейчас. До тех пор пока я не получу подтверждения её благополучного прибытия к Вам, я буду умирать от беспокойства. Мои дети побудут на корабле с ней денёк, чтобы она пообвыкла и примирилась с путешествием. Ради Бога, дайте нам знать о её прибытии так скоро, как только будет возможно».
Из письма Элизабет Эппс Томасу Джефферсону в ПарижЛЕТО, 1787. НОРФОЛК — ЛОНДОН — ПАРИЖ
Да, рассматривать себя глазами других людей Салли Хемингс научилась у брата Джеймса. Это он рассказал ей, сколько веселья можно извлечь из этого невинного обмана. Но играть в «как будто» она придумала сама. И как преобразилась её жизнь с того момента!
Больше не надо было проводить скучные часы, подметая комнаты в большом доме в Монтичелло. Теперь это была игра «как будто я подметаю комнаты». Кончилось долгое мытьё посуды у бадьи в кухне или у колодца. Теперь это была игра в мытьё посуды. А там, где игра, разрешалось ждать чудесного, неожиданного, удивительного.
В подметаемую комнату мог войти юный охотник, подстреливший фазана и ищущий девушку, которая была бы достойна получить его добычу в подарок. К колодцу вдруг мог подъехать торговец бусами, лентами и браслетами, принимающий в уплату за свой товар улыбки и поцелуи. Или мог опуститься лебедь, изображённый в большой книжке, которую они с Полли тайком листали в библиотеке поместья в Эппингтоне, куда их поселили после отъезда массы Томаса Джефферсона во Францию. Этот лебедь был на самом деле богом Зевсом — тоже большим мастером устраивать всякие «как будто», являвшимся разным красавицам то в виде быка, то в виде золотого дождя, а то, наоборот, превращавшим новую возлюбленную в корову.
Полли легко усвоила правила игры в «как будто» и с удовольствием принимала участие в ней. Она была на пять лет младше Салли, но её фантазия была расцвечена сказками белых, которые ей рассказывала тётушка Элизабет или читал в книжке дядюшка Фрэнсис Эппс. Полли сама уже умела читать и писать, а Салли ещё только училась разбирать по слогам напечатанные слова. Причём училась сама, тайком, потому что белые придумали себе правило: чёрных грамоте не учить. Полли нарушала это правило, помогала Салли узнавать буквы алфавита, даже когда они были нарисованы на коробках или в газетах по-другому — не так, как в букваре.
Ощущала ли себя Салли чёрной?
Кожа её была настолько светлой, что продавцы в лавках Шарлоттсвилла или Ричмонда, куда они ездили с тётей Элизабет за покупками, часто говорили ей «мисс». Правда, это было связано и с тем, что тётя, как и её покойная сестра миссус Марта покупали Салли очень хорошую одежду. Или дарили платья, туфли, рубашки, из которых выросли их собственные дочери. Разделение на белых и чёрных казалось Салли просто одним из многочисленных «как будто», которые взрослые придумали для своей забавы, но которым надо было строго подчиняться, чтобы не портить игру.
Другим важным «как будто» были родственные связи. Мама Бетти довольно рано объяснила ей, что для рождения ребёнка обязательно нужны двое: мужчина и женщина. Все дети, рождённые мамой Бетти от разных мужчин, становились для Салли братьями и сестрами. Но оказывается, и дети, рождённые разными женщинами от одного и того же мужчины, имели право считать друг друга братьями и сестрами. Хозяин мамы Бетти, покойный мистер Вэйлс, сначала любил одну женщину и родил с ней миссус Марту. Потом та женщина умерла, он женился на другой и родил с ней тётю Элизабет. Марта и Элизабет называли себя сестрами и любили друг друга. А когда и мать Элизабет умерла, мистер Вэйлс полюбил маму Бетти и родил с нею Роберта, Джеймса, Феню, Криту, Питера и последней — её, Салли.
Салли была послушной девочкой и довольно быстро научилась играть в главное «как будто» обширного потомства мистера Вэйлса: «как будто» миссус Марта и тётя Элизабет по отношению к ней являются только белыми хозяйками, но никак не сестрами. А она по отношению к Полли только нянька, но никак не тётушка. Увлечение семейства игрой в «как будто» распространилось даже на имена: Полли на самом деле была записана в церковной книге как Мария, её старшую сестру, Марту, все называли Пэтси, да и сама Салли при рождении была названа Сарой.
С одной стороны, игра в «как будто» была важным подспорьем в жизни маленькой девочки, отрадой и развлечением. С другой стороны, бывали случаи, когда Салли заигрывалась и оказывалась лицом к лицу с нешуточной опасностью. Взять хотя бы ту историю, когда её послали на реку полоскать бельё. И она, стоя на мостках, хлестала рубахами по воде, воображая себя плывущей в лодке. А потом взяла доску и стала орудовать ею как веслом. И старые мостки вдруг сорвались с кольев, вбитых в дно, и превратились в плот, который течение начало быстро уносить вниз совсем не «как будто», а по-настоящему. Дядюшке Фрэнсису пришлось догонять её по берегу на лошади и потом кидать ей спасательное лассо.
Мистер и миссис Эппс были очень добры к Салли. Тётя Элизабет, конечно, никогда открыто не называла её сестрой, но всячески выражала ей внимание и заботу. Иногда даже называла «мой личный доктор». Это потому, что у Салли открылись такие же целебные способности её рук, как и у брата Джеймса. Простыми поглаживаниями у висков она прогоняла приступы мигрени, которые часто одолевали миссис Эппс.
Да, в детстве было немало опасных ситуаций. Но все они теперь казались пустяками. Потому что в одно прекрасное утро они с Полли проснулись не посреди реки, а посреди взаправдашнего океана. На корабле с парусами, на котором, кроме них двоих, не было других пассажиров. Только моряки со жвачкой во рту и с обветренными суровыми лицами. Что будет, если они перестанут слушаться доброго капитана Рэмси и захотят сделать с ними то, что белый капитан Хемингс проделал когда-то с бабушкой Салли, родившей потом от него маму Бетти?
Угроза этого плавания нависала над Полли уже давно. Её отец, масса Томас, слал дядюшке Фрэнсису письмо за письмом, требуя отправить дочь к нему в Париж. Его можно было понять. После смерти маленькой Люси Элизабет он сходил с ума от беспокойства. Видимо, воображал, что силы небесные, столь часто поминаемые белыми по всякому поводу, будут больше послушны ему во Франции, чем дяде Фрэнсису и тёте Элизабет — здесь, в Эппингтоне. Но какие силы небесные помогут двум девочкам, если морское чудовище проткнёт своим клювом тонкое днище корабля и чёрная бездна глубиной в сотни футов поглотит их вместе со всей командой?
Супруги Эппс готовы были исполнить просьбу массы Томаса, но каждый раз всплывали какие-то препятствия, заставлявшие отложить отплытие. Кроме того, отец Полли требовал, чтобы женщине, назначенной сопровождать её, была сделана прививка оспы. Эппсы нашли подходящую чёрную невольницу, она была согласна подвергнуться страшной процедуре и плыть через океан, но вдруг выяснилось, что она беременна и не может взяться за такое важное дело. Тогда тётя-сестра Элизабет, отчаявшись, попросила Салли взять на себя эту роль. На прививку времени уже не оставалось, но зато Полли так любила свою няньку и так доверяла ей, что с нею ей плыть было бы менее страшно, чем с кем-нибудь другим.
Почему Салли согласилась?
Воображала, что ей удастся преодолеть страх, привычно превратив опасное плавание в игру «как будто мы пересекаем океан»?
Не хотела расставаться с Полли, которая стала для неё за прошедшие годы ближе родной сестры, а точнее, племянницы?
Рвалась увидеть новые страны, города, людей?
Ведь с далёкой Францией ей довелось столкнуться ещё в детстве, не выезжая из Монтичелло. Той весной, когда родилась Люси Элизабет, поместье посетил французский генерал. Его слуга Марсель знал лишь несколько слов по-английски, и все Хемингсы потешались, слушая за обедом на кухне его рассказы, сопровождавшиеся прыжками, гримасами, выкриками, мычанием, кудахтаньем. Салли запомнила несколько французских слов: «вояж, бонжур, оревуар, руж, нуар». Ну и конечно, те три слова, которые Марсель неизменно произносил, устремляя свой чёрный блестящий взгляд на неё, девятилетнюю, когда сталкивался с ней у конюшни, на кухне, под цветущей сиренью: «мадемуазель», «шарман», «манифик».
Возможно, эти встречи происходили не совсем случайно. Марсель мог вынырнуть из-за поворота тропинки, из кустов боярышника, из тени, отбрасываемой главным домом на карету французских гостей. И каким-то чудом вслед за ним, неведомо откуда, неизбежно появлялась мама Бетти. Будто она находила его и шла за ним по запаху французского одеколона, всегда окружавшего его невидимым облаком. А у Салли каждый раз от этих встреч оставалось чувство, будто кто-то надел ей на шею невидимое тесное ожерелье.
Такое же чувство тесного ожерелья она пережила три года спустя, когда они с Полли уже жили в поместье Эппсов. Но в этот раз приехавший в гости пятнадцатилетний племянник хозяев не удостаивал её ни взглядом, ни словом. Чёрная девочка-рабыня не представляла никакого интереса для отпрыска белых богачей. Это она, тайком поглядывая на него, мысленно произносила «шарман», «манифик», «амур». Бусины ожерелья казались мягкими, боль, вызываемая ими, была сладостной, но всё же это была боль. И её никак не удавалось превратить в очередное «как будто».
В первые дни плавания Салли ощущала себя виноватой перед Полли. Ведь это она придумала и подсказала тёте-сестре Элизабет, как можно заманить девочку на корабль. Полли начинала рыдать, как только заходила речь о возможном расставании с любимыми дядей и тётей, с их уютным домом, со всеми лошадьми, кошками и собаками, которых она знала по именам, кормила и гладила своими руками вот уже три года.
А что, если устроить «как будто» праздник на воде?
Как будто капитан Рэмси захотел порадовать всех детей семейства Эппс. И как будто исключительно для этой цели привёл свой бриг «Роберт» вверх по реке Джеймс до самого поместья Эппингтон. Полли поверила и вместе со своими кузинами радостно носилась по палубе и трюмам, играя в прятки и жмурки. А потом, к вечеру, для всех был устроен праздничный ужин на капитанском мостике. После которого, как и следовало ожидать, Полли безмятежно уснула в кресле. Её кузин родители тихо увели на берег и увезли домой. А Полли проснулась на следующий день посреди океана.
Нет, на Салли она не сердилась. Ведь её нянька и сама стала жертвой обмана — так она считала. Её тоже оторвали от любимого дома, от всех родных, послали в неведомую даль, полную чужих людей и разных опасностей. Теперь им обеим нужно было собрать все детские силёнки, чтобы перетерпеть — оставить позади — пять недель жизни между небом и водою. В Священном Писании сказано, что Бог отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, «и назвал сушу землёю, а собрание вод назвал морями». Однако корабль их, видимо, заплыл в те места, где это отделение ещё не произошло. Суши, с травой и деревьями, не было нигде — лишь мокрая холодная вода и ослепительно равнодушное небо.
Девочкам оставалось только придумывать новые «как будто». На тесном камбузе добрый кок, негр Вилли, уступал Салли одну конфорку на плите, и она «как будто» варила на ней кашу для них обеих или пекла лепёшки из кукурузной муки. Тот же Вилли извлекал из океана бадью воды, чтобы Салли могла «как будто» постирать одежду.
Раз в три дня они устраивали купание. Здесь «как будто» не требовалось, потому что купание было удовольствием и без игры. Бадью оставляли на пару часов на палубе, чтобы вода в ней успела согреться на солнце. Заботливая тётя-сестра Элизабет оставила в их каюте дорожный сундучок со всем необходимым: мылом, двумя мочалками, полотенцами, ковшиком, домашними тапочками, гребнями, булавками, иголками и нитками, баночкой мёда, галетами, мешочком с орехами, сушёными абрикосами. Положила даже колокольчик с цепочкой, который умирающая миссус Марта подарила Салли.
Дверь каюты имела прочный засов, так что можно было не опасаться случайных или намеренных вторжений. Полли уже прекрасно умела мыться сама, Салли оставалось только обливать её водой из ковшика и обтирать полотенцем. Потом наступала её очередь. Она залезала в бадью, намыливалась с головы до ног, и Полли не без зависти разглядывала холмики её грудей под струйками мыльной воды.
Из книг у капитана Рэмси была только Библия. Полли читала из неё отрывки вслух и по-настоящему. Но священная книга для Салли всегда была собранием лучших историй «как будто», каких ей самой никогда не придумать.
На этот раз ей ярче других запомнилась история про Авраама и Агарь. Может быть, потому, что Агарь тоже была служанкой в доме господина своего, как и мама Бетти, и тоже родом из Африки. Бог обещал Агари, что от сына её, Измаила, произойдёт великий народ. Вот бы узнать, какой из народов, населяющих землю, произошёл от Измаила! В Библии не говорилось, какого цвета была кожа Агари. А что, если и все чёрные — это и есть народ, произведённый Господом от Измаила?
Во время всего плавания небо вело себя по-доброму, ни разу не послало на них ни одного из тех злобных ураганов, которыми оно умело время от времени карать за грехи всех виргинцев. Постепенно девочки успокоились, свыклись с корабельной жизнью. В конце плавания в погоне за развлечениями они придумали довольно рискованную «как будто»: «как будто капитан Рэмси — это на самом деле отец Полли, притворившийся мореплавателем, чтобы тайно приплыть за своей дочерью в Америку». Полли так вошла в роль, что в любую свободную минуту вертелась вокруг капитана, радостно смеялась любым его шуткам, говорила, что ни за что не расстанется с ним. Капитан реагировал на её выходки добродушно, баловал сладостями из своих запасов, обещал, что когда она вырастет, он уговорит своего сына жениться на ней, и тогда они все вместе заживут в одном доме одной семьёй.
Но, разговаривая с Полли, осыпая её несбыточными обещаниями, подыгрывая отведённой ему роли, капитан Рэмси не сводил своих тяжёлых выпуклых глаз с её четырнадцатилетней няньки.
Тесное ожерелье безотказно возникало у Салли на шее под этим взглядом. Но в этом чувстве не было и тени счастливого трепета, который она испытывала, находясь вблизи белого красавца — племянника Эппсов. Скорее оно напоминало то ожерелье, которое набрасывал на неё заезжий парижанин Марсель. И после него — многие другие мужчины, белые и чёрные, богатые и бедные, красивые и уроды. Потому что сомнений не оставалось: Господь выбрал для Салли Хемингс судьбу родиться и вырасти очень миловидной. Или, как говорили некоторые, «хорошенькой». Или даже «красивой». «Шарман, манифик, ла белла». Ни в какое «как будто» этот простой факт превратить было невозможно. Оставалось учиться тому, как приспособиться к этой судьбе, как избежать опасностей, таящихся в ней.
С капитаном Рэмси ей приходилось вести постоянную невидимую войну. Он всё время искал повода остаться с ней наедине, якобы невзначай прикоснуться к руке, лежащей на коленях, поправить волосы, выбившиеся из-под косынки. Несколько раз начинал расспрашивать, какие инструкции дал её хозяин, мистер Джефферсон, насчёт дальнейшей судьбы обеих девочек. Полли отдадут в школу-пансион? Значит, услуги няньки-горничной ей больше не понадобятся? Оставят ли её в Париже или отправят обратно в Америку? Пусть Салли знает, что на его корабле ей всегда будут предоставлены отдельная каюта и самое доброе и заботливое отношение.
Салли испытала большое облегчение, когда плавание закончилось и корабль пристал к английскому берегу.
Город Лондон проплывал за окнами кареты, довольный тем, что у него нашлось ещё несколько чудес, чтобы поразить воображение двух юных американок. Эти огромные мосты через Темзу. Эти башни, купола и шпили церквей и соборов. Звон гигантских часов Биг-Бена. Потоки шикарных экипажей, ландо, колясок, фаэтонов на улицах, разнаряженная толпа, сверкающие окна и витрины модных лавок… Нет, ничего подобного не доводилось им видеть в Ричмонде или Уильямсберге. Нужно было срочно привыкать к своей муравьиной малости, потерянности, никомуненужности. Когда капитан Рэмси передавал своих пассажирок миссис Адамc, Полли уже без всякого притворства цеплялась за него, плакала и говорила, что ни за что, ни за что не расстанется с ним, что он стал для неё как отец родной.
Дом американского посланника мистера Адамса был большим и удобным. Каменные стены хорошо защищали от уличной жары, широкие окна наполняли светом просторные комнаты. Салли очень быстро поняла, что мистер Адамc только «как будто» является хозяином и главой семейства, а на самом деле всем командует и распоряжается его жена.
Миссис Адамc, казалось, всегда точно знала, что и как должно быть сделано в данную минуту, кому поручена та или иная работа, какие произнесены слова, какой укоризной отмечены промахи, слабости, греховность окружающих. Как будто у неё в душе были невидимые весы с двумя чашками: на одной написано «правильно», на другой — «неправильно», и она всегда следовала указаниям этих чашек. Ни покойная миссус Марта, ни тётя-сестра Элизабет Эппс не могли бы сравниться с ней по степени уверенности в себе.
На следующий день по прибытии миссис Адамc первым делом повезла девочек покупать приличную одежду, в которой им можно было бы выходить к гостям или гулять по улицам. Они переходили из магазина в магазин, а вернее, из одного сверкающего дворца в другой, и их карета постепенно заполнялась свёртками, баулами, коробками. Для Полли были куплены четыре платья из голландского полотна, несколько ярдов муслина, кисеи и кружев для пошива юбок, бобровая шляпка, две пары кожаных перчаток, шесть пар чулок, три ярда синей ленты, щётка для волос и зубная щётка. Но и Салли не осталась без обновок: 12 ярдов ситца для пошива двух платьев и жакета, четыре ярда голландского полотна для передников, три пары чулок, два ярда подкладочной ткани, шаль на плечи.
Миссис Адамc отправила в Париж письмо, извещавшее мистера Джефферсона о благополучном прибытии Полли и её горничной. Все были уверены, что он примчится при первой возможности, чтобы забрать дочь. Салли уже неплохо владела ремеслом портнихи, и её посадили превращать купленные ткани в нижние юбки и ночные рубашки. Однажды она сидела в отведённой ей комнате и случайно подслушала обрывки разговора между миссис Адамc и зашедшим с визитом капитаном Рэмси. Речь шла о ней, о Салли Хемингс.
— Я имел возможность наблюдать за ней в течение долгого пути, — говорил капитан. — По поведению, по манере, по способности владеть собой она ещё совершенный ребёнок. Не представляю, как родственники Полли-Марии могли поручить этой рабыне такое важное дело. Уверен, что её хозяину не будет от неё никакой пользы в Париже, одни хлопоты.
— Хорошо, — сказала миссис Адамc, — я передам мистеру Джефферсону ваши впечатления.
— Кроме того, отдаёт ли он себе отчёт в том, что во Франции рабство запрещено? Выучив несколько французских слов, девочка может явиться в полицию и заявить, что она хочет жить в Париже свободной женщиной. И никакой судья не сможет отказать в её просьбе. Уже несколько десятков американских негров освободились таким образом от своих хозяев. И среди французов полно идеалистов, которые помогают им овладеть профессией, выучить язык, найти жильё.
— Мы с мужем горячие противники рабовладения и всей душой на стороне этих идеалистов и освобождённых ими рабов.
— Да, в теории всё это прекрасно. Но реальность состоит в том, что в парижских трущобах эта девочка наверняка попадёт в руки торговцев живым товаром и станет проституткой. Пожалуйста, передайте мистеру Джефферсону, что из сочувствия к этому неопытному ребёнку я готов бесплатно увезти её обратно в Виргинию, где она сможет вернуться в свою семью, в понятный и привычный для неё мир.
Подслушанный разговор оставил в душе Салли след липкого страха. Будто ядовитая жаба проползла там и наполнила сердце постоянно ноющей болью. Ведь никто не станет слушать её, если она заявит, что не хочет, что боится плыть в Америку с капитаном Рэмси. Миссис Адамc не станет вступаться за неё, она положит слова капитана на одну чашку своих весов, жалобы Салли — на другую, и, конечно, слова взрослого белого перетянут.
Если бы Салли спросили: «Как к тебе относится миссис Адамc?», она бы уверенно ответила: «Хорошо». И не сочла бы нужным упомянуть одну странную особенность: за все эти дни хозяйка дома ни разу не обратилась к ней по имени. Только «ты», «девочка», «пойдём». Но не «Салли».
Постепенно и другая новость из подслушанного разговора стала разрастаться в сознании Салли кустом то ли жгучих тревог, то ли призрачных надежд. Известие о том, что во Франции любой чёрный может сделаться свободным, тоже было очень волнующим. Но можно ли было верить ему? Ведь брат Джеймс так рвался к получению свободы, делился с ней своими мечтами. Он уже прожил в Париже три года, и ни о каком освобождении в его письмах домой не упоминалось. Неужели он стал бы скрывать от родных такую новость?
Погружённая в эти тревожные размышления, Салли сидела с шитьём в руках, когда в комнату ворвалась Полли, кинулась ей на грудь и, рыдая, стала кричать:
— Он не приедет! Не приедет!
Как? Что случилось? Болезнь? Крушение корабля?
Нет — оказывается, пришло письмо от массы Томаса, извещающее, что важные обстоятельства не дают ему возможности покинуть Париж и вместо себя он пришлёт за девочками слугу, месье Пети.
Не только Полли была ошеломлена и расстроена этим известием. Супруги Адамc не могли скрыть своего изумления и досады. Отец, который два года добивался приезда дочери? Который втянул стольких людей в это важное и нелёгкое дело? Который весной два месяца путешествовал по Италии и югу Франции, сейчас не мог покинуть посольство на неделю? И вместо себя посылает слугу, не говорящего по-английски?
В душе миссис Адамc чашка весов с надписью «неправильно» резко пошла вниз, и она села писать письмо мистеру Джефферсону с упрёками и с просьбой изменить своё решение.
Потянулись тревожные дни ожидания. Не зная, как утешить и подбодрить разгневанную Полли, Салли предложила ей новое «как будто»: как будто миссис Адамc на самом деле её мама. Полли увлеклась новой игрой, стала выражать хозяйке дома такую же нежность, какая раньше доставалась капитану корабля.
Другим развлечением — отвлечением — служили книги. Их в доме было великое множество. Листая одну из них, Салли дошла до картинки, изображавшей негра в богатой старинной одежде, стоящего над белой женщиной, спящей в кровати. Она попросила Полли прочесть всю историю, и через три часа обе дружно рыдали над судьбой несчастной Дездемоны. Миссис Адамc застала их над раскрытой книгой и, обращаясь к одной только Полли, стала объяснять, что жалеть эту женщину не следует, что, выйдя замуж за чёрного, она нарушила важнейший закон природы, за что и была справедливо наказана судьбой.
Все эти дни Салли продолжала жить с непреходящей ноющей болью в сердце. Что будет в письме массы Томаса? Как он решит её судьбу? Примет ли он предложение капитана Рэмси?
Но вместо почтальона с письмом в одно прекрасное утро в дверь дома постучал месье Пети. Миссис Адамc прекрасно знала его, потому что в годы их жизни во Франции он служил дворецким в их доме в Отёйле. Она увела его в кабинет мужа. Салли понимала, что подслушивать не было смысла, потому что разговор шёл по-французски, но не могла оторвать взгляда от двери.
Наконец миссис Адамc вышла и мрачно объявила, что — о счастье! о силы небесные! о милость Господня! — месье Пети поручено везти в Париж обеих девочек. Да, для их поездки американское посольство выписало два паспорта, действительных на два месяца. И Салли своими глазами увидела в руках месье Пети два документа с печатями и могла прочесть ясно выведенные имена: «мисс Мария Джефферсон» в одном и «мисс Салли Хемингс» — в другом.
Всё происходившее дальше окрасилось для неё какой-то серебристой дымкой надежд и мечтаний. Ноющая боль страха в душе улетучилась — это было главным. Шторм, напавший на них при пересечении Ла-Манша и поваливший на койку позеленевшего месье Пети, был воспринят ею как весёлое приключение. Тряска дилижанса, сражавшегося с ухабами французских дорог, была успешно превращена в очередное «как будто». Её бодрости и веселья хватало на двоих, ей удавалось утешать и смешить Полли всякий раз, как обида, причинённая отцом, пыталась вернуться в сердце девочки.
Массу Томаса Салли ярче всего помнила таким, каким он был в последние дни болезни жены: не видящим никого вокруг, отрешённым, почти нездешним, готовым, казалось, вот-вот последовать за ней в Царство небесное. Из разговоров в семье она знала, что в их Виргинии он был самым важным и знаменитым человеком, что самые богатые джентльмены были его друзьями, и даже сам великий генерал Вашингтон писал ему письма и спрашивал его советов. Однако для Салли важнее было другое: в рассказах её родных о хозяине Монтичелло никогда не просвечивало, не мелькало, не затаивалось чувство страха.
Может быть, поэтому она ничуть не боялась, когда их путешествие подошло к концу и карета въехала во двор большого нарядного особняка в Париже.
Полли распахнула дверцу и бросилась в объятия сестры Пэтси-Марты.
Салли вышла с другой стороны и тут же оказалась в сильных руках брата Джеймса. Он закружил её, защекотал, как в детстве, расцеловал, поставил на землю.
Мистер Джефферсон стоял на крыльце дома, одетый по-домашнему, в жилете поверх белой рубашки, без парика. Лицо его выражало изумление, почти испуг.
Он не смотрел на долгожданную, но наконец приехавшую дочь.
Он не отрываясь смотрел на Салли Хемингс.
И под этим взглядом знакомое тесное ожерелье захлестнуло ей шею, но не той болезненной петлёй, которую рождали в ней глаза капитана Рэмси, а той лентой готовности к неслыханному, несбыточному счастью, которую она впервые пережила, глядя на пятнадцатилетнего белого гостя из других миров.
Июль, 1787
«Любезная мадам, вчера я был осчастливлен прибытием моей дочери в добром здравии. Прежде всего она сообщила мне, что обещала Вам, как только оглядится здесь, осчастливить Вас визитом на пять-шесть дней. В своих расчётах она принимает во внимание только порывы собственного сердца, которое переполнено тёплым и благодарным чувством к Вам. Путешествие её прошло благополучно, она завела дружбу с попутчиками, с дамами и джентльменами, и время от времени сидела на коленях то у одного, то у другого. Свою сестру она совсем забыла, но, увидев меня, сказала, что слабо припоминает, как я выгляжу».
Из письма Томаса Джефферсона Абигайль АдамcЛето, 1787
«На съезде по выработке новой конституции многие компромиссы были достигнуты с большим трудом. Когда всё было готово к окончательному голосованию, многие делегаты стали опасаться, что те, чьи аргументы были отвергнуты, объединят свои усилия и проголосуют против. Если бы это случилось, конституция наверняка была бы отвергнута ассамблеями штатов. Руководители съезда обратились ко мне с просьбой призвать к единогласию. Так как здоровье моё сильно пошатнулось в те дни, я просил прочесть подготовленную мною речь другого делегата. Он же внёс предложение, рекомендующее делегатам подписать документ, подтверждающий единодушное согласие штатов».
Бенджамин Франклин. АвтобиографияСентябрь, 1787
«Уважаемый сэр! Сразу по возвращении из Филадельфии в Маунт-Вернон я посылаю Вам текст конституции, выработанной федеральным съездом.
Отправляю документ без комментариев. Вы из своего опыта знаете, как трудно бывает примирить такое многообразие интересов, какое существует сегодня в различных штатах. Мне бы хотелось, чтобы предложенная конституция была более совершенной, но я искренне верю, что это наилучший вариант, какого можно было достичь сегодня. Так как она открыта для внесения поправок в будущем, её принятие штатами представляется мне крайне желательным».
Из письма Вашингтона Патрику Генри в ВиргиниюОсень, 1787
«У нас сейчас проходит обсуждение проекта конституции для Соединённых Штатов Америки. У меня есть много причин верить в то, что его создавали откровенные, честные люди, надеюсь, так его и воспримут. В нём могут быть недостатки, но где их нет? Если его утвердят, то ситуация в нашей стране сильно изменится к лучшему и вскоре Америка заслужит уважение других стран в той же мере, в какой они пренебрегали ею до сих пор».
Из письма дипломата Говернера МоррисаДЕКАБРЬ, 1787. ПАРИЖ
В тот тёплый июльский вечер воскресшая жена возникла перед Джефферсоном так естественно и бесшумно, словно и впрямь ангелы опустили её с небес и поставили посреди двора, рядом с запылённой каретой.
«Это не сон, — говорил он себе. — Это не может быть сон. Я чувствую боль в покалеченной кисти, а во сне боль уходит. Я слышу голоса и смех дочерей, вижу, как Пэтси кружит и подбрасывает приехавшую Полли. А воскресшая Марта смотрит на меня со своей чуть вопросительной улыбкой, будто опять ждёт каких-то важных, всё объясняющих слов».
Но какой молодой её воскресили!
Это была даже не юная вдова Скелтон, с которой он встретился на балу в губернаторском дворце в Уильямсберге. Семнадцатилетняя невеста Бафурста, стоящая рядом с ним в церкви перед алтарём, — вот на кого была похожа воскрешённая. И что скрывать, ведь уже тогда он был задет стрелой её красоты и потом носил в закромах памяти эту рану, пока судьба не свела их снова — свободными, одинокими, бесценными друг для друга.
Наваждение длилось минуту или две.
Потом оно кончилось, Салли Хемингс выпустила руку брата Джеймса, сделала несколько шагов к крыльцу и слегка присела перед хозяином:
— Масса Томас, сэр, ваша дочь милостью Господней возвращена под крышу вашего дома.
Джефферсон пришёл в себя, кивнул ей, улыбнулся и двинулся в сторону Полли. Та высвободилась из объятий сестры, подставила щёку для поцелуя отцу, но на расспросы отвечала односложно и неприветливо. Видимо, обида засела в ней глубоко. Чтобы она растворилась, возможно, понадобится больше времени, чем на пересечение океана. Джефферсон был готов к этому. Даже без укоризненных писем Абигайль Адамc он понимал, какую горечь мог оставить в Полли его отказ приехать за ней в Лондон. Обязанности дипломата — это объяснение не принимали ни взрослые, ни дети. Ведь эти обязанности не помешали ему весной два месяца путешествовать по Италии и югу Франции.
Однако о подлинных причинах Джефферсон не мог рассказать никому. Он прятал их даже от самого себя. Не называл словами. Когда пришло известие о том, что Полли плывёт в Англию, он честно стал готовиться к поездке, составлял подробные инструкции для остающегося в посольстве Уильяма Шорта. Но потом в его сознании всплывала Мария Косуэй. Он представлял себе, как окажется с ней в одном городе, может быть, в получасе ходьбы — и что? Нанести светский визит и удалиться? После всех нежных писем, летавших между ними в течение восьми месяцев? Или добиваться тайных свиданий? Опять прятаться от мужа? Улыбаться ему при встречах в лондонских гостиных, говорить любезности?
Десятки его знакомых во Франции вели себя именно так и не видели в этом ничего зазорного. Лафайет, например, купался в своих любовных увлечениях при живой жене, которую ценил и обожал. Джефферсон и рад был бы принять парижские правила куртуазной игры, но чувствовал, что нет, не может. Скрытность и лицемерие были профессиональной необходимостью для политика и дипломата. Но личную жизнь он мечтал оставить царством правдивости, подлинности, любви.
Ах, если бы Мария сумела вырваться и приехать в Париж без мужа!
Вернувшись из своей весенней поездки, Джефферсон послал ей письмо, в котором сравнивал увиденное с Элизиумом.
«Почему Вас не было со мной?! Чарующие пейзажи проплывали перед моими глазами, они только ждали, чтобы Ваш карандаш увековечил их. Как Вы прожили эти месяцы? Когда приедете к нам? Утратить Вас совсем было бы для меня просто несчастьем. Приезжайте, и мы будем завтракать каждый день по-английски, гулять в парке Дезерт, обедать в беседках Марли и забудем о том, что нас ждёт новое расставание».
Мария жила в одном городе с Адамсами. Джефферсон не мог бы ответить на вопрос, почему он никогда не делал попыток свести её со своими близкими друзьями. Предчувствовал, что их знакомство внесёт новый клубок скрытности и неискренности? Ведь даже его отношения с Абигайль Адамc порой окрашивали неизбежным оттенком фальши его дружбу с её мужем. О да, ему и Абигайль не в чем было упрекнуть себя. Ни в словах, ни в письмах, ни в случайных касаниях они ни разу не перешли границ пристойного. Но ведь в помыслах своих человек не властен над собой. И в те недели, когда он жил в лондонском доме Адамсов весной прошлого года, засыпая, он не мог усмирить своё воображение и не думать о том, что происходит рядом в супружеской спальне. Правильно говорил Христос: «Кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своём».
Полли удалось быстро устроить в школу-пансион, и обе дочери вскоре покинули особняк Ланжак. Для Салли отвели комнату в мезонине, и дворецкий Пети на смеси французского и английского разъяснял ей обязанности горничной по уходу за бельём, скатертями и простынями. В выходные появлялся Джеймс и уводил сестру показывать ей парижские чудеса. Особенный восторг у неё вызвал театр итальянских марионеток в Пале-Рояле и восковые фигуры в салоне Куртиуса. В просторном доме Джефферсон сталкивался с ней нечасто, но облик девушки с лицом утраченной жены поселился в его душе как тёплый, негаснущий огонёк.
А потом случилось то, на что он уже не смел надеяться: Мария решилась, вырвалась из Лондона и приехала в Париж одна!
Целый год её существование воплощалось для него лишь в виде строчек писем, и он успел забыть, как ослепительно красиво её лицо, как нежен звук голоса, как изящны движения рук, шеи, бровей. Его сердце наконец сумело заглушить предостерегающий бубнёж зануды-разума, и он сделал всё, что полагалось провернуть опытному парижскому ловеласу: придумал десятки поводов для того, чтобы исчезать из посольства, запасся наличными деньгами для всяких внезапных трат, снял отдельную квартирку в безлюдном квартале за Булонским лесом. Мария приезжала к нему туда в сумерках, и они кидались в объятия друг друга так безоглядно, будто судьба сделала им подарок — вернула в далёкую неумелую юность.
Вспоминая сейчас, в холодном декабре, те жаркие сентябрьские дни, Джефферсон жалел, что муза поэзии облетела его стороной. То, что происходило между ними в неверном свете единственной свечи, не могло быть воссоздано обычной речью. Опять душа его соприкасалась с чем-то, чему люди ещё не сумели подобрать названия. Невыразимость отступала лишь тогда, когда Мария, блестя обнажёнными плечами, выпрыгивала из кровати, подбегала к клавикордам и наигрывала для него какую-нибудь мелодию из входившего в славу Моцарта или пыталась нащупать — уловить — собственную музыкальную тему, только что промелькнувшую в её распалённом сердце.
В этот приезд она поселилась в получасе езды от Парижа, на вилле своей приятельницы, польской княгини Изабеллы Любомирской. Джефферсон был знаком с княгиней, бывал в её салоне, но теперь предпочитал вызывать Марию на свидание записками, отправленными с посыльным. Они оба вели себя осторожно, старались не показываться на людях вместе, никому не рассказывали о своём романе. Однако само их отсутствие начало вызывать подозрения друзей и знакомых. Джон Трамбалл прислал из Лондона встревоженное письмо:
«Вы, конечно, видитесь с миссис Косуэй. Умоляю, передайте ей, что прошло уже три доставки почты из Франции и ни один из её друзей не получил от неё ни строчки. Они не только сердятся на неё, но и умирают от беспокойства, не вызвано ли это молчание болезнью или несчастным случаем. Мне поручено серьёзно побранить её».
Джефферсон ответил шутливо, прося отложить все упрёки до того момента, когда он изобретёт бранящую машину-автомат, потому что нормальное человеческое сердце не может выражать осуждение в адрес столь замечательной особы, как миссис Косуэй. Мария всё же сочла, что её отсутствие в парижских салонах слишком затянулось и становится подозрительным. Она понемногу стала выезжать, навещать старинных друзей, принимать их в доме княгини.
В октябре свидания в квартире за Булонским лесом сделались реже. Если Джефферсон и Мария встречались на людях, они обменивались двумя-тремя фразами и расходились. Оказываясь наедине, были по-прежнему нежны и заботливы, но оба, не сговариваясь, обходили молчанием вопрос: «А что будет дальше?» Задать этот вопрос вслух означало бы снова дать права зануде-разуму — и что можно было услышать от него в ответ?
«Ну хорошо, она скажет тебе “да”, согласится нарушить моральные основы своей веры, решится на развод с мужем, уедет с тобой в Виргинию. Ты нарушишь клятву, данную умирающей жене, женишься на ней, сделаешь её хозяйкой Монтичелло. Что ждёт вас там — двух клятвопреступников? Ты обожаешь радовать и одаривать тех, кого любишь, — чем ты сможешь одарить блистательную светскую красавицу посреди гор и лесов? Не впадёт ли она в безнадёжную тоску на второй, на третий месяц? Не начнёт ли осыпать тебя упрёками за то, что ты оторвал её от друзей, от театров, от концертов, от выставок? При твоей открытости чувству вины как ты будешь жить с женщиной, чей взгляд и голос будет наполнен неумирающей горькой укоризной?»
В начале ноября чувство вины вдруг пронзило его во сне — но не по отношению к Марии. Ему приснилась Марта с ребёнком на руках, которого она пыталась поить какой-то микстурой из пузырька. Ребёнок был явно болен, но они не знали, чем именно.
Он проснулся в страхе и отчаянии.
Боже, как он мог забыть об этом!
Рассвет едва тронул крышу особняка Ланжак, а ему уже вывели из стойла коня, и он скакал по дороге, ведущей на восток от Парижа. Год назад ему довелось познакомиться со знаменитым доктором Даниэлем Саттоном и посетить его в лечебнице, устроенной им неподалёку от кладбища Пер-Лашез. Дорогу он помнил хорошо, здание нашёл без труда.
Семейство врачей Саттон прославилось в Англии своими успешными прививками оспы. В среднем у них тяжело заболевал или умирал один пациент из ста — это считалось очень хорошим результатом. Они стали так знамениты, что их вызвали во Францию к постели умирающего короля Людовика XV, но было уже поздно. Даниэль Саттон остался и создал клинику, в которой уже побывало много знатных и богатых пациентов. После прививки полагался карантин на 40 дней. Питание больных тоже подчинялось строгим правилам и считалось частью лечебного процесса.
Доктор Саттон вышел в приёмный покой, чтобы лично приветствовать американского дипломата. Во время первой встречи Джефферсон понял, что его любознательности придётся довольствоваться крохами информации — врачи прятали свои методы под покровом секретности. Но всё же ему удалось разузнать, например, что по сравнению с другими медиками они резко сократили применение ртути в послеоперационных лекарствах. Это показалось ему разумным, потому что на симптомы ртутного отравления жаловались несколько его знакомых, сделавших прививку у других врачей.
— Мистер Джефферсон, чем я обязан столь приятному визиту? Насколько я помню, вы смело привили себе оспу уже 20 лет назад, когда это даже в Англии считалось попыткой нарушить волю Всевышнего. А-а, пришла пора подвергнуться процедуре вашей юной родственнице, приехавшей из Америки? Очень хорошо. Как раз через два дня мы выписываем одну пациентку и её комната будет свободной. Юная особа не говорит по-французски? Это не беда. Половина наших санитарок англичанки. К сожалению, по нашим правилам плату мы должны получить вперёд. В американской валюте это будет стоить вам 40 долларов. Под каким именем я должен записать пациентку в журнал? Салли Хемингс? Прекрасно. Ждём её через два дня.
Джефферсону с трудом удалось сохранить невозмутимость, когда он услышал, во что обойдётся вакцинирование. Долги, висевшие на посольстве и на нём лично, росли неумолимо. Вряд ли конгресс согласится покрыть этот расход. В клинике для титулованных особ свои расценки. Он мог бы это предвидеть. Придётся, видимо, заплатить из своего кармана. Но не мог же он допустить, чтобы эта девочка — перевоплощённая Марта — осталась беззащитной перед страшной болезнью.
Джефферсон попросил Джеймса подготовить сестру, заверить её, что будет не очень больно и совсем неопасно. Действительно, Саттоны научились делать такой маленький надрез на руке, что многие пациенты едва замечали его. Всё же в карете, ехавшей в Пер-Лашез, Салли была непривычно молчалива, держалась напряжённо, сжимала в пальцах кружевной платочек, подаренный Пэтси. Только в уютной приёмной с пёстрыми занавесками она немного расслабилась. А когда им навстречу вышла добродушная санитарка, заговорила по-английски и приветствовала новую пациентку положенным книксеном, Салли чуть не прыснула. Белая санитарка присела перед ней? Такого с ней ещё не случалось.
Джефферсон и Джеймс помахали ей вслед, брат обещал писать не реже раза в неделю.
Несколько дней спустя в кабинет Джефферсона зашёл встревоженный Уильям Шорт. Он положил на стол досье в кожаной папке, начал доставать принесённые бумаги.
— Сэр, наконец мне удалось найти в парижском суде толкового клерка, которого я смог осторожно расспросить о их правилах и законах, касающихся невольников, приехавших в страну. Как вы знаете, рабство во Франции запрещено. Если какой-то иностранец привезёт с собой раба, этот раб имеет право подать в суд петицию об освобождении и суд в девяти случаях из десяти эту петицию удовлетворит без долгих проволочек.
— Интересно было бы узнать, на каком языке должна быть написана петиция.
— О, в Париже проживает много освободившихся таким образом рабов, владеющих французским, которые с готовностью помогут своему собрату. Также и среди парижан много идейных противников рабства. Ваш друг Лафайет, я знаю, писал Вашингтону, призывая его приложить все силы к отмене рабства в Америке, жертвовать деньги на создание государства освобождённых негров в Африке или Вест-Индии.
— Вас тревожит, что брат и сестра Хемингс могут соблазниться этим шансом получить свободу?
Не только это. Оказывается, владелец раба, привезённого им во Францию, обязан безотлагательно зарегистрировать его в канцелярии муниципалитета. Уклонение от этого правила карается огромным штрафом — три тысячи ливров. Мы не зарегистрировали ни Джеймса, ни Салли. Это может вам обойтись в потерю шести тысяч. Если я правильно помню, ровно столько вы платите в год за аренду этого особняка.
Джефферсон задумчиво листал лежащие перед ним бумаги с отпечатанными текстами правил.
— Дорогой Уильям, вы знаете моё отношение к институту рабовладения. Если бы я увидел реальную возможность немедленно покончить с ним, я бы тут же присоединился к движению аболиционистов. Но эти близорукие идеалисты, призывающие сегодня же освободить невольников, имеющих профессию, не хотят видеть, что каждая плантация представляет собой цельный организм, питающий своими трудами не только белых хозяев, но также чёрных малышей и стариков. Что станет со старыми и малыми, если все работоспособные вдруг покинут поместье? Вашингтон рассказывал мне, что его Маунт-Вернон уже перестал приносить доход: всё, что выращивается там, идёт на поддержание жизни чёрных. Если бы у него не было земель, сдаваемых в аренду, ему не на что было бы жить.
— Да, та же проблема встанет и перед вами, когда вы вернётесь в Виргинию. Но что вы решите сейчас в отношении Хемингсов? Будете рисковать и дальше, не регистрируя их как положено?
— Не знаю. Мне нужно подумать. Что-то в душе противится, мешает подчиниться такому вторжению государства в мою жизнь. Но, конечно, я очень благодарен вам за то, что вы разузнали всё это для меня, поставили в известность.
Несколько раз Джефферсон навещал Марию в доме её приятельницы княгини Любомирской. Иногда Мария опаздывала к назначенному часу, и тогда он имел возможность побеседовать с хозяйкой дома. Его необычайно занимали её рассказы о трагической судьбе Польши в последние десятилетия. Страна, которая в XVII веке была империей, простиравшейся от Балтийского моря до Чёрного, в веке XVIII постепенно хирела, терпела поражения в войнах, теряла территории, которые переходили под власть грозных соседей: Пруссии, Австрии, России. В чём же была причина?
Княгиня считала, что главная причина ослабления её страны — старинное «право вето», позволявшее любому члену правящего сейма наложить запрет на предлагаемый закон, даже если все остальные считали его абсолютно необходимым. Джефферсон слушал её с огромным интересом, потому что и Америка в те месяцы стояла перед решающим политическим выбором: какую меру независимости оставить отдельным штатам, какой мерой власти наделить центральное правительство? Проект конституции, выработанный летом на съезде в Филадельфии, был разослан для утверждения в штаты, и друзья держали его в курсе кипевших дебатов. Выбираемый на долгий срок президент — разве это не аналог выбираемого польского короля? И к чему эта система привела Польшу сегодня?
— Пятнадцать лет назад три европейские империи вели свои войны на польской земле: Пруссия Фридриха Великого, Австрия императрицы Марии Терезии и Россия Екатерины Второй, — рассказывала княгиня. — Кто победил, осталось неясным, но кто проиграл, было очевидным — Польша. Она потеряла треть своей территории, которую разделили между собой жадные соседи. Тем не менее наш король Станислав Второй пытался провести много важных реформ. Поверьте, я хвалю его не потому, что он мой кузен, а потому что он искренний и убеждённый проводник идей Шарля Монтескье, Эдмунда Бёрка, даже вашего Джорджа Вашингтона. В союзе с сеймом он увеличил число гимназий и университетов, отменил право вето, разработал конституцию. Однако всё это пришлось не по вкусу русской императрице, и она грозит новым вторжением.
— Как странно! — удивился Джефферсон. — Французы считают её такой просвещённой государыней. Она переписывалась с их философами, пригласила в свою страну десятки европейских учёных.
— О, эта дама умеет пустить пыль в глаза. Её когти всегда спрятаны в дорогих русских мехах. На словах она требует от Польши установления веротерпимости по отношению к некатоликам: протестантам, православным, евреям. На деле же, после страшного восстания казаков на Урале, она боится любого дуновения свободы из соседней страны. Что произойдёт, если русские помещики последуют примеру польских и начнут массами отпускать на волю своих крепостных?
Если разговор уходил от политических тем и возвращался к светской жизни в Париже, Джефферсон порой не мог удержаться от жалоб на Марию, которая всё больше времени тратила на встречи с друзьями и знакомыми, на посещения выставок и спектаклей. Ему хотелось бы занять в её душе столько же места, сколько она занимала в его душе. Каждая её отговорка — «ах, я уже обещала вечер среды провести у графини» — «ох, мы с друзьями должны быть на приёме у английского посланника» — вызывала в нём укол ревности.
Княгиня сочувствовала ему и осторожно объясняла жизненные трудности Марии:
— Поймите, её зависимость от мужа не имеет границ. Он распоряжается деньгами, их дом и дорогие коллекции в нём — его собственность. Стоит ему прекратить ежемесячные субсидии, и она окажется в положении нищенки. У неё была надежда во время этого приезда в Париж получить заказы от друзей на портреты, но из этого ничего не вышло. Даже вы поручили писать портрет Лафайета Трамбаллу, а не ей.
— Но я не распоряжаюсь этими деньгами. Их присылает конгресс с подробными инструкциями. Я только могу порекомендовать того или иного художника.
— Это я понимаю. Но порекомендовали ли вы хоть раз Марию Косуэй?
Джефферсон смущённо умолк. Но вечером, оставшись в спальне один, учинил себе строгий допрос. «Почему ты этого не сделал? Считаешь Марию недостаточно талантливой? Или боишься, что выплывут ваши отношения? И тебя обвинят в выплате казённых денег собственной возлюбленной?»
За три прошедших месяца первоначальный пожар их романа заметно ослаб, подёрнулся пеплом сомнений. Радовать и одаривать чем-то тех, кого он любил, было для Джефферсона главным счастьем в отношениях с людьми. Но даже необъятный Париж с его прелестными окрестностями, похоже, исчерпал себя. В нём не осталось чудес, которыми можно было поделиться с Марией. Джефферсону казалось, что Мария ищет в нём не только страстного возлюбленного, но и рыцаря-спасителя, который мог бы вызволить её из тюрьмы безрадостного супружества. Но был ли он готов — способен на такой подвиг? Созрел ли для того, чтобы поставить любовь выше долга — перед дочерьми, перед близкими, перед тенью покойной жены, перед страной, наконец? Скандальный роман американского посланника с замужней иностранкой — на такую поживу накинулись бы газеты всех европейских столиц.
И когда Мария сообщила ему, что муж решительно потребовал её возвращения в Лондон и что отъезд назначен на 6 декабря, он не произнёс тех слов, которые она, наверное, ждала от него. Вместо них он стал говорить о том, что физическая разлука не сможет порвать невидимую связь их сердец. Что любовь навеки сковала их души и они будут хранить память друг о друге как святыню. И ждать, когда судьба снова подарит им счастье свидания. А пока он отложит все срочные дела, чтобы утром в день отъезда позавтракать с ней в ресторане и потом проводить, проехав в её карете до Сен-Дени.
Подъезжая утром 6-го к вилле княгини Любомирской, Джефферсон испытывал грусть, под которой еле слышно журчал ручеёк облегчения. Да, эта женщина была прелестна, неповторима, обворожительна. Но при этом слишком непокорна. Чтобы идти навстречу её порывам и желаниям, ему постоянно приходилось делать усилия над собой, в чём-то ограничивать свою свободу. Лучше будет, если она останется в его жизни далёкой мечтой, смутной надеждой, строчками надушенных писем. Писатель Стерн в своём «Сентиментальном путешествии» показал своим читателям, как можно любить на далёком расстоянии. Почему бы не последовать его примеру?
Княгиня сама вышла встретить его в гостиной. Она выглядела смущённой, взгляд её был полон сочувствия.
— Мария уже уехала, — сказала она. — Просила её извинить, оставила вам письмо.
Ошеломлённый Джефферсон с трудом распечатал конверт, не сразу смог поймать взглядом неровные строчки:
«У меня нет сил позавтракать с Вами завтра. Попрощаться один раз было достаточно больно. Я уезжаю в глубокой печали. То, что Вы отдали все заказы на портреты Трамбаллу, а не мне, показывает, насколько я Вам не нужна, насколько не могу быть полезной. А мне так хотелось бы отблагодарить Вас за доброе отношение ко мне».
Джефферсон читал и чувствовал, как разочарование и досада в его душе стремительно вытесняются гневом и возмущением. Ах вот вы как! После всего, что было между нами?! Ни слова любви, одни упрёки? Прав — о, как прав был мистер Разум, когда поучал: «Заглатывать наживку удовольствия, не проверив, нет ли в ней крючка, — самое опасное дело на свете». Да и чего можно было ждать от англичанки? Все они бездушные лощёные манекены, умеющие прятаться за соблазнительными маскарадными масками.
Княгиня что-то говорила в утешение. Он кивал, бормотал извинения, откланялся.
Теперь нужно было направить все силы на то, чтобы забыть непредсказуемую и непокорную. Заняться запущенными дипломатическими проблемами. Ответить на письма Адамсу, Мэдисону, Вашингтону.
На Рождество он забрал дочерей из школы, для Пэтси устроил выезд на костюмированный бал.
Под Новый год пришло письмо из клиники доктора Саттона, извещавшее, что Салли Хемингс перенесла прививку хорошо, что срок обязательного карантина закончился и её можно забрать домой.
Джефферсон решил поехать за девочкой сам.
Когда она вышла к нему в приёмную, он снова на секунду был ошеломлён её сходством с покойной Мартой. Семя любвеобильного отца, возрождающее один и тот же облик в дочерях, — кто может постичь это очередное чудо Творца?!
В карете Салли была оживлена, охотно отвечала на вопросы любознательного хозяина.
— Да, кормили там вкусно, но по строгим правилам: только пудинги, овощи, фрукты, каши. Никакого мяса или рыбы. Я так соскучилась, как приедем, побегу к Джеймсу на кухню и схвачу баранью котлету прямо со сковородки. Или кусочек poulet. To есть курицы. Да, французских слов я поднабрала сотни две. Скоро начну забывать английские. Ещё заставляли много гулять. Говорили, что это помогает выздоровлению.
— Доктор Саттон хранит свои методы в секрете. Когда мы вернёмся в Виргинию, американские врачи, наверное, накинутся на тебя с расспросами.
— Главный их секрет, я думаю, один — чистота. Всё моют по двадцать раз в день. Лицо, шею, руки, ноги. Ложки, вилки, тарелки, чашки. А разные блестящие инструменты даже кипятят в кастрюльке.
— Я рад, что процедура прошла благополучно. Ты большая молодец, что не испугалась, поехала без споров, слушалась врачей. Думаю, тебе полагается награда. В ближайшее время дам Джеймсу денег, чтобы он сводил тебя в модную лавку и купил что-нибудь нарядное.
Глаза девочки засияли, но потом она глубоко вздохнула и, словно испуганная собственной дерзостью, спросила:
— Сэр… Масса Томас… А можно?.. Если это разрешено во Франции… Можно я пойду в лавку сама?.. Без Джеймса?.. Я уже знаю дорогу в Пале-Рояль… Мне так хочется подойти к прилавку самой, самой показать на какую-нибудь шляпку и сказать продавщице: «силь ву пле»… А потом самой заплатить!..
Джефферсон, глядя в лицо Салли, светящееся в полумраке кареты, вдруг подумал: «Вот кого бы я мог без труда радовать и делать счастливой каждый день. Не опасаясь капризов, непокорности, непредсказуемости».
Через несколько дней в расходной книге мистера Томаса Джефферсона появилась запись: «Выдано Салли Хемингс 36 франков». Ежемесячная плата Джеймсу Хемингсу была указана отдельно.
24 апреля, 1788
«Милый друг, вернувшись вчера из путешествия по Европе, я получил гору писем, но первым делом отвечаю на Ваше, не открыв другие. Очень мечтал о Вас, находясь в Дюссельдорфе. В их музее видел великолепное собрание картин. Полотна ван дер Верфа врезались мне в память. Особенно прелестно то, на котором Сара вручает Аврааму свою служанку Агарь. Хотел бы я быть на месте Авраама, если только это не означало бы находиться среди умерших в течение последних пяти или шести тысяч лет… Видимо, я просто дитя природы, любящее то, что вижу и чувствую, не задумываясь о том, что явилось причиной моих чувств, и не заботясь о том, имеется ли причина вообще. В Гейдельберге снова мечтал о Вас. Водил по всем садам, держа за руку…»
Из письма Томаса Джефферсона Марии КосуэйВесна, 1788
«Главная разница между старыми статьями конфедерации и новой конституцией состояла в следующем: старая регулировала только отношения между штатами, новая — также между индивидуумами. Люди, пользовавшиеся большим авторитетом в штатных ассамблеях, были не склонны принять правительство, которое, уменьшая роль штатов, могло уменьшить и их влияние. Другие, ожидавшие получить выгодные посты в федеральном правительстве или в подвластных ему учреждениях, имели важные поводы поддерживать новую конституцию. Одни, тревожась об уменьшении свободы при слишком сильном правительстве, возражали против его усиления. Другие, искренне стремясь к величию своей страны, хотели бы слить отдельные штаты в единую нацию. Почти все страсти, бушующие в человеческой груди, выплёскивались в противоборстве “за” и “против” новой конституции».
Дэвид Рэмси. История Соединённых ШтатовМай, 1788
«Дорогой маркиз, конвенция штата Мэриленд ратифицировала федеральную конституцию большинством: 63 против 11. В следующий понедельник соберётся конвент Виргинии. У нас есть надежды на то, что там она будет одобрена, хотя не очень большим числом голосов. Несколько предстоящих недель предопределят судьбу Америки для нынешнего поколения и, вероятно, в большой мере повлияют на общественное благоденствие на века вперёд. Если всё будет проходить в гармонии и взаимном согласии, соответственно нашим желаниям и ожиданиям, я должен признать, дорогой маркиз, что это превзойдёт всё, на что мы могли надеяться ещё 18 месяцев назад. Перст Провидения будет виден в этом настолько, насколько это только возможно в человеческих делах на Земле».
Из письма Джорджа Вашингтона маркизу Лафайету во ФранциюИюль, 1789
«Месье де Корни и пять других депутатов были посланы к коменданту Бастилии с требованием открыть доступ к арсеналам. Перед тюрьмой уже бурлила большая толпа. Депутаты подняли белый флаг, и такой же флаг был поднят на стене крепости. Депутаты уговорили собравшихся отступить, а сами вышли вперёд, чтобы предъявить свои требования коменданту. В это время со стен раздалась стрельба, и четверо в толпе были убиты. Депутаты отступили, а народ пошёл на штурм и очень быстро овладел крепостью, которую защищали сто человек. Нападавшие выпустили узников, забрали всё найденное оружие, а коменданта и его заместителя потащили на Гревскую площадь, где им отрубили головы и с торжеством понесли их по улицам к Пале-Роялю. В Версале некоторое время никто не решался сообщить королю о событиях в Париже. Только ночью герцог Лианкур вошёл в спальню короля и рассказал ему с подробностями о том, что творилось в столице».
Томас Джефферсон. АвтобиографияОсень, 1789
«Сегодня утром повесили пекаря… Он работал всю ночь, чтобы испечь как можно больше хлеба, но толпа обвинила его в сокрытии запасов. Как водится, ему отрубили голову и с торжеством носили её по улицам. Говорят, когда его жена увидела это, она умерла от ужаса. Неужели Божественное провидение оставит такие преступления безнаказанными? Париж нынче представляет собой самое страшное место на земле. Убийства, жестокости, кровосмешение, жульничество, грабежи, угнетение, разгул. И это в городе, который выступил на защиту священного дела свободы. Когда стены существовавшего деспотизма рухнули, все тёмные страсти вырвались наружу. Одному только Небу известно, чем кончится происходящая борьба. Скорее всего, чем-то очень плохим, то есть рабством».
Из дневника американского дипломата Говернера МоррисаСЕНТЯБРЬ, 1789. ПАРИЖ
Вспоминая свои письма в Америку, регулярно посылавшиеся им в течение жаркого парижского лета, Джефферсон порой задавался вопросом: кого он пытался убедить в том, что Французская революция идёт правильным и желательным путём, — своих адресатов или себя? Он словно вернулся в годы юности, обновил в голове все приёмы адвокатского ремесла и со страстью кинулся защищать дорогого его сердцу «клиента»: свободу и счастливое будущее французского народа. Все зверства вырвавшейся из-под контроля толпы должны были найти оправдание в веках деспотизма и угнетения, выпавших на долю этой нации, все отрубленные и поднятые на пики головы заслужили прежними преступлениями свою судьбу — таков был его главный тезис.
После взятия Бастилии политические события в стране понеслись непредсказуемо, как потоки лавы по склонам вулкана. Созванные королём Генеральные штаты изменили название на Национальное собрание и объявили себя верховной властью в государстве. Армия отказывалась подчиняться приказам офицеров. Настойчиво носились слухи о том, что король тайно призвал на помощь наёмников из Фландрии и Германии. Многотысячная толпа голодных явилась из Парижа в Версаль, требовала хлеба и наказания ненавистных министров.
Лафайет был вынесен революцией на пост командующего вооружёнными силами, но и его приказы часто не выполнялись. Каждый день ему доводилось спасать кого-то от рук разъярённой черни, однако это была капля в море. Однажды в его штаб-квартиру ворвалась толпа, только что совершившая самосуд над бывшим интендантом Парижа. Впереди шествовал гордый бунтовщик с трёхцветной кокардой на шляпе, державший в руках вырванное сердце несчастного, другой за ним нёс отрезанную голову.
Всему этому надо было находить объяснения и оправдания. Или не замечать. Или объявлять нетипичными крайностями. Или доказывать, что за великое и святое дело освобождения народа можно заплатить и более высокую цену. Ведь он, Джефферсон, уже откликаясь на восстание Шейса в Массачусетсе, писал друзьям, что дерево свободы необходимо время от времени поливать кровью угнетателей и бунтовщиков. Маленькие восстания в свободной стране должны случаться время от времени, ибо они очищают политическую атмосферу, как гроза очищает воздух. Америка заплатила за свою свободу семилетней гражданской войной. Франция, наученная её примером, может достичь бухты мира и благоденствия гораздо быстрее.
Действительно, пример Соединённых Штатов вдохновлял многих. Французские политики обращались к американскому дипломату за советами, искали его посредничества в своих дебатах. По просьбе одного из депутатов Национального собрания он даже составил краткий проект возможного соглашения между народными избранниками и престолом. В него были включены пункты, предоставлявшие парламенту верховную законодательную власть, право облагать население налогами, командование вооружёнными силами. Роль короля не была ясно обозначена, но открытое устранение монархии не подразумевалось. В обмен на все уступки королевское правительство должно было получить заём в 80 миллионов ливров, который будет покрыт налогами, распределёнными на все сословия.
Да, если на свободный человеческий разум не налагать оков мракобесия и невежества, он неизбежно приведёт нацию к свободе и процветанию. «Перед Национальным собранием сегодня лежит чистый холст, на котором оно может создать такую же картину, какую мы создали в Америке, — писал Джефферсон в одном письме. — Твёрдость и мудрость делегатов внушает надежду. Видимо, они примут конституцию, похожую на английскую, но лишённую её дефектов. Я с таким доверием отношусь к здравому смыслу людей и к их способности управлять своими делами, что пусть меня побьют камнями как лжепророка, если в этой стране не восторжествует разумное начало. И не только в ней. Она лишь первый пример наступления свободы в Европе».
Пока под стенами особняка Ланжак бушевали неуправляемые толпы, внутри, под его крышей тихо протекала незаметная семейная революция, в которой опять все законы и правила разума подвергались испытанию порывами человеческих сердец.
Всё началось полгода назад, на Пасху.
В тот день очередной приступ мигрени заставил Джефферсона отложить том Гиббона, уйти в спальню на два часа раньше обычного. Он сидел на кровати, сжав виски руками, и тихо мычал. Именно таким его застала Салли Хемингс, вошедшая со стопкой свежевыглаженных простыней.
Он поднял на неё глаза и виновато помотал головой. Она положила простыни на кресло, стала перед ним и заговорила укоризненно и убеждённо, тем тоном, каким она обычно говорила с расшалившейся Полли:
— Мама Бетти всегда учила миссус Марту, что так нельзя, нельзя делать. Как только мигрень залезла в лоб через глаза, её нужно гнать немедленно. Никогда не следует давать ей расползаться по всей голове.
— Легко сказать — гнать. А как? Вызвать доктора Саттона?
— Миссус Эппс тоже страдала от этой напасти. И она говорила, что мои руки ей помогают. Я гладила её по вискам, и через пять минут всё проходило. Хотите попробовать? Или опять скажете, что это всё наши суеверия и тёмное шаманство?
— Да хоть бы и шаманство! Я готов пробовать что угодно. Он раздвинул колени, чтобы она могла подойти к кровати
вплотную, нагнул голову. Салли взяла пузырёк с одеколоном, стоявший на столике, смочила ладони. Он ощутил скольжение её прохладных пальцев по коже лба и висков. Они двигались в странном ритме, будто стирали невидимую паутину и потом стряхивали её на пол. Паутина была цепкой, но девочка терпеливо снимала её слой за слоем.
И чудо случилось. Пространство боли, заполнявшей весь череп, начало сжиматься, утекать, слабеть.
Как это могло произойти? Может быть, в её руках таился тот загадочный магнетизм, которым пытался лечить людей доктор Месмер? Ведь и в Библии описаны случаи исцеления путём наложения рук. Не могли эти легенды родиться на пустом месте.
Облегчение было таким явным, радостным, возвращающим к жизни!
Он открыл глаза, увидел близко-близко лицо юной Марты со старательно высунутым кончиком языка. Вспышка острого, непредвиденного счастья пронзила ему сердце с такой силой, что он на несколько секунд то ли потерял сознание, то ли оглох и ослеп.
А когда пришёл в себя, понял, что его губы слились с губами волшебной целительницы. И он не мог вспомнить, кто начал этот поцелуй.
Неужели она?
Осмелилась на такую дерзость?
И дальше они всё делали молча, но в полном согласии.
Любовно и заботливо снимали одежду друг с друга.
Находили спрятанные дары, пускались на щедрый обмен.
Исчез, растворился в сумраке комнаты хозяин-владелец, исчезла рабыня-невольница.
Остались мужчина и женщина. И стали они как одна плоть.
И она вскрикнула от боли, но тут же прижала его к себе, как бы умоляя не пугаться, не останавливаться, не жалеть.
Потом, когда зануда-разум снова обрёл ограниченное право голоса, он вылез с целым списком своих «почему?». Он предлагал сердцу вспомнить всю историю пережитых им влюблённостей и честно спросить себя, почему его всегда тянуло только к женщинам, уже познавшим тайны супружеской жизни, — Бетси Уокер, Марта Скелтон, Абигайль Адамc, Мария Косуэй. Не была ли пережитая им нынче вспышка острого счастья связана с тем, что впервые в жизни ему досталась нетронутая? И если это так, то не пойдёт ли в следующие разы счастье на убыль? (То, что следующие разы будут иметь место, как бы не подвергалось сомнению.)
Но сердце отказывалось слушать зануду. Вскоре разум обиженно удалился в свою башню абстрактных суждений, а сердце отдалось выпавшей ему буре новых, очищающих, волшебных переживаний, как воздушный шар отдаётся возносящим его горячим потокам воздуха.
Радость, переполнявшая Джефферсона, должна была быть разделённой с той, кто дарил её. Но чем он мог порадовать девочку, занесённую судьбой далеко от дома, от родных? Он не мог повести её с собой в театр, в музей, в ресторан, в парк, как водил Марию Косуэй. Только покупка нарядов и украшений не грозила разоблачением, и она сделалась главным источником удовольствия для обоих. В сутолоке больших магазинов не было риска, что кто-то из знакомых узнает его и станет расспрашивать об очаровательной спутнице. Расходная книга запестрела еженедельными тратами, которые никак нельзя было представить для покрытия конгрессу.
Раньше Салли старалась хлопотать в его спальне и кабинете только в те часы, когда он уезжал из особняка по делам, или был занят с гостями, или обсуждал текущие дела с Уильямом Шортом. Теперь Джефферсон придумывал разные предлоги, чтобы оказаться с ней наедине. Её рассказы о жизни в Виргинии, о соседях и родственниках, о новом колодце, который вырыли в Монтичелло на южном склоне, возрождали в нём томительную память о родных местах, обостряли желание — мечту — вернуться туда. И ведь не было ничего невозможного для них в том, чтобы поселиться там вдвоём! Мария Косуэй была несовместима с его любимым горным обиталищем. А Салли была неотделимой частью его, она росла под его крышей, она играла под ветвями груш и яблонь, посаженных им.
В отправленном недавно письме американской приятельнице, сравнивая француженок с американками, Джефферсон уподобил одних амазонкам, других — ангелам. «Вспомните этих парижских дам, как они носятся по улицам в погоне за удовольствиями, кто в колясках, кто верхом, а кто и пешком, ищут своё счастье в бальных залах и на вечеринках, забывая о том, которое они оставили у себя дома в детской. Разве можно сравнить их с нашими соотечественницами, занятыми нежной заботой о своих семьях, умеющих разглаживать морщины политических раздумий на лбах своих мужей?!»
Салли созналась ему в том радужном облаке из разных «как будто», которыми она умела украшать свою жизнь. Но также призналась, что когда она с ним, нужда в «как будто» исчезает. А однажды он вернулся домой после обильных возлияний в доме Лафайета и наутро плохо помнил, как прошла их ночь. И Салли, лёжа рядом с ним в постели, смущённо попросила, чтобы он и впредь называл её так, как в этот раз.
— Да? А как я называл тебя?
— Вы всё твердили: «Агарь! Агарь! Агарь!»
По воскресеньям обе дочери Джефферсона приезжали в особняк Ланжак и либо проводили время с отцом, либо принимали друзей у себя, либо уезжали в гости, на вечеринки, на музыкальные собрания. Пэтси нередко брала с собой и Салли, которую она представляла своим подругам как родственницу из Америки. Талант портнихи в соединении со щедростью хозяина позволял девочке одеваться так, что с ней не стыдно было появиться и в модном салоне. Брат Джеймс занимался французским языком с нанятым учителем, и Салли часто присутствовала на этих уроках. Она быстро превращалась в парижскую мадемуазель, только с лёгким английским акцентом и замечательным ровным загаром — шарман, манифик!
Несчастье грянуло в середине апреля.
Дочери, как обычно, приехали вечером в субботу, но утром к завтраку вышла только Полли.
— А где Пэтси? — встревоженно спросил Джефферсон. — Неужели заболела? Этого нам ещё недоставало!
— Нет, — ответила Полли, не глядя на отца. — Она уехала обратно в пансион.
— Как уехала? Не предупредив, не спросив разрешения, не попрощавшись? Что случилось?
Всё объяснилось через полчаса. Салли вошла в кабинет и, потупив глаза, сказала:
— Пэтси ночью зачем-то спустилась на второй этаж. И увидела, как я выхожу из вашей спальни.
А через три дня мистеру Джефферсону было доставлено письмо. В нём его дочь, Марта Джефферсон, официально извещала его, что в душе её произошёл религиозный переворот, что она приняла решение поступить в монастырь и, так как по правилам католической церкви для этого необходимо разрешение родителей, она просит отца дать согласие на такой важный для неё жизненный шаг.
Прочитав письмо, Джефферсон немедленно вызвал дворецкого Пети, велел закладывать карету. Помчался в пансион, осыпал упрёками директрису: «Так-то вы выполняете обещание не заманивать учениц в католичество!» Забрал обеих дочерей прямо посреди уроков. («За вещами пришлём потом!») Привёз их в особняк Ланжак. Отвёл Марту-Пэтси в свой кабинет, посадил перед собой, взял за руки и обрушил на её голову краткий курс по истории Церкви, к которой она захотела присоединиться.
Крестовые походы, кровавые бесчинства на пути, массовые убийства православных христиан в захваченном Константинополе. Перед штурмом Тулузы, укрывшей еретиков-катаров, солдаты спрашивали священников, как им отличить еретиков от католиков. «Убивайте всех, — отвечали те, — Бог отличит своих от чужих». Пытки инквизиции. Позорная торговля индульгенциями. Сонмы сожжённых заживо, скорбные тени Яна Гуса, Иеронима Пражского, Джордано Бруно и тысяч безвестных жертв религиозного мракобесия.
— А вот что они творили здесь, во Франции, каких-нибудь сто лет назад!
Он вскочил со стула, достал с книжной полки том воспоминаний герцога Сен-Симона, начал читать:
— «Отмена Людовиком XIV Нантского эдикта, предоставлявшего гугенотам право открыто исповедовать свою веру, лишила королевство четвёртой части народонаселения, разорила торговлю и ослабила государство во всех частях, надолго отдала население на открытое и официально разрешённое разграбление вооружёнными отрядами драгун; дозволила истязания и пытки, от которых умерли тысячи людей обоего пола, растерзала целый мир семейств, обрекая обобранных на голодную смерть… Глазам всех предстало ужасное зрелище целого народа изгнанников и беглецов, выброшенных на улицу, хотя и не совершивших никакого преступления… Знатные, богатые, старцы, люди обеспеченные, слабые, не привыкшие к лишениям, были осуждены грести на галерах и страдать от бича надзирателя исключительно за религию…»
Поставив на место том Сен-Симона, Джефферсон извлёк другую книгу, потоньше.
— Вот здесь великий Вольтер описал, что они проделали с невинным жителем Тулузы, протестантом Жаном Каласом, каких-нибудь 25 лет назад. Его взрослый сын покончил с собой, но отцу и другим членам семьи предъявили обвинение в убийстве. Они якобы хотели воспрепятствовать переходу молодого человека в католицизм. Так как доказательств не было, обвиняемого подвергли пыткам. Сначала растягивали на дыбе. Потом вливали в него горячую воду кувшин за кувшином. Потом привязали к колесу на площади и железными прутьями перебили руки и ноги. Но несчастный всё равно вопил о своей невиновности.
Джефферсон прекрасно понимал, что одними разоблачениями католицизма ему не удастся отвоевать сердце дочери, вернуть ей интерес к радостям светской жизни. По его просьбе друзья и знакомые стали засыпать Пэтси приглашениями на балы и вечеринки, маскарады и театральные премьеры. Конечно, весь этот вихрь развлечений требовал новых нарядов, и счета от модных и ювелирных лавок начали расти в апреле и мае стремительно. Для Салли на несколько недель была под предлогом обучения снята комната в доме мадам Дюпре, владелицы прачечной, обслуживавшей особняк Ланжак.
Джефферсону были понятны чувства его дочери, он видел душевную смуту её матери, Марты Вэйлс-Скелтон, которой надо было как-то уживаться с греховным увлечением своего отца, жить бок о бок с его цветными отпрысками, о которых, конечно, знали и судачили все родные и знакомые. Ощущал ли он себя виноватым? Готов ли был расстаться с новым, доставшимся ему счастьем, чтобы избавить дочь от таких же переживаний? Когда зануда-разум снова и снова задавал ему этот вопрос, сердце снова и снова отвечало ему: «Нет. Не отдам. Ни за что. Не откажусь. Буду сражаться до конца за обеих».
В конце августа наконец пришло долгожданное известие: американский конгресс разрешал своему посланнику поехать на родину в заслуженный — после пяти лет! — отпуск. Во время его отсутствия дипломатические функции будет выполнять секретарь посольства мистер Шорт.
Начались предотъездные хлопоты, поиски подходящего корабля, упаковка багажа. Горы ящиков, сундуков, баулов росли во всех комнатах и залах особняка Ланжак, грузчики постепенно увозили их на склад транспортной конторы. Любимые вещи будто нарочно попадались на глаза хозяину и печально спрашивали: «Неужели ты готов расстаться со мной?»
Нет, как правило, он не был готов.
Список предметов, увозимых за океан, делался всё длиннее. Кровати, матрасы, стенные часы, одежда и обувь, клавикорды и гитара для Пэтси, ящики с вином, сыром, чаем, картины, бюсты, вазы. Отдельный список перечислял саженцы: два пробковых дерева, четыре абрикосовых, белая фига, пять лиственниц, четыре груши, три итальянских тополя и множество других кустов и растений.
Лафайет, отчаянно пытавшийся примирить враждующие фракции в Национальном собрании, вдруг обратился к Джефферсону с просьбой устроить в посольстве прощальный обед для узкого круга депутатов, ещё способных слушать аргументы друг друга.
— И ваш личный авторитет, и пример американцев, сумевших утвердить конституцию, многим внушает надежду, — говорил он. — Споры кипят вокруг того, какую меру власти оставить королю. Умеренные монархисты считают, что он должен иметь право вето, республиканцы настаивают на том, чтобы Национальное собрание могло отменять королевское вето абсолютным большинством голосов. Но радикальные газеты Марата и Демулена вопят о том, что всякий депутат, который проголосует даже за ограниченное право королевского вето, должен быть объявлен предателем нации.
За столом собрались восемь депутатов. Правила вежливости соблюдались, но некоторым это давалось нелегко. Шеф-повар Джеймс Хемингс превзошёл себя. Средиземноморский суп буйабес вызвал одобрительные покачивания напудренных голов. Jones deporc braises, или свинина, тушенная в сидре, прервала горячую дискуссию о независимости судебной власти. Мексиканские бобы и флоридские авокадо увели беседу в сторону необходимости трансатлантических связей. Ананасное мороженое на десерт почти сгладило противоречия между сторонниками союза с Испанией и поклонниками прусского короля. Но, увы, на следующий день все гости американского посланника, вернувшись на скамьи Национального собрания, возобновили свои споры с прежним ожесточением.
Джефферсон сидел в кабинете над багажными списками и раздумывал, хватит ли у него духа расстаться с любимым фаэтоном, когда в дверь постучали. Он поднял глаза на вошедших, и сердце у него сжалось в тоскливом предчувствии.
Джеймс Хемингс выступил вперёд, почти заслонив оробевшую Салли, и выпалил, видимо, заготовленную, много раз отрепетированную тираду:
— Масса Томас, сэр, мы очень благодарны вам за то, что вы для нас сделали, всегда будем помнить вашу доброту, но мы решили не возвращаться в Виргинию. Здесь мы свободны, а там нам придётся вернуться в неволю. Я получил место повара в богатом доме, для начала нам хватит моего жалованья на двоих. А потом Салли тоже найдёт место горничной. То, что она знает два языка, даёт ей большое преимущество. Не сердитесь на нас, сэр. Пожалуйста. Силь ву пле.
Джефферсон, стараясь не выдать свою растерянность, вглядывался в лица брата и сестры. Помолодевший Джон Вэйлс, помолодевшая, воскрешённая Марта. За прошедшие два года он так сжился с обоими, что ощущал их членами своей семьи. Разве мог он ожидать такого удара, такой измены от родных людей? Но ведь Уильям Шорт предупреждал его, насколько возможен подобный вариант. И разве сам он не прославлял свободу в своих писаниях и речах, разве не объявлял её главным даром Творца человеку?
— Джеймс, я вижу, что твоё решение хорошо обдумано и вряд ли ты откажешься от него. Не в моей власти помешать тебе. Хотя ты знаешь меня давно и знаешь, что я всегда выполняю свои обещания. Моё слово твёрдо, и оно остаётся в силе: если ты вернёшься со мной в Америку и обучишь брата Питера всему, чему ты научился — заметь, на мои деньги, — у французских поваров, я немедленно дам тебе свободу. Здесь ты навсегда останешься чужаком, тебе не у кого будет искать помощи и защиты в трудную минуту. Чтобы получить постоянную работу, необходимо стать членом соответствующей гильдии, а это очень нелегко и занимает много лет. Так что обдумай всё хорошенько ещё раз. Даю тебе неделю. А теперь иди. Я хочу поговорить с Салли наедине.
Брат оглянулся на сестру, та незаметно кивнула. Он открыл рот, но передумал и вышел, не сказав ни слова.
Джефферсон подошёл к Салли, взял за руку, подвёл к тому же креслу, в котором пять месяцев назад он уговаривал Пэтси, сел перед ней.
— Что случилось? Ты так мечтала о возвращении в Монтичелло, о встрече с мамой Бетти, с сестрами. Или ты усомнилась в моих словах? В том, что я буду заботиться о тебе до конца жизни? Но ты знаешь меня, ты сама говорила, что я настоящий — не «как будто». А что ждёт тебя здесь? Страна бурлит, сами французы не могут быть уверены в завтрашнем дне. Разве смогут они, разве захотят помогать пришельцам?
— Я делаю это не для себя, — тихо сказала Салли.
— Не для себя? Тогда для кого же?
Она взяла его руку, потянула, положила себе на живот.
— Для него. Только представьте себе — он вырастет и скажет мне: «У тебя был выбор. Ты могла родить меня свободным — и не захотела». Каково мне будет слушать его упрёки?
— Боже мой — ты в положении?! Почему же ты мне сразу не сказала?
— Я не была уверена. И боялась, что вы рассердитесь. А теперь… Вы же знаете, Джеймс с детства бредил о свободе. И тут такой поворот судьбы… Он уговорил меня.
Она потупилась, но Джефферсон взял её лицо в ладони и заглянул в глаза.
— Салли, о Салли! Ты боишься упрёков будущего сына, но забываешь, что упрекать сможет только выживший, выросший и заговоривший. Однако, чтобы ребёнок вырос, ему нужен дом, убежище. Какое убежище ты сможешь дать ему в чужой стране, на которую надвигается голодная зима? Я хоронил своих детей, я могу рассказать тебе, какое мучительное чувство вины оставляет в сердце каждая такая смерть. Свобода? Это будет самое большое «как будто» в твоей жизни и самое опасное. Ты не будешь свободна от холода, от болезней, от равнодушия и презрения окружающих, от двуногих хищников, которые станут наперегонки пытаться воспользоваться твоей беспомощностью. Ты спросишь: «А что ждёт меня в Виргинии?» Я опишу тебе, и, зная меня, ты поверишь, что это не просто сотрясание воздуха, а твёрдые, клятвенные обещания.
Дальше пошло легко. Он просто облекал в слова те мечты о жизни в Монтичелло, которые проносились перед ним по тёмному потолку спальни в последние месяцы. Как он будет заботиться о ней, о её детях, о всех её родных, как она ни в чём не будет знать нужды. Как они вдвоём будут обучать своих детей грамоте, ремёслам, музыке, вере в Бога. Как все дети, достигнув совершеннолетия, получат свободу. Как он добьётся от властей штата разрешения всем освобождённым остаться в Виргинии. Конечно, он старше на 30 лет, с ним всякое может случиться. Но сразу по возвращении в Монтичелло он перенесёт все свои обещания на бумагу, и его адвокат будет хранить это завещание, заверенное сургучной печатью. Да, не в его власти изменить законы так, чтобы им можно было пожениться по-настоящему. Но он никогда не забудет, что судьба породнила их по-другому, что она, Салли, сестра его покойной жены.
В конце он просил её обдумать всё хорошенько и отказаться от намерения остаться во Франции. А пока — вернуться к мадам Дюпре, чтобы Джеймс не мог давить на неё и влиять на столь важное — на всю жизнь! — решение.
Потянулись тоскливые дни.
Судоходное агентство слало ему из Англии письма, требуя назначить дату отплытия и указать число пассажиров.
Он не отвечал.
Вдруг вновь потекли нежно-призывные послания от Марии Косуэй. Она упрекала его за долгое молчание, умоляла навестить её в Англии. «Вы уже встретились в Париже с моей дорогой подругой, Анжеликой Чёрч, свояченицей Александра Гамильтона? Если бы я не любила её так нежно, я бы боялась иметь её соперницей. Но нет, я даю Вам разрешение полюбить её всем сердцем, но оставить в нём маленький уголок и для меня — этого мне будет довольно».
С Анжеликой Чёрч Джефферсон встречался не раз прошлым летом, и отношения с ней порой грозили перейти границы обычного салонного флирта. По просьбе обеих дам Джон Трамбалл сделал два его миниатюрных портрета, и к портрету, предназначавшемуся для Анжелики, Джефферсон приложил записку: «Если бы художник был способен изобразить мои дружеские чувства к Вам, ему понадобилось бы огромное полотно». Они обсуждали возможности встреч в Америке. Он звал её посетить его в Монтичелло. Или предлагал забрать её из Нью-Йорка, чтобы вместе отправиться посмотреть Ниагарский водопад. Анжелика подарила ему том «Заметок федералиста», присланный ей сестрой. Ещё не зная, что автором статей был Гамильтон, Джефферсон хвалил ясность ума неизвестного Публия[8] и чёткость его аргументов.
Уличные бесчинства докатились и до квартала, где располагалось посольство. Несколько раз грабители проникали в особняк Ланжак, украли пять упакованных чемоданов. Пришлось установить решётки на окнах, повесить сигнальные колокольчики. Джефферсон обратился в парижскую полицию с просьбой об усилении охраны. Префект только разводил руками, говорил, что его жандармы с утра до вечера заняты тем, что спасают лавочников и пекарей от самосуда толпы. Фигуры повешенных украшали многие уличные фонари. Джефферсон вдруг вспомнил землетрясение, случившееся в Виргинии накануне войны. Невидимый великан, ворочающийся в недрах, — не он ли затаился теперь и под мостовыми Парижа?
Вынужденное безделье оставляло время для раздумий, и ум его всё время возвращался к одному и тому же вопросу: имеет ли одно поколение право навязывать свою волю другому, идущему вслед за ним, выпуская законы и конституции, устанавливая правила владения, наследования, взимания процентов со старых долгов? Или следует стремиться к торжеству принципа: «земля принадлежит живущим»? Тогда любой закон может быть действительным только в течение двадцати лет, после чего новое поколение будет вправе отменить его.
Как всегда, в сложных проблемах ему легче было разбираться с пером в руке. Он попытался изложить свои раздумья в длинном письме Джеймсу Мэдисону. Но вскоре его унесло из сферы чистого теоретизирования в мир конкретных политических страстей сегодняшней Франции. Должны ли французы признавать права аристократии и Церкви на владение землями и угодьями или пришла пора признать эти древние привилегии незаконными?
Пока речь шла о французах, он без труда становился на сторону отмены сословных барьеров. Но когда мысль его соскальзывала на опасно близкую и больную тему, на судьбу белых и чёрных американцев, она начинала терять свою ясность. Он так и не решился уложить в слова то, что мучило его на самом деле: «Почему я должен подчиняться жестоким законам, принятым неизвестными мне людьми за сто лет до моего рождения и сегодня запрещающим мне жениться на сестре моей покойной жены?»
Как это часто бывало в его жизни, вслед за душевной смутой пришла и мигрень. Она сверлила мозг то за левым глазом, то за правым, то разворачивалась в сторону затылка — ему чудилось, что остриё вот-вот может пробить черепную коробку и высунуться наружу. На третий день он сидел за столом, тщетно вглядываясь в газетные строчки, пытаясь разглядеть цифры в статье об остатках муки на складах Парижа. Он не слышал, как открылась дверь, но увидел подол нарядного платья рядом со своим креслом. Поднял глаза.
Салли стояла близко-близко от него, держа в руках сумочку, расшитую бисером. Лицо её сияло. Она достала из сумочки колокольчик, подаренный ей когда-то умирающей Мартой, встряхнула несколько раз. Нежный перезвон прокатился по стопкам связанных книг, по торчащим гвоздям на опустевших стенах, улетел под потолок.
Джефферсон отодвинул кресло от стола, встал, взял её за руки.
— Что случилось? По ком звонит колокол? Мы кого-то хороним?
— Скорее, сзываем на пожар, — сказала Салли загадочно. — Горит имение маркиза Лагрийо. Его подожгли восставшие крестьяне. И маркиз сказал, что с него довольно.
— Кто такой маркиз Лагрийо?
— Это тот богач, который нанял Джеймса на работу без разрешения гильдии поваров. Но теперь он срочно уезжает — или бежит? — в Данию. Повар ему больше не нужен. Так что нам с братом придётся вернуться в Виргинию.
Ошеломлённый — ликующий — измученный — Джефферсон мог только притянуть её к себе, прижаться щекой к её лбу и повторять:
— Это судьба! Ты видишь — это судьба хочет, чтобы мы были вместе! Агарь! О моя Агарь!..
Потом был сеанс решительного — и успешного! — изгнания мигрени шаманско-магнетическими трюками.
Потом — страстное слияние истосковавшихся друг по другу мужчины и женщины.
А через два часа месье Адриан Пети уже скакал в почтовое отделение со срочным письмом в судовую контору, в котором мистер Томас Джефферсон точно указывал, сколько кают и спальных мест ему понадобится на корабле «Клермонт», отплывающем в Норфолк, штат Виргиния: «Одна каюта для меня и моего слуги, другая — для двух моих дочерей, семнадцати и одиннадцати лет, и их служанки шестнадцати лет; всего пять кроватей».
Октябрь, 1789
«Ночью королева Антуанетта была разбужена возгласом часового, стоявшего у её двери, который призывал её спасаться бегством. В тот же момент он был зарублен. Королева едва успела выбежать из спальни через потайную дверь, как толпа бандитов ворвалась туда и начала протыкать штыками и саблями ещё тёплую постель. Потом король, королева и их дети были вынуждены покинуть свой дворец, залитый кровью, загаженный, разграбленный, заваленный отрубленными частями человеческих тел. Их всех отвезли в столицу, где поместили в старый дворец, превращенный в Бастилию для королей».
Эдмунд Бёрк. Заметки о Французской революцииДекабрь, 1789
«Наш корабль прибыл в Норфолк 23 ноября. Оттуда я направился домой, но провёл несколько дней в имении моих родственников Эппсов. Именно там я получил письмо от президента Вашингтона, содержавшее приглашение занять пост министра иностранных дел в его правительстве. В ответном письме я писал, что хотел бы уйти из политической жизни и посвятить себя дому, друзьям, семье, но если он считает, что мне следует пожертвовать своими желаниями для общественного блага, я приму его предложение. Второе письмо застало меня уже в Монтичелло месяц спустя — генерал Вашингтон настоятельно просил меня занять пост в его кабинете. Я вынужден был согласиться».
Томас Джефферсон. АвтобиографияЯнварь, 1790
«Александр Гамильтон, директор казначейства, сделал доклад палате представителей конгресса о необходимости упрочения кредита. Он говорил красноречиво и в то же время ясно аргументировал, описывая свой план. Кроме консолидации долгов различных штатов было предложено создание общенационального банка. Эта мера встретила серьёзную оппозицию. Одни подвергали сомнению полезность банковской системы; другие критиковали детали, но главным образом подвергали сомнению право конгресса учреждать общенациональную финансовую корпорацию».
Дэвид Рэмси. История Соединённых ШтатовАпрель, 1790
«Дорогой папа, я очень надеюсь, что ты не изменишь своего решения посетить Виргинию этой осенью. Моё счастье не может быть полным без тебя. Мой муж полностью разделяет мои чувства. Я учусь во всём выполнять его желания, и в этом плане всё остальное отступает на второй план, за исключением моей любви к тебе».
Из письма дочери, Марты Рэндольф Джефферсон, отцу в Нью-ЙоркЛето, 1792
«Целую неделю по Парижу катилась волна бессудных убийств, унёсшая тысячи жизней. Началось с того, что две или три сотни священнослужителей были казнены за то, что отказались принести присягу, положенную по новому закону. Мадам Ламбаль была обезглавлена, её голову и внутренности парадно носили на пиках по улицам. Вчера в Версале казнили пленников, доставленных из Орлеана. Стража была послана, чтобы арестовать герцога Ларошфуко. Его везли в Париж вместе с женой и матерью, когда толпа напала на карету и убила его».
Из письма Говернера Морриса ДжефферсонуСЕНТЯБРЬ, 1792. ШАРЛОТТСВИЛЛ, ВИРГИНИЯ
Пока ехали вдоль реки по вымощенной новым булыжником дороге, цокот лошадиных копыт порой заглушал слова и заставлял собеседников переспрашивать друг друга. Но потом всадники свернули на тенистую лесную тропу, лошади перешли на шаг и беседа потекла спокойнее.
— Прошлой весной мы с мистером Мэдисоном совершили путешествие в Вермонт, — рассказывал Джефферсон. — Не могу описать вам нашего восхищения богатством и каким-то спокойным величием тамошней природы. Уверен, что когда-нибудь прогресс науки и особенно ботаники сделает возможным, чтобы и в наших краях прижились и сахарный клён, и серебристая ель, и белая сосна. Ведь на взгорьях у нас и температурный режим, и количество осадков мало отличаются от условий Новой Англии.
— Вот и займитесь этими научными изысканиями, — сказал Томас Белл. — Будет прекрасный повод, чтобы оставить столичную жизнь и вернуться в родные места.
— Я ли не мечтаю об этом! Уже не раз обращался к президенту с просьбой об отставке. Но он настоятельно просит меня не покидать пост. А я не в силах ни в чём ему отказать.
Знакомство Джефферсона с мистером Беллом началось заочно, ещё во время пребывания в Париже. Управляющий написал ему, что один джентльмен, переехавший в Шарлоттсвилл из Нью-Джерси и открывший большой магазин, хотел бы арендовать невольницу на роль домоправительницы. Нет, он хочет не какую-нибудь, а ту, которая приезжала из Монтичелло несколько раз в магазин за покупками, — Мэри Хемингс. Да, он знает, что у неё четверо детей, и не намерен разлучать её с ними. Да, Мэри выразила согласие поступить на службу. Причитающееся ей жалованье наниматель будет выплачивать в пользу владельца Монтичелло.
При личной встрече мистер Белл чем-то напомнил Джефферсону Джона Адамса, только увеличенного вдвое во всех размерах. Другое отличие: широкая улыбка так часто освещала лицо выходца из Нью-Джерси, что казалось — в какой-то момент она может приклеиться к нему навсегда. Томас Белл очень интересовался политикой, он выписывал «Нэшнл газетт», открытую в Филадельфии поэтом Френо при поддержке министерства иностранных дел, и в своих взглядах решительно склонялся на сторону антифедералистов.
Джефферсону нравилось обмениваться мнениями с образованным купцом, он всегда с удовольствием посещал его дом. Тем более что и для Салли эти визиты были настоящими праздниками: встреча с любимой старшей сестрой, которая практически стала хозяйкой в доме мистера Белла. У них уже родилось двое детей — племянники для Салли, пополнение обширного клана Хемингсов. Джефферсону было приятно узнать, что вечный спор между разумом и сердцем в душе мистера Белла тоже окончился победой сердца. Владельца магазина и владельца Монтичелло сблизило то, что они оба решились нарушить писаные и неписаные законы своего штата, сделать бесправную невольницу спутницей жизни. А что сильнее сближает людей, как не соучастие в преступлении?
— Не уведёт ли нас эта тропа слишком далеко? — спросил мистер Белл. — Как бы мои гости не перемёрли с голоду.
— Там впереди скоро будет развилка, и мы свернём направо, — сказал Джефферсон. — Джеймс обещал мне, что они с Питером управятся с обедом к двум часам. Так что у нас с вами ещё целый час для прогулки. А я как раз хотел расспросить вас, как реформы и нововведения моего коллеги, директора казначейства, отражаются на торговом классе. Почему депутаты конгресса голосуют за них, мне совершенно ясно: буря финансовых спекуляций несёт им изрядные барыши. Но почему и совершенно бескорыстный генерал Вашингтон в моих стычках с мистером Гамильтоном почти всегда принимает его сторону — этого я понять не могу. Его главный аргумент: реформы внесли явное оживление и даже процветание в послевоенную жизнь страны. Но так ли это?
Джефферсон придержал коня, чтобы мистер Белл мог поравняться с ним и говорить, не повышая голоса. Тот помолчал немного, отводя от лица тополиные ветки, потом заговорил в своей обычной манере, то есть загибая по очереди пальцы на правой руке.
— Первое. В делах торговых и промышленных участвует обычно столько причин и факторов, что почти невозможно проследить, что из-за чего происходит. Пройдёт слух, что ожидается неурожай пшеницы или кукурузы, — и цены на зерно полетят вверх. А кто пустил слух, почему ему поверили, пойди докопайся. Второе. Есть у меня доступ к кредиту или нет — огромная разница. Если нет, я побоюсь запасать слишком много товара и покупатель часто будет уходить с пустыми руками. Плохо и мне, и ему. Так что в этом плане национальный банк, гарантирующий доступность кредита, — большое подспорье. Он обещает мне, что для энергичного и честного предпринимателя деньги всегда найдутся. Для рынка это как стук сердца для человека: если стучит ровно, значит, кровь будет достигать кончиков всех двадцати пальцев, если слабо — пальцы начнут белеть, замерзать, отваливаться.
— Но кредит существовал и в Средние века. Он просто назывался ростовщичеством.
— Э нет. Ростовщик сидел на своих деньгах и в ус не дул. К нему заимодавец полз на брюхе, умолял. Сейчас всё меняется. Если я, другой, третий не станем одалживать деньги у банка, он разорится. Мы ему так же нужны, как он нам. Это третий пункт — и самый важный.
— Значит, вы целиком поддерживаете реформы… — Джефферсон почувствовал, что ему трудно произнести имя своего недруга — …реформы казначейства.
— Того, что торговая жизнь в стране оживилась, отрицать нельзя. Но если, как пишет в своей газете мистер Френо, под этой завесой федералисты тайно проталкивают возрождение монархии, лордов, аристократии, это уже никуда не годится.
— Бывая в дворцах и салонах Парижа и Лондона, я много раз испытывал чувство, будто нахожусь среди людей, утративших способность видеть за званиями и титулами человека.
— То же самое я испытывал, встречаясь с членами недавно созданного у нас Общества Цинцинната.
— Дорогой мистер Белл, мы знаем друг друга не очень давно, но всё же вы могли заметить, как я сторонюсь, как избегаю раздоров между людьми. Много раз я пытался подавить в себе враждебное чувство к полковнику Гамильтону, мысленно напоминал себе обо всех его многочисленных заслугах перед страной, особенно на поле боя. Но снова и снова на поверхность всплывала коренная разница наших представлений о человеке — и порыв к примирению умирал.
— В чём же вы видите эту разницу?
— Мистер Гамильтон, следуя философу Дэвиду Юму, убеждён, что душой каждого человека владеют только две страсти: корысть и страх. Поэтому и управлять людьми следует играя на этих двух страстях. Возвышенные порывы, благородные мечты, самоотверженность, чувство чести, преданность долгу, готовность жертвовать своими интересами — всё это редкие и случайные отклонения от правила, которыми можно и нужно пренебрегать. Я же убеждён, что если правители пренебрегают лучшими чувствами своих сограждан, эти чувства будут отмирать как невостребованные. Даже от наших невольников порой доверием и похвалами можно добиться лучших результатов в работе, чем угрозами и наказаниями.
— А как у вас складываются отношения с вице-президентом? В своё время я зачитывался статьями и трактатами мистера Адамса.
— Мы были ближайшими друзьями в течение многих лет, особенно в Париже. И я в полном отчаянии от того, что политические и газетные пертурбации воздвигли неодолимую стену между нами. Да, мы по-разному отнеслись к нашумевшему новому трактату Томаса Пейна «Права человека». Прочитав рукопись, я послал издателю частное письмо, выражавшее одобрение идеям автора и осуждение его противников. К моему изумлению, издатель опубликовал это письмо в виде предисловия к книге. Мистер Адамc, выступивший против трактата, принял употреблённое мною слово «ереси» на свой счёт и оскорбился. Никакие мои извинения не помогли: при встречах в Филадельфии он едва удостаивает меня кивком головы.
— Неужели обвинения против мистера Адамса в тайном пристрастии к монархическому правлению, столь часто появляющиеся в «Нэшнл газетт», имеют под собой основания?
— В его писаниях вы не найдёте прямых высказываний на этот счёт. Но его сторонники выражаются гораздо откровеннее. Я постарался обрисовать эту опасность в большом письме президенту, отправленном весной. Генерал Вашингтон тяготится своим постом так же, как я — своим, так же мечтает удалиться на покой в своё поместье, к семье. Однако я написал ему, что его уход может привести к кризису республиканского правления, к отделению многих штатов, даже к гражданской войне между Севером и Югом. На сегодняшний день он видится мне главным, если не единственным бастионом против возрождения монархии и против распада нашего союза. Я с трепетом жду его решения по этому судьбоносному вопросу.
Когда они вернулись в Шарлоттсвилл, лёгкие облачка затянули небо, смягчили жар сентябрьского солнца. Каменный дом мистера Белла был выстроен голландским иммигрантом и чем-то напоминал те дома, которые Джефферсон видел в Амстердаме. Кусты цветущей жимолости уютно обрамляли просторный двор. Букеты из роз в двух вазах украшали накрытый стол. Детская беготня, крики и смех приглушали звуки скрипки, на которой наигрывал Джесси Скотт. Семейство этого Скотта состояло из мужчин и женщин разных оттенков кожи, но все были в той или иной мере музыкально одарёнными. Джефферсон нанимал Джесси и двух его братьев играть на свадьбе Марты-Пэтси два года назад и не без зависти вслушивался в мелодии, лившиеся из-под их смычков: после перелома кисти ему уже было трудновато играть на любимом инструменте.
Бетти Хемингс с дочерьми хлопотала вокруг стола. Роберт взял под уздцы обеих лошадей, увёл их в конюшню. Салли с двухлетним сыном на руках подошла к Джефферсону, вопросительно улыбнулась, убрала рыжеватую прядь со лба ребёнка. При рождении она хотела назвать его Измаилом, но решительно воспротивилась Бетти Хемингс. «У моего внука будет достаточно проблем в жизни и с нормальным именем», — заявила она. Назвали Томом. Мальчик сосредоточенно крутил колёса игрушечной коляски, подаренной ему дядей Джеймсом. Веснушки на его розовых щеках рассыпались щедро, как одуванчики на лугу. На Салли был вышитый шёлком чепец, привезённый Джефферсоном из Филадельфии. Когда он покупал его в модной лавке, продавщица сказала: «Надеюсь, вашей дочери понравится».
В письмах и в разговорах с друзьями Джефферсон часто жаловался на усталость от столичной жизни, на суету, говорил, что мечтает оставить свою должность, вернуться к саду, дому, семье. И друзья тактично не уточняли, не спрашивали, какую семью он имеет в виду. Ведь дочь Полли жила в школе-пансионе в Филадельфии, у него под боком. Дочь Марта с детьми переехала в поместье мужа, но навещать её там его не тянуло. Её свёкор, пятидесятилетний Томас Рэндольф-старший, вдруг женился на восемнадцатилетней девице, которая оказалась жадной скандалисткой и ухитрилась насмерть поссорить своего мужа с сыном, Рэндольфом-младшим, и его женой. Атмосфера в доме Марты сделалась такой тяжёлой, что отравляла Джефферсону всю радость от встреч с внуками.
Так чьи же лица проплывали теперь перед его глазами, когда он произносил слова «вернуться к семье»? Не пора ли было признаться хотя бы самому себе: вот эти женщины, мужчины и дети, наводнившие теперь гостеприимный двор мистера Белла, незаметно заполнили теплом то место в душе, которому пристало название «семья». От них ему не надо было прятать свою любовь к Салли и маленькому Тому, носить маску невозмутимости, играть роль государственного мужа, недоступного человеческим слабостям. Не он ли писал, что «Творец создал нас свободными и равными»? Пусть жители Шарлоттсвилла, графства Албемарл, всего штата Виргиния смотрят на него и мистера Белла с осуждением. Пройдёт десять, двадцать, сто лет — и тогда откроется, что они оба были ближе к исполнению замысла Творца о человеке, чем все остальные.
Сегодняшнее торжество было посвящено дню рождения Мэри Хемингс. Мать, братья, сестры вручили ей с утра свои подарки. Теперь настала очередь мистера Белла. Он вышел из дома, неся в руках горшок с каким-то растением, приблизился к Мэри с видом торжественным и загадочным, поставил горшок перед ней. Джефферсон немедленно узнал растение, смутился, но решил не портить другу и соседу задуманный спектакль.
— Дорогая Мэри, дорогие гости! — начал мистер Белл. — Конечно, вы можете презрительно фыркнуть на мой подарок. «Что за манера, — скажете вы, — дарить имениннице жалкий двулистник?» Но знаете ли вы, что это растение было продемонстрировано весной Филадельфийскому философскому обществу? И докладчик, знаменитый ботаник Бенджамин Бартон, объяснил, что это американский вариант отличный от своего азиатского собрата, описанного Линнеем под названием Sanguinaria.
— Я знаю, что индейцы племени чероки используют его для припарок от нарывов, — сказала Бетти Хемингс. — А ирокезы — от поноса и болезней печени.
— Совершенно верно. И далее мистер Бартон предложил назвать это растение именем человека, который внёс огромный вклад в изучение флоры и фауны Америки. Дорогая Мэри, позволь вручить тебе не обычный двулистник, а прекрасную джефферсонию. Если ты сумеешь сохранить её до весны, она порадует тебя прелестными цветами.
Шеф-повару Джеймсу хотелось не только поразить собравшихся чудесами французской кухни, но также продемонстрировать какие-нибудь ритуалы банкета в парижском ресторане. Ведь там официанты с каждым новым блюдом выстраиваются шеренгой и движутся к столу торжественной процессией. Сам Джеймс, Роберт, Питер, Джесси Скотт надели белые фартуки, напялили белые колпаки и пошли от дверей кухни в затылок друг другу, неся подносы с горшочками, стараясь сохранять серьёзную мину, не реагировать на смех и аплодисменты гостей.
Джеймс объявлял названия по-французски, Салли переводила на английский.
— Soupe à l'oignon…
— …луковый суп с сыром, на говяжьем бульоне, для взрослых — с вином, для детей — без вина…
— Veau braise aux citron confits…
— …тушеная телятина по-лионски, с морковью, лимоном, оливками и сельдереем…
— Frisee aux lardoons…
— …салат с яйцом и жареным беконом, заправленный смесью оливкового масла, уксуса и горчицы…
— Fondant au chocolat…
— …шоколадный торт…
— Trifle aux framboises…
— малиновое суфле…
В конце обеда Роберт встал со скамьи, повернулся к Джефферсону и произнёс небольшую речь.
— Сэр, вы всегда учили нас правилам достойного поведения, и мы честно старались следовать вашим наставлениям. Одно из правил гласило: «Никогда не вскрывать и не читать чужих писем». Убирая ваш кабинет в Уильямсберге, Ричмонде или Монтичелло, я закрывал или отводил глаза, если замечал на столе забытый вами исписанный листок. Но недавно одно из ваших писем было опубликовано в «Балтимор газетт», которую выписывает чёрный клиент парикмахерской в Филадельфии, где я получил работу. И мне очень хотелось бы зачитать его собравшимся. Даёте ли вы мне разрешение на это?
— О каком письме идёт речь? — спросил Джефферсон.
— Помните, год назад вы ответили дружеским посланием Бенджамину Бэннекеру, чёрному астроному и математику, приславшему вам выпускаемый им альманах?
Джефферсон вытер платком малиновое суфле в уголках губ, улыбнулся, развёл руками.
— После опубликования охранять тайну переписки не имеет смысла. Можешь прочесть.
Роберт поднёс к глазам сложенный газетный лист, начал читать:
«Сэр, благодарю Вас за присылку Вашего альманаха. Никто не радуется больше меня доказательствам того, что природа наделила наших чёрных братьев талантами наравне с людьми других цветов кожи. Если эти таланты не проявляются, виной тому тягостные условия, в которых чёрные находятся в Африке и Америке. Мне также представляется крайне желательным, чтобы условия для Вашего полного умственного и физического развития были улучшены как можно скорее, насколько это возможно при нынешних обстоятельствах. Я также позволил себе послать Ваш альманах месье Кондорсе, секретарю Академии наук в Париже и члену Филантропического общества, потому что он представляется документом, опровергающим негативные мнения о Вашей расе. Остаюсь с величайшим почтением Вашим покорным слугой, Томас Джефферсон». Торжественная тишина повисла над столом.
— Мне рассказали, что своё образование мистер Бэннекер получил при помощи и поддержке квакеров, живших по соседству с его семейной фермой, — сказал Джефферсон. — Мы расходимся с ними в религиозных взглядах, но следует отдать им должное, добротой и отзывчивостью они часто превосходят другие вероисповедания. Так как мистер Бэннекер имеет познания в астрономии, мне удалось помочь ему получить работу в группе землемеров, размечавших границы нашей будущей столицы на берегу реки Потомак.
— Столица Америки будет в Виргинии — ура! — воскликнул мистер Белл. — За это необходимо выпить.
Стаканы, кружки, рюмки, бокалы — с сидром, пивом, виски, вином — поднялись над столом, потянулись друг к другу, спугнули своей короткой трелью нескольких воробьев, притаившихся в жимолости.
В Монтичелло вернулись в сумерках. Мальчика Тома бабушка Бетти забрала ночевать в свой флигель.
Джефферсон перед сном сел полистать новое издание «Левиафана» Гоббса, недавно присланное ему из Англии. На обложке печатник поместил картинку, изображающую великана, тело, руки, голова, ноги которого были составлены из крошечных человеческих фигурок. Такие же фигурки суетились на земле, торчали из-под ступней гиганта.
Салли, закончив стелить постель, заглянула через плечо Джефферсона и вздохнула:
— Какой страшный великан! И сама сказка такая же страшная?
— Её придумал английский писатель Томас Гоббс. Он предлагает своим читателям вообразить, будто земные народы и государства ведут себя так же, как отдельные люди: трудятся, дерутся, любят или ненавидят друг друга.
— Да, такое «как будто» я могу понять. Но разве всегда великан остаётся таким свирепым и страшным, как на этой картинке?
— Свирепым? — переспросил Джефферсон. — Таким свирепым, что никто никогда не сможет его полюбить?
— Только не я.
— А помнишь французскую сказку про дочь купца и чудовище? Девушка сначала испугалась чудовища, а когда оно упало бездыханным, пожалела его и заплакала. От упавшей на него слезинки чудовище воскресло и превратилось в красивого принца.
— Вот и я так же: пусть этот великан сначала испустит дух, тогда я, может быть, заплачу над ним. Но не раньше.
— Да? А я, например, чувствую, что способен пожалеть его и таким. Даже полюбить. Только полюбив, можно удержать его от бессмысленных злодейств, увести прочь от опасных пропастей и волчьих ям.
А наутро пришло долгожданное письмо от Вашингтона. Но облегчения оно не принесло. Две трети текста были посвящены подробному описанию тревожной ситуации на южной и западной границах государства. Испанцы подстрекали индейские племена чероки, крики, чикасо, чокто нарушать мирные договоры с американцами, а также перебрасывали войска из Вест-Индии в Западную Флориду. Двое американских офицеров, находившихся в плену у индейцев, были казнены. Лондон тоже явно прилагал руку к разжиганию вражды между племенами и Соединёнными Штатами.
Не хотел ли Вашингтон вложить в своё длинное послание скрытый упрёк ему, Джефферсону, за долгое отсутствие? Такой подробный доклад о международных отношениях должен был бы отправить министр иностранных дел президенту, а не наоборот.
Далее в письме шли расплывчатые призывы к большей терпимости по отношению к коллегам по кабинету министров. Те же самые обороты Вашингтон использовал и в устных увещеваниях: «Члены правительства должны относиться с большим пониманием к политическим мнениям друг друга… Если мы позволим разнице мнений привести нас на грань распада, это будет печальнейший поворот событий… После того как конгресс утвердил какую-то меру, всем министрам следует дружно проводить её в жизнь, чтобы испытать её практическую целесообразность и выполнимость, а не тянуть в разные стороны».
В письме было всё, кроме ответа на главный вопрос: согласен ли президент выставить свою кандидатуру на второй срок?
Джефферсон вздохнул, спрятал конверт в ящик стола и отправился на утреннюю прогулку, чтобы на ясном сентябрьском небе отыскать новые — ах, найти бы неопровержимые! — аргументы и доказательства.
9 сентября, 1792
«Почести и доходы, связанные с моим постом, не так привлекают меня, как мнение моих соотечественников. Надеюсь, я заслужил их одобрение, честно выполняя свои обязанности и повсеместно защищая их права и свободы. Не могу допустить, чтобы после ухода в отставку мой покой нарушался клеветой человека, вся история которого — если только история удостоит нагнуться, чтобы заметить его, — пронизана махинациями против свободы страны, которая не только приняла и кормила его, но осыпала почестями. Надеюсь, что мои сограждане могли убедиться, что я не являюсь врагом республики, не интригую против неё, не растрачиваю её деньги, не проституирую в целях коррупции. Полагаю, что Вы и сами могли убедиться в том, что никакие газетные раздоры не исходили от меня, что я не затевал интриг в законодательных органах. Могу обещать и Вам, и себе, что такое положение дел сохранится на всём протяжении короткого времени, которое мне осталось находиться на моем посту».
Из письма Джефферсона президенту ВашингтонуЗима, 1793
«Человечество достигло стадии просвещения. Оно открыло, что короли не отличаются от других людей, особенно в сфере совершения преступлений и неудержимой жажды власти. Разум и свобода разливаются по миру и не остановятся, пока вознесённые короны не падут, королевские скипетры не будут изломаны на куски во всех уголках земного шара. Монархия и аристократия должны быть уничтожены и права человека прочно утверждены во всём мире».
Из сообщения о казни короля Людовика XVI в «Нью-Йорк джорнэл», подписанного «Республиканец»Март, 1793
«Сограждане! Снова глас моей страны вызвал меня выполнять роль верховного правителя. В своё время я найду слова, чтобы выразить благодарность за оказанную мне честь и за выражение доверия ко мне со стороны народа Соединённых Штатов.
Конституция требует, чтобы перед вступлением в должность президент принёс присягу. Эту присягу я нынче приношу в вашем присутствии. И если во время своего правления я намеренно нарушу какие-то статьи конституции, пусть все присутствующие здесь, на этой торжественной церемонии, подвергнут меня единодушному осуждению».
Из речи Вашингтона при втором вступлении в должность президентаДекабрь, 1794
«Настоящее заявление дано в подтверждение того, что я, Томас Джефферсон, проживающий в графстве Албемарл, штата Виргиния, даю свободу Роберту Хемингсу, сыну Бетти Хемингс; что впредь он будет свободен распоряжаться собой и всем своим движимым и недвижимым имуществом; что он освобождается от всяких обязательств службы; что ни я, ни мои наследники не будут вправе требовать от него каких бы то ни было трудов. Этот документ об освобождении засвидетельствован моей печатью, в графстве Албемарл, 24 декабря, года одна тысяча семьсот девяносто четвёртого».
Весна, 1795
«Дома мистер Джефферсон был всегда очень спокоен. Очень редко его видели недовольным. Хотя иногда его раздражало, что дело не ладится, долго сердиться он был неспособен. Плантациями в основном руководили управляющие. У него работали плотники, кузнецы, бондари. Много времени он проводил в своём кабинете, читал книги, писал письма. Характер у него был ровный и приветливый, он любил держаться в тени. Ко всем окружающим он был добр необычайно. К нам, детям, относился с большой теплотой».
Из воспоминаний Мэдисона Хемингса, сына Салли ХемингсМАЙ, 1795. МОНТИЧЕЛЛО
— Хотите, чтобы я с обоими детьми исчезла на время приезда гостей? — спросила Салли.
Фраза прозвучала наполовину вопросом, наполовину — утверждением, но Джефферсон пожелал услышать вопросительный знак в конце.
— Мэдисоны пробудут три-четыре дня, не больше. Мне бы хотелось, чтобы они имели возможность отдохнуть и расслабиться, чтобы детская беготня и крики не беспокоили их. Кто бы мог подумать, что закоренелый холостяк Джеймс Мэдисон в свои 43 года найдёт себе подругу по сердцу! Да ещё моложе себя на 17 лет. Может быть, сыграло свою роль то, что судьба обрушила ужасные удары на его невесту незадолго до их встречи. В 1792 году умер её отец, год спустя жёлтая лихорадка в Филадельфии унесла мужа и младшего сына. Молодая вдова, без средств, с двухлетним сыном на руках… Мэдисон явился в её жизни спасителем, тем самым рыцарем в сияющих доспехах. Думаю, именно это помогло ему преодолеть свою обычную застенчивость и сделать предложение.
— Хорошо, я на это время поселюсь с детьми у мамы Бетти. Дни уже тёплые, а ночью будем топить ваш подарок — железную печку, изобретённую мистером Франклином.
— Ты встречалась с мистером Мэдисоном, видела, что он так же расположен к чёрным, как и я. Но его молодая жена… Мы ничего не знаем о ней. Недавно один беглец из Франции, бывший священнослужитель, месье Талейран, посмел пройтись по улице Филадельфии с красивой мулаткой. Всё тамошнее общество подвергло его остракизму.
— А где же вы поселите их? Крышу над новой пристройкой не успеют доделать, а в южных комнатах ещё не вставлены окна.
— Наверное, прикажу поставить двуспальную кровать в большой спальне в мезонине. В крайнем случае уступлю им свою.
В день приезда гостей Джефферсон несколько раз в нетерпении выходил на крыльцо. Коляска всё не появлялась. Лишь под вечер он разглядел в сумерках на дороге две фигуры, поднимавшиеся в гору пешком.
— Провалились по колёсную втулку! — весело прокричал Мэдисон. — Наша богоспасаемая Виргиния побьёт все другие штаты по глубине дорожной грязи — может поглотить всадника вместе с конём.
Край дорожного платья Долли Мэдисон болтался на уровне щиколоток, но всё же красноватые пятна суглинка успели украсить его в нескольких местах. Она улыбнулась хозяину дома, обвела рукой розовеющее вечернее небо, цветущие кусты, посадки персиковых деревьев и сказала с завистливым восхищением:
— И всё это вы имеете каждый день для одного себя?
Джеймс Хемингс появился с фонарём в руке и светил гостям, пока они осторожно ступали по доскам, перекинутым через канаву на входе в дом.
— Я затеял гигантскую перестройку всего здания, — объяснял Джефферсон, то ли извиняясь, то ли делясь мечтами. — Не знаю, когда удастся закончить, но не могу отказать себе в удовольствии принимать друзей уже сейчас. Надеюсь, вы великодушно простите мне неизбежное неустройство. По крайней мере в отведённой вам комнате — полный порядок.
За ужином мужчины немедленно принялись обсуждать бурные политические события прошедшего года.
— Нет, даже на моей горе мне не удалось укрыться от потока злобных глупостей, текущего из нашей столицы, — возмущался Джефферсон. — Уже само введение налога на спиртное было нарушением конституции. Конечно, люди возмутились, конечно, стали устраивать собрания, обсуждать, как им одолеть нагрянувшую беду. В западных графствах для многих жителей гнать виски — единственный способ не впасть в нищету. И что же наши правители? Объявили это бунтом, послали целую армию на подавление. Армия явилась и не обнаружила восставших! А кто вёл карателей? Всё тот же, всё он! Какой злой дух перебросил нам в наказание этого человека с его малярийного острова?
— Вы знаете, конечно, что вскоре после вашего отъезда мистер Гамильтон тоже покинул свой пост в правительстве, — сказал Мэдисон. — Казначейство теперь возглавляет мистер Уолкотт.
— Да, пост покинул, но из политики не ушёл. Он воображает, что читатель не догадывается, кто скрывается за псевдонимом Камиллус, защищая в бесчисленных статьях условия мирного договора с Великобританией. Какое-то время я с уважением относился к Джону Джею. Но то, как он повёл себя в Лондоне, когда Вашингтон отправил его туда вести переговоры, непростительно! Вся страна возмущена условиями, на которые он согласился. В Делавэре споры идут только о том, сжигать ли изображения Джея или сжечь его самого. Оплачивать наши довоенные долги английским банкирам! За семь лет войны англичане нанесли такой урон американской торговле и промышленности — о каких долгах может идти речь?! Неужели конгресс утвердит этот договор?
— Дебаты в сенате достигли небывалого накала. Окончательное голосование может произойти в ближайшие недели.
— Мне запомнилось, — сказала Долли Мэдисон, — что в своих памфлетах Гамильтон (Камиллус) упоминает и ваше имя, мистер Джефферсон. Анализируя мотивы противников договора, он выдвигает такую версию: республиканцы просто стараются очернить федералиста Джона Джея, чтобы уменьшить его шансы на президентских выборах в следующем году и тем самым увеличить ваши шансы. Есть ли здесь зерно правды?
— Милая миссис Мэдисон, я сто раз заявлял публично и в частном общении, что не имею никаких амбиций в сфере общественной жизни. Всё тщетно — мне не хотят верить. С другой стороны, я не могу не думать о судьбе страны и о том, кто возглавит её после ухода Вашингтона с поста президента. Мистер Адамc явно примкнул к лагерю федералистов, так что его избрание обернётся катастрофой. И тут я попадаю в ловушку: ненавидя политическую жизнь, страшась и избегая её, я исподволь толкаю в это пекло дорогого мне человека — вашего мужа. Если бы он согласился выдвинуть свою кандидатуру, это было бы лучом надежды для всех честных республиканцев.
— Ну уж нет! — воскликнул Мэдисон. — 20 лет я подвизался на политическом поприще — с меня довольно. Уверен, что среди наших сторонников найдётся много достойных людей, которые были бы рады занять освобождающийся высокий пост. Например, что вы думаете о сенаторе Аароне Бёрре?
— Я слышал, что он показал себя очень способным адвокатом. В должности конгрессмена и сенатора демонстрировал вдумчивость и осмотрительность. Многие также считают его весьма образованным джентльменом.
— Сознаюсь, что я не могу судить о Бёрре беспристрастно. Ведь это он совершил переворот в моей судьбе — познакомил в прошлом году с Долли. Не исключаю, что я занимался политикой только потому, что просто не знал о других радостях в этой жизни. Но теперь…
Он сжал руку жены, нежно поднёс её к губам, поцеловал пальцы. В ответ она улыбнулась, погладила его по волосам, прижалась щекой к плечу.
— Как только кончится мой срок в палате представителей, мы уедем из Филадельфии в Монпелье и последуем вашему примеру: будем наслаждаться красотой Творения, сокровищами книжных знаний, дружбой соседей. Может быть, к тому времени дорогу между нашими имениями замостят булыжником и мы сможем навещать друг друга хоть каждую неделю. 30 миль легко можно покрыть за день по хорошей дороге.
Когда настало время отправляться на покой, снова появился Джеймс Хемингс с фонарём, повёл гостей к витой лесенке, ведущей на второй этаж. Мэдисон решительно начал подниматься за ним, но его жена в сомнении застыла перед открытой дверью, оглянулась на хозяина дома.
— Да, лестничная клетка получилась узковата, — сказал Джефферсон, виновато разводя руками. — Не знаю, как исправить этот просчёт.
Долли приподняла подол платья, вслепую нащупала ногой первую ступень, но на второй запнулась, пошатнулась и решительно сошла обратно.
— Увы, мистер Джефферсон, боюсь, что архитектор, проектируя это сооружение, забыл, что им придётся пользоваться не только джентльменам, но и дамам. Я не вижу другого выхода — должна попросить вас удалиться. Спокойной ночи. Ужин был бесподобный, вы не зря потратили деньги на обучение повара в Париже.
Смущённый Джефферсон снова развёл руками, поклонился, ушёл в свою спальню. Оставшись одна, Долли спокойно развязала кушак, расстегнула пуговицы платья, стянула его через голову и уверенно стала подниматься по узким ступеням, сияя белыми панталонами.
Утром следующего дня, после завтрака, была устроена прогулка по поместью. Джефферсон, преобразившись в рачительного фермера-земледельца, объяснял гостям научную систему севооборота, которую он собирался применять на своих полях.
— Сначала пшеница, за которой в том же году последует турнепс — он послужит кормом для овец. Далее — кукуруза и картофель вперемежку, а осенью — вика. Её можно будет пустить весной как кормовую добавку. Потом — горошек и рис. Рожь и клевер будем высевать по весне. Завершать цикл — гречихой. И через шесть лет всё начинать сначала. Посевы табака буду сокращать, он слишком быстро истощает почву.
— А для чего оставлены эти маленькие грядки? — спросила Долли.
— О, здесь вырастет всё то, что может привести в восторг парижского гурмана: шалфей, базилик, мята, чабрец, лаванда, укроп, розмарин. Та деревянная конструкция, похожая на дракона, — новый молотильный аппарат, сделанный по чертежам, присланным из Шотландии.
— Я помню, вы много лет пытались восстановить мельницу, разрушенную наводнением, — сказал Мэдисон. — Есть ли успех в этом начинании?
Сначала я надеялся, что удастся обойтись без строительства новой дамбы, просто проложив обводной канал. Работы начались в тот год, когда была подписана Декларация независимости. Но потом началась война, потом — моё губернаторство, потом — пять лет в Париже. Без хозяйского глаза подобные проекты почему-то начинают пробуксовывать. За 20 лет я угрохал на это дело тысячи и тысячи, а мельницы всё нет.
— Труба этого амбара дымит не хуже фабричных труб в Филадельфии, — сказала Долли. — Там устроена пекарня?
— Нет, это моя новая затея: мастерская по производству гвоздей. Хотите взглянуть?
Внутри амбара дюжина мальчишек в возрасте от десяти до шестнадцати лет сидела у верстаков, ловко орудуя молотками и напильниками. Рядом с каждым лежал пучок стальных прутьев различной толщины, которые предстояло превратить в гвозди. Чёрный управляющий подошёл к хозяину и, перекрикивая лязг инструментов, стал что-то объяснять, показывая расчёты на листе бумаги. Джефферсон кивал, вынимал готовые гвозди из ящиков, замерял длину, пробовал пальцем остроту.
Когда вышли на воздух, Долли раскрыла солнечный зонтик, спрятала лицо в его тени и спросила с чуть заметной иронией:
— Возможно, в полумраке я не могла рассмотреть хорошенько, но мне показалось, что примерно половина этих ребятишек белокожие.
— Да, это обычное явление на плантациях в южных штатах, — сказал Джефферсон. — Мы часто нанимаем белых мастеров — плотников, кузнецов, бондарей, каретников. Они живут здесь месяцами, иногда по году. Невозможно требовать от этих людей монашеского поведения. Их потомство увеличивает число невольников в хозяйстве плантатора, поэтому он не возражает против вольности нравов.
— Вашей мастерской может грозить опасная конкуренция, — заметил Мэдисон. — Я слышал, что в Англии изобрели машину, которая штампует металлические изделия самой различной формы. В том числе и гвозди. Причём производит их с огромной скоростью.
— Пока английские гвозди пересекут океан, они так вздорожают, что сравняются с нашими. Я уверен, что мастерская будет приносить постоянный доход. Если не удастся получать за них наличные, я всегда смогу выменивать за них нужные мне товары. Дочери и жёны невольников работают у меня в прядильне — это тоже может обернуться очень полезным начинанием. Мне представляется крайне важным обучать ремёслам подрастающие поколения чёрных. Только так мы можем приблизить исполнение мечты всех друзей свободы — отмену института рабовладения.
— Кроме полезных ремёсел их необходимо обучать умению обращаться с деньгами, — сказал Мэдисон. — Мы впитываем эти навыки с детства и воображаем, что одалживать и потом возвращать долг — это такая азбучная истина, которую нет необходимости кому-то внушать.
— Вы не поверите, но в моей расходной книге довольно много записей такого рода: «Вернул пять долларов Джеймсу Хемингсу»; «Одолжил три доллара у Бетти Хемингс». По рассеянности я иногда могу остаться без наличных в кармане и тогда одалживаю мелкие суммы у чёрных. Юпитеру я доверяю настолько, что посылаю его в поездки получать плату с моих арендаторов на западной границе штата.
На следующий день Мэдисону нужно было съездить в Шарлоттсвилл, заверить какие-то бумаги в суде графства Албемарл. Его фаэтон к тому времени уже был извлечён из дорожной ямы и теперь бодро катил своего владельца, спрятавшегося под парусиновой крышей от тёплого весеннего дождя.
Джефферсон пригласил Долли в свой кабинет — ему хотелось показать ей архитектурные эскизы будущего особняка.
— Перемены задуманы грандиозные, — говорил он. — Младшая дочь тоже не сегодня завтра выйдет замуж, у неё пойдут дети. Где размещать подрастающих внуков, если они все сразу захотят навестить любящего деда? Вместо восьми комнат в перестроенном доме будет 20. Восточный фасад украсят вот эти колонны. Второй этаж я увенчаю куполом, под которым разместится просторная бильярдная. Сейчас мы решаем, где изготавливать кирпичи: внизу у ручья или наверху, куда воду для замеса придётся поднимать в бочках. Старые кирпичи тоже пойдут в дело. Хотя оказалось, что их не так-то легко очищать от извёстки — она прилипла слишком прочно. Это показывает, что и первоначальную постройку мы возводили на совесть. 20 лет назад она даже выдержала землетрясение.
— И сколько же времени у вас уйдёт на все эти переделки? — спросила Долли.
— Боюсь, что несколько лет. Но знаете, моё воображение легко переносит меня в будущее. Новый дом ещё существует только на бумаге, а мне кажется, что я уже живу в нём. Покойная жена упрекала меня за это — и справедливо. Это ей приходилось защищать детей от реальных сквозняков, бороться с дымом из кухни, как-то добывать воду из пересыхающего колодца. Я же слишком легко прятался в своих мечтах о будущем благоденствии.
— Карандашный портрет на стене — это она?
— Да, но он сделан британским пленным офицером и слабо передаёт её очарование. О настоящем портрете я вёл переговоры с замечательным художником Чарлзом Пилом, он должен был приехать к нам после войны. К сожалению, Марта не дожила.
— Вы употребили выражение «жить мечтами». Я очень хорошо знаю, что это такое, потому что росла в общине квакеров. Мои родители жили представлениями о том, что все люди от природы добры, что злые поступки лишь результат невежества, незнания подлинной воли Господа нашего. Но при этом квакеры легко теряют свою доброту, когда сталкиваются с мечтами других людей, не похожих на них. Меня, например, изгнали из общины, когда я вышла замуж за Джеймса, то есть за чужака.
— И всё же следование идеалам — важнейший компас в выборе жизненного пути. Меня часто упрекают в том, что, преклоняясь перед идеалом свободы, я готов оправдывать все жестокости и зверства Французской революции. Я их отнюдь не оправдываю. Но я говорю, что злодеи вроде Дантона и Робеспьера потому и смогли захватить власть, что люди достойные служили идеалу свободы недостаточно самоотверженно. Этот идеал обладает огромной притягательной силой для простых людей — его нельзя уступать негодяям.
— Во Франции много ваших близких друзей погибло под ножом гильотины. Неужели это никак не поколебало вашу веру в liberte, egalite, fraternite? А сейчас пожар мятежа перекинулся на французские колонии в Вест-Индии. Я встречала беглецов с острова Сан-Доминго. Они рассказывают страшные истории о зверствах чёрных над белыми. Не ждёт ли нас такая же участь в Виргинии, если чёрные решатся на восстание?
— Ещё Монтень писал — цитирую неточно, по памяти: «Те, кто расшатывает государственный строй, первыми чаще всего и гибнут при его разрушении. Плоды смуты никогда не достаются тому, кто её вызвал». Но вот похоже, что американцы опровергли это правило: люди, взбунтовавшиеся против английской короны, не только не погибли, но сумели выстроить государство на более гуманных и просвещённых началах.
— Да, и даже способны давать приют другим бунтарям. Ну не парадокс ли это?! Ещё два года назад французский посланник, гражданин Жене, разъезжал по нашей стране, подстрекая американцев последовать примеру парижских толп. А сегодня он вынужден просить у Вашингтона политического убежища, потому что знает, что на родине его ждёт гильотина.
— Ход Французской революции разочаровал многих её сторонников. Я получаю из Парижа письма от Томаса Пейна, от Джеймса Монро. Они выражают сомнения в том, что Европа уже сегодня готова последовать примеру Франции и начать свергать троны. Но они, как и я, уверены в том, что процесс этот неизбежен и рано или поздно принципы свободы и равенства восторжествуют.
— То есть в строительстве государства вы готовы следовать тем же принципам, что и в строительстве — перестройке — дома. Не важно, сколько недель, месяцев, лет жильцам придётся жить без стен, без крыши над головой, без пола под ногами. Главное — не отступить от архитектурных идеалов, сочинённых гениальным Палладио два века назад. А в строительстве государства — сохранить идеалы Платона, Бэкона, Локка, Монтескье.
— Я слышу нотки сарказма в вашем голосе. Да, должен признать, что привычка уноситься помыслами и мечтами в будущее порой делает меня слепым и равнодушным к нуждам настоящего. Но должен предупредить, что вашему супругу это свойственно в той же мере. Сегодня он мечтает о том, чтобы уединиться с вами в Монпелье и отдаться радостям семейной жизни. Однако выбросить из головы мысли о судьбе страны в ближайшие десятилетия он не сможет. Боюсь, ваша пастораль продлится недолго.
— Вполне возможно, не спорю, — Долли улыбнулась, потом покачала головой и театрально вздохнула: — Но в чём я уверена, так это в том, что навязанная вами самому себе сельская идиллия в Монтичелло будет ещё более короткой.
Вечером Джефферсон уединился с вернувшимся из Шарлоттсвилла Мэдисоном в достроенном северном флигеле.
— Хотел бы обсудить с вами один деликатный вопрос. Вы знаете, что с Джоном Адамсом меня связывает долгая дружба. Политические разногласия охладили её, но мне очень тяжела мысль, что я могу утратить расположение этого достойнейшего человека. С другой стороны, ясно, что противоборство республиканцев с федералистами грозит столкнуть меня с ним лоб в лоб. Наши кандидатуры на пост президента, скорее всего, будут выдвинуты в следующем году.
— Да, боюсь, что это неизбежно. Но что можно предпринять в подобной ситуации?
— Я написал письмо Адамсу, но ещё не отправил. Хочу прочесть его вам и услышать ваше мнение.
— Я весь внимание.
Джефферсон достал исписанный лист бумаги, поднёс его поближе к огоньку свечи, начал читать:
«Я оставляю другим возвышенное удовольствие прорываться сквозь шторм. Меня больше устроит спокойный сон и тёплое ложе подо мной, общество добрых соседей, друзей и возделывателей земли, а не шпионов и психопатов. Амбиция управлять людьми чужда мне, поэтому я бескорыстно поздравлю любого, кому достанется такой удел. Если он достанется Вам, я от всей души буду желать, чтобы Вам удалось спасти нас от войны, которая разрушит нашу торговлю, кредит и сельское хозяйство. Если Вам удастся это, заслуженная слава будет целиком Вашей. От души желал бы Вашему правлению славы и счастья. На нашем жизненном пути случались эпизоды, которые могли бы отдалить нас друг от друга. Тем не менее я продолжаю высоко ценить те моменты, когда мы вместе боролись за нашу независимость, и храню в душе чувства уважения и привязанности к Вам».
Мэдисон долго молчал, сложив пальцы домиком, вглядываясь в лунный пейзаж за окном. Наконец заговорил, бережно подбирая слова, но с той убеждённостью, какая была свойственна его речам в ассамблее и конгрессе:
— Думаю, послать это письмо было бы большой ошибкой. Политика и эмоции — разные вещи и часто несовместимые. Вы уже несколько раз оказывались в ситуации, когда ваши частные письма просачивались в печать и били бумерангом по вам и по всем вашим сторонникам. Отправка такого письма в ситуации надвигающегося противоборства за президентское кресло может быть истолкована как жест дуэлянта, демонстративно стреляющего в воздух. Необходимость прятать свои чувства, даже самые искренние и возвышенные, — это жертва, которую государственный деятель должен приносить на алтарь своего служения стране. Да, это наша беда, наша болезнь, наше проклятие — но другого не дано. Я со всей серьёзностью призываю вас не отправлять это письмо.
Ночью сон долго не приходил к Джефферсону, а потом начал накатывать волнами, оставляя просветы, в которых мозг выбрасывал на экран памяти причудливые — искажённые — воспоминания. Вдруг всплыл амбар, переполненный подвыпившими избирателями в день его первых выборов в ассамблею, но кубок с пуншем ему протягивает не Бетти Уокер, а Анжелика Чёрч, одетая по последней парижской моде. Студенческие годы, Бафурст Скелтон накануне своей свадьбы, овеянный предвкушением жаркого и манящего таинства, держит в руках запылённый фолиант и отказывается показать его стоящей тут же Марте. Лицо Ричарда Косуэя, провожающего печальным взглядом жену, уводимую Джоном Трамбаллом по мосту через Сену.
Бетти, Марта, Абигайль, Мария, Анжелика — ведь они все предстали перед ним уже окутанные, озарённые чьей-то любовью. Не здесь ли кроется разгадка его увлечений? Не может ли оказаться, что женщина, освещенная чьей-то любовью, сама начинает лучиться в ответ? И именно это ответное излучение действует на него с такой безотказной силой?
Да, если бы жив был доктор Франклин, Джефферсон посоветовал бы ему оставить в покое электричество и заняться изучением таинственных лучей, протягивающихся между мужчинами и женщинами в самые неожиданные моменты. Ведь Долли Мэдисон никак нельзя назвать красавицей. Это лучи обожания, льющиеся на неё из глаз мужа, делают её столь волнующе привлекательной. Или всё же здесь играет роль та дерзость, с которой она смеет комментировать его поступки, вслушиваться в слова, бросать вызов?
На рассвете сон улетучился бесшумно, и Джефферсону не оставалось ничего другого, как встать, одеться, ополоснуть лицо водой из заготовленного тазика, выйти из дома. Ястреб, расставшись с мечтой о завтраке, тяжело взлетел с позолоченной солнцем верхушки дуба, исчез в море листвы. Ветки кустов сирени, пригнутые тяжёлой росой, касались песка лиловыми гроздьями.
Джефферсон бесцельно брёл мимо грядок розмарина.
Но, видимо, бесцельность была только кажущейся. Потому что он вскоре оказался около флигеля мамы Бетти.
И встретил Салли.
Она шла от колодца, изогнувшись в талии под тяжестью ведёрка с водой.
Увидев его, она замерла на секунду, потом поставила ведёрко на землю. Стояла в ожидании, уронив руки.
Какие — чьи — лучи текли к нему от неё? Неужели его собственные — пропитанные её юной прелестью, отражённые, усиленные на обратном пути к своему источнику?
Он подошёл, обнял её, стал целовать. В шею, в щёки, в мочку уха, в губы. Прижимая к себе, ловя ответные поцелуи. Бормоча: «Агарь, Агарь, Агарь…»
Вдруг её тело сжалось под его ладонями, застыло. Взгляд был устремлён в сторону главного дома.
Джефферсон оглянулся.
Долли Мэдисон шла по тропинке, неся на плече закрытый, ещё ненужный солнечный зонтик, глядя, жмурясь, на ослепительное облако. Увидела их, остановилась, склонила голову то ли в недоумении, то ли в испуге.
Салли высвободилась из объятий, взяла ведёрко, ушла во флигель.
Джефферсон стоял в растерянности, пытаясь понять — придумать, — какие слова могут изменить, загладить неловкость ситуации.
Но Долли Мэдисон опередила его.
Она решительно приблизилась к нему, положила ладонь на локоть. Заговорила без улыбки, но участливо, дружелюбно, убеждённо:
— Не говорите ничего. Я уже видела её вчера с сыном и всё поняла. Сын — вылитый вы, она — копия своей сестры, чей портрет висит у вас на стене. Я могу только пожелать вам счастья и много-много детей. Надеюсь, что нам предстоят ещё долгие годы дружбы, и я готова когда-нибудь выступить в роли крёстной матери для них. Для дочери квакеров они будут такими же людьми, как все остальные.
— То, что вы сказали… — начал Джефферсон. — Ваши слова сняли большой груз с моей души…
— Вы, конечно, догадываетесь, что сплетни о вашей личной жизни гуляют и по Филадельфии, и по Нью-Йорку. Но я клянусь вам, я хочу, чтобы вы знали: никогда ни одно слово, слетевшее с моего языка, не присоединится, не сольётся со злой молвой. Вам никогда не надо будет прятать от нас с Джеймсом ни вашу подругу, ни её детей.
Февраль, 1796
«Данный документ, составленный в Монтичелло, в графстве Албемарл штата Виргиния в пятый день февраля 1796 года, удостоверяет, что я, Томас Джефферсон, объявляю свободным Джеймса Хемингса, сына Бетти Хемингс, которому исполнилось 30 лет, и даю ему полную свободу распоряжаться собой на все будущие годы».
Апрель, 1796
«Атмосфера нашей политической жизни коренным образом изменилась, с тех пор как Вы уехали. Вместо благородной любви к свободе и республиканскому правлению, которая с триумфом пронесла нас через войну, сегодня возобладала проанглийская партия, пытающаяся возродить монархию и аристократию. Основная часть наших граждан остаётся, однако, преданной республиканским принципам; против нас исполнительная и судебная власть, две трети законодателей, все сотрудники правительственных учреждений и те, кто хотел бы занять эти посты; все робкие люди, которые предпочитают покой деспотизма бурлящему морю свободы; британские купцы и американцы, использующие британский капитал; спекулянты и владельцы банков и публичных фондов, созданных для распространения коррупции… Но мы победим, если только сумеем проснуться и порвать канаты лилипутов, которыми они связали американского гиганта, пока он спал».
Из письма Томаса Джефферсона другу в ИталиюЛето, 1796
«В поместье мистера Джефферсона работают плотники, каменщики, кузнецы. Молодые и взрослые негритянки прядут ткани для одежды остальных. Он стимулирует их вознаграждениями и похвалами. В управлении хозяйством ему помогают две дочери, миссис Рэндольф и мисс Мария, — прелестные, скромные и дружелюбные женщины. Образование они получили во Франции. Мистер Рэндольф владеет изрядной плантацией неподалёку. Он часто проводит время с мистером Джефферсоном и относится к нему скорее как родной сын, чем зять. Мисс Мария живёт с отцом постоянно, но так как ей уже 17 и она очень хороша собой, она наверняка скоро обнаружит, что есть на свете обязанности даже более приятные, чем обязанности по отношению к отцу. Философский склад ума мистера Джефферсона, его любовь к наукам, превосходная библиотека и большой круг друзей помогут ему пережить эту утрату».
Из путевых заметок герцога Ларошфуко-ЛианкураСентябрь, 1796
«Главным правилом в нашем поведении по отношению к другим странам должно быть одно: повсеместно расширять наши торговые отношения с ними и избегать всяких политических союзов. Там, где подобные союзы уже существуют, мы будем следовать им, но на этом следует подвести черту. В Европе существует множество противоречивых интересов, которые к нам не имеют никакого отношения. Она неизбежно будет находиться в состоянии внутреннего противоборства, и для нас было бы ошибкой дать ей вовлечь нас в свою вражду».
Из прощального обращения Вашингтона, подготовленного для него ГамильтономМарт, 1797
«По всеобщему мнению, мистер Адамc является человеком неподкупной честности и широта его ума вполне соответствует посту президента, занятому им. Мы можем надеяться, что меры, принимаемые им, будут разумными, что он не примкнёт ни к какой партии и не позволит превратить себя в орудие какого-то человека или группы людей. На церемонии принятия присяги он произнёс речь, в которой объявил себя другом Франции и мира, сторонником республиканизма, врагом партийности и обещал не руководствоваться политическими пристрастиями при назначении на государственные должности. Как благородны такие чувства! Как достойны патриота!»
Из газеты «Аврора»Часть четвёртая. ЗА ЧЕРТОЙ ГОРИЗОНТА
ИЮНЬ, 1798. ФИЛАДЕЛЬФИЯ
До последнего предотъездного дня, до последнего момента Джефферсон не знал, решится ли он исполнить совсем нетрудное поручение младшей дочери. Полгода назад Мария вышла замуж за своего кузена Джека Эппса, молодые строили планы будущей жизни, выбирали место, где поселиться. Джефферсон подарил им 800 акров земли, 26 рабов, четвёрку лошадей с коляской, несколько коров, свиней, овец и делал всё возможное, чтобы им захотелось жить вблизи Монтичелло. Так неужели теперь трудно было исполнить просьбу новобрачной, содержавшуюся в последнем письме, — нанести визит миссис Абигайль Адамc и передать привет от неё и благодарность за тёплый приём в Лондоне десять лет назад? Писать напрямую жене президента Мария не решалась.
С супругами Адамc Джефферсон встречался в этом году редко и только на официальных приёмах. Отношения делались всё более натянутыми, а обстановка в конгрессе и столице менялась чуть ли не каждый день. Когда Джон Адамc объявил, что депеши из Парижа отданы на расшифровку, республиканцы были уверены, что это уловка, что правительство прячет сведения, рисующие французскую Директорию в благоприятном свете. Они выступали в конгрессе один за другим, требуя немедленного оглашения полученных известий.
И что же?
Когда депеши были расшифрованы и зачитаны, даже самые горячие сторонники Франции должны были умолкнуть в смущении и растерянности.
Оказалось, что ни Директория, ни министр иностранных дел Талейран не удостоили ни одного из трёх американских посланников личной встречей. Вместо этого к ним были направлены три мелких чиновника, обозначенных в депешах буквами X, Y, Z, передавшие предварительные требования Талейрана: взятка лично ему в 250 тысяч долларов и предоставление Франции займа в размере десяти миллионов. Без выполнения этих условий ни о каких переговорах не может быть и речи. Захваты же американских судов будут продолжаться с усиленной энергией.
Буря возмущения быстро перекинулась из зала конгресса на улицы Филадельфии, и очень скоро газеты федералистов разнесли её по всей стране.
«Ни пенса вымогателям-французам!»
«Все средства — на строительство флота!»
«К оружию!»
Трёхцветные кокарды исчезли со шляп, якобинские клубы закрывались, никто уже не смел распевать «Марсельезу». Раздавались призывы изгнать французских беглецов, число которых в Америке к тому времени достигало двадцати пяти тысяч. Подписка на газеты республиканцев стремительно падала, дом редактора «Авроры» кто-то пытался поджечь. Конгресс одну за другой принимал меры, направленные на подготовку к войне: союз с Францией, заключённый в 1778 году, аннулировать, торговлю приостановить, разрешить захват французских судов в американских водах, начать строительство боевых фрегатов, объявить призыв десяти тысяч ополченцев в армию, которая вскоре должна быть доведена до пятидесяти тысяч. Президент Адамc обратился к Вашингтону с просьбой возглавить армию, и тот согласился при условии, что ему будет дано право назначать офицерский состав, а в качестве заместителя иметь Александра Гамильтона.
В условиях этой воинственной лихорадки Джефферсон ощущал себя потерянным, отодвинутым на задний план, ненужным. Его отношения с президентом с самого начала подёрнулись ледком, когда тот, при вступлении в должность, предложил ему отправиться послом в Париж. Довольно странно было отправлять за три тысячи миль вице-президента, который — по конституции — должен был бы занять место главы государства в случае его внезапной смерти или другого несчастья. Джефферсон отказался.
Он не чувствовал себя вправе открыто высказываться против внешней политики правительства. Его правилом стало: не участвовать в газетной войне ни при каких обстоятельствах. На каждую ответную реплику ты всё равно получишь 20 новых нападок, считал он. Его молчание давало возможность памфлетистам противной стороны приписывать ему участие в профранцузских заговорах, обвинять его в атеизме, трусости, бездарности, коварстве, объявлять врагом Вашингтона и союза между штатами. Один конгрессмен на торжественном обеде, восхваляя президента Адамса, вспомнил библейского Самсона, поражавшего врагов ослиной челюстью, и поднял тост: «Да поразит наш президент тысячу французов челюстью Томаса Джефферсона!»
Свирепость политического противоборства стремительно теснила даже правила джентльменского поведения. Когда республиканец, представлявший в конгрессе штат Вермонт, сказал что-то такое, что не понравилось федералисту из штата Коннектикут, тот пересёк зал и плюнул в лицо обидчику. В другой раз между депутатами разгорелась настоящая драка, в ход пошли тяжёлая трость и каминные щипцы.
Джефферсон не верил во французские заговоры, не верил в возможность нападения Франции на Соединённые Штаты. Он надеялся, что мир в Европе наступит, когда Британия и её союзники будут разбиты доблестной армией республики, у которой появился молодой талантливый генерал Бонапарт. Каждое сообщение о его победах укрепляло эти надежды. В разговорах с парижским посланником вице-президент Джефферсон позволил себе высказать уверенность, что американский народ никогда не забудет о помощи, оказанной ему Францией в обретении свободы. Ведь президент избирается сроком всего на четыре года, и всё может измениться, когда к власти придёт более дальновидный политик.
Если бы об этих частных беседах стало известно, его легко могли бы обвинить в том, что он тайно ищет у иностранного дипломата поддержки в борьбе за президентское кресло на будущих выборах. Другая сфера, где следовало проявлять предельную осторожность, — отношения с республиканской прессой. Наверное, было ошибкой заплатить Томасу Кэллендеру за экземпляр его памфлета целых 15 долларов. Да и потом в течение года он подбрасывал бедствующему журналисту небольшие суммы. Как легко это могло обернуться очередным шквалом обвинений: «Вице-президент тайно поддерживает газетные нападки на федеральное правительство!» К тому же бедность Кэллендера не могла быть такой уж отчаянной, если он сумел оплатить приезд из Англии жены и трёх сыновей.
К этому шотландскому беглецу Джефферсон испытывал двойственное чувство. Его неряшливая внешность, низкий рост, запах виски, нагловатая и в то же время заискивающая манера придвигать лицо близко-близко к лицу собеседника вызывали раздражение, почти брезгливость. С другой стороны, взгляды и убеждения Кэллендера почти во всём совпадали с главными идеалами республиканской партии.
На родине он подвергся гонениям за смелые нападки на британскую политическую элиту, с трудом избежал ареста. В своих статьях, печатавшихся в филадельфийских газетах, выступал последовательным пацифистом, доказывал безумие войны с Францией. Нападал на введение налогов, на реформы казначейства, на учреждение банка эдиктом конгресса, на договор с Британией, на самого Вашингтона. В отчётах о заседаниях палаты представителей не позволял себе искажать речи выступавших, но умело вносил замечания в скобках или выделял некоторые слова италиком[9], так что все оговорки, ошибки, несуразности в речах федералистов делались заметны. «Народ должен знать все дела и помыслы политиков!» — таков был его лозунг, его искреннее убеждение.
Серия статей, выпущенная год назад под названием «История Америки за 1796 год», принесла Кэллендеру скандальную славу далеко за пределами Филадельфии. Джефферсон знал о готовящемся издании и не одобрял затею, несмотря на рассыпанные в книге комплименты в его адрес, однако его попытка вмешаться была предпринята слишком поздно. При всей его нелюбви к Гамильтону, ему казалось, что использовать любовные истории человека в политической борьбе не по-джентльменски. Но республиканцы были в восторге. А необъяснимая откровенность бывшего директора казначейства в ответной публикации привела его противников в экстаз. «Двадцать вражеских перьев не могли нанести мистеру Гамильтону такого урона, какой он нанёс себе собственным пером», — писал Кэллендер в письме Джефферсону.
Конечно, пресса федералистов не осталась безответной. Газета «Дикобраз», созданная другим беглым шотландцем, Уильямом Коббетом, называла Кэллендера «…лжецом, вонючим животным, пьяницей, мелкой змеёй, бесстыжим наймитом, страдающим манией реформации». Внешность его тоже подвергалась издевательствам: «…этот запаршивевший шотландец одет как бродяга, шляпу не носит, голову держит набок и постоянно дёргает плечами, будто ему досаждают вши и блохи».
К сожалению, у Кэллендера не было хорошего редактора, который мог бы ему указывать на его собственные ошибки и несуразности. В той же «Истории Америки за 1796 год», ведя атаку на федералистов, главным оплотом которых были Бостон и Массачусетс, он так зарвался, что нарисовал их бандитами, поднявшими в 1770-е ненужный бунт против доброго короля Георга III: «На глазах у собравшейся толпы они уничтожили 342 ящика чая. Акт парламента, закрывший в наказание порт Бостона, был абсолютно оправданной мерой… Весь континент был преждевременно втянут в войну, чтобы спасти кучку бостонских заправил от заслуженного возмездия».
Наверное, была доля правды в нападках хулителей Кэллендера? Подобные пассажи можно сочинять лишь после распития нескольких кружек грога или бутылки виски. Вряд ли найдётся виргинец, которого порадовала бы такая похвала: «Если бы остальные штаты Америки вели себя так сдержанно и разумно, как Виргиния, мы бы до сих пор оставались колонией Англии и горя не знали».
Однако в надвигавшейся борьбе каждым бойцом следовало дорожить, каждое острое перо было на счету. Мозг Джефферсона постоянно искал новые стратегические ходы, с помощью которых можно было бы противодействовать нарастающему самовластью и тирании федерального правительства. Конституция оставляла размытыми многие участки границы, разделявшей законодательную власть конгресса и власть ассамблей штатов. Что произойдёт, если в каком-то штате местные законодатели выразят решительное несогласие с законами, принятыми в Филадельфии? Например, с законом о подрывной деятельности, который вот-вот будет одобрен обеими палатами?
Конституция чётко перечисляла преступления, находящиеся в сфере деятельности федерального правительства: наказание за измену, за изготовление фальшивых денег, за пиратство и нарушение международных законов и правил. Всё остальное было оставлено на усмотрение штатов. Нужно будет по возвращении в Виргинию обсудить с Мэдисоном, ассамблеи каких штатов сегодня готовы были бы выступить с решительным протестом против новых законов.
Из памяти Джефферсона никак не уходило ироничное замечание Долли Мэдисон о сходстве его политических прожектов с его методами перестройки собственного дома. Мысленно возвращаясь к этому разговору, он впадал в запоздалую горячность и сочинял убийственные — как ему казалось — контраргументы:
«Да, перестройка моего дома затянулась, и это создаёт множество неудобств всем живущим в нём. Ну а что, если в результате получится дом, прекраснее которого нет во всей Америке? То же самое и в политическом строительстве. До сих пор на протяжении всей мировой истории республики существовали — и выживали — только на небольших территориях, тесно заселённых народом, связанным единством языка, религии, нравов. Создать нечто подобное из четырёх миллионов людей разноплемённых, разноязыких, с разным цветом кожи, да ещё на территории, имеющей границу в пять-шесть тысяч миль, — такой задачи не выпадало раньше никогда никакому другому народу. Нам не у кого учиться, мы всё должны изобретать сами. А вдруг у нас получится государство, какого ещё не бывало в мире, жить в котором станет мечтой каждого человека на Земле? Согласитесь, что построить такое государство возможно лишь в том случае, если воображение позволяет вам отрываться от поверхности явлений и видеть то, что происходит за чертой горизонта».
Двенадцать лет назад, в письме Марии Косуэй, он свёл своё сердце в длинном диалоге с разумом. Если бы сегодня вновь возник повод для такого диалога, разум, скорее всего, перешёл бы в контрнаступление и отвоевал бы обширные территории. Охота за счастьем — прекрасная вещь. Но как часто она оборачивается ненужными страданиями для окружающих, да и для самого охотника. Разве достижение целей, выбранных разумом и чувством долга, не даёт гораздо более глубокое и долговечное утоление вечно томящейся душе?
Как часто человек, раздираемый порывами страстей, спрашивает себя: «Да чего же ты хочешь? К чему стремишься?» Достаточно изучив себя за пять десятков лет, Джефферсон мог честно ответить себе: «Две вещи важны для меня на свете, две вещи влекут сильнее всего остального: первое — вызывать одобрение или даже восхищение ближних и дальних; второе — оставаться верным себе, оставаться самим собой». И конечно, самыми трудными жизненными ситуациями были те, в которых эти два порыва оказывались несовместимыми, когда они сталкивались лоб в лоб, как два корабля в тумане.
Уж как его всегда радовали одобрительные отзывы Вашингтона, как он дорожил их многолетней дружбой! И чего бы, казалось, стоило промолчать, не выступать против финансовых реформ казначейства, которые вызывали такую поддержку президента? Но нет: согласиться с ними и было бы изменой себе, своим убеждениям. Он предпочёл уйти с поста министра иностранных дел, удалиться в своё поместье, и столь дорогая ему дружба умерла, тихо истаяла на холмах и равнинах, разделявших Монтичелло и Маунт-Верной.
Та же самая судьба, видимо, постигнет и его дружбу с Джоном Адамсом. Нет, президент Адамc не навязывает конгрессу эти ужасные новые законы, но он идёт на поводу у самых рьяных и близоруких депутатов точно так же, как раньше Вашингтон шёл на поводу у Гамильтона. Разве мог он, Джефферсон, всю жизнь отстаивавший свободу слова, высказаться в поддержку закона о подрывной деятельности, грозившего штрафом и тюрьмой тому, кто посмел бы открыто выразить своё несогласие с политикой правительства? А этот закон о чужеземцах? Требовать от людей, чтобы они подавали за пять лет заявление о желании поселиться в Америке, а потом, приехав, ждали 15 лет получения гражданства? Это значило бы поставить крест на мечте сделать Америку убежищем для всех гонимых.
В какой-то момент Джефферсон подумал, что вызывать восхищение и при этом оставаться самим собой ему легче всего с одним человеком — Салли Хемингс. Её любовь к нему не нуждалась в словесном выражении, она струилась в ней так же естественно и негромко, как горный ключ струится между кустов бересклета. Имея талант спасаться от горестей и угроз повседневной жизни прыжком в «как будто», она могла и его одаривать своим душевным бальзамом с той же безотказностью, с какой её пальцы изгоняли мигрень из его головы. Своих прежних возлюбленных он тоже старался оберегать от душевных ран — но как часто для этого ему приходилось удерживать себя от искреннего выражения чувств, ловить ироничные замечания, готовые сорваться с языка, поддакивать, обнадёживать, даже льстить. С Салли в этих уловках не было нужды. Ей было довольно того, что он любит её, — всё остальное было как суета муравьев у подножия горы.
Конечно, если их отношения станут достоянием гласности, если сплетня просочится в газеты, шум поднимется оглушительный. Легко было представить себе кричащие заголовки статей:
«Защитник прав человека принудил чёрную невольницу служить ему наложницей!»
«Борец с тиранией тиранствует над своими рабами!»
«Получат ли цветные потомки нашего вице-президента возможность заседать в конгрессе? В Верховном суде? Исполнять должность послов в других государствах?»
Скорее всего, его шансы победить на президентских выборах будут потеряны так же безнадёжно, как они были потеряны для Гамильтона. Но поддаться страху, соображениям выгоды, отказаться от Салли, найти себе благонравную белую подругу, жениться, нарожать детей? Это и было бы самым большим предательством самого себя. И, конечно, предательством Салли. Ведь она доверилась ему тогда, в Париже, она — бесправная и безденежная — отдала ему самое дорогое, что у неё было в тот момент — мелькнувшую надежду на свободу. Было бы последней подлостью забыть о таком даре.
Во время долгих отлучек сведения о жизни в Монтичелло он получал от Марты. Но она, зная о безудержном любопытстве почтмейстеров, старалась не включать в письма сообщения, которые могли бы компрометировать отца. По той же причине сам Джефферсон отправлял важные депеши друзьям и соратникам только с надёжными посыльными. О том, чтобы написать нежное послание Салли, не могло быть и речи.
В Монтичелло у Салли открылась сверхъестественная способность улавливать момент, когда опасность нависала над кем-нибудь из детей. «У тёти Салли на затылке вторая пара глаз», — говорили внуки Джефферсона. Однажды она вдруг безо всякой причины побежала вниз по склону горы и вскоре вернулась, ведя за руку четырёхлетнего сына Марты, Джеффа, которого нашла гуляющим по берегу Риванны. Этот Джефф был самым непослушным, он всё время удирал в лес один, а также упрямо скидывал любую обувь, предпочитая бегать босиком. В конце концов Салли сшила для него мокасины с такими мудрёными застёжками, которые он не мог расстегнуть.
Салли не принимала прямого участия в управлении плантацией, но её острый глаз не раз помогал Джефферсону делать какие-то улучшения, яснее понимать характеры работавших на него людей. Например, она объяснила ему, что его привычка громко напевать во время конных и пеших прогулок косвенно способствует затуманиванию в его глазах реальной картины жизни поместья. Ибо на полях и в мастерских о его приближении становится известно заранее и лентяи и растяпы кидаются изображать усиленное старание, оттесняя на второй план настоящих честных тружеников.
Своих детей Салли опекала с не меньшим старанием, чем остальных, но, конечно, уберечь их от болезней не могла. Зимой Джефферсон получил от дочери Марты письмо, извещавшее, что двухлетняя Харриет умерла. Зато семилетний Том пошёл на поправку после затяжного приступа плеврита. Была надежда, что некоторым утешением в смерти дочери для Салли послужит ожидание нового ребёнка — её беременность сделалась явной уже в декабре. Марта писала, что для ухода за больными она либо сама приезжала в Монтичелло чуть не каждый день, либо посылала кого-то из поместья Варина, в котором она в это время жила со своей семьёй.
Марта! Вот кто стал самой прочной, самой долгой — уже четверть века! — любовью для Джефферсона. Каким-то образом она нашла в своей душе запасы щедрости и терпимости, чтобы простить отцу двусмысленность положения, в которое ставил её его выбор. Наверное, ей в этом помогало то, что они росли с Салли бок о бок в одном доме, играли в детстве. Они были почти ровесницы, а дедушка Марты приходился Салли отцом. Парижские приятельницы в письмах Марте передавали привет запомнившейся им «мадемуазель Салли».
Но здесь, в Америке, расовое клеймо оставалось неодолимым. Сколько раз в общении с родственниками и знакомыми доводилось Марте ловить укоризненные намёки, косые взгляды, даже насмешки! Не потому ли она предпочитала жить в деревне, избегала появляться в городах? Она с достоинством несла свою судьбу, наверное, беря пример с матери, которой тоже пришлось жить в окружении шоколадных братьев и сестёр. И как он был благодарен ей за это! У них обоих было чувство, что их взаимная любовь была испытана сурово и останется с ними до конца дней.
Строгий голос разума наконец победил нерешительность Джефферсона, и за день до отъезда из Филадельфии он отправился в президентский особняк. Дворецкий объявил ему, что мистер Адамc уже уехал на заседание конгресса, и пошёл доложить миссис Адамc о посетителе. Дожидаясь её внизу в гостиной, Джефферсон пытался вспомнить все тёплые письма, летавшие между ними через Ла-Манш, когда её муж был послом в Лондоне. Они обменивались сведениями о детях, о знакомых, о светских новостях, а также выполняли просьбы друг друга о всевозможных покупках. Абигайль хлопотала об отправке ему заказанной арфы, посылала одежду для подрастающей Полли. Он, в свою очередь, отыскивал для неё и отправлял парижские туфли, флорентийский шёлк, перчатки, батист на платье. Специально поехал в монастырь Мон-Калвери, славившийся изготовлением шёлковых чулок, и потом испытал приятное волнение, пакуя этот деликатный товар.
Но вдруг переписка оборвалась.
Последнее письмо от Абигайль он получил десять лет назад. Что могло быть причиной? Конечно, и он, и Адамсы, вернувшись в Америку, не раз оказывались вместе то в Нью-Йорке, то в Филадельфии. Но при коротких личных встречах таким холодом веяло от обоих супругов, что Джефферсон поневоле стал избегать их. Возможно, политические разногласия были главной причиной. Но не могло ли к этому добавиться что-то ещё? Адамсы придерживались строгих моральных правил и взглядов. Если бы они узнали о его отношениях с Салли Хемингс, вряд ли они отнеслись бы к этому с таким пониманием, как Марта или Долли Мэдисон.
Войдя в гостиную, Абигайль поздоровалась с гостем без улыбки и на некоторое время замерла, положив руку на спинку кресла. На лице её застыло то выражение, которое проницательная Салли подметила ещё в Лондоне и назвала качанием весов с чашами «правильно» и «неправильно». Видимо, вариант «отказаться разговаривать со старинным другом» заставил стрелку весов качнуться в сторону «неправильно» — Абигайль опустилась в кресло и сделала приглашающий жест рукой в сторону дивана, стоявшего напротив.
— Я пришёл проститься перед отъездом, — сказал Джефферсон, — и передать горячий привет от Полли, которая часто вспоминает вас и доброту, с которой вы приняли её в своём доме, когда она пересекла океан и так была полна страха перед новой жизнью.
— Я слышала, что девочка вышла замуж. Кто её муж? Довольны ли вы новым зятем?
— Она вышла за своего кузена Джека Эппса. Он вполне достойный молодой человек, они знали друг друга с детства. Я предпочёл бы, чтобы она выбрала другого ухажёра, моего молодого друга, конгрессмена Уильяма Джилса, но ведь сердцу не прикажешь. А как поживают ваши дети? Знаю, что мой любимец Джон Куинси уже посол в Пруссии. Есть ли новости о нём?
— О да! Он успел преподнести нам сюрприз: наконец в свои 30 лет нашёл себе избранницу. Она дочь американского купца, они венчались в Лондоне.
— А дочь Нэбби и её семья?
— Они прочно осели в Нью-Йорке. Их дети растут здоровыми и очень радуют меня при встречах.
— С её мужем, полковником Смитом, мы в своё время обменивались дружескими письмами, когда жили в Европе.
— Да, он показывал мне ваши письма. Мне запомнилось одно. То, в котором вы восхваляете бунты, объявляете их полезной грозой, очищающей политическую атмосферу в государстве.
Интонация и выражение лица Абигайль Адамc ясно показали, что чаша с надписью «неправильно» опять решительно пошла вниз в её душе и стукнулась о дно весов.
— Я отнюдь не восхвалял. Я просто указал на тот факт, что в мировой истории не было государства, которое могло бы просуществовать без восстаний и революций. И с гордостью подчеркнул, что восстание в Массачусетсе — единственный случай в десятилетней истории тринадцати американских государств. Это получается один небольшой бунт за 130 лет. Какая страна может похвастать таким спокойствием?
— Раз уж мы заговорили о политике, я позволю себе воспользоваться случаем и спросить: сами-то вы верите той клевете, которую республиканские газеты печатают о моём муже? Что он скрытый монархист, что тайно готовит возвращение Америки под власть Британии?
— Конечно, нет. Но в мой адрес газеты федералистов бросают ещё более чудовищные обвинения. Я стараюсь не обращать внимания, говорю себе, что это оборотная сторона, издержки той самой свободы слова, без которой республиканское правление неосуществимо. Да, раскол на партии пронизал все стороны жизни. Когда в Филадельфии отличного врача уволили с поста директора больницы, главный пропагандист федералистов честно объявил в своей газете: «Я скорее доверю собаке зализывать мою рану, чем позволю перевязать её врачу-республиканцу».
— Когда создавалась конституция, было проведено разумное разделение верховной власти на три ветви: исполнительная, законодательная, судебная. Но никто не мог предвидеть, что так быстро в стране вырастет четвёртая ветвь — пресса. Оказалось, что десятки и сотни умелых демагогов, никем не избранных и не назначенных, жонглируя словами, фактами, слухами, домыслами, могут увлекать тысячи граждан то в одну, то в другую сторону. Их ядовитые перья способны перечеркнуть все достоинства, заслуги, таланты избранной жертвы поношений.
— Согласен, у свободы печати есть свои досадные побочные явления. Но очень часто газетчики разных партий переносят огонь друг на друга и забывают заниматься очернением политиков. Во всяком случае, выпускать против них закон о подрывной деятельности представляется мне не только несправедливым, но и опасным. В Канаде оленеводы традиционно боролись с волками при помощи ружей и собак. Оказалось, что применение ядов действует более надёжно. Но в тех местах, где такой метод применялся широко и волки исчезли совсем, среди оленей начался падёж от болезней. Оказывается, добычей волков в первую очередь становились больные животные и распространение заразы замедлялось. Так и среди людей: если политики и чиновники не будут бояться разоблачений, коррупция среди них достигнет масштабов эпидемии.
— Но то же самое случится и в стадах журналистов: если вы не будете удалять из них самых оголтелых, если окажется, что беспардонная и безнаказанная клевета приносит безотказный успех и рост тиражей, эпидемия лжи и бесстыдства захлестнёт все типографские станки. Есть писаки, у которых злоба накапливается на перьях, как яд — в зубах кобры. Полагаю, вам известно такое имя — Джеймс Кэллендер?
— Да, мне попадались его публикации.
Этот человек делает вид, будто борется с пороками и злоупотреблениями, а на самом деле ему ненавистна любая власть как таковая. Живя в Шотландии, он нападал на британское правительство, приехав в Америку, сделал своей мишенью американское. Никому нет пощады: ни верховному судье Джону Джею, ни генералу Вашингтону, ни президенту Адамсу. Я знаю, что вы поддерживаете Кэллендера деньгами, потому что вам нравится, как он поливал грязью вашего врага Гамильтона. Но поверьте моей интуиции, если на следующих выборах ваша партия придёт к власти, и она, и вы сделаетесь объектом его ненависти и нападок. Кобра не может изменить своей сути, не может превратиться в ужа.
— По сути, наш спор, как и все политические споры, есть состязание страхов. Одни страшатся тех тенденций в развитии страны, которые могут привести к ущемлению свобод, возврату тирании. Другие, как ваш муж и его соратники, больше боятся наступления неуправляемой анархии, диктатуры толпы. Но не кажется ли вам, что если закон о подрывной деятельности будет принят конгрессом — а сомневаться в этом не приходится, — если журналистов и печатников начнут сажать в тюрьму и штрафовать, это только создаст им ореол мученичества и усилит их влияние на умы?
— С моей точки зрения, такой человек, как Кэллендер, давно заслужил если не виселицу, то, по крайней мере, смолу и перья. Закон же предполагает довольно мягкие наказания: штраф не больше двух тысяч долларов и заключение на срок не более двух лет. Кроме того, четвёртая статья закона ясно указывает на то, что он будет отменён в марте 1801 года, что он принимается в ряду других оборонных мер на время войны.
— Но Америка не находится в состоянии войны! Если бы все эти военные приготовления не провоцировали Францию…
— Да, я помню вашу страстную любовь ко всему французскому. И вашу способность увлекаться абстрактными идеями. И вашу веру в мечты Руссо о врождённой доброте и незлобивости человека. Однако давнишний друг Америки, британский парламентарий Бёрк, превосходно объяснил в своей книге «Заметки о французской революции», как легко в погоне за прекрасным идеалом свободы народы могут рухнуть в кровавый хаос. Я не хочу свободы для грабителя с ножом, для сумасшедшего с мушкетом, для адвоката с гильотиной.
Позвольте мне сказать следующее. Любой политический лидер, обращаясь к своим согражданам, выступает в роли прорицателя. «Вот какие перемены в нашей жизни желательны, и я верю в то, что у нас хватит сил и мудрости, чтобы осуществить их». Так мы говорили в 1776 году, но лидеры противной партии выступали с обратными пророчествами: «Нет, противоборство с Британией безнадёжно и только принесёт ненужные страдания». И те и другие устремляли свой взор в океан неведомого, который именуется «дух нации». Мы оказались правы и победили. Почему нельзя поверить в то, что и дух французского народа найдёт в себе силы для преодоления крайностей революции? Какое мы имеем право грозить ему оружием?
— Кто и кому грозит оружием? Мой муж прилагает все усилия к тому, чтобы избежать прямого военного столкновения. Он отдаёт себе отчёт в том, какими бедствиями оно будет чревато для народа, насколько Америка не готова к нему. Но, как сказал римский историк: «Хочешь мира — готовься к войне». Кроме того, объявление войны — прерогатива конгресса. Если воинственные настроения захватят две трети депутатов, президент не сможет даже применить право вето.
— Всё равно, глава исполнительной власти мог бы энергичнее использовать своё влияние, мог бы противодействовать принятию провокационных оборонительных мер. Франция поглощена войной в Европе — каким образом она может напасть на нас? Из Вест-Индии? Из Луизианы?
— Вы были главой исполнительной власти в Виргинии в 1781 году. И вы так же не верили в возможность вторжения британцев, откладывали призыв милиции, хотя война уже шла полным ходом. Генерал фон Штойбен рассказывал нам, как вы даже отказались выделить ему рабочих или роту солдат для строительства оборонительного форта на реке Джеймс. И чем это обернулось? Сожжённые города, разграбленные поместья, тысячи угнанных в плен и убитых. Я бы умерла от стыда за своего мужа, если бы он допустил нечто подобное.
Джефферсон почувствовал, что у него перехватывает дыхание. Слова Абигайль ударили в самое больное, в то, что он всеми силами пытался отодвинуть в самые дальние чуланы памяти. Он попробовал привычно захлопнуть створки своей душевной раковины, но было поздно. Стрела торчала внутри. И рана — он знал это — будет болеть ещё долго.
Оставалось только найти силы, чтобы сохранить маску вежливости и проститься, не теряя достоинства. Он встал с дивана, начал говорить что-то о необходимости укладываться перед отъездом.
— Значит, вы уедете, не дождавшись голосования в конгрессе? — спросила Абигайль.
— Мнение вице-президента учитывается только тогда, когда голоса в сенате разделятся поровну. На этот раз перевес на стороне федералистов столь очевиден, что такой вариант исключается. Я могу удалиться в Монтичелло с чистой совестью.
Выйдя из президентского особняка, Джефферсон вдруг вспомнил тот майский день в Париже, когда они вместе смотрели запуск воздушного шара. И как Абигайль сказала: «Какое это счастье — иметь кого-то, с кем можно оставаться самой собой».
Что ж, сегодня она, безусловно, осталась самой собой со своим посетителем. Да и он тоже — не лицемерил, не поддакивал, не скрывал своего несогласия. Но каким крахом, каким болезненным разочарованием это обернулось для его другой мечты — нравиться всем и восхищать ближних и дальних. Он не верил, что когда-нибудь — чем-нибудь — ему удастся заслужить одобрение и дружбу этой неповторимой, непокорной, ни на кого не похожей женщины.
Но на следующий день, выезжая в карете из Филадельфии, он уже улетал мыслями вперёд, на поля предстоящих полемических баталий, укладывал в голове первые фразы резолюции против новых законов, проект которой он переправит в ассамблею штата Кентукки. Сделать это надо будет тайно, потому что главные положения документа легко могут быть подведены под действие закона о подрывной деятельности. Оглядывая зеленеющие берега Делавэра, он незаметно для себя напевал запомнившуюся ему английскую песенку:
Тропа вольна свой бег сужать. Кустам сам Бог велел дрожать. А мы должны наш путь держать, Наш путь держать, наш путь держать[10].Июнь, 1798
«Да, это верно, что Массачусетс и Коннектикут вполне взнуздали и оседлали нас и едут на нас куда им вздумается, оскорбляя наши чувства и истощая наши силы и ресурсы. Но похоже, что в каждой свободной и развивающейся стране сама природа человека будет приводить к тому, что люди станут раскалываться на партии, вступающие в яростное противоборство друг с другом. Однако если спасаясь от диктатуры одной партии, другая решит отделиться от союза, существование любого федерального правительства сделается невозможным. Допустим, мы отделимся от Новой Англии, поможет ли это примирению? Нет, немедленно возникнут пенсильванская и виргинская партии и общественное сознание снова будет разорвано партийными разногласиями. Точно то же произойдёт, если мы ограничим наш союз лишь Виргинией и Северной Каролиной. В истории не существовало ассоциаций людей, которые сумели бы не ссориться друг с другом. Поэтому я предпочитаю оставаться в союзе с Новой Англией и ждать, когда общественное мнение склонится на сторону республиканцев».
Из письма Томаса Джефферсона другуЛето, 1798
«Подрывные силы в нашей стране используют в качестве инструмента пришельца по имени Джеймс Кэллендер. Во имя чести и справедливости, как долго мы будем терпеть, чтобы такая гнида, воплощение партийной грязи и коррупции, принявшее облик человеческий, продолжала действовать безнаказанно? Не пришло ли время, чтобы он и ему подобные боялись поносить нашу страну и правительство, выражать презрение ко всему американскому народу, призывать наших врагов презирать нас и поливать ядом клеветы наши власти, учреждённые конституцией?»
Из газеты федералистовДекабрь, 1798
«Ассамблея штата Виргиния выражает свой решительный протест против опасных нарушений конституции, содержащихся в двух законах, принятых на последней сессии конгресса. Закон об иностранцах предоставляет федеральному правительству право изгонять из страны неугодных, которое не было оговорено конституцией. Закон о подрывной деятельности прямо нарушает первую поправку, запрещающую конгрессу принимать законы, ограничивающие право граждан свободно обсуждать действия властей и обмениваться мнениями на этот счёт».
Из Виргинской резолюции, анонимно подготовленной Джефферсоном и МэдисономЯнварь, 1799
«Я горько сожалею о том, что Виргиния стала во главе оппозиции. По счастью, среди остальных штатов только Кентукки присоединился к ней. Всё, что нам дорого, подвергается атакам. Оппозиция висит тяжёлым грузом на колёсах, движущих правительство. Когда она осуждает все оборонные меры; когда ставит интересы Франции выше благоденствия собственной страны; когда акт о нейтралитете и другие меры, одобренные конгрессом, штатными легислатурами и народом, объявляются действиями, корыстно направленными к выгоде Британии в ущерб Франции; когда предлагаются меры, грозящие расторжением союза; в момент такого кризиса все честные и способные люди должны употребить свой талант и авторитет для противодействия подобным тенденциям».
Из письма Вашингтона Патрику ГенриДекабрь, 1799
«Смерть нашего возлюбленного главнокомандующего генерала Вашингтона пробудила, я уверен, в вас те же чувства, что и во мне. Может быть, среди его друзей нет никого, кто имел бы так много оснований скорбеть о его кончине, как я. Для нашей страны это огромная утрата. Сердце моё в печали, разум в унынии».
Из письма Александра Гамильтона другуЗима, 1800
«После генерала Вашингтона осталось множество бумаг и документов, и не следует принимать всё это наследие как неопровержимую истину. То, что содержит его собственное описание событий или его мнения, заслуживает абсолютного доверия. Мало было людей, чьи мысли отличались бы такой честностью и глубиной. Его страсти были сильны, но его разум умел побеждать их. Однако его собственные слова запечатлены в оставшихся бумагах лишь как малая часть их. Остальное представляет собой смесь слухов и реальности, подозрений и свидетельств, фактов и домыслов. История будет черпать из этого материала то, что составитель, роялист или республиканец сочтёт полезным выбирать. Вот если бы историю Американской революции писал сам генерал Вашингтон, получился бы достойный памятник цельности его ума, глубины его суждений, его способности отличать истину от фальши, принципы от претензий».
Томас Джефферсон. АвтобиографияИЮНЬ, 1800. РИЧМОНД
Джеймс Томсон Кэллендер был арестован 27 мая, в Питерсберге, штат Виргиния, куда он ездил, чтобы обсудить с издателем условия публикации второго тома трактата «Наши перспективы». Ему объявили, что арест произведён по решению большого жюри в Ричмонде, которому были представлены 20 отрывков из первого тома этой книги, опубликованного в феврале, и которое нашло эти отрывки содержащими преступление, описанное в законе о подрывной деятельности: нападки и клевету на правительство Соединённых Штатов Америки и лично президента, нацеленные на очернение их в глазах народа, на подрыв их авторитета, на возбуждение бунта против законных властей.
В борьбе с враждебной пропагандой федералисты использовали любые приёмы. Под угрозой судебного преследования книготорговцам было запрещено продавать книгу «Наши перспективы». Почтмейстеры во всех штатах назначались президентом, поэтому им не возбранялось «терять» рассылаемые газеты и журналы республиканцев.
Кэллендера привезли в Ричмонд и поставили перед судьёй Сэмюэлом Чейзом, который только что приехал в Виргинию с ясным намерением нагнать страху на местную республиканскую прессу. Месяц назад в Филадельфии он приговорил журналиста Томаса Купера к шести месяцам тюрьмы и штрафу в 400 долларов. Надеяться на то, что он обойдётся более милосердно с человеком, крови которого жаждали все федералисты в стране, было бы просто смешно. В просьбе адвокатов перенести процесс на осень, чтобы дать им возможность пригласить необходимых свидетелей, он отказал. Тем не менее разрешил отложить суд на три дня и даже позволил на это время выпустить обвиняемого из-под стражи под залог в 400 долларов.
Всё воскресенье 1 июня Джеймс Кэллендер провёл в своей маленькой квартирке в тяжёлых раздумьях. Выбор перед ним был простой: или бежать, или отправиться в тюрьму и обрести статус мученика, жертвы политического преследования.
Спасаться бегством от безжалостных врагов ему доводилось уже не раз. Живя в Шотландии, он публиковал анонимно сатирические заметки, подражая резкому сарказму боготворимого им Джонатана Свифта, а когда выпустил книгу «Политический прогресс в Британии», тучи над ним сгустились так, что он счёл за лучшее уплыть в Америку, оставив на родине жену и трёх сыновей. Однако и в Америке его искусство наживать себе врагов быстро начало приносить плоды. За шесть лет сотрудничества в республиканских газетах он навлёк на себя такую ненависть, что два года назад вынужден был покинуть Филадельфию, пешком покрыл расстояние в 200 миль и нашёл приют у богатого виргинского плантатора.
В Ричмонде он стал печататься в газете «Экзаминер», яростно нападать на президента Адамса, так что местные молодые федералисты сговорились подкараулить его и избить. Опять бегство под покровом ночи, опять поиски приюта, опять привычный страх низкорослого человека, с детства привыкшего бояться больших и сильных мужчин. Но если даже в Виргинии богатые и влиятельные республиканцы (губернатор Монро среди них!) не могли защитить его, где было искать укрытия? Остался ли в этой огромной стране хоть один уголок, где гонимый защитник правды мог найти убежище?
А что, если махнуть рукой на судью Чейза, на залог, на трёх адвокатов, взявшихся защищать его бесплатно, сесть на лошадь и поехать на запад, в дом единственного человека, который вот уже три года неизменно выражал одобрение его мыслям и писаниям, посылал деньги, подбадривал, обещал всяческую поддержку? Если он появится на пороге дома Томаса Джефферсона в Монтичелло, неужели хозяин закроет перед ним дверь? А если впустит, неужели шериф посмеет вытащить его силой из дома вице-президента?
Год назад он делился своими мечтами в письме Джефферсону: оставить поля злобных газетных баталий, уплыть вверх по реке Джеймс, купить 50 акров земли, найти сердечную виргинскую женщину, которая умела бы откармливать свиней, варить мамалыгу, заботиться о его сыновьях, мать которых умерла два года назад, а главное, помалкивать. Если понадобится, он готов был бы овладеть профессией плотника или другим каким-нибудь ремеслом — лишь бы вырваться из океана людской злобы и жестокости. Джефферсон ответил ему сочувственным письмом, но призвал пока оставаться в рядах тех, кто отдаёт свой талант и перо на защиту священного дела свободы.
О, Кэллендер помнил их первую встречу летом 1797 года! Сам вице-президент Соединённых Штатов явился в редакцию газеты «Аврора», чтобы встретиться с автором книги «История Америки за 1796 год». Высокий, нарядный, прославленный, богатый, приветливый. Он сказал, что читал и книгу о Британии и вполне согласен с эгалитарными идеями, изложенными в ней. Он сказал, что засилье федералистов в правительстве и конгрессе может быть чревато печальными последствиями для страны и что смелость честных журналистов должна сыграть очень важную роль в противостоянии им. Он не назвал Гамильтона по имени, но дал понять, что одобряет скандальные разоблачения этого лидера федералистов, сделанные в пятой и шестой главах книги «1796».
Уже в ранней юности Кэллендер открыл для себя это наслаждение: возноситься над знатными, богатыми, знаменитыми при помощи слов. Если ты критикуешь знаменитого писателя Сэмюэла Джонсона, значит, ты возносишься над ним на шкале таланта. Если ты разоблачаешь близорукость и упрямство палаты лордов, значит, ты умнее заносчивой британской знати. Если поливаешь сарказмом корысть и безнравственность членов парламента, значит, твои моральные критерии выше критериев, которым следуют народные избранники.
Разве мог он отказаться от этого наслаждения, переехав в Америку?
Нет, нет и нет! Незаслуженно вознесённые будут трепетать перед безжалостной правдой его разоблачений.
Когда Вашингтон подписал договор с Британией, Джеймс Кэллендер обрушил на него шквал упрёков: «Вы игнорировали глас народа и опустились до роли партийного лидера. Теперь никто не будет видеть в вас святого с непогрешимыми суждениями. Такое поведение позволяет нам сбросить повязку с глаз и увидеть, что перед нами не отец нации, а человек, претендующий на роль хозяина. Если был когда-нибудь политик, изменивший своим обязанностям перед страной и народом, то это, безусловно, Джордж Вашингтон».
Президента Адамса Кэллендер обвинял в разжигании войны, в тайном монархизме, в раболепии перед Британией. «Величайший лицемер, отталкивающий педант, непревзойдённый глупец… Странное сочетание невежества и свирепости, лживости и слабости… Характер гермафродита, в котором нет ни мужской твёрдости и решительности, ни женской мягкости и чувствительности. В управлении страной ему следует оставить лишь формальные функции: произносить речи перед конгрессом раз в году, подписывать принимаемые законы, появляться перед иностранными послами. За такую работу вполне хватило бы жалованья в тысячу долларов в год».
Доставалось и семье президента. Мало того что Адамc устроил своего сыночка, Джона Куинси, послом в Пруссию, он также тратил деньги налогоплательщиков на шикарные наряды сына, в которых тот появлялся при европейских дворах. А его супруга, знаменитая Абигайль Адамc? Знают ли простые американцы, сколько она потратила на убранство президентского особняка, на карету и лошадей, на торжественные приёмы?
Смешать с грязью самого Александра Гамильтона доставило Кэллендеру такое удовольствие, что он испытывал приступ злорадства, вызывая этот эпизод в памяти снова и снова. И как жалко, как беспомощно бывший директор казначейства пытался спрятать свои финансовые делишки под покров признания в адюльтере! Политическая карьера любимчика Вашингтона была кончена, это ясно. И кто же свалил этого колосса на глиняных ногах? Он, Джеймс Кэллендер, бедный изгнанник, бесправный иммигрант, имеющий в своих руках единственное оружие — молот правды.
Как правило, политики в своих спорах, критикуя действия оппонента, обязаны были выдвигать какую-то позитивную программу, разъяснять избирателям, какие шаги они предпримут для преодоления того или иного кризиса. На журналисте такая обязанность не лежала. Он мог написать, что «президент был обязан заставить Британию уважать права американских моряков и купцов», и при этом не задаваться вопросом, было ли подобное пожелание выполнимо. Его дело громко прокричать: «Позор!» — а там уж пусть другие исправляют нанесённый ущерб.
За восемь лет Кэллендер сумел заслужить такую репутацию бесстрашного скандалиста, что полезная информация сама стекалась к нему в виде анонимных писем, отправляемых на адреса газет, в которых он печатался. Он сортировал её, хранил и упивался своей властью над будущими жертвами разоблачений, не подозревавшими об опасности, нависшей над ними. Были среди этих писем и сообщения, бросавшие тень на его кумира Томаса Джефферсона — но этим он отказывался верить.
Вице-президент был выше подозрений, никакое пятно не должно было запачкать его репутацию.
Неправда, что он в юности завёл роман с женой близкого друга и соседа Джона Уокера. Не мог великий человек опуститься до банальной пошлой интрижки. И то, что он в зрелые годы пытался возобновить ухаживания, наверняка есть беспардонная клевета.
Неправда, что у себя в Монтичелло он завёл себе чёрную наложницу и наплодил с ней полдюжины детей. Негры внушали Кэллендеру только отвращение и брезгливость; вообразить, что достойный белый джентльмен обнимает обнажённую чёрную рабыню, он просто был не в силах.
Неправда, что вице-президент, при всех его доходах и солидном жалованье, запутался в долгах и часто вынужден брать новые займы, отдавая в залог земельные участки и невольников. Он просто непомерно щедр и порой заходит слишком далеко в своей благотворительности. Уж кто-кто, а Джеймс Кэллендер может подтвердить это на собственном примере. За три года он уже получил от хозяина Монтичелло несколько сотен долларов.
Правда, где-то в глубине души Джеймс Кэллендер — нет, не то чтобы планировал, но обкатывал пикантную ситуацию, которую при злом намерении можно было превратить в очередную разоблачительную кампанию. Всё же вице-президент Соединённых Штатов тайно, за спиной правительства, субсидировал журналиста, который называл Вашингтона предателем, а Джона Адамса — безмозглым гермафродитом. Если это всплывёт в печати, понравятся ли такие сообщения американским избирателям?
Как ни странно, уязвимость кумира окрашивала влюблённость Кэллендера оттенком нежного сострадания. Да, этот великий человек тоже имел слабости, тоже нуждался в помощи и поддержке. И он, Кэллендер, верный воин армии борцов за свободу, будет продолжать свою войну до конца. Он будет снова и снова, по любому поводу кричать американцам, что на предстоящих президентских выборах их альтернативы просты и очевидны: проголосовать за Адамса — это проголосовать за войну и возврат монархического деспотизма, выбрать Джефферсона — это выбрать мир, свободу и процветание.
Колебаниям больше не оставалось места. Он явится завтра на суд — а там будь что будет.
Пока судья Сэмюэл Чейз занимал своё место на возвышении, раскладывал бумаги на столе, поправлял складки мантии и парик, шёпотом давал инструкции бейлифу[11], Кэллендер восстанавливал в памяти всё, что его адвокаты успели рассказать о характере и карьере этого столпа американского правосудия. Адвокатскую карьеру начал двадцатилетним. Участвовал в Континентальном конгрессе, подписал Декларацию независимости. Овдовев, после войны поехал — куда? — конечно, в Британию, где женился на англичанке. Четыре года назад Вашингтон перед уходом с поста включил Чейза в состав Верховного суда в качестве дополнительного члена. Свирепость его приговоров приводила порой в замешательство даже федералистов. Проворовавшегося почтмейстера в Аннаполисе он присудил к тридцати девяти ударам плетью.
Ах, как было бы хорошо со временем откопать компромат и на судью Чейза! Что должно было случиться 40 лет назад в Мэриленде, что его исключили из клуба «за непристойное поведение»? А в 1778 году, когда он был членом конгресса и пытался играть на хлебном рынке, используя внутреннюю информацию, полученную в правительственных кругах, — неужели не сохранилось никаких документов, которые можно было бы извлечь на свет и представить на суд американского читателя?
Лица присяжных были бесцветны и непроницаемы. Но адвокаты Кэллендера заверили его, что подбор вёлся по единственному критерию — ни одного республиканца! Отводы судья Чейз отклонял. Накануне в город был введён полк виргинской милиции, тоже составленный почти целиком из сторонников федералистов.
С самого начала Кэллендеру стало очевидно, что его адвокаты не тешили себя надеждой добиться его оправдания. Их стратегия состояла в том, чтобы акцентировать всё своё внимание на аспектах политической предвзятости в поведении судьи Чейза, изобразить своего подзащитного жертвой судебного произвола. Они снова просили об отсрочке, указывая на необходимость вызвать таких-то и таких-то свидетелей, которые могли бы подтвердить справедливость критики в адрес президента Адамса. Судья на это отвечал, что очернение государственного деятеля в печати подпадает под действие закона независимо от того, справедливо оно или нет. То же самое он говорил, когда адвокаты заявляли, что в выбранных отрывках автор книги «Наши перспективы» просто высказывает своё мнение и не приводит никаких фактов и действий, компрометирующих президента.
— Неужели американского гражданина можно судить за высказанные им мысли?
— Да, — отвечал судья, — если эти мысли бросают тень на избранников народа.
Прокурор пошёл ещё дальше. Он заставил защиту доказывать, что в приведённых отрывках не содержалось злонамеренных нападок на правительство. Презумпция невиновности отменялась и заменялась презумпцией виновности. Единственная задача обвинения — подтвердить, что Джеймс Кэллендер был автором книги «Наши перспективы». Для этой цели в качестве свидетеля был вызван печатник, который представил суду имевшиеся у него страницы, написанные рукой обвиняемого.
Последним ходом защиты был обращенный к присяжным призыв объявить закон о подрывной деятельности неконституционным и на этом основании вынести оправдательный приговор. Тут уж судья получил повод обрушить на защитников гневный монолог.
— К чему вы призываете? К тому, чтобы 12 рядовых граждан получили право учить Конгресс Соединённых Штатов, как управлять страной? Вы понимаете, что это призыв к анархии, к мятежу? Что вас самих можно привлечь к суду за подобную демагогию?
Конфронтация между судьёй и адвокатами накалялась и кончилась тем, что все три защитника один за другим демонстративно покинули зал суда.
Суммируя результаты процесса, судья Чейз сделал упор на том, что обвиняемый хотя и прожил в Америке меньше десяти лет, является человеком образованным и хорошо осведомлённым. Он не мог не знать об огромных заслугах мистера Адамса, о его многолетней и верной службе своей стране в качестве конгрессмена, посланника, вице-президента. Подвергать его такому шельмованию в печати можно было, только отбросив все критерии правды и справедливости, злонамеренно пересекая границу между принципами свободной печати и оголтелой словесной разнузданностью.
Присяжные совещались не больше двух часов. Кэллендер был признан виновным по всем пунктам обвинения. Судья Чейз вынес приговор: 200 долларов штрафа и девять месяцев тюрьмы.
Уже по дороге из зала суда в тюремную камеру в голове осуждённого всплывали слова газетных заголовков, которые должны быть набраны крупным шрифтом:
«Позорный процесс в Ричмондском суде».
«После девяти лет травли враги свободы наконец настигли Джеймса Кэллендера!»
«Кто подхватит знамя правды, выпавшее из руки поверженного воина?»
На следующий день он первым делом написал письмо Джефферсону, обрисовав ужасные условия заключения: «…среди воров и насильников, в камере, наполненной жарой и вонью, где заключённый может подцепить все мыслимые болезни, если только он не обладает выносливостью лошади». Однако закончил послание вдохновенным пассажем, полным надежд на окончательную победу: «Ваша доброта простит мне радостную болтливость; но моё сердце до боли переполнено счастливым предвкушением того часа, когда стадо федералистских грабителей будет изгнано из их логова; когда угнетателям отольются страдания, причинённые ими, и хищники отрыгнут часть своей добычи».
Сказать по чести, мученический венец оказался не таким уж тяжёлым. Десятки рук протянулись со всех сторон на помощь осуждённому. Начальник ричмондской тюрьмы, старинный знакомый и протеже Джефферсона, пообещал, что узнику будет предоставлена отдельная камера, он будет обеспечен освещением, отоплением, бумагой и чернилами и сможет продолжать работу над вторым томом книги «Наши перспективы». Видные республиканцы в городе собирали по подписке деньги на уплату наложенного штрафа, на питание Кэллендера, на оплату содержания его сыновей, остававшихся в Филадельфии в доме добросердечного фермера. Сам губернатор Виргинии Джеймс Монро посетил его и удостоил беседой, в которой дал понять, что республиканцы, придя к власти, не забудут его героическую борьбу против засилья федералистов.
В тщеславных мечтах заключённый уже видел, как его кумир Томас Джефферсон выводит его из темницы и назначает почтмейстером города Ричмонда.
Не про такие ли повороты судьбы возвещает евангельское пророчество: «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Всякий, кто упадёт на тот камень, разобьётся, а на кого он упадёт, того раздавит»?
Похоже, можно было оглядеться и возвращаться к своему любимому занятию: отыскивать следующую жертву, чтобы упасть на неё и раздавить.
Январь, 1801
«Я согласен с тем, что политика мистера Джефферсона сильно окрашена фанатизмом, что он был злонамеренным противником действий правительства Адамса, что он искусен и упорен в достижении поставленных целей, что он может пренебрегать правдой и умело лицемерить. Но не правы те, кто считает, что, следуя своим принципам, он может решиться на необдуманные поступки и меры. Скорее его характер склонен сохранять те социальные нововведения, которым он вначале противился, если они показали свою работоспособность. Что касается Аарона Бёрра, то ясно, что он человек экстремальных и нерегулируемых амбиций. У него нет твёрдых убеждений, и он легко может пойти по пути удовлетворения своих личных интересов. Может ли человек без принципов быть успешным государственным деятелем? Я полагаю, что нет».
Из частного письма Александра ГамильтонаФевраль, 1801
«На президентских выборах 1800 года мистер Джефферсон и мистер Бёрр получили одинаковое число голосов выборщиков, каждый по 73. Хотя многие, голосуя за Бёрра, имели в виду, что он займёт пост вице-президента, конституция требовала, чтобы в такой ситуации исход выборов решался голосованием в палате представителей конгресса. Здесь восемь штатов из шестнадцати проголосовали за Джефферсона, шесть — за Бёрра, а делегации двух штатов разделились поровну между федералистами и республиканцами, и они никак не могли высказаться в пользу того или другого. 35 раз проводилось голосование, и только на 36-й один федералист из штата Делавэр снял своё возражение против республиканского кандидата, и этот штат стал девятым “за”, что и принесло победу мистеру Джефферсону».
Дэвид Рэмси. История Соединённых ШтатовМарт, 1801
«Наша обширная и плодородная земля, наш энергичный народ находятся в торговых отношениях с многими заокеанскими странами, которые уважают лишь силу и забывают о праве. Отголоски их раздоров докатываются до наших мирных берегов, и это нормально, что среди нас будут расхождения в мнениях о том, откуда нам грозит наибольшая опасность и какие меры необходимо принять для укрепления обороноспособности. Но, расходясь во мнениях, мы едины в своей преданности республиканскому правлению. В этом смысле мы все федералисты, мы все республиканцы. Некоторые честные люди опасаются, что наше правительство, представляющее собой эксперимент, невиданный в мировой истории, дающее надежду всему миру на возможность обретения свободы, не будет иметь достаточно силы. Я не согласен с этим. Я думаю, что, наоборот, только то правление, которое поддержано свободными гражданами, устремляющимися самоотверженно на защиту своих границ и своих законов, будет наисильнейшим».
Из речи Джефферсона при вступлении в должность третьего президента СШАВесна, 1801
«После прочтения Вашей речи в газетах многие старинные друзья, разделённые на годы партийными разногласиями, признали, что их разделяют лишь мнения, а не принципы, и смогли пожать друг другу руки. Мы едины в отстаивании общих интересов нашей страны. Ваше торжественное обращение к согражданам, к европейским нациям, ко всем обитателям земного шара и к потомству до последнего поколения послужит сильнейшим средством упрочения политического порядка и счастья народов».
Из письма доктора Раша ДжефферсонуАпрель, 1802
«Переход Луизианы и Флориды из-под власти Испании под власть Франции в корне меняет политическую ситуацию и создаёт новую эпоху в истории Соединённых Штатов. Три восьмых нашего экспорта идёт через порт Новый Орлеан, поэтому всякий, кто владеет им, представляет известную угрозу для нас. Долгая дружба между нашей страной и Францией оказывается под угрозой. Прошу Вас выяснить, готовы ли в Париже искать компромисс в данной ситуации и пойти навстречу нашим интересам. Лучше всего было бы, если бы они согласились уступить нам Новый Орлеан и Флориду. Безусловно, это устранило бы источник взаимного раздражения и недовольства между нами».
Из письма президента Джефферсона американскому послу во ФранцииСентябрь, 1802
«Хорошо известно, что человек, которого американцы с восторгом удостоили многими почестями, вот уже много лет имеет в качестве наложницы одну из своих рабынь. Её зовут Салли. Имя её старшего сына — Том. Говорят, внешне он весьма похож на президента, хотя и чёрный. Ему десять или двенадцать лет. Его мать была во Франции вместе с мистером Джефферсоном и двумя его дочерьми… Какой образец поведения американский посланник демонстрировал перед глазами двух молодых леди!
Эта девица Салли родила президенту нескольких детей. В окрестностях Шарлоттсвилла нет человека, который не был бы осведомлён об этой истории, но… молчание! Да, полное молчание будут хранить об этом республиканские газеты и биографы».
Из статьи Джеймса Кэллендера, напечатанной в газете «Ричмонд рекордер»СЕНТЯБРЬ, 1802. МОНТИЧЕЛЛО
— Это и есть та безопасность, которую вы обещали мне тогда в Париже? — спросила Салли.
На её осунувшемся лице полные слёз глаза казались непомерно большими, взгляд был устремлён над головой Джефферсона, блуждал по оленьим рогам на стене, по мраморным бюстам, по гравюрам с морскими пейзажами. С того дня, когда год назад пришло известие о самоубийстве брата Джеймса в Балтиморе, она, казалось, утратила свой дар прятаться в царство «как будто» от горестей реальной жизни. Но от того, что обрушилось на них сегодня, укрыться было всё равно невозможно, потому что источник опасности был растворён в ночном мраке за окном, в стволах шумящих деревьев, в тумане, подползавшем к стенам дома.
Джефферсон повернулся к подростку, стоявшему рядом с Салли, в смущении мявшему вязаный картуз в чёрных пальцах.
— Давай, Роберт, расскажи всё по-порядку. Значит, двое неизвестных белых мужчин пришли в магазин мистера Белла и начали расспрашивать тебя о твоих родственниках, так?
— Ну да. У нас в Шарлоттсвилле я никогда их раньше не видел. Нездешние, это точно, и говорят как янки. Но откуда-то всё про нас знают. Знают, что мою мать зовут Мэри Хемингс-Белл, что отец умер два года назад. Но больше всего их интересовала наша родня здесь, в Монтичелло. Всё спрашивали про кузена Тома, знали, что он сын тёти Салли. Хотели знать, бывает ли он в Шарлоттсвилле и всё такое.
— А ты не спросил, зачем им это нужно?
— Я не спрашивал, но они сами объяснили, что хорошо знали дядю Джеймса в Балтиморе, дружили с ним и что он перед смертью оставил небольшое наследство любимому племяннику. Им якобы поручено передать Тому деньги и кое-какие вещи.
— Интересно, почему же эти добрые самаритяне ждали целый год, чтобы исполнить благое дело. И почему они не могут сделать это, прямо явившись в Монтичелло?
Я не посмел спрашивать белых джентльменов, но они сами объяснили, что в Монтичелло их не пустят, ибо там — то есть здесь — перед чужаками делают вид, будто Тома Хемингса вообще нет на свете. Вот если бы я пригласил его в Шарлоттсвилл, или на рыбалку, или в лес на прогулку, они бы мне хорошо заплатили. И тут же дали целых десять долларов.
— Какие негодяи! — воскликнула Салли. Потом вдруг перешла на французский. — Вы видите, другого объяснения нет: кто-то нанял их похитить мальчика! Чтобы выставить его перед всем светом. Живое подтверждение газетной брани. Боже мой, где укрыться от них, где искать спасения?!
Джефферсон подошёл к ней, обнял за плечи, отёр платком слёзы. Затем обернулся к Роберту Беллу:
— Они обещали прийти снова?
— Да, через два дня.
— Ты хорошо поступил, Роберт, что предупредил нас. Я не хочу, чтобы ты возвращался в Шарлоттсвилл в темноте. Переночуй у бабушки Бетти. Завтра утром я скажу тебе, как следует отвечать незваным гостям.
Когда Роберт ушёл, Салли устало опустилась в кресло и произнесла, глядя в пустоту:
— Всё же это невероятно: самый главный, самый могущественный человек в стране не в силах уберечь и оградить одного ни в чём не повинного мальчика, собственного сына.
Джефферсон молчал. Этой беды он ждал давно, предвидел её и всё же оказался совершенно не готов, когда голова Медузы, покрытая змеями, возникла перед ним, приблизилась вплотную и показала свой оскал. Как права была Абигайль Адамc, предупреждавшая его о Джеймсе Кэллендере: «Кобра не может превратиться в ужа».
Ну а если бы он вёл себя осторожнее, если бы согласился встретиться с ним, когда приезжал в Вашингтон полтора года назад, задобрил обещаниями, даже дал пост почтмейстера в Ричмонде — разве это что-нибудь изменило бы? Другой журналист, другая газета, жадная до раздувания скандалов, рано или поздно раскопали бы все тайны Монтичелло, вынесли на всеобщее обозрение. Единственный способ спастись от злобных перьев — оставаться незаметным, вести скромную, тихую жизнь, не выходить за границы семейного круга. Но когда судьба вознесла тебя так высоко, ты неизбежно попадёшь под ослепительный свет всех фонарей и факелов.
— Вы не будете возражать, если Том сегодня ляжет в моей комнате? — спросила Салли. — Я отодвину к стене кроватку Беверли, а Харриет положу в постель с собой. Тому постелю матрас на полу. Иначе не смогу заснуть от тревоги.
— Хорошо, делай как знаешь. Но для тревоги пока нет достаточно причин. Никакие похитители не рискнут, не посмеют явиться сюда, пока я здесь.
— Через две недели вы уедете обратно в Вашингтон. И что тогда?
— Мне нужно время, чтобы всё обдумать. У нас есть разные варианты. Ты тоже подумай, вслушайся в свои чувства. Готова ли ты будешь, если это понадобится для безопасности Тома, расстаться с ним на время? Утром, на свежую голову, мы всё обсудим и примем решение.
Когда Салли ушла, Джефферсон достал свежий выпуск газеты «Ричмонд рекордер», присланный накануне, и стал перечитывать новую заметку Кэллендера:
«Наш информатор сообщил, что в первой моей статье была допущена ошибка: чёрная девица Салли прибыла во Францию не вместе с мистером Джефферсоном, а тремя годами позже, сопровождая его младшую дочь».
«Наш информатор» — кто бы это мог быть? Таким точным знанием всех деталей и обстоятельств событий пятнадцатилетней давности мог обладать только очень близкий человек, может быть, даже родственник. Это он сообщил Кэллендеру, что Салли рожала пять раз, что старшему её сыну 12 лет, что его зовут Том. Кто мог питать к хозяину Монтичелло затаённую ненависть, чтобы нанести подобный удар?
Муж Марты, Томас Мэн Рэндольф, не раз выражал раздражение в адрес главы семейства — не мог ли он выбрать такой способ насолить? Ведь и для него связь тестя с цветной женщиной должна была быть источником многих неудобств и неловкостей, помехой в политической карьере.
Или племянник Питер Карр?
Пять лет назад он уже был пойман на странной эпистолярной авантюре — послал письмо Вашингтону, якобы от имени некоего Лонгхорна, в котором провоцировал бывшего президента высказаться неодобрительно в адрес Джефферсона. Когда подделка была разоблачена бдительным почтмейстером, Вашингтон, конечно, не мог поверить, что племянник действовал без ведома дядюшки. Именно после этой истории порвалась последняя связь между Монтичелло и Маунт-Верноном.
Впрочем, так ли это важно — кто именно выступил в роли доносчика? Посеянные зубы дракона взошли, Язону нужно думать, как одолеть возникшую из-под земли армию врагов.
Что, если попросить шерифа Шарлоттсвилла задержать подозрительных пришельцев и выяснить, кто их послал? Старинный друг, полковник Николас Льюис, наверное, не откажет в такой просьбе.
Но нет, они повторят свою версию, что выполняют поручение покойного Джеймса Хемингса, и их придётся освободить. А газеты федералистов получат повод писать о президенте, который пытается пускать в ход полицию для сокрытия своих неблаговидных деяний.
Нанести удар прямо по газете «Ричмонд рекордер»?
Кажется, ею владеет недавний иммигрант из Англии — не найдётся ли повода выслать его из страны? Создаётся впечатление, что Британия, не сумев подавить свои колонии оружием, решила отравить их ядовитыми перьями, высылая сюда самых рьяных раздувателей скандалов. Конечно, это будет истолковано как покушение на свободу слова. Кроме того, статьи Кэллендера уже перепечатывают чуть ли не все крупные газеты страны. Мэрилендская «Фредериктаун геральд» даже провела собственное расследование и подтвердила фактологическую правильность разоблачений.
«Салли Хемингс и её дети от мистера Джефферсона действительно существуют, — писала газета. — В Монтичелло она имеет отдельную комнату, выполняет роль домашней портнихи или даже домоправительницы. Характер её отличается трудолюбием и добронравием. Её интимные отношения с хозяином всем известны, поэтому по своему статусу она находится гораздо выше других слуг в доме. Её сын, которого Кэллендер называет “президент Том”, действительно внешне очень похож на мистера Джефферсона».
Ну что ж, хорошо, что хотя бы отдали должное доброте и благонравию Салли. Другие газеты не гнушались даже использовать эпитеты «заурядная шлюха». Но конечно, и в таких заметках таилась опасность. Она пряталась в слове «похож». Похитить мальчика, рождённого чёрной невольницей и похожего на президента, — это будет разжигать азарт авантюристов всех мастей так же безотказно, как кровь из раны упавшего в воду моряка собирает вокруг него стаю акул. Всех не остановишь, не отгонишь. Выход может быть только один: убрать соблазнительную дичь из океана, населённого зубастыми хищниками.
Джефферсон достал лист бумаги, открыл крышку чернильницы, обмакнул перо и вывел на верхней строке: «Дорогой мистер Вудсон…»
Восходящее солнце ещё только подкрасило снизу полоску облаков на горизонте, когда Джефферсон прошёл по галерее и спустился в кухню, пропахшую сушёным укропом. Питер Хемингс уже разжигал печь для завтрака, его старшая сестра замешивала тесто для блинчиков.
— Крита, ты сможешь справиться сегодня с готовкой обеда одна? — спросил Джефферсон. — Я хочу похитить Питера для другого дела.
— Конечно, масса Том. У нас со вчерашнего дня и супа осталась почти полная кастрюля, и жаркое. Соберу в огороде огурцов и помидоров для салата, сварю кукурузу — на всех хватит.
Джефферсон поманил Питера за собой, вышел на веранду.
— Ты помнишь дорогу на ферму мистера Вудсона в графстве Гучленд? В прошлом годуя посылал тебя к нему обменять наши гвозди на муку.
— Это там, где Риванна впадает в Джеймс?
— Вот-вот. Мне нужно, чтобы ты срочно отвёз ему письмо, дождался ответа и привёз обратно. 20 миль в один конец — сумеешь обернуться за день?
— Конечно, масса. Какого коня можно взять?
— Бери любого. Только проверь, чтобы был подкован.
Джефферсон достал из кармана конверт, запечатанный сургучной печатью, вручил посланцу, похлопал по плечу. Питер, довольный тем, что ему выпало счастье нарушить кухонную рутину, побежал к конюшне.
Теперь оставалось только ждать.
Впрочем, нет, ещё одно обстоятельство требовало проверки.
После завтрака Джефферсон увёл Тома Хемингса с собой в кабинет, посадил за стол и сказал:
— Мама Салли говорит, что за прошедший год ты сделал успехи в правописании. Я хочу убедиться в этом. Возьми бумагу, перо и опиши всё, что ты видишь вокруг себя в этой комнате.
Мальчик послушно подвинул к себе лист бумаги и стал обводить взглядом стены, окна, люстру под потолком. Потом вытер пальцы и принялся описывать увиденное. Его светловолосая голова чуть склонилась набок, белый воротник рубашки оттенял крепкую загорелую шею. Глядя на затылок сына, Джефферсон подумал, что взаимная настороженность, окрашивавшая их отношения, вырастала из одного и того же корня: оба чувствовали, что им нельзя — было бы опасно — полюбить друг друга от всей души. С внуками всё было гораздо проще. Но когда дети оказывались вместе в одной комнате, он старался следить за собой, никому не оказывать предпочтения. Легче всего это получалось со скрипкой в руках — общие танцы и музыка уравнивали всех безотказно.
Через полчаса Джефферсон забрал у Тома исписанный листок.
— Давай посмотрим, что у тебя получилось. Ну что ж, очень неплохо. Ошибки, конечно, попадаются, над этим придётся ещё трудиться. Ага, ты описал не только окно, но и деревья за ним — очень интересно. «Настенные часы показывают одиннадцать» — правильно, всегда следи за временем. Мудрый Франклин писал: «Если ты любишь жизнь, не растрачивай попусту время, ибо это тот самый материал, из которого она ткётся». А скажи, Том, когда мама Салли или дядя Питер поручают тебе какую-нибудь работу, есть среди этих заданий что-нибудь, что нравится тебе больше других?
— В конюшне! — воскликнул мальчик не задумываясь. — Всякая работа с лошадьми — это лучше всего. Готов мыть их, чистить гривы, убирать навоз. Они такие красивые! И умные. Всё понимают, что им говорят. «Дай копыто» — дают. «Наклони голову» — наклоняют.
— Я тоже с детства любил коней и верховую езду. А хотел бы ты попасть в ученье к плантатору, у которого много лошадей? Тогда бы ты смог, когда вырастешь, завести собственный конный завод и выращивать лошадей на продажу.
— Очень хотел бы.
— Постараюсь это устроить. Верхом ты уже ездишь неплохо, я видел. Может быть, в ближайшее время тебе представится случай совершить длительную конную поездку.
Когда мальчик ушёл, Джефферсон почувствовал, что очередной приступ мигрени начал пускать свои щупальца вокруг глазных яблок. Звать на помощь Салли не было смысла — гибель Джеймса так подействовала на неё, что волшебная целительная сила ушла из её рук. Джефферсон выпил рюмку лауданума и стал ждать, когда лекарство подействует.
Да, Джеймс Хемингс… Чего ему не хватало? Свободный, с хорошей профессией, здоровый, молодой. Говорят, что после освобождения он стал охотнее уступать зову зелёного змия. Но ведь пьянство, как правило, не причина душевного надлома, а следствие его. Некоторая ожесточённость была заметна в нём с юности. Как он тогда в Париже сцепился со своим учителем французского — даже подрался, отказался заплатить за часть уроков. Год назад Джефферсон пытался нанять его к себе, в президентский особняк, сообщил ему об этом через владельца гостиницы в Балтиморе, но тот со смущением написал в ответ, что Джеймс Хемингс требует письменного запроса от президента Соединённых Штатов с указанием предлагаемого жалованья. Ублажать такие капризы не было времени — пришлось нанять более покладистого повара-француза. Может быть, это и оказалось роковым ударом по самолюбию отпрыска гордого Джона Вэйлса?
Слава богу, у Роберта Хемингса судьба сложилась по-другому: женился, работает, жена нарожала ему детей. Правда, он ушёл из парикмахерской, завёл собственный фруктовый ларёк. Так случалось не раз: бывший невольник, получивший свободу, ни за что не хотел возвращаться в статус служащего, искал любую возможность сделаться «независимым предпринимателем». Дочь Марта, встретившаяся с Робертом на улицах Ричмонда, писала отцу, что бывший слуга полон чувства вины за то, что отказался возобновить службу в Монтичелло на правах свободного, оправдывался желанием быть с семьёй. Пришлось хлопотать о том, чтобы Роберту разрешено было остаться в Виргинии.
Почему же он сумел выдержать испытание свободой, а Джеймс — нет? Не связано ли это с тем, что судьба двух братьев в юности сложилась по-разному? Джеймс всё-таки всегда оставался на службе у хозяина, а Роберту было разрешено свободно искать и выбирать себе нанимателей. Может быть, умению быть свободным подростка следует обучать так же, как учат грамоте, езде верхом, игре на скрипке?
Надежды на то, что ассамблея штата сделает шаги в сторону отмены рабства, быстро таяли. Страх, что чёрные последуют примеру восставших в Сан-Доминго, расползался по плантациям. Слухи, долетавшие с взбунтовавшегося острова, леденили кровь: семьи белых вырезали от младенцев до стариков, трупы с выколотыми глазами качались на ветках деревьев, бывших владельцев живьём сжигали в их домах. Два года назад в Ричмонде был раскрыт заговор некоего Габриэля, подбивавшего чёрных собратьев проделать то же самое в Виргинии и потом укрыться в горах. Два десятка участников были приговорены к повешению. Джефферсон написал губернатору Джеймсу Монро, призывая помиловать осуждённых, — куда там! Белые пригрозили, что возьмут дело в свои руки и не ограничатся изобличёнными заговорщиками.
Посыльный из почтовой конторы Шарлоттсвилла привёз дневную порцию писем и газет. В чёрных заголовках передовиц Джефферсону теперь всегда чудилось что-то змеиное — он отложил газеты в сторону. Среди конвертов один был толще других — послание от нового директора казначейства Альберта Галлатина.
Уроженец Женевы, эмигрировавший в Америку 20 лет назад, Галлатин быстро завоевал такой авторитет в Пенсильвании, что был избран в палату представителей. В конгрессе он, ссылаясь на двухсотлетний опыт республиканского правления в Швейцарии, неутомимо критиковал все реформы Гамильтона в сфере организации финансов. Естественно, став президентом, Джефферсон пригласил такого человека стать членом его кабинета. Он надеялся, что на посту директора казначейства Галлатин сумеет поднять архивы этого учреждения и разоблачить все махинации выскочки с Вест-Индских островов.
И что же?
Через полгода честный швейцарец явился к президенту с докладом и смущённо объявил, что никаких злоупотреблений со стороны бывшего директора обнаружить не удалось. Более того, финансовую структуру, созданную им, можно признать совершенной. Всем будущим директорам остаётся только следовать заложенным принципам. Благодаря учреждению Банка Соединённых Штатов Америки и таможенной службы удалось уменьшить общенациональный долг. А это, в свою очередь, возродило кредитоспособность Америки и европейские банкиры снова были готовы ссужать её займами.
Джефферсон знал, что по отношению к двум политическим противникам, Гамильтону и Адамсу, в глубине его души таилась ещё и личная зависть: у них обоих были сыновья, а у него нет. Мечта иметь сына, наследника, продолжателя дела жизни, не умирала. Конечно, сыновья от Салли не могли осуществить эту мечту, ибо расовые предрассудки ставили перед ними непреодолимую стену. Но что, если бы у него был любимый сын от Марты и жестокая судьба обошлась бы с ним так же, как она обошлась с сыновьями его соперников?
Сначала сын Адамса, Чарлз, умирает спившимся и растранжирившим всё состояние. Год спустя Филипп Гамильтон, талантливый и многообещающий, гибнет на нелепой дуэли. Представить себе горе отцов — на это не хватало воображения. Игла сострадания проникала сквозь старинную стену вражды. А в соединении с открытиями Галлатина размывалась и уверенность в том, что вражда была оправданной. Вдруг окажется, что и его противники на своих постах делали что-то нужное и полезное для страны, что в каких-то направлениях их взор дальше проникал за черту горизонта?
Возможно, неутолённый отцовский инстинкт прорвался и в его чувстве к Мериуэзеру Льюису. Каждый раз, когда мальчик появлялся в Монтичелло, у него теплело на сердце. Подросток явно унаследовал все добродетели дяди Николаса, растившего его, — честный, энергичный, вдумчивый, незлобивый. Бывал он и на пикниках в доме мистера Белла в Шарлоттсвилле, дружил с его детьми и с Мэри Хемингс. Иметь личного секретаря, который знает о твоих отношениях с Салли и не осуждает их, — это, конечно, сыграло свою роль в сделанном выборе.
Плюс у них с юным Льюисом была одна общая страсть: разведывать тайны Творения, коллекционировать и описывать травы, деревья, птиц, зверей. Мальчик делился с ним своей мечтой: совершить путешествие к Тихому океану. Что, если последние события в Европе сделают эту мечту осуществимой? Огромные территории за реками Миссисипи и Миссури сейчас принадлежат Испании, Франции, Британии. Но если организовать экспедицию с сугубо научными целями, для сбора материала из разных областей географии, зоологии и ботаники, может быть, правительства этих стран не заподозрят Америку в агрессивных происках и дадут разрешение на проезд?
Питер вернулся из поездки затемно. Джефферсон прочитал привезённый им ответ мистера Вудсона и поднял взгляд на посланца.
— Питер, в последний год ты показал себя не только отличным поваром, но и вполне взрослым человеком, с чувством ответственности. Я хочу, чтобы ты дал мне обещание никому не рассказывать о сегодняшней поездке.
— Никому-никому? Даже маме Бетти?
— Даже ей.
— Хорошо. Я обещаю.
— А теперь пойди и скажи Салли, что я жду её в кабинете. Салли вошла настороженная, в тёмном платье, застёгнутом
под самое горло. За прошедшие годы её сходство с покойной Мартой не только усилилось, но как бы повторило те же возрастные стадии. Сейчас это была Марта в 30 лет — такая, какой была в год рождения Марии.
— Салли, я всё обдумал и хотел бы получить твоё согласие на составленный мною план. Ты помнишь моё обещание: давать свободу всем твоим детям по достижении ими двадцати одного года. Но обстоятельства, как ты видишь, сложились так, что Тома ради его безопасности нам следует отпустить гораздо раньше. Согласна ли ты на это?
— Отпустить — но куда? К кому? Просто отправить мальчика на все четыре стороны?
— Конечно нет. Ты помнишь мистера Джона Вудсона, богатого фермера из графства Гучленд? Он сын моей тётки с материнской стороны, то есть приходится мне кузеном. Другие Вудсоны владеют не только фермами, но и паромами на реке Джеймс. Мы встречались с Джоном не раз на пикниках во дворе мистера Белла. Он добрейший и достойнейший джентльмен. Я написал ему, и он выразил готовность принять Тома как племянника в свой дом и заботиться о нём вплоть до совершеннолетия. Вот письмо от него.
Пока Салли читала, Джефферсон смотрел на её склонённый профиль и вдруг почувствовал, что его вечное чувство вины перед ней отлилось в новую иглу боли во лбу. Может быть, и правда для неё было бы лучше остаться в Париже? Может быть, судьба пощадила бы её и маленького Тома, дала бы им выжить в пожаре революции и войны? Она встретила бы достойного человека, который пленился бы её очарованием, принял бы её с ребёнком, женился бы на ней, дал ей то бесценное сокровище, которого он, Джефферсон, дать не может, при всём своём богатстве, — чувство собственного достоинства, место среди других людей на земле?
Салли подняла глаза от письма, посмотрела на Джефферсона пытливо и задумчиво:
— Значит, Измаилу пора удалиться в пустыню? А Агарь должна дать своё согласие на это? На то, чтобы он стал жить «как дикий осёл и чтобы руки всех людей были на нём»?
— Как ты помнишь, дальше Священное Писание сообщает, что у Измаила родилось 12 сыновей и от него пошёл великий народ, называемый измаильтяне. Но, возвращаясь из царства легенд в наш бренный мир, мы увидим, что Тому не грозит ни жажда, ни голод в пустыне. Мистер Вудсон будет регулярно сообщать нам о здоровье «племянника», и в случае болезни мы сможем быстро прийти на помощь. Тома обучат всем премудростям земледелия, чтобы он смог завести своё хозяйство, когда вырастет. Только о местонахождении его не должна знать ни одна живая душа. Свои письма тебе он станет отправлять, не указывая обратного адреса. Похитители, потеряв его след, должны будут оставить свою преступную затею.
— А что, если они попытаются похитить Беверли?
— Четырёхлетний Беверли мало похож на меня и не представляет для них интереса. О двухлетней Харриет и говорить нечего. Под крышей Монтичелло они будут в безопасности, и мы сделаем всё возможное, чтобы они выросли готовыми к вступлению в мир свободных.
— Вы сказали, что ваш кузен мистер Вудсон бывает в Шарлоттсвилле. Не сможет ли он иногда брать с собой Тома, чтобы я могла повидаться с ним в доме сестры?
— В первый год это будет слишком опасно. Злоумышленники могут появиться там снова, и мы не будем знать об этом. Гораздо лучше, если вы с Питером будете время от времени навещать мальчика прямо на ферме мистера Вудсона. Только делать это следует так, чтобы никто не знал о настоящей цели вашей поездки. Родным скажете, что отправляетесь в Ричмонд за покупками.
Обсуждая необходимые предосторожности, оба постепенно свыкались, примирялись с мыслью о том, что задуманный план не только осуществим, но и представляет собой наилучший вариант спасения от нависшей угрозы. Всё же Салли попросила отложить отъезд сына на два дня — чтобы собрать необходимую одежду, обувь, тетрадки, а главное, подготовить себя и его к предстоящей разлуке. Джефферсон с готовностью согласился.
Ему тоже до отъезда в Вашингтон требовалось принять решения по многим вопросам, не терпевшим отлагательства.
Американский посол в Англии, Руфус Кинг, назначенный ещё Вашингтоном, просил об отставке. Кого послать ему на замену?
Готовилось присоединение к союзу нового штата — Огайо. Как добиться, чтобы в его конституцию был заранее включён пункт о запрете рабства?
Секретарь президента капитан Мериуэзер Льюис ждал инструкций о задуманной ими экспедиции к Тихому океану.
Министр иностранных дел Джеймс Мэдисон — о переговорах с Бонапартом.
Джефферсон давно вынашивал идею строительства сухих доков, в которых боевые корабли смогут лучше сохраняться в мирное время, — кому поручить это важное дело?
Также его не оставляла мечта заманить дочерей с детьми погостить у него в президентском особняке в Вашингтоне.
Эти и другие неотложные мысли и заботы продолжали занимать его ум, когда ранним утром назначенного дня он стоял на крыльце своего дома, глядя на двух путников, готовых в дорогу. Перед тем как оседлать коня, Питер Хемингс, положив руку на Библию, поклялся никому не рассказывать, куда он отвезёт своего племянника.
Салли последний раз прижала к груди сына, застегнула пуговицы на его куртке, повесила через плечо фляжку с водой. Стремя было высоковато для мальчика, и Джефферсон подсадил его в седло.
Том смотрел прямо перед собой, твёрдая складка на лбу без слов должна была показать всем, что детству пришёл конец и что он готов к тому, что ждёт его впереди.
Стук копыт вспугнул стаю жёлтых финчей с лужайки, и они красиво рассыпались на ветках ближайших кустов крыжовника.
Осень, 1802
Сатирическая баллада, напечатанная в газетах федералистов
Ура! Наш масса Джефферсон Сказал, что все равны. Но почему не пашет он, А мы пахать должны? И почему, коль все равны, Нет белой у меня жены? Нет радости в моём дому? Мне жисть такая ни к чему. А ежели, час не ровён, Мы, братцы, поменяем жён? Возьму я белую жену — последнего фасона, И будет чёрная в дому у массы Джефферсона. Ура, братва! Начнём с утра! Крушите всё кругом! Кричите все: «Гип-гип ура, Наш масса Джефферсон!»[12]Апрель, 1803
«Первый консул Французской республики, желая выразить дружеские чувства к Соединённым Штатам, настоящим передаёт им в полное владение порт Новый Орлеан и территории Луизианы, простирающиеся к востоку и северу от него, включая все общественные здания, площади, укрепления, казармы и пустующие земли. Все архивы, бумаги и документы, относящиеся к административному управлению, будут переданы комиссарам американского правительства. Жители передаваемых территорий получат возможность стать гражданами Соединённых Штатов в соответствии с федеральной конституцией и смогут пользоваться всеми правами, вольностями и свободой исповедовать выбранную ими религию».
Из договора, подписанного в Париже американскими посланникамиИюнь, 1803
«Задачей Вашей экспедиции является исследование реки Миссури и её притоков, а также возможного водного пути через континент к Тихому океану с целью расширения нашей торговли. Астрономические инструменты для определения широты и долготы уже приготовлены для Вас, а также военное министерство поможет Вам собрать и закупить необходимое оружие, палатки, лодки, амуницию, лекарства, предметы для обмена с индейцами. Военный министр предоставит Вам право вербовать на добровольных началах солдат и офицеров для участия в экспедиции, над которыми Вы будете иметь полную власть командира».
Из инструкций, подготовленных Джефферсоном для капитана Мериуэзера ЛьюисаЛЕТО, 1803. ВАШИНГТОН
Семьи Джефферсон и Льюис, живя в окрестностях Шарлоттсвилла, имели возможность хорошо узнать друг друга и с годами прониклись таким взаимным доверием, какого не всегда удаётся достичь даже кровным родственникам. Когда Джефферсон жил в Париже, полковник Николас Льюис практически стал его душеприказчиком в графстве Албемарл. А когда пришло время выбирать домашнего учителя для любимого племянника Мериуэзера, полковник нанял не кого-нибудь, а сына того самого профессора, который учил ещё юного Томаса Джефферсона.
С детских лет Мериуэзер Льюис умел инстинктивно разделять окружавших его людей на два главных разряда, но долго не мог найти правильного названия для них. Добрые и злые? Нет, этим он пользовался только в школьные годы. Затем началась путаница, ибо в обоих разрядах попадались и мягкие добряки, и суровые деспоты, культивировавшие дисциплину. Учитель английской грамматики объяснил ему значение слова «справедливость». «Справедливый» и «несправедливый» подходило ближе, но тоже не отражало ту глубинную разницу, которую мальчик угадывал чутьём по интонациям голоса, по манере смотреть или не смотреть в глаза, по внешнему облику человека. Наконец, в Евангелии ему попалось слово, которое показалось самым исчерпывающим: «миротворец».
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими».
Да, именно так: с одной стороны — миротворцы, ищущие способов покончить с любой враждой; с другой — сеятели раздора, радующиеся любому поводу «гневаться на брата своего».
И всей душой, всеми помыслами Мериуэзер Льюис тянулся к тем, кто сделал умиротворение главной задачей своей жизни. Он мечтал занять почётное место в их рядах, послужить установлению всеобщего мира на земле во славу Творца.
Спрашивается: каким же образом такой юноша мог сознательно и добровольно в 20 лет взять в руки мушкет и вступить в милицию штата Виргиния, чтобы отправиться на подавление восстания в западной Пенсильвании?
Сам Мериуэзер не мог бы с уверенностью ответить на этот вопрос. Может быть, семейная традиция сыграла здесь свою роль. Его покойный отец участвовал в Войне за независимость, его отчим и любимый дядюшка Николас тоже были офицерами. Кроме того, духи зла и раздора порой набирали такую мощь, что их невозможно было подавить и отразить иначе как с оружием в руках. Когда генерал Энтони Уэйн разбил объединённые племена индейцев в битве при Фоллен-Тимберс, в северо-западном Огайо, он тем самым положил конец — или по крайней мере устроил перерыв — в сорокалетней войне, заливавшей кровью западную границу страны.
Участвовать в настоящих боевых действиях прапорщику Льюису не довелось. Начальство, видимо, заметило в нём природный дар убеждать, вести переговоры, утишать страсти и поручило заниматься исключительно вербовкой рекрутов. За этим занятием и застало его письмо из Вашингтона, приглашавшее принять чин капитана и занять пост личного секретаря новоизбранного президента.
Мистер Томас Джефферсон был кумиром Мериуэзера Льюиса с детских лет. На миротворческой шкале он занимал в сердце мальчика самые верхние ступени. Во время встреч в Монтичелло и Шарлоттсвилле будущий президент был воплощением приветливости и спокойствия, его невозможно было представить себе разгневанным, осуждающим кого-то, грозящим карами детям или невольникам.
Книгу «Заметки о Виргинии» Мериуэзер прочёл от корки до корки, делал выписки из неё. Также дядюшка Николас давал ему читать свою переписку с посланником, а потом вице-президентом Джефферсоном. В одном письме из Филадельфии тот делился с полковником Льюисом своими опасениями, что запланированное конгрессом строительство американского флота может спровоцировать Францию на военные действия. «Шесть кораблей по 74 орудия на каждом, и ещё шесть, несущих по 18 стволов, составят 552 орудия. Изготовление каждого будет стоить 10 тысяч долларов. Где мы возьмём эти пять миллионов?»
Только настоящий миротворец, будучи вознесённым на вершину власти, мог обратиться к народу с этими незабываемыми словами: «Мы все федералисты, мы все республиканцы!» Кто ещё из политиков был способен подняться на такую душевную высоту?
Конечно, Мериуэзер Льюис был изумлён и осчастливлен, получив в начале 1801 года письмо от своего кумира, в котором тот приглашал его приехать в Вашингтон и занять пост его секретаря. Перенестись из армейских казарм и провинциальных городков в блестящий мир столицы, общаться с депутатами конгресса, судьями, министрами, иностранными послами — хватит ли у него образования, светского лоска, проницательности, умения владеть собой? Но предаваться страхам и колебаниям просто не было времени. Мериуэзер немедленно ответил президенту благодарным письмом, собрал свой нехитрый багаж и выехал в Вашингтон.
К счастью, обязанности секретаря оказались посильными: курсировать между президентским особняком и Капитолием, доставляя послания членам конгресса, рассылать приглашения на обеды и совещания, просматривать поступающую почту и газеты. Джефферсон вёл обширную переписку, однако предпочитал писать письма собственной рукой, и это было большим облегчением для его секретаря, который не блистал искусством правописания. И с первых же месяцев оба исподволь, но неустанно делали шаги к осуществлению их общей мечты — организации экспедиции к берегам Тихого океана.
Впервые они обсуждали такую возможность ещё десять лет назад, когда Философское общество в Филадельфии планировало отправить на берега Миссури французского ботаника Андре Мишо. Уже тогда Мериуэзер просил Джефферсона включить его в состав экспедиции. Энтузиазм девятнадцатилетнего юноши был таким искренним, что хозяин Монтичелло открыл ему доступ к своей домашней библиотеке и всячески поощрял интерес к географии, геологии, ботанике, зоологии, археологическим раскопкам. Президент Вашингтон тоже был крайне заинтересован, предлагал даже денежный взнос для финансирования. Экспедиция сорвалась, потому что Мишо объявили французским шпионом, пытающимся проникнуть на территорию, принадлежащую Испании. Джефферсон обещал Мериуэзеру, что на этот раз заранее прощупает почву и будет улаживать дипломатические проблемы с неослабным вниманием.
Порой трудности, выраставшие перед ними, казались непреодолимыми, как горная гряда, увенчанная снежными вершинами. Какими аргументами убедить конгресс выделить деньги на затею, не сулящую никаких немедленных выгод? Где найти переводчиков для общения с племенами индейцев на берегах Миссури? Насколько сильны и враждебны эти племена? Согласятся ли они показать путь в горах, отделяющих верховья Миссури от верховьев Колумбии, впадающей в Тихий океан? Как получить разрешение колониальных властей Испании, Франции, Британии на проезд через их территории?
Последний вопрос приобрёл особую остроту летом 1802 года. Испания, находившаяся в союзе с Францией, вдруг объявила о закрытии порта Нового Орлеана для Америки. Это означало, что все товары, доставлявшиеся к океану по Огайо и Миссисипи, оказывались запертыми на материке. Буря возмущения поднялась в конгрессе и во всех штатах, не имевших другого выхода к морю.
Воевать! Немедленно отбить Новый Орлеан у испанцев!
Понадобились вся энергия и весь талант миротворца Джефферсона, чтобы остудить горячие головы. «Мы заплатим за такую ошибку многолетней войной, — объяснял он, — десятками тысяч жизней и сотнями миллионов долларов. Вместо того, чтобы посылать армию за полторы тысячи миль, не лучше ли дождаться того момента, когда берега Миссисипи заселятся достаточным числом американцев, чтобы создать новый штат, который сможет обеспечить другой выход к океану?»
Однако непредсказуемые изгибы европейской дипломатии вскоре привели к тому, что Новый Орлеан перешёл под власть Франции. И всемогущий первый консул Бонапарт, отчаянно нуждавшийся в деньгах для войны с Англией, обратился к американцам с заманчивым предложением: «Не хотите ли приобрести этот важный порт, а заодно и всю Луизиану по весьма сходной цене?» Речь шла, по сути, о том, чтобы без войны увеличить вдвое территорию Соединённых Штатов Америки. Ошеломлённый открывающимися возможностями Джефферсон срочно отправил Джеймса Монро для переговоров в Париж. А экспедиция на запад по Миссисипи и Миссури вдруг превратилась из смутной мечты двух любознательных виргинцев в насущную государственную необходимость.
С этого момента подготовка закипела всерьёз. Она шла по пяти направлениям одновременно:
Конструирование и изготовление нескольких гребных шлюпов и баркасов.
Закупка необходимого снаряжения.
Вербовка солдат и гребцов, способных выдержать все тяготы двухлетнего путешествия.
Ознакомление с картами и путевыми заметками, составленными британскими и канадскими путешественниками, достигавшими Тихого океана по суше.
Сбор информации о племенах, населявших берега Миссисипи, Миссури, Колумбии.
Нравы, быт, обычаи, весь уклад жизни индейских племён, обитавших за Аллеганскими горами, был хорошо знаком Мериуэзеру Льюису с юности. В его сознании не было места стандартному образу краснокожего, с окровавленным ножом в одной руке и содранным скальпом в другой, утвердившемуся в воображении многих американцев. На шкале «миротворцы — агрессоры» племена и отдельные индейцы располагались с тем же непредсказуемым разнообразием, как и белые. Мирные делавары, жившие в своих тростниковых домах и выращивавшие овощи на грядках, были совсем непохожи на свирепых минква, приплывавших в их края на пирогах ради грабежа и убийств. В дальнем путешествии исследователям предстояло сталкиваться с племенами, которые ещё не встречались с европейцами. Нужно было готовиться к любому повороту событий.
В Вашингтоне время от времени появлялись вожди, приехавшие для переговоров, и Мериуэзер не упускал возможности встретиться с ними, расспросить о их нуждах, расширить список подарков для индейцев, которые следовало взять с собой. В этом списке уже были гребни и платки, нитки бисера и карманные зеркальца, кухонные ножи и медные котелки, разноцветные ленты и иголки с нитками, серьги и брошки, ножницы и булавки, пачки табака и цветные рубашки, напёрстки и рыболовные крючки. Стоимость всего заготовленного богатства перевалила за 600 долларов, но Мериуэзер не был уверен, что пришла пора подвести черту.
В сентябре предыдущего года Джефферсон ещё находился в Монтичелло, когда в столицу прибыл вождь Красивое Озеро, возглавлявший племя сенека, входившее в ассоциацию ирокезов. Капитану Льюису пришлось принимать его в особняке и вести переговоры самостоятельно. Этот вождь перенёс в своё время тяжёлую болезнь, во время которой ему явился Создатель Всего Живого и приказал учить соплеменников соблюдать древние традиции и церемонии, укреплять семейные отношения и не прикасаться к спиртному. Вождь Красивое Озеро стал кем-то вроде пророка, послушать его приезжали ирокезы из самых дальних селений. Джефферсон жалел потом, что не встретился с ним лично, написал ему большое письмо. В этом письме он заверял новоявленного пророка, что будет строго следить за соблюдением правил покупки земли у индейцев, за тем, чтобы такие покупки делались только при ясно выраженном согласии всего племени.
«Брат Красивое Озеро! — писал президент. — Да сопутствует тебе удача во всех делах. Призывай наших краснокожих братьев оставаться трезвыми и возделывать землю, а женщин — прясть и делать одежду для своих семей из тканей. Пока вы добывали пропитание охотой, вам нужны были обширные просторы. Но при переходе к земледелию вы сумеете получать с одной поляны больше, чем с целого леса. Ваши дети и женщины будут сыты и тепло одеты, всё племя будет жить мирно и счастливо, постоянно возрастая числом».
Вместе с вождём приезжал племенной шаман по имени Воронье Крыло, и Мериуэзер Льюис с интересом расспрашивал его о верованиях ирокезов. Среди прочего шаман похвастался, что может уничтожить любого врага на расстоянии, призвав на помощь невидимых духов. Брат Льюис не верит ему? Он даже не верит, что это духи, наученные шаманом, отправили на тот свет генерала Энтони Уэйна, отомстили через год за битву у Фоллен-Тимберс? А есть у брата Льюиса враг, с которым ему хотелось бы расправиться? Можно провести испытание. Только для успешного колдовства понадобится какая-нибудь вещь, принадлежавшая врагу.
Капитан Льюис не стал сознаваться шаману в том, что в его сердце, издавна столь настроенном на примирение всех со всеми, недавно начала вскипать волна неодолимой злобы. И не к кому-то одному, а к целой профессии. Мериуэзер Льюис год назад возненавидел газетчиков. Страсть, с которой они обливали грязью политиков, генералов, судей, друг друга, давно вышла из берегов разумности, справедливости, уважения к элементарной достоверности фактов. Казалось, сеятели раздора нашли себе занятие по душе, объединились в банды и шайки и устроили в стране настоящий шабаш нечистой силы. А то, что главным объектом их злобы стал президент Джефферсон, придавало чувствам его секретаря особую силу.
Пожалуй, отношение к свободе печати было единственным пунктом, в котором они расходились во мнениях. Позиция «над схваткой», занятая президентом, казалась Мериуэзеру неправильной. Правильным было бы вернуть закон о подрывной деятельности. Судить, штрафовать, сажать в тюрьму сорвавшихся с цепи писак. И был среди них один, по отношению к которому Мериуэзеру довелось впервые в жизни испытать незнакомое чувство — желание уничтожить.
Он стыдился этого чувства (хорош миротворец!), но ничего не мог с собой поделать. С объектом ненависти у него состоялась только одна встреча, когда мистер Джефферсон послал его поддержать только что выпущенного из тюрьмы журналиста пятьюдесятью долларами. Конечно, Мериуэзер не мог предвидеть, что этот жалкий неблагодарный человечек через год станет яростным врагом президента. Но уже тогда он будто всей кожей воспринял бурление злобной враждебности, изливавшейся из глаз, с губ, языка этого сеятеля раздора. И конечно с пера. С детских лет он умел инстинктивно распознавать эту вибрацию злобы во встречном, но никогда она ещё не встречалась ему в таком чистом виде. Создатель всего живого либо совершил здесь ошибку, либо наоборот, хотел изготовить учебный экспонат, выродка, на котором остальные люди могли бы научиться взаимодействию с чистым злом.
Этому негодяю мало было раскопать, разнюхать и представить на всеобщее обозрение интимные отношения президента с Салли Хемингс. Он также раздул историю тридцатилетней давности о романе молодого и неженатого Томаса Джефферсона с женой его друга и соседа Джона Уокера. Муж давно знал об этих грехах молодости и примирился с ними, но тут под давлением газетной шумихи дошёл до того, что прислал владельцу Монтичелло вызов на поединок.
Страшно признаться, Мериуэзер порой даже подумывал об убийстве ненавистного газетчика. Дуэль исключалась, потому что тот не был джентльменом. А вдруг и правда шаман Воронье Крыло может прийти на помощь? И, подавив, природный скептицизм, капитан Льюис согласился принять участие в ритуале.
Сначала нужно было запереться в тёмном помещении и окурить его дымом специальных кореньев.
Потом при свете масляной лампы была вылеплена из воска человеческая фигурка с непомерно большой головой и раскрытым в крике ртом.
Затем под звуки песнопений и заклинаний фигурка была завёрнута в газетный лист, отпечатанный в типографии, принадлежавшей намеченной жертве.
Заключительный этап состоял во втыкании в завёрнутую фигурку булавок и иголок, над каждой из которых произносились точные указания, какой орган следует пронзить: печень, сердце, желудок, лёгкие, мозг.
Шаман Воронье Крыло твёрдо обещал, что духи сделают своё дело — враг не проживёт и года.
Мериуэзер немного стыдился такого нарушения заповедей миролюбия, но оправдывал себя тем, что пытался расправиться не просто со злодеем, не со своим врагом («благоволите к врагам вашим»), а с врагом самого мистера Джефферсона.
С какого-то момента ценность каждого человека в глазах капитана Льюиса стала определяться тем, как тот относился к президенту.
На вершине этой шкалы, конечно, оказались дочери Марта и Мария (Полли). Полли. Когда они зимой гостили в особняке вместе со своими детьми, их любовь к отцу выражалась горячо и многообразно, они почти состязались друг с другом в попытках украсить его повседневную жизнь, дать возможность отдохнуть от государственных забот. Мериуэзер следил за тем, чтобы продукты регулярно завозились на кухню, чтобы в окнах были заделаны щели, а главное, чтобы все 13 каминов топились регулярно. Видимо, Марта почувствовала, как одиноко бывает отцу в большом здании, и, вернувшись в свой дом, прислала ему клетку с двумя пересмешниками.
Второе место на шкале близости к Джефферсону по праву занимали государственный секретарь и его супруга. Долли Мэдисон не раз принимала на себя роль хозяйки за обеденным столом президента, помогала ему составлять списки приглашённых. Джеймс Мэдисон не только был верным политическим соратником в течение четверти века. Джефферсон мог посвятить его даже в самые интимные проблемы своей жизни. Когда над ним нависла угроза дуэли с Джоном Уокером, Мэдисон пришёл на помощь и, как настоящий миротворец, тайно собрал в своём доме в Монпелье представителей враждующих сторон, которые сумели договориться об условиях примирения.
Куда отнести вице-президента Аарона Бёрра, Мериуэзер не знал. Этот человек имел такие приятные манеры, что Джефферсон никогда не тяготился его обществом. Если в их разговорах мелькала тень несогласия, Бёрр предпочитал почтительно умолкнуть, не настаивать на своём мнении. Только раз случился эпизод, приоткрывший капитану Льюису глубинную разницу между двумя столпами американской политики.
В тот день из Парижа было получено письмо от американского посланника, извещавшее о соблазнительном предложении первого консула Бонапарта — купить у Франции Новый Орлеан и всю Луизиану. Ошеломлённый Джефферсон поделился этой новостью с вице-президентом в присутствии своего секретаря. Бёрр необычайно оживился и воскликнул:
— Ого! В этом случае я смог бы решить все свои финансовые проблемы.
— Каким образом? — спросил Джефферсон.
— Создам компанию для скупки земель по берегам Миссисипи. Сейчас они страшно упали в цене из-за закрытия Новоорлеанского порта. Но когда станет известно, что эта территория перейдёт под власть Америки и торговля на ней забурлит, цены подскочат вдвое-втрое.
Было очевидно, что вице-президент не находил ничего зазорного в том, чтобы использовать полученную на высоком посту информацию для личных финансовых операций. Джефферсон был явно шокирован его реакцией, но промолчал. Однако оставшись со своим секретарём наедине, обронил:
— Мы оба с мистером Бёрром любим предаваться фантазиям. Только я фантазирую о будущем страны, а он — о своём собственном.
В кругу близких президенту людей важное место занимал также один старинный друг — его ментор, обучавший когда-то хитросплетениям адвокатского ремесла, — Джордж Уайт. И как раз этой весной Уайт обратился к своему прославленному ученику с весьма интимной просьбой: принять на себя роль душеприказчика в исполнении завещания. 77-летний Уайт имел основания тревожиться: его родственники после его смерти могли оспорить его волю в виргинском суде и отказаться передать дом и половину денег на банковском счёте его цветной сожительнице и их сыну. Джефферсон согласился взять на себя эту обязанность и послал своего секретаря в Ричмонд совершить необходимые формальности.
Тем временем подготовка к экспедиции на берег Тихого океана шла полным ходом. Закупка необходимого снаряжения и погрузка его в фургоны для доставки к пункту отплытия в Питсбург осуществлялись помощниками капитана Льюиса. Сам же он должен был в марте выехать в Филадельфию, где ему предстояло загрузить собственную память огромным объёмом необходимых познаний. Джефферсон снабдил его письмами к своим коллегам по Философскому обществу, в которых просил их уделить время для занятий с начальником столь важного предприятия.
Вложить за два месяца несколько университетских курсов в голову способного молодого человека — кто сказал, что это невыполнимо?
Профессор ботаники знакомил капитана Льюиса с сотнями видов диких растений, уже известных науке, чтобы он мог собрать на берегах Миссури коллекцию неизвестных.
Профессор астрономии учил его использовать секстант и другие навигационные приборы для определения широты и долготы важнейших ориентиров, встречаемых на пути: гор, островов, водопадов, речных притоков.
Профессор географии объяснял, как создавать карты местности и наносить на них сетку координат.
Знаменитый доктор Раш давал инструкции по лечению ран, травм и болезней, которые могли случиться с участниками экспедиции: как вправлять вывихнутый сустав, как закреплять шинами сломанную кость, как накладывать повязки, что принимать от простуды, малярии, желудочного расстройства, змеиных укусов.
В своих наставлениях Джефферсон многократно подчёркивал, что безопасность путешественников всегда должна оставаться самым важным фактором при выработке решений.
Никаких побочных экскурсий, никаких рискованных столкновений с индейцами! Путевые журналы хорошо бы вести в двух экземплярах и хранить их в разных баркасах. Необходимо также придумывать разные приёмы, помогающие экономить полезное пространство для грузов. Например, порох можно везти в свинцовых ящиках, с тем чтобы по мере их опустошения отливать из них пули.
Но конечно, главное внимание должно быть уделено знакомству с племенами, которые будут встречаться на пути. Их численность, размер территории, язык, традиции, жильё, приёмы охоты и рыболовства, навыки земледелия, одежда, оружие, лечебные средства, моральные правила, религиозные верования — всё это будет необходимо знать тем американцам, которые впоследствии придут, чтобы направить аборигенов на путь прогресса и цивилизации.
Ещё оставался нерешённым вопрос о помощнике. В опасном путешествии командир может погибнуть — и что тогда? Нельзя допустить, чтобы столь важное и дорогостоящее предприятие потерпело неудачу из-за столь заурядного события, как смерть одного человека.
Во время военной службы капитан Льюис познакомился и сдружился с капитаном Уильямом Кларком. В мае он написал бывшему сослуживцу письмо, в котором приглашал принять участие в экспедиции. «Наша прошлая дружба даёт мне уверенность в том, что на земле нет человека, с которым я был бы так рад разделить обязанности, возлагаемые на меня этой миссией, как с Вами». Однако ответа всё не было. А следовало спешить, чтобы успеть до зимы достичь хотя бы устья Миссури. В начале июля капитан Льюис выехал в Питсбург.
По договору с корабельщиками постройка двадцативёсельной галеры должна была быть завершена двадцатого числа. Но подрядчик, извиняясь и проклиная приверженность своих плотников зелёному змию, объявил, что ему понадобится ещё две-три недели. Кроме того, река Огайо сильно обмелела за лето, так что спуститься по ней к Миссисипи будет нелегко. Становилось ясно, что экспедиция до начала зимы в лучшем случае сможет лишь достигнуть города Сент-Луис в месте впадения Миссури в Миссисипи.
Зато в конце месяца одно за другим пришли три радостных известия.
Президент Джефферсон сообщил срочным письмом, что договор в Париже подписан и, значит, экспедиции, по крайней мере на первом этапе, предстоит путь не по чужим владениям, а по американской территории.
Капитан Кларк наконец откликнулся посланием, в котором выражал радостное согласие принять участие в путешествии.
Ричмондская газета сообщила, что 17 июля известный журналист Джеймс Кэллендер был найден утонувшим в реке. Правда, кое-кто выражал сомнения в том, что человек, даже очень пьяный, может утонуть в месте, где вода ему по пояс. Видимо, духам, посланным шаманом Воронье Крыло, пришлось приложить какие-то дополнительные усилия.
В августе галера наконец была спущена на воду и путешествие началось. Тысячи опасностей подстерегали впереди капитана Льюиса и его спутников. Но в одном он мог быть уверен: в течение ближайших двух лет ни один газетный лист не попадёт ему в руки и не отравит душу ядом печатной лжи и клеветы.
Осень, 1803
О чём расспрашивать индейцев на берегах Миссури. Из перечня вопросов, подготовленных капитаном Уильямом Кларком:
«В каком возрасте они вступают в брак?
Разрешается ли полигамия?
Как они сохраняют провизию?
Какими болезнями они страдают чаще всего?
Как лечатся от оспы?
Применяют ли кровопускание?
В каком возрасте у женщин начинаются и в каком кончаются менструации?
Случаются ли у них самоубийства?
Есть ли у них законы, карающие смертью за какие-то преступления?
Сильна ли их приверженность алкоголю и считается ли это преступлением?»
И так далее на темы религии, традиций, охоты, земледелия, войны, развлечений, одежды, украшений.
Январь, 1804
«Я давно понимал, что Луизиана представляет собой тёмное пятнышко на нашем горизонте, которое легко может превратиться в смерч. Нас спасли от этого только здравый смысл Бонапарта и наша собственная способность разумно оценивать связь между причинами и следствиями. События развернулись быстрее, чем я ожидал. Исход оказался счастливым, и я предвижу весьма важные и благотворные последствия этого удвоения территории столь свободной республики, как наша. Независимо от того, останемся ли мы единым союзом или будем существовать в виде двух конфедераций — Атлантики и Миссисипи, я верю, что стремление к счастью будет осуществимо в обеих. Насколько это будет в моей власти, я стану энергично защищать интересы как западной части, так и восточной».
Из письма Томаса Джефферсона Джозефу ПристлиВесна, 1804
«Река Канзас получила своё название от племени, которое обитает по обоим берегам её, в двух деревнях, одна на 20 лиг от Миссури, другая — на 40. Сейчас это племя не очень многочисленно, потому что оно понесло большие потери в войнах с соседями. Раньше они жили на южных берегах Миссури, на открытой и красивой равнине, когда французы впервые появились в Иллинойсе. Мне рассказывали, что это очень воинственный народ, но они терпели поражения от племён айвэй и сокис, которые были лучше снабжены огнестрельным оружием. Сейчас они охотятся на бизонов. Наши охотники убили несколько оленей и видели бизонов. Высокий берег реки переходит в возвышенность, очень живописную и удобную для постройки форта и пристани. Правда, вода в реке имеет неприятный привкус».
Из путевого журнала Льюиса и КларкаВЕСНА, 1804. ВИРГИНИЯ
Если бы какой-то въедливый газетчик-федералист мог подсмотреть, чем занимается по вечерам президент Джефферсон в своём кабинете, результатом, скорее всего, была бы очередная сенсационная статья, наполненная гневными разоблачениями: «Наконец-то этот безбожник, этот поклонник якобинцев, этот друг всех атеистов, от Томаса Пейна до Уильяма Годвина, показал своё истинное лицо. Добрым христианам будет трудно поверить, но мы видели своими глазами, как новоявленный поклонник дьявола сидит за письменным столом с бритвой в руке и режет на мелкие куски Святое Евангелие!»
Такого газетчика даже нельзя было бы обвинить во лжи. Ибо в течение многих месяцев мистер Джефферсон в тишине президентского особняка занимался именно этим: вырезал из священных текстов строчки, содержавшие слова Христа, и, вклеивая их в бухгалтерскую книгу, создавал Евангелие для самого себя, такое Евангелие, которому он мог бы следовать, не насилуя собственный разум.
В «Евангелии от Томаса» не было места чудесам. Непорочное зачатие, явление ангелов, превращение воды в вино, насыщение пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами — это всё были сказки в духе античных мифов, добавленные крестившимися эллинами, жадными до всяких метаморфоз. Об отношении самого Христа к чудесам ясно было сказано у Матфея, в начале четвёртой главы. Там дьявол искушает его, предлагая доказать сыновность Богу — чудесами: превратить камни в хлебы, полететь по воздуху. «Отойди от меня, Сатана, — отвечает ему Христос. — Ибо сказано: не искушай Господа Бога твоего». Нигде, ни одним словом Христос не утверждает свою исключительную божественность, десятки раз, обращаясь к своим слушателям, говорит: «Отец Ваш небесный».
Заповеди Христа и вся его жизнь, очищенные от легенд и поздних наслоений, складывались в моральное учение такой чистоты и возвышенности, что душа восторженно рвалась следовать ему, но, по слабости и греховности человеческой, снова и снова опускалась на землю. Джефферсон не планировал публиковать свою компиляцию евангельских текстов — он просто хотел иметь исчерпывающий документ для себя, для дочерей, для внуков, для самых близких людей, ясно показывающий, в какого Христа он верил. Вопреки всей клевете и обвинениям в безбожии, он считал себя ближе к подлинному Христу, нежели его хулители.
В какой-то мере толчком к созданию книги при помощи только ножниц и клея послужил труд богослова и учёного Джозефа Пристли «Сравнение Сократа и Иисуса». Труды этого многостороннего британского мыслителя давно привлекали внимание Джефферсона. Джозефу Пристли приписывали открытие кислорода раньше или одновременно с Лавуазье. Его открытия в области химии и физики гармонично сочетались с глубоко религиозным проникновением в тайны мироздания.
То, что такой независимый ум не смог ужиться с духовной атмосферой монархической Англии и нашёл приют в Америке, подтверждало надежды Джефферсона на будущий расцвет культуры в молодой республике. В письмах Джозефу Пристли он предлагал ему принять участие в создании нового университета в Виргинии, где молодые люди могли бы знакомиться с новейшими достижениями в математике, зоологии, медицине, астрономии, географии, но также и в этике, искусствах, юстиции, политике.
О вопросах христианской веры Джефферсон также много и увлечённо беседовал с доктором Рашем и даже дал ему обещание когда-нибудь изложить подробно свои взгляды на этот важнейший предмет. Первую попытку он сделал в письме, отправленном доктору год назад, где сравнивал платонизм, иудаизм и христианство. Там он объяснял, в чём ему виделось превосходство учения Христа: в отличие от двух других оно описывало не только долг человека перед соплеменниками, но и перед всем человечеством; если платонизм и иудаизм судили только поступки человека, то Христос вглядывался в глубину души его и судил также и мотивы.
Был у Джефферсона и глубоко личный импульс для того, чтобы в очередной раз вглядеться в тайны небытия и потусторонней жизни: тревога за дочь Марию. В феврале она родила дочь, и, как всегда у неё, послеродовой период протекал очень тяжело. Её муж, новоиспечённый конгрессмен Джек Эппс, уехал из столицы, не дождавшись конца заседаний, и слал подробные отчёты из Эдж-Хилла. Мария была очень слаба, почти не могла есть. В груди началось воспаление, молоко исчезло. По счастью, сестра Марта тоже недавно родила, так что смогла подкармливать новорождённую племянницу.
Джефферсон, имевший большой опыт ухода за роженицами, слал из Вашингтона подробные советы. «Питание должно быть лёгким, для улучшения пищеварения пусть выпивает рюмку вина. Шерри в погребе в Монтичелло очень хорошо для этой цели… Как только ей станет лучше, перевезите её туда, воздух на горе чище… Весь дом в вашем распоряжении, можете использовать все запасы в нём, слуг, дрова».
Но уехать из столицы до конца сессии конгресса он не считал себя вправе. Хотя договор о покупке Луизианы за 15 миллионов долларов был ратифицирован и сенатом, и палатой представителей с большим перевесом голосов, оставалось ещё множество проблем, требовавших постоянного внимания. С директором казначейства Галлатином нужно было уточнять финансовые этапы выплат Парижу. С министром иностранных дел Мэдисоном — отношения с Испанией и её территориями во Флориде. Кому-то следовало поручить составление конституции для тех штатов, которые теперь добавятся к союзу.
В январе неожиданно попросил о личной встрече Аарон Бёрр. Он начал беседу издалека, напомнил о том, что в 1800 году был приглашён двумя могучими семействами Клинтон и Ливингстон, принять активное участие в политической жизни штата Нью-Йорк, о том, что его усилия помогли республиканцам победить в этом штате, а далее и во всей стране. Затем он повернул разговор таким образом, будто именно его неустанная поддержка партии республиканцев и персонально президента Джефферсона превратила его в объект свирепой травли федералистской печати, в которой самое активное участие принял Александр Гамильтон. Да, эта травля сделала своё дело, и он чувствует, что теряет прежнюю поддержку избирателей на федеральном уровне. Он готов попытать свои силы в борьбе за голоса ньюйоркцев на губернаторских выборах. И он хотел бы знать, не найдёт ли президент возможным отблагодарить его за многолетнюю лояльность, публично поддержав его кандидатуру.
Просьба привела Джефферсона в замешательство. Было что-то в характере вице-президента такое, что заставляло людей по возможности держаться от него подальше. Его имя не раз всплывало при обсуждении кандидатур на важные посты и в администрации Вашингтона, и в администрации Адамса, но каждый раз назначали кого-то другого. Зато когда подобные обсуждения начинались, мистер Бёрр каким-то образом узнавал о них и неизменно появлялся в столице. Живя с ним бок о бок в столице, Джефферсон не раз при встречах поддавался импульсу захлопнуть створки своей душевной раковины. Но разве не естественно было испытывать неловкость при виде человека, которому твоя внезапная смерть могла бы принести внезапное и весьма желанное возвышение?
Большой знаток человеческих характеров, Долли Мэдисон тоже питала инстинктивное недоверие к Аарону Бёрру, с которым была знакома много лет. Составляя списки приглашённых на обед к президенту, она часто под разными предлогами не включала его. Пытаясь объяснить свои чувства, она говорила: «Когда я расхожусь с человеком во мнениях, я огорчаюсь, пытаюсь переубедить его, потом примириться с нашим несогласием. Мистер Бёрр ведёт себя по-другому. Он замолчит, вежливо улыбнётся, но ты чувствуешь, как какая-то невидимая пружина его нелюбви к тебе натянулась на несколько витков. Для меня, для моего мужа, для вас встречи и общение с другими людьми часто бывают отрадой. Для него — всегда необходимый, но тяжёлый труд».
Эту невидимую пружину нелюбви Джефферсон ощущал очень остро во время той памятной январской беседы. Он стал говорить, что давно взял себе за правило никоим образом не давить на мнения избирателей. В свободной стране со свободной прессой поступки и мнения политиков у всех на виду, поэтому каждый человек имеет возможность выработать своё мнение и проголосовать соответственно. Разговор закончился вежливыми уверениями во взаимном уважении, но про себя Джефферсон твёрдо решил, что на предстоящих выборах он должен найти себе другого человека на пост вице-президента.
В свободные вечера он снова и снова возвращался к своей работе над евангелиями. Если в них попадались слова Христа, которые ему были не вполне ясны, он помечал вырезанную полоску вопросительным знаком. Если в словах было что-то грозно-пугающее, он использовал для вопросительного знака красные чернила и складывал эти фрагменты в отдельный конверт. Он планировал впоследствии отыскать евангелия на греческом и латыни, чтобы сравнить и убедиться в точности перевода. Постепенно конверт делался всё толще и таившиеся в нём строчки словно бы горячели — только что не жгли ему пальцы, как костерок из вопросительных знаков.
Как понимать слова: «Враги человека — домашние его» (Мф. 10: 36)? А перед этим ещё страшнее: «Не думайте, что я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл я принести, но меч; ибо я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её» (Мф. 10: 34–35).
Ах, как хотелось бы выдать такие строчки за ошибку памяти евангелиста! Но ведь и у Луки говорится о том же и даже ещё беспощаднее: «Огонь пришёл я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся» (Лк. 12:49). Ясно, что эти ужасные слова хранились в памяти первых христиан и честно передавались из уст в уста.
Если считать Христа апостолом межчеловеческой любви, куда спрятать стих 26-й из 14-й главы Евангелия от Луки: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестёр, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником»?
Не таится ли разгадка этого противоречия в многократно повторяемых словах «много званых, но мало избранных»? Или: «многие слышат, но не каждый вместит»? Все семейные связи человек порывает, принося монашеский обет. Дочь Марта, тогда в Париже, чуть не откликнулась на этот высокий зов, чуть не ступила на путь «избранных». Непомерно высокая требовательность к себе, беспощадный моральный суд над своими поступками и порывами — разве не ведут они к тому, чтобы человек возненавидел себя и свою греховную жизнь?
Нет, порвать с близкими, отказаться от человеческих привязанностей — на такое избранничество Джефферсон не чувствовал себя способным. Но вот притча о виноградарях вызывала безотказный отклик в его душе. Щедрость выше справедливости! Платите работавшему на вас с полудня столько же, сколько работавшему с утра! Не здесь ли таилось его глубинное расхождение с Гамильтоном? Тот, похоже, воображал, что человеческую справедливость можно приравнять к Божественному милосердию. Но позволительно ли государственному деятелю думать иначе? Обожествление справедливости — не это ли так сближало Гамильтона с Вашингтоном?
Покупка Луизианы была отмечена празднованиями во всей стране. Голоса противников этого правительственного акта тонули в хоре поздравлений. Но другой поборник справедливости, директор казначейства Галлатин, после торжественного банкета в президентском особняке обронил: «Всё же мы не должны забывать, что возрождение кредита Америки было осуществлено усилиями мистера Гамильтона. Если бы не это, голландские банкиры сегодня не согласились бы вручить консулу Бонапарту оговоренные 15 миллионов долларов. А так они уверены, что деньги будут возвращены им Соединёнными Штатами со всеми положенными процентами».
Вчитываясь в Священное Писание, Джефферсон обратил внимание на то, что слово «справедливость» очень часто используется в Ветхом Завете и очень редко — в Новом. Зато в Новом многократно мелькает волнующее слово, которого совсем нет в Старом: «воскресить, воскрешать». Рациональный ум, столь решительно отвергавший рассказы о чудесах, якобы сотворенных Христом (верил только в исцеления), вдруг отыскал логическую лазейку, позволившую ему допустить возможность чуда воскресения.
Ведь каждое живое существо, каждый олень, орёл, барс, бизон, голубь, каждая форель, цапля, утка, даже лягушка или змея были, несомненно, чудом Творения. Почему же перед лицом этих явных чудес нужно было считать невозможным чудо воскрешения кого-то одного? В науке логике подобное утверждение попадало в таинственный разряд тех, которые невозможно было доказать и невозможно опровергнуть. Но разве не было возвращение ему покойной жены в облике юной Салли намёком свыше, подтверждением возможности чуда воскрешения?
Конечно, здесь опять начинался его вечный диалог между разумом и сердцем. «Всё живое рано или поздно умирает, — говорил разум. — Мы не видим ни одного примера воскрешения». В недавнем дружеском письме американскому студенту Джефферсон снова сформулировал свой рационалистический идеал:
«Я отношусь к тем людям, которые смотрят с оптимизмом на природу человека. Мы созданы для общественной жизни, и наш ум, как считает Кондорсе, открыт улучшениям, предела которым не видно… Идея, будто человеческий ум неспособен прогрессировать и развиваться, — трусливая идея. Этой доктриной пользуются все деспоты на земле и их последователи в нашей стране, особенно в вопросах религии и политики. Слава Богу, ум американцев уже достаточно открыт, и его будет невозможно закрыть снова. То, что раз открыто наукой, не может быть утрачено. Для того чтобы отстоять свободу человеческого ума и свободу печати, каждый мыслящий гражданин должен быть готов пойти на лишения и даже мученичество. Свободно мыслить и свободно выражать свои мысли — вот главные условия общего прогресса».
Но и сердце отказывалось молчать. «Мне невыносима идея неотвратимости и непоправимости смерти, — отвечало оно. — Я не смирюсь с ней никогда». И так как угроза гибели дорогого существа в эти недели в очередной раз приблизилась вплотную, сердце цеплялось за надежду с утроенной силой.
Что, если Бог продолжает творить и захочет отыскать пути для воскрешения умерших?
В Ветхом Завете Он не представлен всеведущим и всемогущим. Он, например, не знает, что Каин убьёт Авеля, спрашивает его: «Почему омрачилось лицо твоё?» Не знает, как отреагирует Иов на обрушенные на него несчастья.
Циничный Сатана высказал предположение, что Иов любит и восхваляет Бога лишь до тех пор, пока Тот осыпает его дарами, охраняет от бед и горестей. С разрешения Бога Сатана испытывает Иова всеми мыслимыми несчастьями и страданиями и доводит до того, что праведник возроптал, проклял душу свою, посмел обратиться к Богу с обвинительной речью. И Бог с одобрением отнёсся к его протесту. Что если новый Иов посмеет с такой же страстью восстать против неизбежности смерти, — не захочет ли Бог пойти ему навстречу и внести здесь поправку в своё Творение?
Уехать из Вашингтона Джефферсону удалось только в самом конце марта. К тому времени Марию уже перевезли — вернее, перенесли на носилках — из Эдж-Хилла в Монтичелло. Увидев её, Джефферсон сразу вспомнил лицо умиравшей жены: такое же выражение отказа от борьбы за жизнь, бесконечной усталости и примирения. Джек Эппс просиживал у её постели ночные часы, а всё остальное время бродил по дому, держа на руках двухлетнего сына, будто страшась, что безжалостная судьба отнимет и его.
Когда умирала Марта, Джефферсон пытался заклясть болезнь, отдалить смерть, работая до бесконечности над «Заметками о Виргинии». Теперь он тоже погружался в работу над новым трудом, над «Евангелием от Томаса», страстно ища в священных текстах надежду на чудо воскресения.
«Чада века сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мёртвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божий, будучи сынами воскресения» (Лк. 20: 34–36).
«Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения» (Ин. 5:28–29).
«Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:40).
«Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мёртвых, праведных и неправедных» (Деян. 24: 14–15).
«Ибо как смерть чрез человека, так чрез человека и воскресение мёртвых. Как в Адамc все умирают, так во Христе все оживут; вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Кор. 15: 21, 22, 51–52).
Погружение в евангельские тексты сделало своё дело — дало душе силы примириться с неизбежным. И когда наступил роковой день, Джефферсон не упал в обморок, как тогда, 22 года назад, но нашёл слова утешения для рыдающей Марты, для растерянного — овдовевшего — Джека Эппса, для плачущей Салли. Потом ушёл в свой кабинет, открыл пустую страницу журнала и вывел твёрдой рукой: «Сегодня, 17 апреля, между 8 и 9 утра, умерла моя дорогая дочь Мария Эппс».
20 мая, 1804
«Причины различного свойства удерживали некоторое время моё перо, пока глубокое чувство сострадания не вырвалось из моего сердца и не заставило выразить Вам моё глубокое сочувствие в связи с утратой такой чудесной дочери. Привязанность к ней, созревшая с того времени, когда Вы поручили её моим заботам в Лондоне, была жива до сих пор. Помню и нежную сцену прощания с ней, когда она обнимала меня за шею и орошала мою грудь слезами, восклицая: “О, почему они отрывают меня от вас именно тогда, когда я вас так полюбила!” Из собственного опыта я знаю, какие прочные нити любви опутывают родительское сердце и какую агонию оно испытывает в момент обрыва. Та, которая когда-то была счастлива называться Вашим другом, от души желает Вам найти утешение в вере в Вершителя наших судеб».
Из письма Абигайль Адамc Джефферсону13 июня, 1804
«Дорогая мадам, пылкие чувства по отношению к моей покойной дочери, выраженные Вами в письме от 20 мая, пробудили во мне ответные эмоции. Всегда буду с благодарностью помнить Вашу доброту к ней. Она тоже всегда помнила о Вас и расспрашивала меня о любых новостях, связанных с Вами. Разрешите мне воспользоваться этими печальными обстоятельствами, чтобы выразить глубокое сожаление по поводу той разделяющий черты, которая пролегла между нами. Поверьте, что моя высокая оценка Вашего характера и души не ослабевала ни на минуту в течение всех этих лет, и лишь сомнение в том, что обнаружение этих чувств будет Вам приятно, препятствовало открытому выражению их».
Из ответного письма ДжефферсонаИюль, 1804
«Потерпев поражение на выборах в штате Нью-Йорк, вице-президент Аарон Бёрр решил свести счёты с Александром Гамильтоном, которого он считал виновником своих неудач на политическом поприще. С этой целью он направил Гамильтону письмо, в котором требовал публично признать или опровергнуть некоторые его отрицательные высказывания, просочившиеся в печать. В этих требованиях ему было отказано, и в результате между двумя соперничающими политиками состоялась дуэль. Противники встретились 11 июля в Хобокене, штат Нью-Джерси. Первым же выстрелом Гамильтон был смертельно ранен. Бёрр поспешил уехать из штата; ему грозило не только судебное преследование, но и общий гнев и возмущение произошедшим».
Дэвид Рэмси. История Соединённых ШтатовЛето, 1805
Содержание ящиков с экспонатами для зоологических, ботанических и этнографических коллекций, посланных Льюисом и Кларком с берегов Миссури в Вашингтон президенту Джефферсону:
«1-й ящик: скелеты, рога и шкуры антилопы, чернохвостого оленя, чучела ласки, горной белки и зайца, лук и стрелы индейца племени мандан.
2-й ящик: четыре шкуры бизона, початок кукурузы, чучела суслика, койота, 13 лисьих шкур, рога горного козла, роба из шкуры, на которой изображено сражение индейцев сиу и рикара против минетаров и манданов.
3-й ящик: шкуры антилоп, самца и самки, скелет и шкура медведя, приобретенные у индейцев сиу.
4-й ящик: семена и образцы 67 растений, глиняный горшок манданов, жестяной ящик с засушенными насекомыми, корни растения, используемого туземцами против укусов гремучей змеи или бешеной собаки.
В других ящиках были клетки с живыми белками, сороками, куропатками».
18 августа, 1805
«Сегодня мне исполнился 31 год. Учитывая среднюю продолжительность человеческой жизни, можно утверждать, что я прошёл половину пути, отпущенного мне в этом подлунном мире. Подумал, что мною сделано мало, слишком мало для счастья человечества или для расширения познаний будущих поколений. С горечью вспоминал, как много часов я проводил в безделье, и думал, сколько полезного можно было бы узнать, если бы потратить те пустые часы на серьёзные занятия. Но так как поправить это нельзя, я решил гнать грустные мысли и в будущем решительно удвоить усилия к тому, чтобы с пользой применять отпущенные мне таланты; если до сих пор я жил для себя, то теперь начну жить для человечества».
Из путевого журнала капитана ЛьюисаДекабрь, 1806
«Из полученной нами информации можно было заключить, что заговор полковника Бёрра имел две главные цели: а) отделение от Союза тех штатов, которые находятся за Аллеганскими горами; б) вторжение в Мексику. Вскоре ему стало ясно, что лояльность жителей западных штатов Союзу поколебать невозможно и что принудить их к отделению силой у него не хватит ресурсов. Тогда он изменил направление удара: планировал захватить Новый Орлеан, ограбить там банк, военные и морские арсеналы и двинуться на Мексику. Во всех областях, где он или его агенты пользовались каким-то влиянием, они начали вербовать отчаянных и недовольных субъектов, но также и законопослушных граждан, уверяя их, что он действует по приказу американского правительства, которое якобы вступило в конфликт с Испанией и её владениями в Америке».
Из послания Джефферсона конгрессуАвгуст, 1807
«17 августа 1807 года 12 присяжных были отобраны и приведены к присяге в суде города Ричмонд. Клерк зачитал обвинения, выдвинутые против Аарона Бёрра. Несколько дней ушло на допросы свидетелей, представленных стороной обвинения. Они рассказали, что в поместье Бленнерхассет, штат Огайо, в декабре 1806 года собрались 20 или 30 человек, обсуждавших возможности захвата территории за рекой Миссисипи. В то же время было подтверждено, что никто из собравшихся не применял силу против гражданских или военных властей и что обвиняемый не присутствовал на собрании. Сам Аарон Бёрр обратился к суду и потребовал объявить свидетельские показания не подлежащими приобщению к делу, потому что какое бы нарушение закона ни совершилось в поместье Бленнерхассет, к нему он не может иметь отношения по причине его отсутствия на сборище».
Дэвид Рэмси. История Соединённых ШтатовСЕНТЯБРЬ, 1807. МОНТИЧЕЛЛО
Возвращения Мериуэзера Льюиса из Ричмонда можно было ждать со дня на день. Джефферсон порой корил себя за то, что взвалил на своего бывшего секретаря эту щекотливую задачу: быть зрителем на суде над Аароном Бёрром, с тем чтобы потом описать ему в деталях всё происходившее. После успешного завершения Тихоокеанской экспедиции молодой капитан превратился в общенациональную знаменитость, города устраивали торжественные приёмы и банкеты в его честь, конгресс назначил его губернатором Луизианы.
Впрочем, сам Льюис не только не возражал, но уверял Джефферсона, что именно новое назначение делает для него присутствие на суде вполне оправданным. Ведь заговор Бёрра разворачивался на берегах Миссисипи, от Сент-Луиса до Нового Орлеана, и на суде должно было всплыть множество обстоятельств, рисующих жизнь края, которым предстояло управлять новому губернатору.
В этот раз Джефферсону не удалось превратить пребывание в Монтичелло в отдых от государственных забот. Очередной кризис в отношениях с Великобританией только набирал силу, Америке всё труднее удавалось сохранять нейтралитет. Озлобленность англичан нарастала. Ведь это американские миллионы, полученные Францией от продажи Луизианы, дали Бонапарту возможность возобновить военные действия в Европе, победить русских и австрийцев под Аустерлицем, построить мощный флот, который удалось разбить в Трафальгарской битве лишь ценой больших потерь, включая невосполнимую утрату — гибель адмирала Нельсона.
А теперь ещё эта злосчастная стычка британского 50-пушечного фрегата «Леопард» с американским «Чесапиком»!
И где?! В американских водах, у берегов Виргинии!
Да, проблема эта существовала давно и постоянно приводила к дипломатическим конфликтам. Суровая дисциплина в британском флоте иногда становилась невыносимой для английских моряков, и они перебегали на службу к американцам. Лондонское адмиралтейство требовало возвращать дезертиров, настаивало на своём праве останавливать американские корабли для обыска. Последней каплей, видимо, послужил эпизод, когда несколько беглецов случайно встретились в порту Норфолка со своими бывшими британскими командирами и стали издеваться над ними. Английские капитаны получили от своего адмирала разрешение применять силу для обнаружения и поимки сбежавших.
Когда шлюпка с британского «Леопарда» пристала к «Чесапику», американский капитан вежливо выслушал посланца и объявил, что среди его моряков нет людей, разыскиваемых англичанами. Формально он говорил правду, потому что беглецы завербовались под вымышленными именами. Разрешить же иностранным офицерам обыскивать его корабль было бы прямым нарушением его воинского долга. Переговоры и обмен сигналами продолжались ещё около часа, после чего «Леопард» неожиданно открыл огонь по «Чесапику». Абсолютно не готовый к такому повороту событий американский капитан поспешил спустить флаг. Но несколько человек были уже убиты и ранены, паруса изодраны, в трюмы через пробоины устремилась вода. Поднявшиеся на борт победители арестовали и увели с собой четверых моряков.
Событие это всколыхнуло не только океанское побережье, но и всю страну. Со времён Лексингтона и Конкорда американцы не испытывали и не выражали такой ярости по отношению к британцам. Прокатились призывы прекратить всякое снабжение их военной эскадры, дислоцированной у берегов Соединённых Штатов. 200 бочонков пресной воды, закупленных королевским флотом, были расколоты и выброшены в море, как когда-то ящики с чаем в бостонской гавани. В прокламации, подготовленной Джефферсоном в июле после совещания с членами кабинета, ему надо было применить все дипломатические приёмы, чтобы протесты и требования возмещения ущерба не дали Вестминстеру повода объявить войну США.
Уехать из Вашингтона удалось только в начале августа. Дом в Монтичелло постепенно приближался к тем мечтам, которые витали в голове его хозяина уже 20 лет назад. Большинство изменений и переделок было направлено на то, чтобы обитатели, гости и слуги могли как можно меньше мешать друг другу. Спальни теперь имели двойные окна и двери с задвижками. В столовой была устроена — по парижскому образцу — поворачивающаяся дверь с полками, имевшая название «безмолвный официант». Слуги приносили блюда из кухни, расставляли их на полках, не входя в помещение, потом поворачивали дверь на 180 градусов и предоставляли обедающим возможность выбирать то, что им по вкусу. Справа и слева от камина прятались небольшие лифты, поднимавшие охлаждённое вино из погреба.
У Салли теперь было трое детей на руках, материнские заботы поглощали её внимание с утра до вечера. Младшему было уже два года. Когда он родился, в Монтичелло гостили супруги Мэдисон, и Долли упросила родителей дать мальчику имя её мужа. Карапуз Мэдисон рос здоровым и проявлял необычайный интерес ко всему связанному с водой: любил купаться в ванночке, играть под дождём, шлёпать по лужам. Мог часами переливать воду из бутылки в кружку и обратно. А в начале сентября Салли вбежала в кабинет Джефферсона, радостно размахивая вскрытым конвертом:
— Письмо от Тома! Он собирается жениться! И мистер Вудсон готов выделить молодым небольшой участок земли.
— Кто же невеста?
— Об этом он не пишет.
— Нашего разрешения не спрашивает? Только извещает?
— Ему уже 17, он вправе чувствовать себя самостоятельным мужчиной. Ох, кажется, ко мне возвращается способность играть в «как будто»! «Как будто я стану бабушкой!» Когда я вижу, сколько счастья вам доставляют внуки, я не могу не завидовать.
В середине месяца с запада налетел сильный ветер с дождём и градом. Пришлось послать всех свободных работников укреплять столбы и верёвки на виноградниках. Видимо, на океане разыгрался первый осенний ураган и его косматые щупальца пытались дотянуться до Аллеганских гор. А когда под вечер из свинцовых струй появился всадник, закутанный в тёмный плащ, хлопающий на ветру, можно было вообразить, будто и его сорвало с палубы какого-то тонущего корабля и перенесло над виргинскими плантациями прямо к крыльцу дома в Монтичелло.
Капитан Льюис стал перед Джефферсоном с видом понурым, обескураженным, даже виноватым. Развёл руками, помотал головой:
— Сэр, вы не поверите! Они вынесли вердикт «невиновен»! Этот человек не был повешен за убийство Гамильтона, а теперь увернулся от наказания за государственную измену!
Джефферсону удалось сдержать — скрыть — изумление и досаду, сохранить приветливую улыбку на лице.
— Да, наша юстиция не устаёт изобретать новые и новые сюрпризы. Но я хочу, чтобы вы прежде всего переоделись в сухое и выпили стакан грога. За ужином расскажете всё подробно.
Описание суда над полковником Бёрром растянулось на два часа и сопровождалось гневными и язвительными комментариями рассказчика.
— Начать с отбора присяжных. Подробному предварительному допросу были подвергнуты около ста человек. «Читали ли вы какие-нибудь газеты, описывающие обвинения против полковника Бёрра? Сложилось ли у вас какое-то мнение о его виновности или невиновности в заговоре против Соединённых Штатов? Обсуждали ли вы с родными и друзьями политическую карьеру Аарона Бёрра?» Под предлогом отбора людей непредвзятых шёл отбор невежд и простофиль, сторонящихся политической жизни страны. Таких, которыми можно было бы легко манипулировать. И судья Джон Маршалл раз за разом демонстрировал свою готовность дирижировать процессом, подавлять или смягчать все показания, опасные для обвиняемого. О, этот ставленник президента Адамса продемонстрировал умение жонглировать фактами на уровне профессионального циркача! И ведь он останется на посту председателя Верховного суда до конца своих дней!
— Он пытался и меня вызвать на суд в качестве свидетеля. Наша конституция построена на строгом разделении трёх ветвей власти: законодательной, исполнительной, судебной. Но что произойдёт, если судьям в разных штатах будет позволено отрывать членов конгресса или губернаторов от их главных обязанностей и заставлять ехать за тысячу миль, чтобы дать показания в суде над мелким взяточником или воришкой? Я отказался подчиниться вызову и надеюсь, что это станет важным прецедентом в судебной практике.
— Далее судья Маршалл стал объяснять присяжным, что выражение «заговор с целью развязывания войны» имеет строгое и весьма ограниченное значение. Да, обвинение представило улики, что в такой-то день и в таком-то месте соратники и сообщники Аарона Бёрра проводили собрание, на котором обсуждались планы захвата арсеналов и последующих военных операций. Но так как сам обвиняемый не присутствовал на этом собрании, все представленные улики отклонены судом и присяжные должны выбросить их из памяти. Главный свидетель обвинения генерал Уилкинсон, которого Бёрр пытался вовлечь в свой заговор и который честно и своевременно донёс об этом президенту, допустил такие-то неточности и противоречия в своих показаниях, поэтому и их нельзя учитывать при выработке вердикта.
— Конечно, наше уголовное законодательство сильно перекошено в пользу обвиняемого. Ведь оно создавалось в годы, когда у всех на памяти были свежи злоупотребления и произвол королевских судов в Америке. Но, с другой стороны, не отразилось ли здесь и стремление действовать в соответствии с притчей Христа о пропавшей овце? Если из ста овец одна отбилась от стада и потерялась, нужно приложить все силы, чтобы спасти её и вернуть к остальным.
— В конце концов, даже послушные присяжные, отобранные защитой и судьёй Маршаллом, сформулировали свой приговор с оговоркой: «В предложенных нам требованиях и ограничениях мы должны вынести вердикт “вина не доказана”». Но судья отбросил оговорку, оставил просто: «вердикт — невиновен». Правда, на последних стадиях процесса полковник Бёрр ухитрился своими замечаниями и комментариями сильно раздражить судью. Поэтому Маршалл пошёл навстречу просьбе прокурора возбудить против обвиняемого дела не на федеральном уровне, а уже в штатных судах Кентукки и Огайо. Для этого понадобятся новые свидетели и новые улики, а пока прокурор будет собирать их, полковник Бёрр останется под стражей.
— Ну что ж, мы не можем сказать, что американское правосудие проявило полную беспомощность. Опасный заговор был раскрыт, парализован. Главный преступник пытался бежать от шерифов, скрывался. Говорят, что в момент ареста он был одет в лохмотья, прятал лицо под отросшей бородой, на поясе носил не пистолет, а жестяную кружку. За решёткой провёл уже полгода, и неизвестно, что ждёт его впереди. Даже если ему удастся увернуться от уголовного преследования, стая кредиторов настигнет его по выходе из тюрьмы и растащит остатки имущества. Нет, судьбе Аарона Бёрра завидовать не приходится.
Утром следующего дня атаки океанских ветров прекратились, подсыхающие листья на ветках шелестели, словно шёпотом пересчитывая оставшихся в живых. Джефферсон проснулся рано, но его гость был уже на ногах, прогуливался по саду с дочерью Марты, шестнадцатилетней Анной Рэндольф. Девушка выглядела радостно-оживлённой.
— Грэнпа[13], представляешь, мистер Льюис уверяет, что индейские бобы, которые я вырастила из семян, присланных им в прошлом году, выглядят точно так же, как на берегах Миссури. Ни перемена климата, ни расстояние в тысячу миль не повлияли на них.
— Мисс Рэндольф проявила невероятные познания в ботанике, — сказал Льюис. — В следующую экспедицию я готов пригласить её сопровождать нас в качестве эксперта.
— Пусть только сначала приналяжет на латынь. Мои наставления она пропускает мимо ушей. Но подтвердите хотя бы вы: без этого мёртвого языка сегодня невозможно ориентироваться в бескрайнем мире живых растений.
— Конечно, это так. С одним исключением: если в Луизиане мне попадётся неизвестный красивый цветок, я обойдусь без латыни и назову его «Анна Рэндольфиния».
Девушка покраснела, но не растерялась, подхватила посланный шар и начала с увлечением фантазировать о судьбе нового цветка:
— О, как прекрасно! Юноши будут приносить своим невестам букеты свежесрезанной рэндольфинии. Девушки станут плести из неё венки. А в какой-то момент на неё наткнётся пасущаяся корова, лизнёт и скажет своим телятам: «Держитесь подальше от этой гадости. Только горечь и колючки!»
Мужчины засмеялись и пошли к конюшне — верховая прогулка перед завтраком давно стала традицией для обоих. Когда выехали на берег Риванны, Льюис сказал:
— Очаровательная мисс Рэндольф чем-то напомнила мне ту индианку, которая родила сына, живя в нашем зимнем лагере со своим мужем-французом. Её звали Сакагавея. Она была из племени шошонов, но в детстве её похитили манданы, так что она выросла, зная языки двух племён, плюс выучила французский. Это очень помогло нам, когда мы отыскали наконец шошонов и смогли купить у них лошадей, чтобы пересечь горный хребет, отделявший долину Миссури от долины Колумбии. Сакагавея выступила в роли переводчицы. Не знаю, что бы мы делали без неё.
— Она была единственной женой этого француза?
— Нет, у него было ещё две. Брачные обычаи индейцев часто ставили нас в тупик. С одной стороны, у них считается правильным и похвальным уступать гостю жену на ночь, и многие участники нашего отряда пользовались этим, так что венерические болезни стали нашим бичом во время обеих зимовок. С другой стороны, бывали случаи, когда муж выражал крайнее недовольство, даже избил жену. Но кто пользовался неизменным успехом у индианок, так это Йорк, чёрный слуга капитана Кларка. Он был диковинкой для всех племён. Один вождь решил, что мы нарочно выкрасили его, и долго тёр послюнявленным пальцем его кожу — пытался стереть краску. Индеец, которому удалось заманить Йорка в свой вигвам и оставить там со своей женой, охранял вход и отгонял посторонних — так ему хотелось заполучить чёрного младенца.
— Попадались вам какие-нибудь идолы, которым поклоняются индейцы? Из чего складывается их религиозная жизнь?
Мужчины племени мандан весной совершают паломничество к священному камню. По их поверьям, камень открывает им ближайшее будущее: какова будет охота на бизонов, ждать ли нападения врагов. Также зимой они устроили ритуальный вечер танцев, которые должны привлечь много дичи в их края. Посредине шатра танцевальный круг составили старики, а индейцы помоложе один за другим подводили им своих жён в рубашках, накинутых на голое тело, и просили оказать им честь, одарив женщин своими ласками. Причём некоторые старики еле держались на ногах. Не уверен, что всем им удавалось порадовать духов успешным завершением обряда в вигвамах, куда они удалялись.
— Вы рассказывали, что добыча пропитания охотой остаётся главным занятием индейцев круглый год. Но что происходит зимой? Умеют ли они делать запасы, засаливать мясо, вялить его?
— С этим дело обстоит у них очень плохо. Они умеют стойко переносить голод, умеют поддерживать друг друга запасами, следуя священным обычаям гостеприимства. Из домашних животных, кроме лошадей, у них есть только собаки. Они едят и тех и других, и мы не раз следовали их примеру. Но был один эпизод, запомнившийся мне: мы подстрелили оленя, освежевали и зажарили, а внутренности выбросили. Покидая стоянку, я оглянулся и увидел, что несколько индейцев подкрались к остывшим углям, схватили выброшенные кишки и принялись пожирать их сырыми.
— Насколько они готовы последовать нашему примеру, заняться земледелием, перейти к оседлой жизни?
— Конечно, многие достижения белых вызывают у них жгучий интерес и даже зависть. На первой зимовке мы устроили в лагере нечто вроде кузнечной мастерской. Индейцы выстраивались в очередь, прося отковать им наконечники для стрел и копий, отремонтировать и наточить томагавки. Расплачивались початками кукурузы, вяленой рыбой. Но каждое племя, пытающееся перейти к оседлой жизни, становится лёгкой добычей и жертвой нападений других племён. Утрачивая мобильность, они утрачивают возможность спасаться бегством от более сильных соседей.
— Но что будет, если белые возьмут на себя защиту таких племён, будут оборонять их от внешних агрессий?
— Осуществить это в бескрайних прериях и долинах будет очень трудно. Кроме того, в устройстве нашего общества есть черты, которые мы принимаем как само собой разумеющееся, а индейцам они внушают лишь ужас и отвращение. Вот вам пример. Был эпизод, когда один солдат из нашего отряда украл со склада бутылку виски, напился и заснул на ночном посту. Как водится, состоялся суд, и его присудили к прогону сквозь строй. Когда индейцы увидели это зрелище — белые на морозе хлещут прутьями своего собрата по голой спине, — их вождь сказал мне, что никогда не согласился бы жить с народом, в котором соплеменники так поступают друг с другом.
— Если вождь не имеет права наказывать своих воинов, как же он поддерживает дисциплину среди соплеменников?
— В том-то и дело, что никак. Всем правит обычай, которому следуют очень строго. Власть же вождя эфемерна. Белые воображают, что, договорившись с вождём о покупке какой-то территории, заплатив за неё товарами и деньгами, они получают гарантию безопасности поселенцев на купленной земле. Мол, вождь не позволит своим воинам напасть на них. Ничего подобного. Если какой-то воин решит, что для него настало время потешить душу воинскими подвигами или грабежом, он отправится снимать скальпы, не спрашивая вождя. Ведь для него переход от убийства бизонов и оленей к убийству людей — дело одного мгновения. Орудия те же самые — лук, стрелы, копьё, томагавк.
— Наше правосудие тоже далеко не всегда способно удержать злоумышленника от преступлений. Помните, я посылал вас к моему старому ментору, Джорджу Уайту, помочь ему заверить завещание? Он хотел оставить дом и половину состояния своей цветной сожительнице и их сыну, Майклу Брауну, а другую половину — своему внучатому племяннику, которого он растил и воспитывал с детских лет, Джорджу Свени.
— Да, я прекрасно помню мистера Уайта. Такой известный, такой заслуженный джентльмен. Ведь его подпись стоит и под Декларацией независимости, не так ли?
— Совершенно верно. Я мечтал, чтобы он в старости поселился вблизи Монтичелло, чтобы мы проводили долгие зимние часы в беседах у камина. Вдруг год назад получаю из Ричмонда известие, что он умер. Причём при самых зловещих обстоятельствах. Племянник Свени подсыпал ему, сожительнице и сыну мышьяку в пунш.
— Какой негодяй!
— В завещание был неосторожно внесён пункт: «…если Майкл Браун умрёт раньше Джорджа Свени, его доля наследства возвращается последнему». Преступление было совершено неумело, следствие быстро изобличило злодея. Кроме того, отравленный мистер Уайт прожил ещё два дня — достаточно, чтобы дать показания и исключить племянника из завещания.
— Был суд?
Да, всё как положено, 12 присяжных. Но для них всех поступок белого, пытавшегося сделать цветную спутницу жизни и её сына законными наследниками, выглядел возмутительным нарушением негласно установленных правил. Кроме того, по закону свидетельства чёрных слуг, подтверждавших факт отравления, не принимаются во внимание при суде над белым. Присяжные совещались недолго и объявили Свени невиновным.
— Независимость суда, разделение законодательной и судебной власти — как прекрасно это звучит в теории! И что же мы видим в столице культурного и передового штата Виргиния? Один суд оправдывает отравителя, другой — заговорщика, планировавшего государственную измену. Чему мы можем научить наших краснокожих братьев?
Вечером за обедом Марта и Анна присоединились к мужчинам. «Безмолвный официант» был уставлен гастрономическими чудесами, изготовленными Питером Хемингсом, миски испускали ароматный пар из-под крышек. Рядом с некоторыми лежали названия по-английски и по-французски.
— Вы, капитан Льюис, — говорила Марта, — уже много и увлекательно рассказывали нам о том, как помогали индейцам охотиться, как лечили их, как объясняли важность и полезность письменности, как призывали к честной и мирной жизни. А было ли что-нибудь полезное, чему вы научились у них?
— Трудный вопрос, миссис Рэндольф. Ну вот вам такой пример: индианка Сакагавея рожала, находясь в нашем лагере, очень трудно и долго. Я не знал, как облегчить её мучения. Её муж-француз сказал, что, по индейским поверьям, в таких случаях помогают растолчённые трещотки, взятые с хвоста гремучей змеи. Среди заготовленных нами зоологических экспонатов было чучело змеи. Я решил попробовать, оторвал несколько чешуек, размельчил их, смешал с тёплой водой, дал выпить роженице. И представляете, через полчаса она разрешилась здоровым мальчиком. Может ли один такой случай считаться медицинским открытием? Боюсь, доктор Раш поднимет меня на смех и заверит, что женщина родила просто потому, что пришло время этому младенцу появиться на свет.
— А я верю! — воскликнула Анна. — Мама, когда придёт время рожать мне, проследи, чтобы под рукой были трещотки со змеиного хвоста.
— Вспоминаю и другой эпизод, — продолжал Льюис. — Однажды мы обнаружили большую кучу бизоньих костей у подножия крутого скалистого обрыва. Казалось, здесь, по непонятным причинам погибло целое стадо.
— Может быть, это были просто остатки индейского пира? — предположила Марта.
— Отнюдь. Вождь рассказал нам такую легенду. В недавние времена один хитроумный воин племени мандан заметил, что стадо бизонов, спасаясь бегством, слепо следует за вожаком. Он напялил на себя шкуру и голову бизона, а товарищам велел спугнуть и гнать стадо, пасшееся на лугу этого крутого обрыва. Сам же побежал впереди стада к краю и потом спрыгнул на небольшой помост, заготовленный им заранее. Все бизоны последовали за ним, рухнули вниз и погибли. Опять же неизвестно, можно ли верить этой истории?
— В вашей экспедиции вы, по сути, оказались в роли Адама, — сказал Джефферсон. — В первозданном раю тому было поручено, как сообщает Книга Бытия, дать имена «всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым». А вам вдобавок надо было придумывать названия для рек, островов, утёсов, растений, цветов. Как бы мне хотелось повторить ваш маршрут и хоть раз искупаться в речушке, которую вы назвали Джефферсон!
— Что меня поразило, — вступила в разговор Анна, — так это то, что в опасном двухлетнем путешествии вы потеряли всего одного участника из сорока. И то он умер, как я слышала, от какой-то застарелой болезни живота. Не означает ли это, что все сведения о свирепости и кровожадности индейцев сильно преувеличены?
— Многие встреченные нами племена никогда не видели белых. Их любопытство было сильно окрашено опаской. Закон кровной мести они соблюдают строго, видимо сочли, что и мы будем безжалостно мстить за пролитую кровь. Во время первой зимовки на территории племени мандан, с которым у нас была дружба и взаимопонимание, группа наших охотников удалилась от лагеря на 25 миль. Вдруг на них напала сотня индейцев сиу. Они легко могли бы перебить всех наших, но ограничились тем, что отняли лошадей, ножи, томагавки. Грабить нас пытались много раз, но только один раз это обернулось кровопролитием.
— Надеюсь, лично вы не запятнали себя убийством индейца?
Увы, должен сознаться, что и мне выпало принять участие в схватке. Это случилось уже на обратном пути. На стоянке к нам присоединилась группа индейцев из племени черноногих. Мы провели вечер вокруг костра, курили трубку мира, обсуждали торговлю мехами и металлическими изделиями. Всё же я велел часовым сменять друг друга всю ночь каждые два часа и быть настороже. Проснулся на рассвете от криков и шума борьбы. Оказалось, индейцы убегали, похитив несколько наших ружей и лошадей. Мы пустились в погоню, завязалась перестрелка, а потом и рукопашная. В какой-то момент мне не оставалось ничего другого, как выстрелить в индейца, целившегося в меня.
В конце обеда Джефферсон поднял тост:
— Всякий человек открыт соблазнам тщеславия. Не скрою, поддаюсь им и я. Всегда мне хотелось построить прекрасное здание, написать умную книгу, провести в жизнь справедливый закон. Но время разрушит здание (вспомним Парфенон и Колизей), люди забудут книгу, отменят рано или поздно закон. «А есть ли что-нибудь на свете, что не поддаётся распаду и смерти?» — спросил я себя.
Он обвёл взглядом собравшихся, будто давая им шанс предложить свой ответ — не тот, который открылся ему.
— Не поддаётся смерти, не исчезает только одно: проложенный путь. Мы не помним имени человека, который изобрёл колесо, но невозможно представить себе, чтобы его изобретение было забыто. Галилей открыл нам движение звёзд и планет, Ньютон — земное тяготение, Франклин — электричество, Пристли — кислород. Их и им подобных можно назвать мореплавателями в Океане Творения, пионерами в мире Духа. Но и путешественников, двигавшихся по земле и воде, проникавших за черту известного, за черту горизонта, мы чтим и помним. Так выпьем за то, что к именам Марко Поло, Колумба, Магеллана, Америго Веспуччи, капитана Кука прибавилось имя нашего друга и соотечественника, сидящего за этим столом, — имя капитана — нет, губернатора! — Мериуэзера Льюиса. «Он проложил путь к Тихому океану», — скажут потомки и не забудут его никогда.
Марта и Анна пригубили вино, поставили бокалы на стол и негромко зааплодировали герою.
Смущённый Льюис встал, поклонился дамам и хозяину дома, пригладил волосы. Заговорил порывисто, будто нащупывал в сутолоке мыслей главную, достойную стать ответным тостом.
— Да, Тихий океан… А знаете, у нас с капитаном Кларком язык не поворачивался называть его Тихим. Все дни, что мы прожили на его берегу, он так бушевал, что мы стали просто называть его Западным… Что же касается проложенного пути… Уверен, скоро зазвучат голоса, объявляющие наше путешествие провалом. Ведь мы не сумели отыскать водный путь по рекам, соединяющий два побережья. По всей вероятности, он и не существует. Но я хотел о другом…
Он вдруг повернулся всем корпусом к Анне Рэндольф и заговорил горячо и убеждённо, глядя ей прямо в глаза, время от времени проводя пальцем невидимую черту под произносимой фразой.
— Я хотел рассказать вам о вашем деде. И именно о том невидимом в нём, что люди не умеют ценить и помнить. Да, будущие поколения, вглядываясь в нашу эпоху, станут изучать победы Наполеона Бонапарта, подсчитывать число убитых с обеих сторон, прокладывать на картах маршруты его походов. Но для меня Бонапарт навсегда останется вожаком стада, влекущим людей в пропасть взаимных убийств.
Он расстегнул пуговицу на вороте мундира, глубоко вздохнул.
— Войну помнить легко, а мир остаётся невидим. Но как было бы славно, если бы американцы научились ставить памятники победам над драконом раздора, драконом войны. Вот здесь мы установим монумент в память об отсечении головы у дракона по имени Война с Испанией. Здесь лежит отсечённая голова дракона Война с Францией. Здесь — все три головы крылатого змея по имени Война с Великобританией. Честь всех этих побед принадлежит хозяину гостеприимного дома Монтичелло, вашему деду. Не говоря уже о десятках предотвращённых им схваток с племенами. Индейцы видели, знали, что в далёком Вашингтоне у них есть друг и заступник, и удерживались от того, чтобы встать на тропу войны.
Наступила тишина. Марта первая смогла преодолеть волнение и сказала:
— Отец, я не раз присутствовала на банкетах в президентском особняке, но не помню, чтобы кто-нибудь из гостей или дипломатов так искренне и вдохновенно отдавал тебе должное.
Анна не сводила восхищённого взгляда с лица гостя и время от времени наклоняла голову так низко, что кудрявая прядь выбивалась из причёски и падала ей на лоб.
Джефферсон, смущённый и растроганный, обошёл стол, обнял Льюиса за плечи.
— Сэр, — сказал тот, — если вы позволите… Находясь в Ричмонде, я отдал переписать наши путевые журналы в двух экземплярах… Один экземпляр — для вас.
Джефферсон взял в руки протянутый ему переплетённый том, погладил кожаную обложку, прижал к груди.
— Поверьте… За много лет… Лучшего подарка вы не могли сделать.
На следующее утро капитану Льюису пора было отправляться в Сент-Луис, чтобы приступить к исполнению обязанностей правителя нового края. По дороге он планировал ещё провести день в доме матери, повидать родню в Шарлоттсвилле, посидеть у постели прихворнувшего дядюшки Николаса.
За завтраком Джефферсон давал своему бывшему секретарю последние наставления, просил немедленно сообщать ему в Вашингтон о возникающих трудностях, обещал поддерживать все его начинания перед конгрессом и кабинетом министров. Льюис слушал его с рассеянным видом, потом вдруг спросил:
— А что мисс Рэндольф — она ещё долго пробудет в Монтичелло?
— Неделю или две. Потом они с матерью уедут в Эдж-Хилл.
— Догадываюсь, что женихи вокруг такой девушки уже вьются толпой.
— Если это так, то меня держат в неведении. Да и не рано ли? Девочке едва исполнилось шестнадцать.
— Вернувшись обратно в цивилизованное общество, я обнаружил, что утратил многие навыки общения. Особенно с женщинами, особенно с молодыми. Легко впадаю в смущение, боюсь наскучить, показаться банальным и неотёсанным.
— Ну не знаю. Мне показалось, что обе мои дамы были просто очарованы вами.
— Правда? А как вы считаете, удобно будет, если я напишу письмо мисс Рэндольф?
— Уверен, она будет очень рада получить его. И для её матери, и для меня было бы очень грустно расстаться с ней. Но мы оба понимаем, что рано или поздно это неизбежно. И нам было бы отрадно, если бы её похитил у нас человек ваших достоинств.
Марта и Анна вышли на крыльцо попрощаться с гостем. Он поцеловал руки обеим, обещал прислать семена интересных растений с берегов Миссисипи и Миссури. Анна в ответ извлекла из ридикюля стеклянную баночку с вареньем, вручила ему.
— Этот крыжовник я сама выращивала, сама собирала, сама варила. Пусть он подсластит вам горечь рэндольфинии, когда вы отыщете её.
— О мисс Рэндольф! Я растяну эту амброзию до нашей следующей встречи. Буду принимать её крошечными порциями, как Святое причастие.
Через два дня пришло время и для Джефферсона возвращаться к своим обязанностям в Вашингтон. Утром в день отъезда Салли, преображённая известием о готовящейся женитьбе сына, расхаживала по спальне в одном халате, укладывала в дорожный сундучок выглаженные рубашки, чулки, тёплые носки, шейные платки. Потом подошла к Джефферсону, обдала волной французских духов, обняла за шею обеими руками, прижалась к груди.
— Вы правда исполните то, что ночью, в пылу, обещали Агари? Нанесёте визит Измаилу?
— Конечно, исполню. Я и так собирался навестить кузена Вудсона. Свернуть к его поместью — крюк небольшой. Возможно, заночую у него.
— Я тут накопила немного денег, заработала шитьём платьев для дам в Шарлоттсвилле. Могу я послать их с вами?
— Лучше оставь себе. Меня в этот раз не будет долго, тебе могут пригодиться. А ему я подарю сто долларов, расспрошу о его нуждах в начале семейной жизни. Потом пошлю тебе из Вашингтона письмо с полным отчётом.
Джон Вудсон, встречая коляску президента, вышел на крыльцо своего дома с видом приветливым и в то же время крайне смущённым. Он обнял гостя, ввёл его в гостиную, отдал слуге распоряжения об ужине. Потом усадил в кресло, сам сел напротив и заговорил осторожно, словно нащупывая правильный тон для своих признаний.
— Дорогой кузен, ведь вы помните, что пять лет назад, вверяя мальчика Тома моим заботам, вы многократно подчеркнули, что не считаете его своим невольником, что он должен расти таким же свободным, как и мои сыновья. Должен сознаться, что за прошедшие годы я привязался к нему необычайно. Его энергия, его честность, его способность схватывать на лету любую фермерскую премудрость, а потом даже и улучшать те приёмы, которым я учил его, давали мне уверенность в том, что он вырастет настоящим крепким хозяином и добьётся успеха.
— Но вот прошло время, и ваши надежды?..
— Нет-нет, они оправдались в полной мере! Беда лишь в том, что это произошло слишком рано.
— Что вы имеете в виду?
— Он взрослел слишком быстро. Ему было 15 лет, когда он встретился с Джемаймой. Она принадлежала моим родственникам, живущим на северном берегу реки Джеймс. Чёрная, на семь лет старше. Их любовь вспыхнула неудержимо. Он ничего не скрывал от меня, но умолял не сообщать ни вам, ни Салли. Всю жизнь он тяготился тем, что его существование навлекло на вас столько тягостных переживаний. Ему хотелось по возможности оставаться в тени, в стороне. Но, с другой стороны, он очень боялся, что вы и Салли вмешаетесь, попробуете оторвать его от чёрной возлюбленной.
— Не нам с Салли быть судьями в таких делах. Но возраст, возраст! Сколько опасных глупостей молодые люди успевают совершить в 15 лет и потом горько жалеют. Да и в 17 тоже.
— Каюсь, я поддался его мольбам, не известил вас. Думал, как-нибудь уладится само собой, рассосётся. Но ошибся. Вскоре Джемайма забеременела, и на свет появился новый человек. Они назвали его Льюис. В честь вашего секретаря, о котором у Тома сохранились самые тёплые воспоминания.
— Да, такому повороту событий подходит использованное вами выражение — «быстро взрослеть». Возможно, Салли будет обрадована новостью, но я…
— За годы работы у меня Том заработал изрядную сумму денег. Он не только был отличным работником, но и организовал на паях со мной небольшой конный завод и выращивал лошадей на продажу. Так что этим летом он смог выкупить Джемайму и их сына у её хозяев.
— Могу сказать, что страсть к независимости он, возможно, унаследовал от меня. Но мне удалось вырваться из-под материнской опеки лишь в 30 лет, а он… Судя по вашему рассказу, он вряд ли нуждается в моих наставлениях. Но всё же я хотел бы расспросить о его дальнейших планах, может быть, предложить помощь. Когда я могу поговорить с ним?
— Увы, боюсь, что это невозможно.
— Как так? Почему?
— Он уехал. Неделю назад.
— Уехал по торговым делам? Куда? Когда должен вернуться?
— Он забрал Джемайму и сына и уехал насовсем. У него есть связи с торговцами лошадьми в Кентукки и Огайо. Он обещал написать, когда выберет место для фермы и устроится. Но что-то говорит мне, что ждать вестей от него не следует. Порвать с прошлым было его самой сильной мечтой.
«Порвать с прошлым» — эти слова всплыли в памяти Джефферсона, когда его коляска простучала по доскам моста через Потомак в Вашингтоне. Он спросил себя, было ли в его жизни событие или переживание, которое ему хотелось бы вычеркнуть, забыть, переиграть по-новому. Да, конечно, было много горького, мучительного, даже постыдного. Но забыть? Нет, к шестидесяти пяти годам он научился принимать себя и свою судьбу со смирением и благодарностью. Сколько раз ему доводилось вслепую делать шаг в неведомое — разве тут можно обойтись без ошибок? «Проложенный путь» — разве не сам он недавно объявил, что это и есть нечто нерушимое в том, что человек оставляет после себя?
Завтра ему предстоят новые встречи, новые решения, новые политические смерчи. Сможет ли он убедить конгресс не объявлять войну Великобритании, ограничиться торговым эмбарго? Откуда изыскать средства на строительство двух сотен канонерок для обороны Атлантического побережья? До какой степени можно расширить права федеральных судов, которым предстоит проводить в жизнь принятый закон о запрете ввоза в страну новых рабов?
Но было ведь и что-то приятное, что ждало его в президентском особняке, что он обещал себе перед сном? Ах да — почитать путевые заметки Льюиса и Кларка. В какой-то мере он был вправе гордиться этими новыми аргонавтами, будучи невидимым, но важным участником их двухлетней эпопеи. Тысячи, сотни тысяч американцев двинутся по проложенному ими пути на запад на поиски золотого руна. Возможно, будут среди них и его сын Том, и внук Льюис, и другие мужчины и женщины, которых родит чёрная подруга Джемайма.
Наспех поужинав, он удалился в спальню с кожаным томом под мышкой, велел слуге придвинуть к кровати высокий канделябр с четырьмя свечами, уложил гору подушек под спину, открыл наугад.
«Поднявшись на вершину холма, я услышал оглушительный грохот и увидел прекраснейшее чудо природы — каскад воды высотой в 50 футов, поднимающийся перпендикулярно и простирающийся от одного берега реки до другого, длиной примерно в четверть мили. Как будто гладкое полотно, созданное неизвестным художником, обрушивается на каменное дно внизу, взрывается белопенным облаком вверх и потом, шипя и сверкая, устремляется дальше. Посредине реки находился небольшой остров с высоким тополем, на вершине которого орёл свил своё гнездо. Более безопасного места он не мог бы выбрать, ибо ни человек, ни зверь не осмелятся пересечь эти ревущие струи».
Глаза начали слипаться. Джефферсон погасил свечи, подтянул одеяло к подбородку, провалился в освежающий сон. Лишь под утро сновидениям удалось прорваться под опущенные веки и одарить его картиной сияющих парусов над несущимся потоком воды. В нарушение всех ньютоновских законов корабль плыл по отвесной стене водопада не вниз, а вверх.
ЭПИЛОГ
Возможно, российскому читателю будет интересно узнать о дальнейших событиях в судьбе некоторых исторических персонажей, с которыми он встретился на страницах этого романа.
Томас Джефферсон (1743–1826), окончив второй президентский срок, удалился в Монтичелло, где и прожил до своей смерти в окружении детей, внуков, правнуков и друзей. Сегодня имя его одно из самых почитаемых в пантеоне американской истории, о нём написаны сотни книг, его бюсты и статуи украшают официальные здания и частные дома, его политические идеи изучаются по его трактатам, письмам, речам, прокламациям. Главным его увлечением последних лет было создание Университета штата Виргиния, который открылся под Шарлоттсвиллом в 1819 году. Это был первый университет в Америке, в котором кроме медицины, юриспруденции и религии изучались астрономия, архитектура, ботаника, философия и политические теории.
Джон Адамc (1735–1826) тоже жил на своей ферме в Массачусетсе, не принимая активного участия в политической жизни страны. В 1812 году доктору Рашу удалось помирить его со старым другом Томасом Джефферсоном, и они возобновили дружескую переписку, которая тоже изучается и переиздаётся в Америке. По невероятному совпадению (знак судьбы?) оба знаменитых политических деятеля умерли в один день, и этот день пришёлся на празднование 50-летия независимости, 4 июля 1826 года.
Отношения Джефферсона с Абигайль Адамc (1744–1818) оставались холодными. Только когда от рака груди умерла дочь Адамсов, Нэбби Адамс-Смит (1813), Джефферсон послал выражения соболезнования и получил подробное письмо от Абигайль. В дальнейшем только Джон Адамc в конце своих писем иногда передавал старинному другу приветы от жены.
Огромную роль в истории ранних Соединённых Штатов сыграл сын Адамсов, Джон Куинси Адамc (1767–1848). Ему довелось быть послом в таких странах, как Пруссия, Россия, Великобритания, государственным секретарём в кабинете министров Джеймса Монро (1817–1825), сенатором, конгрессменом и, наконец, шестым президентом (1825–1829). В своих устремлениях он выделялся горячей поддержкой индустриального прогресса, образования, был страстным противником рабства, предсказывал тяжёлые последствия его и даже гражданскую войну.
Аарон Бёрр (1756–1836) отбился от обвинения в измене, но вынужден был уехать из Америки, спасаясь от кредиторов. В 1812 году он вернулся в Нью-Йорк, где возобновил адвокатскую практику и занимался ею вплоть до самой смерти. Его дочь Феодосия, по всей вероятности, погибла во время кораблекрушения в 1813 году. Но сын его Джон Пьер Бёрр, рождённый ему служанкой из Гаити в 1792 году, стал очень заметным борцом с рабством, помогал деньгами и трудоустройством беглым рабам, организовывал так называемую «подпольную железную дорогу».
Вокруг фигуры Томаса Вудсона-Хемингса (1790–1879) споры между историками идут почти с таким же ожесточением, как вокруг убийства Джона Кеннеди. Многие утверждают, что первый сын, рождённый Салли Хемингс Томасу Джефферсону, умер в двухлетнем возрасте, а десять лет спустя мерзкий журналист Джеймс Кэллендер выдумал факт его существования ради раздувания политического скандала. Кэллендер, конечно, был личностью малоприятной, но профессиональный скандалист не может заработать ни цента на раздувании вымыслов. Другие американские журналисты тех лет провели своё расследование и подтвердили существование Салли Хемингс и её детей под крышей Монтичелло. Сегодня в Америке около сотни чёрных семей хранят устную традицию, соединяющую их с Томасом Джефферсоном через Тома Вудсона, которому его жена Джемайма (чёрная рабыня, на которой он женился, выкупив её из рабства) родила 11 детей. Самый известный их сын, Льюис Вудсон, стал видным деятелем просвещения среди афроамериканцев, о нём есть подробные сведения в Интернете. Результаты генеалогических исследований потомков Тома Вудсона можно найти на сайте: .
Элизабет Гамильтон (1757–1854) пережила мужа на 50 лет и посвятила остаток жизни увековечению его памяти. После смерти отца она получила наследство, которое позволило ей восстановить финансовое состояние семьи, растить детей и уделять много времени и сил созданию приютов и сиротских домов. Сын Джон Гамильтон помогал ей во всех начинаниях и в 1850 году осуществил первое издание трудов своего отца.
Марта Джефферсон Рэндольф (1772–1836) пережила отца на 10 лет. Тяжёлый характер мужа и его алкоголизм вынудили её расстаться с ним, и старший сын, Томас Джефферсон Рэндольф, стал для неё главной опорой. Им вместе пришлось заниматься продажей плантаций, невольников, особняка Монтичелло, чтобы покрыть долги, оставленные Томасом Джефферсоном. Из рождённых ею двенадцати детей одиннадцать выжили и достигли совершеннолетия. Но и она, и белые внуки третьего президента США делали всё возможное, чтобы исключить из рассказов о нём какие бы то ни было упоминания о Салли Хемингс и её детях.
Уильям Кларк (1770–1838) до конца своей жизни служил при разных президентах губернатором Луизианы и главным представителем американского правительства в отношениях с индейцами к западу от Миссисипи. Опыт, приобретённый им во время экспедиции к Тихому океану, помогал ему находить взаимопонимание с племенами, однако ему приходилось принимать активное участие и в насильственном переселении индейцев в резервации. Его именем названы многие графства в различных штатах, реки, города, военные корабли.
Мария Косуэй (1760–1838) обосновалась в Италии, где приняла участие в создании колледжа для девочек при монастыре под Миланом и руководила им до конца жизни. Её живописные работы и графика хранятся в британских музеях, альбомы с репродукциями её картин и миниатюр её мужа Ричарда Косуэя издаются в Европе и Америке.
Маркиз Лафайет (1757–1834) не нашёл для себя возможным сотрудничать с правительством Наполеона и прожил 15 лет в своём поместье незаметно. Но после реставрации Бурбонов в 1815 году он вернулся к политической жизни и принимал участие в деятельности оппозиции. Его путешествие в Америку в 1824–1825 годах превратилось в триумфальный вояж протяжённостью в шесть тысяч миль по всем двадцати четырём штатам. Он встречался с многими боевыми соратниками, навестил Джона Адамса и Томаса Джефферсона, побывал на могиле Вашингтона в Маунт-Верноне. Когда во Франции произошла Июльская революция 1830 года, ему предлагали пост диктатора, но он уклонился в пользу Луи Филиппа. В США имя Лафайета носят многие города, улицы, учебные заведения, мосты, шоссейные дороги.
Мериуэзер Льюис (1774–1809), избегнувший сотен опасностей на пути к Тихому океану и обратно, погиб неожиданно и трагически в возрасте 35 лет. Он направлялся из Луизианы в Вашингтон и заночевал в придорожной гостинице в штате Теннесси. Хозяйка потом говорила, что ночью слышала выстрелы в отведённом ему коттедже. Наутро Льюиса нашли с несколькими огнестрельными ранениями, и он умер шесть часов спустя. Денег, которые были им одолжены на поездку, не обнаружилось. Хозяйка путалась в показаниях, предлагая то одну версию, то другую. Криминалистика в те дни была не на высоте, никто не провёл серьёзного расследования случившегося. Хотя трудно себе представить, каким образом можно покончить с собой, нанеся себе несколько огнестрельных ран, многие историки убеждены, что имело место не вооруженное ограбление путешественника с деньгами, а самоубийство. В наши дни имя Льюиса занимает достойное место в анналах американской истории. Если вычертить маршрут его экспедиции на сегодняшней карте США, он пройдёт через десять штатов: Миссури, Канзас, Айова, Небраска, Южная Дакота, Северная Дакота, Монтана, Айдахо, Вашингтон, Орегон.
Джеймс Монро (1758–1831) служил своей стране в роли губернатора штата Виргиния, посланника при иностранных дворах, военного министра, министра иностранных дел и, наконец, стал пятым президентом США (1817–1825). При нём Флорида была куплена у Испании, построены первые американские поселения на Тихоокеанском побережье, 48-я параллель превратилась в границу, отделяющую западные штаты Америки от британских владений в Канаде. Пять новых штатов были приняты при нём в союз: Алабама, Миссисипи, Миссури, Иллинойс, Мэн.
Джеймс Мэдисон (1751–1836) стал президентом в 1809 году, и это ему пришлось вести против Британии войну в 1812–1815 годах, которая получила название Второй войны за независимость. В сущности, она явилась отголоском Наполеоновских войн в Западном полушарии. Разделяя с Джефферсоном неприязнь к постоянной армии и финансовым учреждениям, Мэдисон необычайно ослабил армию и флот, закрыл Центральный банк, усугубил разногласия между Новой Англией и остальными штатами. Военные поражения и захват британцами Вашингтона в 1814 году явились тяжёлыми уроками, которые не прошли даром. После подписания Гентского мира в 1815 году начинаются энергичное строительство военных кораблей, выделение средств на армию, активное военное противостояние индейским племенам на юге и западе, подавление пиратов в Средиземном море. К концу жизни Мэдисона его табачные плантации перестали приносить прежний доход. Он умирал, как и Джефферсон, под бременем долгов. Но его роль в создании и утверждении американской конституции остаётся основой его посмертной славы в США.
Долли Мэдисон (1768–1849), часто выполнявшая функции хозяйки президентского особняка при Томасе Джефферсоне, вступила в эту роль официально, когда её супруг стал президентом в 1809 году. Во время войны с британцами ей выпала горькая судьба видеть горящую столицу, но она перед бегством успела спасти знаменитый портрет Вашингтона кисти Гилберта Стюарта. Вернувшись в своё поместье Монпелье, супруги Мэдисон постепенно погружались в бедность, пытаясь поддерживать непутёвого сына Долли от первого брака. После смерти Джеймса Мэдисона конгресс выделил 55 тысяч долларов на издание семитомного собрания его сочинений, но этого хватило ненадолго. Долли бедствовала до конца жизни, и только за год до её смерти конгресс выделил ещё 22 тысячи на покупку у неё оставшихся бумаг покойного мужа.
Доктор Бенджамин Раш (1746–1813) при жизни не раз подвергался критике за чрезмерное применение кровопускания и ртутных препаратов. Некоторые даже считали, что обильное кровопускание было причиной преждевременных смертей Франклина и Вашингтона. Тем не менее Раш оставался главным медицинским авторитетом в стране в течение десятилетий. В 1812 году он выпустил большой трактат «О болезнях мозга», в котором излагал свои взгляды на психиатрические проблемы. Среди прочих спорных утверждений в этом труде были разъяснения, представлявшие уголовные преступления — кражи, жульничество, поджоги, насилия — как формы психического заболевания, подлежащие лечению. Собственному сыну он вынес диагноз неизлечимой душевной болезни и поместил в лечебницу до конца жизни. Американская ассоциация психиатров сегодня не разделяет многих взглядов доктора Раша, тем не менее включила его профиль в свою официальную печать.
Индианка Сакагавея (1788–1812) разделила славу Льюиса и Кларка, с которыми она проделала путь к Тихому океану и обратно. О ней было написано несколько книг, её образ запёчатлён в семи фильмах, её именем названы река в Монтане, озеро в Северной Дакоте, ледник в Вайоминге, горы в Орегоне и Айдахо, несколько кораблей, она изображена на долларовой монете, множество скульптурных памятников ей установлены в различных парках и исторических местах. После её смерти Уильям Кларк стал опекуном её сына и дочери.
Батальные картины и портреты многих видных деятелей Американской революции, созданные Джоном Трамбаллом (1756–1843), украшают лучшие музеи и частные коллекции в Америке. В течение девяти лет он был президентом Американской академии искусств, незадолго до смерти написал и опубликовал обширные мемуары. Его картина «Подписание Декларации независимости» использована на обороте двухдолларовой купюры. В 1968 году почтовое управление выпустило марку в его честь.
Сын Анжелики Чёрч (1756–1814), Филипп, назвал именем своей матери городок, основанный им на земле, выделенной их семье конгрессом в западной части штата Нью-Йорк за финансовую помощь, оказанную его отцом армии Вашингтона в годы Войны за независимость. Их потомки сохранили письма, полученные Анжеликой от Джефферсона, Гамильтона, Вашингтона, Лафайета и других видных деятелей той эпохи, и в 1996 году продали их Университету Виргинии за 275 тысяч долларов, так что теперь они стали доступны историкам.
Судьбе семейства Хемингс посвящен монументальный труд американского историка Аннет Гордон-Рид, за который она получила Пулитцеровскую премию в 2008 году. Согласно этому исследованию, Салли Хемингс (1773–1835) после смерти Джефферсона поселилась со своими младшими сыновьями в доме на Мэйн-стрит в Шарлоттсвилле, по соседству со своей сестрой Мэри Хемингс-Белл. В перепись 1830 года семья Салли включена в категории «свободные белые».
Исполняя своё обещание, Джефферсон в 1822 году дал свободу — а вернее, снабдив деньгами, разрешил «убежать» — своему сыну Беверли Хемингсу (1798 — после 1822) и дочери Харриет Хемингс (1801 — после 1822). Они уехали в Вашингтон, где начали жить как свободные белые, сменив имена и порвав все связи с прошлым. Оба вступили в брак с белыми и оставили потомство.
Всё, что нам известно о их судьбе после отъезда из Монтичелло, всплыло в воспоминаниях их брата Мэдисона Хемингса (1805–1877), впервые опубликованных в 1873 году. Там среди прочего он упоминает, что знает, под каким именем жила его сестра Харриет, но не хочет открывать его журналисту, записывавшему его рассказ. Сам Мэдисон, живя в Монтичелло, овладел профессией плотника и, получив свободу и перебравшись впоследствии с семьёй в Огайо, участвовал в строительстве многих крупных зданий, а также принимал участие в торговле недвижимостью. Его бесхитростный рассказ о родителях, подтверждавший связь между Джефферсоном и Салли Хемингс, стал предметом самого придирчивого разбора со стороны десятков скептически настроенных историков, безуспешно пытавшихся обнаружить в нём серьёзные ошибки и противоречия, ставящие под сомнение подлинность рассказанного.
Самый младший ребёнок Салли Хемингс, Истон Томас Хемингс (1808–1856) не успел появиться на страницах этого романа, ибо в сентябре 1807 года (время действия последней главы) он существовал ещё лишь в утробе своей матери. Но именно ему суждено было заполнить заголовки американских газет 190 лет спустя.
Согласно исследованию Аннет Гордон-Рид, Истону, как и его брату Мэдисону Хемингсу, свобода была дарована завещанием Томаса Джефферсона. Некоторое время он жил с матерью в Шарлоттсвилле, потом переехал в Огайо, где женился и пустил в дело унаследованную от отца музыкальную одарённость, то есть стал профессиональным музыкантом, создал небольшой ансамбль, игравший на всех праздниках и торжествах в округе.
Однажды четверо белых жителей его городка совершили поездку в Вашингтон, где впервые увидели бюст Джефферсона. Они переглянулись в изумлении: третий президент США был вылитая копия хорошо знакомого им скрипача и гитариста Истона Хемингса. Вернувшись, они спросили музыканта, как понимать это разительное сходство. Истон ответил уклончиво: «Я родился и рос в Монтичелло, а моя мать не была замужем».
И вот в конце XX века техника анализа ДНК достигла такого уровня, что решено было использовать её для решения давнишнего спора между историками. Так как Джефферсон не имел белых сыновей, кровь на анализ взяли у потомков его дяди, Филда Джефферсона. Её сравнили с образцами крови, взятыми у потомков Истона Хемингса и Томаса Вудсона-Хемингса. Совпадение хромосом подтвердило: Истон Хемингс и его правнуки принадлежат к фамильному древу Джефферсонов. В отношении Вудсонов результат оказался негативным, но он не поколебал их уверенности в том, что они ведут свой род от автора Декларации независимости.
Видимо, те американцы, которым хотелось бы верить, что их кумир Томас Джефферсон, при всей его хорошо известной влюбчивости, был способен сохранять целомудрие в течение последних тридцати восьми лет своей жизни, тоже сумеют отмахнуться от научных экспериментов, бросающих тень на «светлый образ». Но разве не засвидетельствовал сам хозяин Монтичелло всей своей жизнью и запёчатлёнными на бумаге словами, что в вечном диалоге-споре между сердцем и разумом человека у разума не так уж много шансов на победу?
ИМЕНА РЕАЛЬНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ РОМАНА ПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИ
Саттон Даниэль — Sutton Daniel (18-th century)
Адамc Абигайль — Adams Abigail (1744–1818)
Адамc Абигайль (Нэбби) — Adams Smith Abigail (1765–1813)
Адамc Джон — Adams John (1735–1826)
Адамc Джон Куинси — Adams John Quincy (1767–1848)
Адамc Сэмюэл — Adams Samuel (1722–1803)
Альберти — Alberti Francis (? — 1785)
Андре Джон — Andre John (1750–1780)
Арнольд Бенедикт — Arnold Benedict (1741–1801)
Барбе-Марбуа Франсуа — Barbé-Marbois Francois (1745–1837)
Барвел Ребекка — Burwell Rebecca (1746–1806)
Бартон Бенджамин — Barton Benjamin (1766–1815)
Бейкли Джон — Beckley John (1757–1807)
Белл Томас — Bell Thomas (? — 1800)
Бергойн Джон — Burgoyne John (1722–1792)
Бёрк Эдмунд — Burke Edmund (1729–1797)
Бёрр Аарон — Burr Aaron (1756–1836)
Бланшар Жан-Пьер — Blanchard Jean-Pierre (1753–1809)
Блэнд Ричард — Bland Richard (1710–1776)
Боккерини Луиджи — Boccherini Luigi (1743–1805)
Большой Джордж, невольник — Big George
Бонапарт — Napoleon Bonaparte (1769–1821)
Ботетур Беркли — Botetourt Berkeley (1717–1770)
Браун Джон — Brown John (1736–1803)
Браун Мозес — Brown Moses (1738–1836)
Бриллон, мадам де — Brillon Anne-Louise, de (1744–1824)
Брэддок Эдуард — Braddock Edward (1695–1755)
Будинот Элиас — Boudinot Elias (1740–1821)
Буше Джонатан — Boucher Jonathan (1738–1804)
Бэннекер Бенджамин — Banneker Benjamin (1731–1806)
Бюффон Жорж Луи — Leclerk Georges-Louis, Comte de Buffon (1707–1788)
Ван Несс Уильям — Van Ness William (1778–1826)
Варик Ричард — Varick Richard (1753–1831)
Вашингтон Джордж — Washington George (1732–1799)
Вашингтон Марта — Washington Martha Custis (1731–1802)
Вивальди Антонио — Vivaldi Antonio (1678–1741)
Вильгельм Завоеватель — William the Conqueror (1027–1087)
Вольтер — Voltaire (1694–1778)
Вудсон Джон — Woodson John (?)
Вудсон-Хемингс Томас — Woodson-Hemings Thomas (1790–1879)
Вэйлс Джон — WaylesJohn (1715–1773)
Галлатин Альберт — Gallatin Albert (1761–1849)
Гамильтон Александр — Hamilton Alexander (1755–1804)
Гамильтон Джеймс (отец) — Hamilton James (?)
Гамильтон Филипп (сын) — Hamilton Philip (1782–1801)
Гамильтон Элизабет — Hamilton Schuyler Elizabeth (1757–1854)
Гейдж Томас — Gage Thomas (1720–1787)
Гейтс Горацио — Gates Horatio (1727–1806)
Гельвециус, мадам де — Helvetius, Madame de (1722–1800)
Генри Патрик — Henry Patrick (1736–1799)
Георг III — George III (1738–1820)
Гиббон Эдуард — Gibbon Edward (1737–1794)
Гилмер Джордж — Gilmer George (1743–1795)
Гоббс Томас — Hobbes Thomas (1588–1679)
Годвин Уильям — Godwin William (1756–1836)
Грант Джеймс — Grant James (1720–1806)
Грасс Франсуа, де — Grasse Francois, de (1722–1788)
Грин Натаниэль — Greene Nathaniel (1742–1786)
Гудон Жан Антуан — Houdon Jean Antoine (1741–1828)
Давид Жак Луи — David Jacques Louis (1748–1825)
Джей Джон — Jay John (1745–1829)
Джеминиани Франческо — Geminiani Francesco (1687–1762)
Джефферсон Джейн (Рэндольф) — Jefferson Jane Randolph (1721–1776)
Джефферсон Люси — Jefferson Lewis Lucy (1752–1811)
Джефферсон Марта (Вэйлс) — Jefferson Wayles Martha (1748–1782)
Джефферсон Марта (Рэндольф) — Jefferson Martha Randolph (1772–1836)
Джефферсон Питер — Jefferson Peter (1708–1757)
Джефферсон Томас — Jefferson Thomas (1743–1826)
Джефферсон Элизабет — Jefferson Elizabeth (1744–1774)
Джонс Пол — Jones John Paul (1747–1792)
Джут Джек — Jouett Jack (1754–1822)
Дигби Роберт — Digby Robert (1732 — 1815)
Дикинсон Джон — Dickinson John (1732–1808)
Данмор Джон — Dunmore John (1730–1809)
Жене Шарль — Genet Edmond-Charles (1763–1834)
Калас Жан — Galas Jean (1698–1762)
Карлтон Кристофер — Carleton Christopher (1749–1787)
Kapp Дэбни — Can Dabney (1743–1773)
Kapp Марта (Джефферсон) — Carr Martha Jefferson (1746–1811)
Kapp Питер — Carr Peter (1770–1815)
Кауфман Анжелика — Kauffmann Angelica (1741–1807)
Кинг Руфус — King Rufus (1755–1827)
Кларк Джонас — Clarke Jonas (1730–1805)
Кларк Уильям — Clark William (1770–1838)
Клинтон Генри — Clinton Henry (1730–1795)
Клинтон Джордж — Clinton George (1739–1812)
Клэй Чарлз — Clay Charles (1745–1824)
Коббетт Уильям — Cobbett William (1763–1835)
Кондорсе Николас, де — Condorset Nicolas, de (1743–1794)
Корелли Арканджело — Corelli Arcangelo (1653–1713)
Корнуоллис Чарлз — Cornwallis Charles (1738–1805)
Косуэй Мария — Cosway Maria (1760–1838)
Косуэй Ричард — Cosway Richard (1742–1821)
Красивое Озеро — Lake Handsome (1735–1815)
Кромвель Оливер — Cromwell Oliver (1599–1658)
Куинси Джозайя — Quincy Jociah (1744–1775).
Кэллендер Джеймс — Cullender James (1758–1803)
Лавуазье Антуан — Lavoisier Antoine, de (1743–1794)
Ланфан Пьер — L'Enfant Pierre Charles (1754–1825)
Ларошфуко-Лианкур — Rochefoucauld-Liancourt Francois, de la ) (1747–1827)
Лафайет Гилберт — Lafayette Gilbert (1757–1834)
Ли Чарлз — Lee Charles (1732–1782)
Ливингстон Роберт — Livingston Robert (1746–1813)
Ливингстон Уильям — Livingston William (1723–1790)
Линкольн Бенджамин — Lincoln Benjamin (1733–1810)
Линней Карл — Lennaeus Carl (1707–1778)
Логан, индеец — Logan
Локателли Пьетро — Locatelli Pietro (1695–1764)
Локк Джон — Locke John (1632–1704)
Лоуренс Генри — Laurens Henry (1724–1792)
Лоуренс Джон — Laurens John (1754–1782)
Льюис Мериуэзер — Lewis Meriwether (1774–1809)
Льюис Николас — Lewis Nicholas (1734–1808)
Любомирская Изабелла — Lubomirski Izabela (1736–1816)
Людовик XIV — Louis IV (1638–1715)
ЛюдовикXVI — Louis XVI (1754-1793)
Макдугал Александр — Macdougall Alexander (1731–17 86)
Маршалл Джон — Marshall John (1755–1836)
Медичи Лоренцо — Medici Lorenzo, de (1449–1492)
Месмер Франц (нем. — Фридрих) Антон — Mesmer Friedrich Anton (1734–1815)
Мильтон Джон — Milton John (1608–1674)
Миффлин Томас — Mifflin Thomas (1744–1800)
Монгольфье Жак-Этьен — Montgolfier Jacques-Etienne (1745–1799)
Монгольфье Жозеф-Мишель — Montgolfier Joseph-Michel (1740–1810)
Монро Джеймс — Monroe James (1758–1831)
Монтгомери Ричард — Montgomery Richard (1743–1775)
Монтескье Шарль — Montesquieu Charles (1689–1755)
Моррис Говернер — Morris Gouvemeur (1752–1816)
Мэдисон Джеймс — Madison James (1751–1836)
Мэдисон Долли — Madison Dolley (1768–1849)
Мэйсон Джордж — Mason George (1725–1792)
Мюленберг Питер — Muhlenberg Peter (1746–1807)
Нельсон Горацио — Nelson Horatio (1758–1805)
Нокс Генри — Knox Henry (1750–1806)
Норт, лорд Фредерик — North, lord Frederick (1732–1792)
Ньютон Исаак — Newton Isaac (1642–1727)
Палладио Андреа — Palladio Andrea (1508–1580)
Пейн Томас — Paine Thomas (1737–1809)
Пил Чарлз — Peak Charles Willson (1741–1827)
Питт-младший Уильям — Pitt the Younger William (1759–1806)
Питт-старший Уильям — Pitt Sr. William (1708–1778)
Пристли Джозеф — Priestley Joseph (1733–1804)
Рал Готлиб — Rahl Johann Gottlieb (1726–1776)
Раш Бенджамин — Rush Benjamin (1746–1813)
Ривер Пол — Revere Paul (1734–1818)
Рид Джозеф — Reed Joseph (1741–1785)
Ридезель Фридрих Адольф, фон — Riedesel Friedrich Adolf, fon (1738–1800)
Робинсон Беверли — Robinson Beverly (1721–1792)
Рошамбо Жан Батист — Rochambeau Jean Baptiste (1725–1807)
Рэмси Дэвид — Ramsay David (1749–1815)
Рэндольф Анна — Randolph Anne Cary (1791–1826)
Рэндольф Джефф — Randolph Thomas Jefferson (1792–1875)
Рэндольф Джон — Randolph John (1727–1784)
Рэндольф Пейтон — Randolph Peyton (1721–1775)
Рэндольф Эдмунд — Randolph Edmund (1753 — 1813)
Рэндольф-младший Томас Мэн — Randolph Thomas Mann (1768–1828)
Рэндольф-старший Томас Мэн — Randolph Thomas Mann (1741–1793)
Сакагавея, индианка — Sacagavea (1788–1812)
Салливан Джон — Sullivan John (1740–1795)
Сен-Симон Луи — Saint-Simon Louis de Rouvroy, due, de (1675–1755)
Сибери Сэмюэл — Seabury Samuel (1729–1796)
Скелтон Бафурст — Skelton Bathurst (1744–1766)
Скелтон Марта — см. Джефферсон Марта
Смит Адам — Smith Adam (1723–1790)
Смит Уильям (муж Нэбби Адамc) — Smith William Stephen (1755–1816)
Смит Фрэнсис — Smith Francis (1723–1791)
Стерн Лоуренс — Sterne Laurence (1713–1768)
Стюарт Гилберт — Stuart Gilbert (1755–1828)
Стюарт Джеймс — Steuart James (1713–1780)
Талейран Шарль Морис, де — Talleyrand Charles Moris, rfe (1754–1838)
Тарлтон Банастр — Tarleton Banastre (1754–1833)
Трамбалл Джон — Trumbull John (1756–1843)
Уайт Джордж — Wythe George (1726–1806)
Уокер Бетси — Walker Elizabeth
Уокер Джон — Walker John (1744–1809)
Уокер Томас — Walker Thomas (1715–1794)
Уоррен Мерси Отис — Warren Mercy Otis (1728–1814)
Урсула, кормилица — Ursula
Уэйн Энтони — Wayne Anthony (1745–1796)
Уэст Бенджамин — West Benjamin (1738–1820)
Фэрфакс Уильям — Fairfax George William (1729–1787)
Филлипс Уильям — Phillips William (1731–1781)
Фокс Джордж — Fox George (1624–1691)
Франклин Бенджамин — Franklin Benjamin (1706–1790)
Франклин Уильям — Franklin William (1731–1813)
Френо Филип — Freneau Philip (1752–1832)
Фрэнке Дэвид — Franks David (1740–1793)
Фуке Фрэнсис — Fauquier Francis (1703–1768)
Харкорт Уильям — Harcourt William (1743–1830)
Хатчинсон Томас — Hutchinson Thomas (1711–1780)
Хемингс Беверли — Flemings Beverly (1798 — after 1822)
Хемингс Бетти — Hemings Betty (1735–1807)
Хемингс Джеймс — Hemings James (1765–1801)
Хемингс Истон — Hemings Easton Thomas (1808–1857)
Хемингс Мартин — Hemings Martin (1755–1795?)
Хемингс Мэдисон — Hemings Madison (1805–1877)
Хемингс Мэри — Hemings Mary (1753 — after 1834)
Хемингс Питер — Hemings Peter (1770 — after 1834)
Хемингс Роберт — Hemings Robert (1762–1819)
Хемингс Салли — Hemings Sally (Sara) (1773–1835)
Хемингс Харриет — Hemings Harriet (1801 — after 1822)
Хикс Элиас — Hicks Elias (1748–1830)
Хобан Джеймс, архитектор — Hoban James (1758–1831)
Хоу Ричард (адмирал) — Howe Richard (1726–1799)
Хоу Уильям (генерал) — Howe William (1729–1814)
Хэнкок Джон — Hancock John (1737–1793)
Чарлз Жак — Charles Jacques (1746–1823)
Чёрч Анжелика — Church Angelica (1756–1814)
Чейз Сэмюэл, судья — Chase Samuel (1741–1811)
Шастеллю Франсуа, де — Chastellux Francois, de (1734–1788)
Шорт Уильям — Short William (1759–1849)
Штойбен Вильгельм, фон — Steuben Wilhelm, von (1730–1794)
Шейс Дэниел — Shays Daniel (1747–1825)
Эппс Джек — Eppes John Wayles (1773–1823)
Эппс (Джефферсон) Мария — Epps (Jefferson) Maria (1778–1804)
Эппс Фрэнсис — Eppes Francis (1747–1808)
Эппс Элизабет — Eppes Elizabeth (1752–1810)
Юм Дэвид — Hume David (1711–1776) Юпитер, слуга — Jupiter (1743–1800)
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОМАСА ДЖЕФФЕРСОНА
1743, 13 апреля — в семье мелкого землевладельца Питера Джефферсона и Джейн Джефферсон (урождённой Рэндольф) родился третий ребёнок, сын Томас.
1752 — девятилетний Томас поступил в школу, принадлежавшую пастору Уильяму Дугласу.
1757 — умер Питер Джефферсон.
1760 — Джефферсон поступил в Колледж Вильгельма и Марии, решив изучить греческий и латынь «и познать основы математики».
1762 — оставил колледж и приступил к изучению английского права и истории конституций в канцелярии знаменитого адвоката Джорджа Уайта.
1764 — получил в наследство плантацию в 2750 акров.
1767, весна — начало собственной адвокатской практики. Джефферсон выиграл первое дело в суде.
1769–1774 — депутат законодательной палаты Виргинии от графства Албемарл.
1769 — по чертежам Джефферсона началось строительство его поместья Монтичелло.
1770 — возглавил ополчение графства Албемарл. Пожар уничтожил усадьбу Шедуэлл.
1772, 1 января — женился на вдове Марте Вэйлс Скелтон.
1772, март — при активном содействии Джефферсона создаётся комитет связи в Виргинии для поддержания контакта с другими колониями.
1774 — Джефферсон выпустил памфлет «Общий обзор прав Британской Америки», выдвинувший его в первые ряды американских патриотов.
1775–1776 — депутат Второго Континентального конгресса.
1775, 31 июля — Второй Континентальный конгресс утвердил представленный Джефферсоном ответ лорду Норту, в котором говорилось о том, что американцы твёрдо решили покончить с вековой покорностью силе, противопоставив ей свою силу.
1776, 4 июля — Вторым Континентальным конгрессом принята Декларация независимости, автором которой был Томас Джефферсон. Сентябрь — Джефферсон стал членом палаты делегатов (ассамблеи) Виргинии. Четыре пятых из ста двадцати шести предложенных законопроектов были приняты ассамблеей в той или иной форме, и Джефферсону принадлежит заслуга в разработке чуть ли не половины из них.
Ноябрь — в Виргинии принят разработанный Джефферсоном закон об отмене майората и прав первородства, согласно которому поместья делились между всеми наследниками, а также свободно отчуждались путём продажи той или иной передачи прав на владение землёй.
1778 — при активном участии Джефферсона Виргинская ассамблея приняла билль, запрещавший ввоз рабов из Африки.
1779, начало — Виргинская ассамблея приняла представленные Джефферсоном законопроекты о секвестре британской собственности.
1779–1781 — Джефферсон становится губернатором штата Виргиния.
1781–1782 — трудится над «Заметками о штате Виргиния» (1785).
1782, 6 сентября — умирает жена Джефферсона Марта.
1783 — Джефферсон возвращается в активную политику, становится лидером конгресса и вновь занимается интенсивной законодательной деятельностью.
1784 — принят Ордонанс о Северо-западе, регулирующий правление территорией к северу от Огайо (первоначальный проект был написан Джефферсоном), который воплотил в себе принципы дальнейшего развития американского государства.
Джефферсон отбыл во Францию для участия в переговорах о торговых соглашениях.
1785 — сменил Б. Франклина на посту посланника США во Франции.
1786 — принят Виргинский статут о религиозной свободе, подготовленный Джефферсоном, который имел целью полное отделение Церкви от государства.
Январь — с помощью Лафайета Джефферсон создаёт специальный комитет по расширению франко-американской торговли.
1787 — принятие Конституции Соединённых Штатов Америки.
1788 — заключение консульского соглашения между Францией и США, предусматривающего определённое число французских консульств на территории США и упорядочение их функций.
1789, октябрь — возвращение Джефферсона из Франции в США.
1790 — президент Вашингтон назначил Джефферсона на должность государственного секретаря.
1791, октябрь — в Филадельфии выходит первый номер «Нэшнл газетт», печатного органа антифедералистской оппозиции.
1792 — вместе с Мэдисоном, возглавляющим в палате представителей оппозиционную фракцию против экономической политики Гамильтона, организовал первую оппозиционную партию в американской истории партий. Чтобы предостеречь от возврата к монархии, сторонники Джефферсона стали называть себя республиканцами или демократами.
1793 — со скандалом выходит из состава правительства, после того как не удалось убедить президента, что создание Центрального банка Соединённых Штатов рискованно и противоречит конституции.
1796 — выдвинувшись кандидатом на президентский пост от республиканцев, Джефферсон получил 68 голосов выборщиков против 71 голоса, отданного за Дж. Адамса, и стал в соответствии с существовавшей тогда избирательной системой вице-президентом в администрации Адамса.
1797–1815 — являлся президентом Американского философского общества.
1798, июнь — июль — федералисты принимают законы об иностранцах и о подстрекательстве к мятежу, которые должны были ликвидировать оппозицию с помощью штрафов, тюремного заключения и депортации.
В ответ Джефферсон разработал текст так называемых Кентуккийских резолюций, развивавших конституционные доктрины прав штатов и объявлявших федеральную конституцию государственным договором с правом выхода из него в любое время.
1799, декабрь — смерть Дж. Вашингтона.
1800 — Джефферсон и партия республиканцев одержали триумфальную победу на президентских выборах (названную Джефферсоном «революцией 1800»).
1801, 4 марта — 1809, 4 марта — президентство Джефферсона. Первый президент, чья инаугурация состоялась в Вашингтоне.
1803 — покупка у Франции за 15 миллионов долларов Луизианы, увеличившей почти вдвое территорию США.
Август — Джефферсон заканчивает работу над рукописью «Исследования о границах Луизианы».
1803–1806 — трансконтинентальная экспедиция М. Льюиса и У. Кларка, которая вышла на тихоокеанское побережье и вернулась в Сент-Луис, пройдя более восьми тысяч миль.
1804 — умирает любимая Джефферсоном младшая дочь Мария. 1805–1807 — заговор А. Бёрра.
1807, декабрь — Джефферсон подписал Акт об эмбарго, запретив экспорт всех товаров из США, полагая, что эта мера поставит в затруднительное положение Великобританию, а также Францию, захватывавших американские торговые суда. Однако эмбарго ударило прежде всего по экономике самих США (было отменено весной 1809 года).
1808, 1 января — вступил в силу Закон о прекращении легального ввоза рабов, в подготовке которого Джефферсон принимал активное участие.
1808–1809 — установление дипломатических отношений Соединённых Штатов Америки с Россией.
1814 — после сожжения Вашингтона в войне 1812–1815 годов между Великобританией и США Джефферсон продал правительству свою обширную библиотеку, с тем чтобы создать ядро Библиотеки конгресса.
1819 — официально создан Виргинский университет в Шарлоттсвилле, который стал первым в системе университетов Соединённых Штатов Америки.
1826, 4 июля — умер Томас Джефферсон в своём имении Монтичелло в возрасте 83 лет, в тот же день, что и Джон Адамc, — в день 50-летия Декларации независимости.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Adams J. Diary and Autobiography. New York: Atheneum, 1961.
Allison J. M. Adams and Jefferson. Norman: Univ. of Oklahoma Press, 1966.
Appleby J. 0. Thomas Jefferson. New York: Times Books, 2003.
Bear J. A., Betts E. M. The Family Letters of Thomas Jefferson. Columbia, Miss.: Univ. of Missouri Press, 1966.
Brodie F. M. Thomas Jefferson: an Intimate History. New York: Norton & Co., 1974.
Burke E. Selected Writings and Speeches. New York: Alfred Knopf, 1967.
Burns J. M., Susan D. George Washington. New York: Times Books, 2004.
Butterfield L. H. The Book of Abigail And John. Selected Letters of Adams Family, 1762–1784. Cambridge: Harvard University Press, 1975.
Chastellux Marquis, de. Travels in the North America. New York: Augustus M. Kelly, 1970.
Chernov/ R. Alexander Hamilton. New York: The Penguin Press, 2004.
Chernow R. Washington. A Life. New York: The Penguin Press, 2010.
Danisi Т., Jackson J. Meriwether Lewis. Amherst; New York: Prometheus Books, 2009.
Davis M. L. Memoirs of Aaron Burr. New York: Da Capo Press, 1971.
Diggins J. P. John Adams. New York: Times Books, 2003.
Dowling-Taylor E. A Slave in the White House. Paul Jennings and the Madisons. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
Durey M. «With the Hammer of Truth». James Thomson Callender and America's Early National Heroes. Charlottesville: University Press of Virginia, 1990.
Ellis J. His Excellency. New York: Alfred A. Knopf, 2005.
The Federalist Papers. New York: Anchor Books, 1966.
Fleming T. The Intimate Lives of the Founding Fathers. New York: Smithsonian Books, 2009.
Franklin B. A Biography in His Own Words. New York: Newsweek, 1972.
Gaines J. R. For Liberty and Glory. Washington, Lafayette, and Their Revolutions. New York: Norton & Co., 2007.
Gingrich N. To Try Men's Souls. New York: St. Martin's Griffin, 2010.
Godwin W. Enquiry Concerning Political Justice. London: Penguin Books, 1976.
Godwin IV. Memoirs of Mary Wollstonecraft Godwin. London: J. Johnson, 1798.
Gordon-Reed A. The Hemingses of Monticello. New York: Norton & Co., 2008.
Gordon-Reed A. Thomas Jefferson and Sally Hemings. Charlottesville: University Press of Virginia, 1997.
Gragg R. Lewis and Clark on the Trail of Discovery. Nashville, Tenn.: Rutledge Hill Press, 2003.
Greenwood J. A Young Patriot in the American Revolution. Westvaco, 1981.
Gutzman K. R. С James Madison and the Making of America. New York: St. Martin's Press, 2012.
Hall G. L. Mr. Jefferson's Ladies. Boston: Beacon Press, 1966.
Hawke D. F. Paine. New York: Harper & Row, 1974.
Hamilton A. Writings. New York: The Library of America, 1961.
Hamilton A., Jay J., Madison J. The Federalist Papers. New York: Anchor Books, 1966.
Isaacson W. Benjamin Franklin: an American Life. New York: Simon & Schuster, 2003.
Isenberg N. Fallen Founder. The Life of Aaron Burr. New York: Penguin Books, 2007.
Jefferson T. Farm Book. Charlottesville: University Press of Virginia, 1987.
Jefferson T. Garden Book. 1766–1824. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1944.
Jefferson T. The Life and Morals of Jesus of Nazareth. Radford, Virginia: Wilder Publishing, 2007.
Jefferson T. Writings. New York: The Library of America, 1984.
Lewis M., Clark W. The Journals of Lewis and Clark. New York: Penguin Books, 1989.
Malone D. Jefferson the Virginian. Boston: Little, Brown and Co., 1948.
Malone D. Jefferson and the Rights of Man. Boston: Little, Brown and Co., 1951.
Malone D. Jefferson and the Ordeal of Liberty. Boston: Little, Brown and Co., 1962.
Malone D. Jefferson the President. First Term, 1801–1805. Boston: Little, Brown and Co., 1970.
McCullough D. 1776. New York: Simon & Schuster, 2005.
McCullough D. John Adams. New York: Simon & Schuster, 2010.
McLaughlin J. Jefferson and Monticello. New York: Henry Holt & Co., 1987.
Morris G. Diary and Letters. New York: Da Capo Press, 1970.
Murray S. John Trumbull. Painter of the Revolutionary War. Armonc, New York: Sharpe Focus, 2009.
Myers M. Liberty without Anarchy. A History of the Society of the Cincinnati. Charlottesville: Univ. of Virginia Press, 1983.
Otis Warren M. History of the American Revolution. In 2 v. Indianapolis: Liberty Fund, 1989.
Otis Warren M. Selected Letters. Athens: The University of Georgia Press, 2009.
Paine T. Works. In 9 v. New Rochelle: Paine National Historical Association, 1925.
Ramsay D. United States, 1607–1808. Philadelphia: M. Carey, 1817.
Rice H. С. Thomas Jefferson's Paris. Princeton: Princeton Univ. Press, 1976.
Shaara J. The Glorious Cause. New York: Ballantine Books, 2002.
Stanton L. «Those Who Labor for My Happiness». Slavery at Thomas Jefferson's Monticello. Charlottesville: University of Virginia Press, 2012.
Taylor D. Everyday Life in Colonial America. Cincinnati: Writer's Digest Books, 1996.
Trumbull J. Autobiography. New York: Wiley and Putnam, 1841.
Vaughan A. T America Before the Revolution. 1725–1775. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1967.
Wills G. James Madison. New York: Times Books, 2002.
Wollstonecraft M. The Rights of Woman. New York: Dutton & Co., 1955.
Woodson B. W. A President in the Family. Thomas Jefferson, Sally Hemings, and Thomas Woodson. Westport: Praeger, 2001.
ЛИТЕРАТУРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аптекер Г. Американская революция. 1763–1783. М., 1962.
Болховитинов Н. Н. Россия и война США за независимость 1775–1783. М., 1976.
Война за независимость и образование США / Под ред. Г. Н. Севостьянова. М., 1976.
Глаголева Е. В. Вашингтон. М.: Молодая гвардия, 2013 (ЖЗЛ).
Глаголева Е. В. Повседневная жизнь масонов в эпоху Просвещения. М.: Молодая гвардия, 2012 (серия «Живая история»).
Печатное В. О. Гамильтон и Джефферсон. М.: Международные отношения, 1984.
Севастьянов Г. Н., Уткин А. И. Томас Джефферсон. М.: Мысль, 1976.
Согрин В. В. Идейные течения в американской революции XVIII в. М., 1980.
Степанова О. Л. 4 июля 1776. М.: Молодая гвардия, 1976.
Яковлев Н. Н. Вашингтон. М.: Молодая гвардия, 1976 («ЖЗЛ»).
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Карта Виргинии, составленная Питером Джефферсоном (отцом Томаса) и полковником Джошуа Фраем. 1751 г.
Река Риванна. Шедуэлл. Виргиния
Пейтон Рэндольф, двоюродный дядя Томаса
Уильям Рэндольф, дед Томаса по материнской линии
Мельница в усадьбе Шедуэлл Т. Джефферсона
Джордж Уайт, профессор права
Уильям Смолл, профессор математики
Колледж Вильгельма и Марии. 1859 г.
Патрик Генри. Дж. Б. Мэтьюз. Копия с портрета кисти Т. Салли. 1883 г.
Здание Законодательного собрания Виргинии во второй половине XVIII века. Уильямсберг
Страницы учётной книги, заполненные рукой Марты Вэйлс Джефферсон
Домик в усадьбе Монтичелло, где молодые супруги Томас и Марта Вэйлс Джефферсон проводили медовый месяц
Чехол для катушек с нитками
Марта Вэйлс Джефферсон. Силуэт
Вид на главное здание усадьбы Монтичелло. Дж. Петиколас. 1827 г.
Подписание Декларации независимости. Дж. Трамбалл. 1817 г.
«Бостонское чаепитие». Иллюстрация к книге «История Северной Америки». Лондон. 1789 г.
Бостонская бойня 1770 года. Хромолитография Дж. Бьюфорда по мотивам гравюры Ревира. XIX в.
«Если это измена, то изменяй по максимуму». Выступление Патрика Генри против «гербового сбора» 1765 года. П. Ф. Ротермель. XIX в.
Джеймс Мэдисон
Эдмунд Рэндольф
Зал Законодательного собрания Виргинии
Пластины из слоновой кости с записями Т. Джефферсона
Титульный лист памфлета Т. Джефферсона «Общий обзор прав Британской Америки»
Лошадь (колонии) сбрасывает наездника (Англию). Карикатура. Вторая половина XVIII в.
Томас Пейн со своим трактатом. Рисунок неизвестного художника
Титульный лист памфлета Т. Пейна «Здравый смысл»
Так представляли в Англии положение блокированного Бостона. Карикатура. Лондон. Вторая половина XVIII в.
Английский генерал Томас Гейдж
Георг III. А. Рэмзи. 1762 г.
Битва при Лексингтоне. XIX в.
Б. Франклин, Дж. Адамc и Т. Джефферсон, работающие над текстом Декларации независимости. Ж. Феррис. 1900 г.
Томас Джефферсон. Р. Пил. 1805 г.
Дорожный письменный прибор, который использовал Т. Джефферсон для написания Декларации независимости
Индепенденс-холл в Филадельфии — место заседаний Второго Континентального конгресса
Преамбула Декларации независимости. Рукопись Т. Джефферсона. 1776 г.
Маркиз Мари Жозеф де Лафайет. Ж.Курт. 1791 г.
Джордж Вашингтон. Ч. Пил. 1776 г.
Капитуляция генерала Бургойна под Саратогой. Дж. Трамбалл. 1822 г.
Тадеуш Костюшко. К. Швайкарт. Около 1802 г.
Барон Фридрих Вильгельм фон Штойбен. Ч. Пил. 1780г.
Капитуляция англичан в Йорктауне 19 октября 1781 года. Дж. Трамбалл. 1821 г.
Джон Адамc. Дж. Трамбапл. Около 1792 г.
Абигайль Смит Адамc
Томас Джефферсон. Дж. Тромбам. 1788 г.
Мария Косуэй. Автопортрет. 1787 г.
Шарль Гравье, граф де Верженн, государственный секретарь по иностранным делам Людовика XVI
Бенджамин Франклин. Ч. Пил. 1785 г.
Томас Джефферсон и Салли Хемингс. Кадр из фильма «Джефферсон в Париже». 1995 г.
Президент США Дж. Вашингтон. Г. Стюарт. 1797 г.
Александр Гамильтон, министр финансов США
Восточная часть фасада Первого банка Соединённых Штатов
Томас Джефферсон, третий президент Соединённых Штатов Америки
На избирательном участке. Президентские выборы 1804 года. 1850 г.
Дуэль между Аароном Бёрром и Александром Гамильтоном 11 июля 1804 года
«Водружение американского флага над Луизианой». Т. де Тулструп. 1904 г.
Уильям Кларк
Мэриуэзер Льюис
Льюис и Кларк с Сакагавеа у истоков Миссури на Трезубце
Кресло красного дерева, предположительно изготовленное Джоном Хемингсом. Калифорния. 1817 г.
Томас Джефферсон с дочерью Мартой и внуками в Монтичелло летом 1816 года
Томас Джефферсон Рэндольф. Ч. Пил. 1808 г.
Марта Джефферсон Рэндольф. Т. Салли. Первая четверть XIX в.
Усадьба Эппингтон
Проект ротонды Виргинского университета, составленный Томасом Джефферсоном. 1819 г.
Ротонда Виргинского университета — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО
Могила Томаса Джефферсона
Здание Джефферсона Библиотеки Конгресса США
Статуя Т. Джефферсона в его вашингтонском мемориале. Сзади — преамбула Декларации независимости США
* * *
Примечания
1
Джон Мильтон (1608–1674). Потерянный рай. Перевод А. Штейнберга.
(обратно)2
Так в интерпретации слуг и негров, не отличавшихся грамотной речью, звучало обращение к замужней женщине.
(обратно)3
В ученики.
(обратно)4
Перевод Самуила Маршака.
(обратно)5
Перевод Дмитрия Веневитинова.
(обратно)6
Перевод Марины Ефимовой.
(обратно)7
Перевод Марины Ефимовой.
(обратно)8
Псевдоним Александра Гамильтона. Публий Валерий Публикола — один из легендарных основателей Римской республики.
(обратно)9
Имеется в виду курсив. Впервые курсив в печати применил типограф Альд Мануций в конце XV века. Курсив появился как подражание начертанию документов папской канцелярии. Поскольку дело происходило в Италии, распространившийся дальше по Европе шрифт так и назвали — итальянский. Он известен под названием «италик».
(обратно)10
Перевод Иосифа Бродского.
(обратно)11
Заместитель шерифа, судебный пристав.
(обратно)12
Перевод Марины Ефимовой.
(обратно)13
Дедушка (англ.).
(обратно)
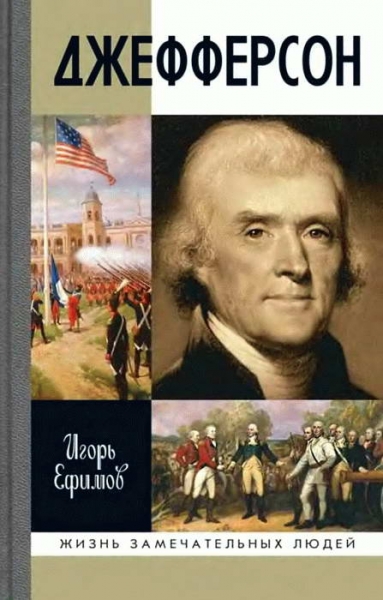


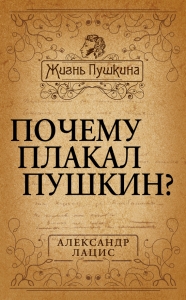



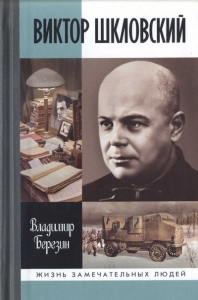
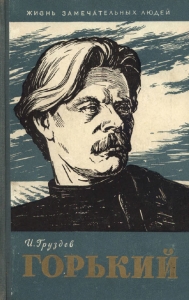
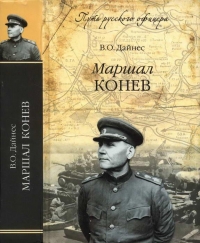
Комментарии к книге «Джефферсон», Игорь Маркович Ефимов
Всего 0 комментариев