Сквозь время Стихи поэтов и воспоминания о них
Илья Эренбург Предисловие
В XIX веке ритм жизни был неторопливым: люди ездили на перекладных и писали скрипучими перьями; может быть, поэтому они рано складывались — у них было время, чтобы задуматься. Лермонтову было двадцать семь лет, когда он умер, Петефи и Китсу — двадцать шесть, а все произведения Рембо написаны до того, как ему исполнилось девятнадцать лет. Годы, когда формировались поэты, стихи которых собраны в этой книге, были громкими, и люди формировались медленно.
…Империализм, Антанта, рикши, Мальчишки в старых пиджаках, Мальчишки в довоенных валенках, Оглохшие от грома труб, Восторженные, злые, маленькие, Простуженные на ветру… …………… Нас честность наша до рассвета В тревожный выводила свет…Нельзя читать стихи Когана, Кульчицкого, Майорова, Отрады без волнения: это первая страница, вырванная из книги, а продолжения мы никогда не узнаем.
Конечно, в стихах поэтов, умерших слишком рано, много незрелого, голос только становился, порой видны тени менявшихся учителей — Маяковского, Хлебникова, Багрицкого, Пастернака. Однако я читал и перечитывал стихи четырех поэтов, погибших на фронте, четырех сверстников и друзей, и все время думал: какая хорошая, большая книга! Дело не только в том, что отдельные строки Кульчицкого и Когана совершенны, достойны зрелых поэтов. Перед нами поэтическая исповедь поколения. Мертвые о нем рассказали ярче тех, что выжили, может быть потому, что мертвые остаются молодыми.
Стихи четырех авторов в одной книге должны были бы производить впечатление разноголосицы, тем более что поэты не похожи один на другого. О каждом из них читатель узнает из воспоминаний товарищей, сверстников, однокашников. (Я их мало знал. В моей записной книжке сохранилась короткая пометка: 30 апреля 1941 года я встретился со студентами Литинститута и записал фамилии некоторых.) Разными они были по природе и писали по-разному. А книга кажется написанной одним автором: те же волнения, те же надежды, и жизнь оборвана той же фронтовой смертью.
Молодым поэтам начала шестидесятых годов стоит задуматься над судьбой предшествующего поколения: ведь дети слишком легко отворачиваются от отцов. А их отцы стояли насмерть под Москвой или у Волги: у них были крылья.
Они как бы предвидели свою судьбу. Майоров писал:
Когда умру, ты отошли Письмо моей последней тетке, Зипун нестираный, обмотки И горсть той северной земли, В которой я усну навеки.Вот предчувствия Кульчицкого:
Наши будни не возьмет пыльца. Наши будни — это только дневка, Чтоб в бою похолодеть сердцам, Чтоб в бою нагрелися винтовки.Это не «мужская отвага», обязательная для Киплинга и его подражателей, а подлинное мужество. О нем говорил Коган:
Мое поколение —
это зубы сожми и работай,
Мое поколение —
это пулю прими и рухни.
Если соли не хватит —
хлеб намочи пóтом,
Если марли не хватит —
портянкой замотай тухлой.
Кто знает, как сложилась бы поэтическая судьба четырех юношей? Куда шагнул бы Кульчицкий, расставшись и с Востоком Хлебникова и с нарочитой громкостью, заимствованной у Маяковского? Я его помню, он сразу привлекал к себе внимание, да и дар ему был отпущен большой. Стихи Когана глубоки, в них мысли взрослого человека. Может быть, он занялся бы и прозой?.. Кто знает, в каком направлении развилось бы творчество Майорова и Отрады, так рано погибших? Больно и горько думать, как война истоптала начинавшую колоситься ниву русской поэзии. Горе испытываешь и гордость: такими вдохновенными, смелыми и по-человечески хорошими встают перед нами четыре погибших поэта. Я как читатель им бесконечно благодарен.
1962
Сергей Наровчатов Павел Коган
Московские поэты моего поколения хорошо помнят сухощавого и угловатого юношу, удивительно жизнелюбивого и страстного в своих жестах и суждениях. Из-под густых сросшихся бровей пытливо и оценивающе глядели на собеседника глубоко запавшие каре-зеленые глаза. У него была поразительная память. Он знал наизусть не десятки, а сотни стихотворений самых разных поэтов, не считая своих собственных. Читал он их всегда вдохновенно, но особенно взволнованно звучал его голос тогда, когда читал стихи, близкие ему по духу. Это были стихи, осмысляющие время. Не ошибусь, если скажу, что он жил поэзией. И разумеется, в этом слове он заключал не просто стихотворчество, но всю свою жизнь, свое отношение к судьбам поколения.
Поколение, к которому принадлежал Павел Коган, видело романтику в огненных всполохах гражданской войны. Кожаные комиссарские куртки и буденновские клинки — вот внешнее отражение глубоких чувств, тревоживших мальчишеские души. Жизнь приносила ощущение надвигающихся событий, невиданных по размаху. Все мы в это время жили в понимании близкой и неумолимой схватки с фашизмом. Павел Коган находился в самой гуще тогдашней жизни. Он был одним из первых застрельщиков, молодых энтузиастов искусства, поставившего себе целью духовную подготовку народа к борьбе с нашими заклятыми врагами.
В Павле Когане уживалась рядом с глубокой нежностью жестокая непримиримость. Он не любил людей, как он сам говорил, «промежуточных». В одном разговоре он мне сказал: «Не понимаю, как можно воздерживаться от голосования. Я бы вообще запретил эту формулу. Ты или „за“, или „против“». В этом был весь Павел. Я вспоминаю один немного смешной, но знаменательный юношеский разговор, который мог возникнуть, конечно, только на рубеже двадцати лет. Кто-то из нас предложил графически начертить линию своей жизни, как он сам ее себе представляет. Один изобразил ее в виде прямой линии, другой — в виде замкнутого круга, третий — в виде овала. Вот эта последняя трактовка особенно возмутила Павла. Подойдя к столу, он поперек овала резким росчерком карандаша нарисовал остроконечный угол и прочел те, ставшие теперь уже широко известными, стихи «Гроза», именем которых и названа его посмертная книга. Они, эти стихи, заканчивались строками:
Я с детства не любил овал, Я с детства угол рисовал.Остроугольным был и характер и талант Павла Когана. Он до болезненности ненавидел пошлость во всех ее проявлениях. Самодовольные мещане и в жизни и в поэзии были ему органически, до брезгливости противны.
В своем незавершенном романе в стихах он и объявил им открытую войну. Но не квартирные дрязги и не мелкие мошенники интересовали его.
Философ. Умница. Эстет, Так издевавшийся над щами. Ты знаешь, что на свете нет Страшней, чем умные мещане, Чем чаще этот род за нас, Чем суть его умнее лезет, Тем выше у меня цена На откровенное железо.Откровенным железом в стихах боролся Павел Коган со своими идейными противниками, и откровенным железом свинца расплатились с ним в 1942 году, в страдные дни под Новороссийском, наши враги, когда он возглавил поиск разведчиков.
Говоря о непримиримости Павла, я хочу отметить одну из особенностей его характера: он был жéсток, но очень сдержан в разговорах с теми, кто ему не нравился, и был нежен, но и крайне требователен к своим друзьям и единомышленникам. В первом случае он мог сказать известному в то время поэту в лицо на публичном выступлении фразу следующего характера: «Я глубоко уважаю вас как человека и как деятеля литературы. К сожалению, вы всю жизнь были более деятелем, чем поэтом, хоть у вас и в двадцатых годах и в тридцатых появилось несколько хороших строк, которые мы все помним наизусть, но которые лишний раз заставляют сожалеть об утраченных вами возможностях». Во втором случае он высказывался значительно резче: «Ты поэт хороший и с большими задатками, но последнее твое стихотворение никуда не годится. И вообще, если ты будешь продолжать в том же духе, то, право, пока не поздно, переквалифицируйся на какую-нибудь другую, более легкую специальность».
В моем рассказе недостает для обрисовки жизненно-литературного портрета Павла Когана одной основополагающей черты: его романтичности. Не случайно песня о бригантине, поднимающей паруса, стала одной из любимых студенческих песен. Казалось бы, как далека эпоха бригантин и фрегатов от эпохи спутников и межпланетных кораблей. Но образы дерзновенных искателей, открывателей новых пространств — Колумбов и Магелланов, Дежневых и Седовых — будут всегда тревожить человеческое воображение. Стивенсоновско-гриновская бригантина, заново оснащенная, летит по бурным волнам юношеского воображения и превращается в межпланетный корабль. Не случайно стихи о бригантине и о ракете соседствуют и по времени их написания и на страницах посмертной книги Павла Когана.
Мне вспомнилось одно высказывание моего товарища, самого Павла Когана, когда я писал предисловие к его сборнику «Гроза». В стихотворении «Ракета», как я писал, останавливает внимание прежде всего этическая проблема. Юноша-поэт решает для себя вопрос: во имя чего уйдут вдаль
Сквозь вечность, кинутые дороги, Сквозь время брошенные мостки.И сам себе отвечает:
Во имя юности нашей суровой, Во имя планеты, которую мы У мора отбили, Отбили у крови, Отбили у тупости и зимы…Многие мои товарищи, когда я писал эти строки, упрекали меня в домысле. Я вспомнил высказывания самого Павла, отвечавшего на нападки по поводу неточностей в отдельных строках «Ракеты», касавшихся самих обстоятельств и условий будущего космического полета:
«Я не писал космических стихов. Я хотел сказать, что вся история человечества развивалась для того, чтобы пошла ракета в космос, и что человечество занималось делом, необходимым для потомков. Моя тема — коммунизм. Человек вступает в прямую борьбу с природой. Первый полет совершается во имя людей».
Трудно поверить, что эти слова были сказаны двадцать лет назад на литературном семинаре, стенограмма которого случайно сохранилась.
Знаменательно, что слова Павла Когана были ощущением поколения.
Последние стихи ленинградского поэта Георгия Суворова, написанные им накануне такой же трагической кончины, как и у Павла Когана, но только на другом участке фронта и только на год позже, звучали примерно так же:
Свой добрый век мы прожили как люди и для людей.Все творчество Павла Когана и его погибших сверстников было и стало творчеством во имя и для людей. Мы, их живые сверстники, стараемся делать то же самое.
Павел Коган
Письмо
Жоре Лепскому
Вот и мы дожили, Вот и мы получаем весточки В изжеванных конвертах с треугольными штемпелями, Где сквозь запах армейской кожи, Сквозь бестолочь Слышно самое то, То самое, — Как гудок за полями. Вот и ты, товарищ красноармеец музвзвода, Воду пьешь по утрам из заболоченных речек. А поля между нами, А леса между нами и воды. Человек ты мой, Человек ты мой, Дорогой ты мой человече! А поля между нами, А леса между нами. (Россия! Разметалась, раскинулась По лежбищам, по урочищам. Что мне звать тебя? Разве голосом ее осилишь. Если в ней, словно в памяти, словно в юности: Попадешь — не воротишься.) А зима между нами. (Зима ты моя, Словно матовая, Словно рóсшитая, На большак, большая, хрома ты, На проселочную горбата, А снега по тебе громада, Сине-синие, запорошенные.) Я и писем тебе писать не научен. А твои читаю, Особенно те, что для женщины. Есть такое в них самое, Что ни выдумать, ни намучить, Словно что-то поверено, Потом потеряно, Потом обещано. (…А вы все трагической героиней, А снитесь — девочкой-неспокойкой. А трубач «тáри-тáри-тá» трубит: «по койкам!» А ветра сухие на Западной Украине.) Я вот тоже любил одну, сероглазницу, Слишком взрослую, может быть, слишком строгую. А уеду и вспомню такой проказницей, Непутевой такой, такой недотрогою. Мы пройдем через это. Мы затопчем это, как окурки, Мы, лобастые мальчики невиданной революции. В десять лет мечтатели, В четырнадцать — поэты и урки. В двадцать пять — внесенные в смертные реляции. Мое поколение — это зубы сожми и работай, Мое поколение — это пулю прими и рухни. Если соли не хватит — хлеб намочи пóтом, Если марли не хватит — портянкой замотай тухлой. Ты же сам понимаешь, я не умею бить в литавры, Мы же вместе мечтали, что пыль, что ковыль, что криница. Мы с тобою вместе мечтали пошляться по Таврии (Ну, по Крыму по-русски), А шляемся по заграницам. И когда мне скомандует пуля «не торопиться» И последний выдох на снегу воронку выжжет (Ты должен выжить, я хочу, чтобы ты выжил), Ты прости мне тогда, что я не писал тебе писем. А за нами женщины наши, И годы наши босые, И стихи наши, И юность, И январские рассветы. А леса за нами, А поля за нами — Россия! И, наверно, земшарная Республика Советов! Вот не вышло письма. Не вышло письма, Какое там! Но я напишу, Повинен. Ведь я понимаю, Трубач «тáри-тáри-тá» трубит: «по койкам!» И ветра сухие на Западной Украине.Декабрь, 1940
«Мы сами не заметили, как сразу…»
Мы сами не заметили, как сразу Сукном армейским начинался год, Как на лету обугливалась фраза И черствая романтика работ. Когда кончается твое искусство, Романтики падучая звезда, По всем канонам письменно и устно Тебе тоскою принято воздать. Еще и строчки пахнут сукровицей, Еще и вдохновляться нам дано. Еще ночами нам, как прежде, снится До осязанья явное Оно. О пафос дней, не ведавших причалов, Когда, еще не выдумав судьбы, Мы сами, не распутавшись в началах, Вершили скоротечные суды!1937
«Неустойчивый мартовский лед…»
Неустойчивый мартовский лед пешеходами изувечен. Неожиданно вечер придет, до усталости милый вечер. Мы останемся наедине — я и зеркало. Понемногу в нарастающей тишине я начну различать тревогу. Поболтаем. Закрыта дверь. И дороги неповторимы. О дорогах — они теперь не всегда устремляются к Риму, и о Риме, который, поверь, много проще и повторимее. Но дороги ведут теперь либо к Риму, а либо от Рима.Март, 1936
Тигр в зоопарке
Ромбическая лепка мускула и бронзы — дьявол или идол и глáза острого и узкого неповторимая обида. Древнéй Китая или Греции, древнéй искусства и эротики такая бешеная грация в неповторимом повороте. Когда, сопя и чертыхаясь, бог тварей в мир пустил бездонный, он сам создал себя из хаоса, минуя божие ладони. Но человек — созданье божие, пустое отраженье бога — свалил на землю и стреножил, рукой уверенно потрогал. Какой вольнолюбивой яростью его бросает в стены ящика, как никнет он, как жалко старится при виде сторожа кормящего. Как в нем неповторимо спаяны густая ярость с примиренностью. Он низведенный и охаянный, но бог по древней одаренности. Мы вышли. Вечер был соломенный, ты шел уверенным прохожим, но было что-то в жесте сломанном на тигра пленного похожим.1939
Илья Сельвинский «Однажды ко мне…»
Однажды ко мне в профессорскую комнату Литературного института пришел молодой человек с соколиными чертами лица и сказал:
— Я студент ИФЛИ, но перешел бы в Литературный институт, если вы согласитесь принять меня в свой семинар.
— На каком вы курсе?
— На четвертом.
— Поздновато. Ведь нам с вами останется очень мало времени для совместной работы.
— Я готов перейти к вам на третий, даже на второй курс. Устраивает это вас?
— Допустим. Остается выяснить пустячок: есть ли у вас дарование.
Юноша стал читать мне свои стихи:
В этих строках всё: и что мечталось, И что плакалось и снилось мне, Голубая майская усталость, Ласковые песни о весне, Дым, тоска, мечта и голубая Даль, зовущая в далекий путь. Девочка (до боли дорогая, До того, что хочется вздохнуть). Шелест тополей. Глухие ночи, Пыль, и хрусткий снег, и свет Фонарей. И розовый и очень, Очень теплый и большой рассвет…Стихи эти не были из ряда вон выходящими. Но среди голых канцелярских столов в маленькой накуренной комнате, где я слушал этого юношу буквально на ходу, они вдруг заставили меня почувствовать с какой-то сладостной мукой и мою собственную юность с ее вешним томлением, с тающей далью, влекущей к странствованиям, со щемящей тоской о любви. Он читал, а я почти не слушал: вспоминал. Юноша кончил. Я не знал — что сказать о его стихах, но во мне говорила теплая благодарность к нему за то, что он на мгновение вернул мне молодость, как юный Мефистофель еще далеко не старому Фаусту. Я понял, что этот человек больше своих стихов. Так вошел в число моих учеников студент Павел Коган.
Группа, которую я вел, состояла из очень сильных молодых поэтов, среди которых назову А. Яшина, С. Наровчатова, Б. Слуцкого, М. Кульчицкого, М. Львовского, Г. Рублева, Ю. Окунева. Некоторые из них стали впоследствии поэтами с известностью, выходящей за пределы Советского Союза. Павел Коган не только не затерялся среди них, но очень быстро занял видное положение. В нем пленяла одержимость. Это был как бы музыкальный инструмент, пронизанный гулом поэзии.
Я очень любил его. Может быть, и потому, что он особенно глубоко воспринимал каждый мой совет: это не может не нравиться педагогу. Я видел, как юноша рос, и понимал, что растет он под моим воздействием. Иногда это воздействие было слишком прямолинейным. Например, в стихотворении «Тигр в зоопарке». Но все же развивался Павел вполне самостоятельно, и я ждал от него многого.
В моей работе со студентами я избегал проповедей и воскресных истин, но одну идею внушал им постоянно: если хотите быть нужными своему времени, мыслите себя как людей своего поколения. Павел Коган понял свое поколение как людей, которым предстоит принять на плечи всю огромную тяжесть будущей войны. Эта мысль для Когана стала магистральной. Ей посвящены лучшие его стихи. Невозможно забыть эти строчки:
Мы, лобастые мальчики невиданной революции, В десять лет мечтатели, В четырнадцать — поэты и урки, В двадцать пять — внесенные в смертные реляции. Мое поколение — это зубы сожми и работай, Мое поколение — это пулю прими и рухни.Люди моего поколения, то есть поколения отцов, не написали бы последней строчки: мы чувствовали иначе. В одном из своих ранних стихотворений я, например, писал:
Мне солнце улыбнется, Я радость караулю. А пулю съесть придется — Переварю и пулю.Павел Коган ощущал войну трагичнее. Но это не значит, что он отдавал дань романтической жертвенности. В том же стихотворении он говорит:
И когда мне скомандует пуля «не торопиться» И последний выдох на снегу воронку выжжет (Ты должен выжить, я хочу, чтобы ты выжил), Ты прости мне тогда, что я не писал тебе писем.Здесь очень просто и в то же время очень патетически выражено чувство целого с коллективом, с полком, с народом: сосед должен выжить, даже если я погибну, должен, чтобы победить! Это стихотворение стало пророческим: Павел Коган погиб на фронте под Новороссийском, но сосед его, но полк его, но народ его выжил и победил.
Незадолго перед войной он начал писать роман в стихах «Первая треть». Поднять такую махину, как стихотворный роман, с фабулой, с характерами, с лирическими отступлениями, — дело нелегкое даже для профессионального поэта. Недавно, роясь в архиве, я нашел протокол заседания семинара, обсуждавшего первые две части этого романа. В протоколе очень сжато, не всегда понятно и далеко не моим языком изложена секретарем моя точка зрения. Вот что я прочитал:
«…Мне кажется, что мы присутствуем при рождении очень значительного произведения. Мы столкнулись с явлением, которое, очевидно, определит на некоторое время движение нашей поэзии. Это произведение имеет значение не только для творчества самого Когана, но и для литературы. Коган ставит тему очень тонко, он не зря начинает со спора в области этической и эстетической. „Мы боремся за то, чтобы жить лучше и прямей“. За это борется поэма. Очень хорошо, что молодой поэт берется за тему молодости. Есть кое-где пережигание материала, особенно там, где чувствуется влияние Пастернака. Есть очень чистые лирические звучания. Подражания здесь нет. Герои изображаются в плане советско-культурном. Хорошо, что есть и влияние Пушкина. Поэма не только повествовательна: очевидно, она будет проблемной и полемичной. Поэма в основном явление интеллектуальное. Не риторика, а самая настоящая советская лирика».
Это было сказано в 1940 году. Перечитывая главы романа спустя двадцать лет, я чувствую то же, что и тогда, с той лишь разницей, что надежда увидеть Павла одним из выдающихся наших поэтов сменилась глубокой горечью об утрате этого замечательного человека — подлинного героя нашего времени. Но если ему не суждено было закончить романа, то уверен, убежден — появится поэт, который напишет роман о нем самом, и это будет венком на братскую могилу юношей, которые, приняв на себя страшный удар фашизма, спасли от рабства нашу страну с ее великим Грядущим.
Павел Коган
Первая треть (Роман в стихах)
…Треть пути за кормой,
И борта поседели от пены…
(Из ранних стихов Владимира)Глава I
…Современники садят сады.
Воздух в комнаты! Окна настежь!
Ты стоишь на пороге беды,
За четыре шага от счастья…
(Из ранних стихов Владимира) 1 В последних числах января Он дописал свою поэму. Из дебрей вылезшая тьма. Трактуя горе и моря, Любовь, разлуку, якоря, Ломала ноги о коряги. Едва ль он тему покорял, Скорее тема покоряла. Но как бы ни было, она, Поэма то есть, стала пачкой Листов исписанных. Финал, однако, ставящий задачи. И тот день он получил письмо В тонах изысканно-любезных. Олег писал, что-де восьмой Проходит месяц, Что-де бездна Стихов, обид и новостей, Что нету поводов для злости, Что он сегодня ждет гостей, Когда желает сам быть гостем, 2 Взбежав по лестнице на третий, Знакомый с стародавних пор. Он понял, что спокойно встретит Там предстоящий разговор. Что тут помочь, похоже, нечем, Но трудно было отвыкать От тех стихов и от дощечки — «Н. С. Заречин, адвокат». Отец Олега, адвокатом, Забыв в тринадцатом Уфу, Лысел, жил в меру, небогато, Но с Цицероном на шкафу… 3 Квартиры юности и детства, Куда нам деться от тоски, Пройдись, пересчитай наследство, Стихов и нежности ростки. Подруги наши нам простили Всю сумму дорогих примет. Мы руки милые, простые Случайно жали в полутьме. Мы первый раз поцеловали, Мы спорили до хрипоты. Потом мы жили, забывали, Мы с жизнью перешли на «ты»… Но отступленье вязнет в датах, И если сваливать вину — Сам Пушкин так писал когда-то, А я ж не Пушкин, entre nous. И так оставим это, право, Добавив, что Марины нет, По коридору и направо Пройдем с Олегом в кабинет. 4 Уже дочитаны стихи. Олег, закуривая, стоя: «Ну что ж, пожалуй, не плохи, А только и плохих не стоят. А пахнут, знаешь, как тарань, — Приспособленчеством и дрянью. Того гляди, и трактора Бравурной песенкою грянут. И тут же, „не сходя с местов“, Безвкусицей передовицы Начнут высказывать восторг Орденоносные девицы. Ты знаешь сам — я им не враг, Ты знаешь, папа арестован. Но я не вру и я не врал, И нету времени простого, Он адвокат, он наболтал, Ну, анекдотец — Брут на воле. В них стержня нет, в них нет болта. Мне лично больно, но не боле. Но транспортиром и мечом Перекроив эпоху сразу, Что для искусства извлечет Опальный человечий разум? Боюсь, что ничего. Взгляни: Французы, что ли? Ну лавина! А что оставили они — Недопеченного Давида. Ну что еще? Руже де Лиль? Но с тиною бурбонских лилий Его навеки отдалил Тот „Ягуар“ Леконт де Лиля. Искусство движется теперь Горизонтально. Это горько, Но выбирай, закрывши дверь, — „Виргиния“ или махорка. Ну что же, опростись пока, Баб шшупай да подсолнух пускай, А в рассужденье табака Лет через сто дойдем до „Люкса“. Без шуток. Если ты поэт Всерьез. Взаправду. И надолго. Ты должен эту сотню лет Прожить по ящикам и полкам, Росинкой. Яблоком. Цветком. Далеким переплеском Фета, Волос девичьих завитком И чистым маревом рассвета. А главное, как ни крути, Что делал ты и что ты сделал? Ты трактористку воплотил В прекрасной Афродиты тело. Ты не понятен им, поверь, Как Пастернак, как громы Листа. Но Листа слушают — помéр, А ты — ты будешь вновь освистан. А выход есть. Портьеры взмах — И мир уютом разграничен, Мы сядем к огоньку. Зима. Прочтем Рембо, откроем Ницше. И вот он маленький, но наш, Летит мечтой со стен и окон, И капли чистого вина Переломляют мир высокий». 5 Владимир встал. Теперь он знал. Что нет спокойствия. Пожалуй, Лишь ощущений новизна Его от крика удержала. Он оглянулся. Что же, тут Он детство прожил, юность начал, Он строчек первых теплоту Из этих дней переиначил. Но медной ярости комок Жег губы купоросом. Проще Уйти, пожалуй. Но порог? Но всех тревог последний росчерк? Нет, отвечать! И на лету, Когда еще конца не ведал, Он понял — правильно! И тут Предельной честности победа. 6 «Пока внушительны портьеры, Как русский довод — „остолоп“ — И мы с тобой не у барьера, Мы говорим. Мы за столом. И лунный свет налит в стекло, Как чай. И чай налит как милость. И тень элегий и эклог В твоих строках переломилась. Я знаю все. И как ты куришь, А в рассужденье грез и лир, Какую точно кубатуру Имеет твой особый мир. И как ты скажешь: „В январе Над городом пылает льдинка, Да нет, не льдинка, погляди-ка, Горит как шапка на воре“. И льдинка вдрызг. И на осколках Ты это слово надломил, От этой вычурности копкой Мне станет холодно на миг. Философ. Умница. Эстет, Так издевавшийся над щами. Ты знаешь, что на свете нет Страшней, чем умные мещане, Чем чаще этот род за нас, Чем суть его умнее лезет, Тем выше у меня цена На откровенное железо. Да, транспортиром и мечом Перекроив эпоху сразу, Он в первой грусти уличен, Опальный человечий разум. Так, сам не зная почему, Забыв о верности сыновней, Грустит мальчишка. И ему Другие горизонты внове. Горизонтально, говоришь? Быстрее, чем ты напророчил, Он дочитает буквари, Он голос обретет и почерк. Профессор мудрый и седой, Колумб, который открывает Цветенье новое садов, — Его никто не понимает. Но метод, стиль его побед — В нем стиль и метод твой, эпоха. Его не понимают? — Плохо, Как плохо, если десять лет. А ты, ты умненьким чижом В чижином маленьком уютце, ты им враждебный и чужой. Они пройдут и рассмеются. И что ты можешь? Что ты мог? Дымок по комнате протащишь, В стихах опишешь тот дымок и спрячешь в сокровенный ящик. Души, душе, душой, душа — здесь мысль к пошлости околышек!» — «Ты этим воздухом дышал!» — «Дышал, но не желаю больше! Есть гордость временем своим, Она мудрей прогнозов утлых, Она тревогой напоит, Прикрикнет, если перепутал, И в этой гордости простой Ты не найдешь обычной темы: „Открой окно — какой простор! Закрой окно — какая темень!“ Есть мир, он, право, не чета Твоей возвышенной пустыне, В нем так тревога начата, Что лет на триста не остынет. Крушенье личности и Трой, суровая походка грома! Суровый мир, простой, огромный. Распихнутый для всех ветров…»Глава II
…Можно сердце выложить —
На! — чтоб стужу плавило.
Не было? Было же!
Не взяла, — оставила…
(Из ранних стихов Владимира) 1 Ну что ж, похоже в самом деле, Я победитель. Значит — быть. Как мы тревогу не разделим, Как мне ее не разлюбить, Так от победы этой грустной Не закружится голова — Здесь начинается искусство, И здесь кончаются слова. Но даже если ты уверен, Что не напутано в «азах», Ты одинок в огромной мере, Как Женька некогда сказал. 2 Буран, буран. Такая стужа. Да лед звенит. Да тишина. О, молодость! Вино, да ужин, Да папиросы, да Она — Ну, чем, голодная и злая, Ты бродишь полночью такой? Гудки плывут, собаки лают С какой-то зимнею тоской. 3 Так возвращается Владимир К весьма условной теплоте, Не соразмерив пыл и имя, Он только комнатой владел. Семиметровая обитель Суровой юности! Прости, Коль невниманием обидел Иль раньше срока загрустил. Там так клопы нещадно жрали, Окурки дулися в лото, Там крепко думалось, едва ли Нам лучше думалось потом. 4 Он жил тогда за Белорусским, И, от Заречиных бредя, он думал с царственным и узким Презреньем истинных бродяг Об ужине и о портьерах. И сам того не замечал, Что это детство или ересь И повторение начал. Но это так легко вязалось С мечтой об ужине, что он, Перебродив совсем, к вокзалу Был просто очень утомлен. 5 Да, вот и дом. Такою ночью Ему в буран не улететь, Он фонарями приторочен К почти кромешной темноте. В подъезде понял он и принял, — То беспокойство, что ловил. Звалось Заречиной Мариной И безнадежностью в любви, 6 — Фу, видно, все-таки дождалась. — Марина? — Я. — Какой судьбой? Какими судьбами? — Ты талый, Ты каплешь весь. Да ну, постой. — Да нет, откуда? — Ну уж, знаешь, Ты не излишне comme it taut. Ты, видно, вправду не считаешь Меня особенной лафой. А ларчик просто — я к подруге. Ночую. Рядом. За углом. Да то ли детством, то ли вьюгой, Как видишь, в гости примело. 7 Пока с необъяснимым рвеньем Он снег сбивает с рукавов, Ругает стужу, ищет веник И постигает — «каково!», Марина смотрит, улыбаясь, — Мальчишка. Рыцарь и аскет. И только жилка голубая Просвечивает на виске. Но комната его убила, — Была такая чистота, Что запах детства или мыла Висел и ноздри щекотал… …12 О мальчики моей поруки! Давно старьевщикам пошли Смешные ордерные брюки, Которых нам не опошлить. Мы ели тыквенную кашу, Видали Родину в дыму, В лице молочниц и мамаши Мы били контру на дому. Двенадцатилетние чекисты, Принявши целый мир в родню, Из всех неоспоримых истин Мы знали партию одну. И фантастическую честность С собой носили как билет, Чтоб после, в возрасте известном, Как корью ей переболеть. Но, правдолюбцы и аскеты, Все путали в пятнадцать лет. Нас честность наша до рассвета В тревожный выводила свет. На Украине голодали, Дымился Дон от мятежей, И мы с цитатами из Даля Следили дамочек в ТЭЖЭ. Но как мы путали. Как сразу Мы оказались за бортом, Как мучились, как ум за разум, Как взгляды тысячи сортов. Как нас несло к чужим. Но нету Других путей. И тропок нет. Нас честность наша до рассвета В тревожный выводила свет. О, Родина! Я знаю шаг твой, И мне не жаль своих путей. Мы были совестью абстрактной, А стали совестью твоей. 13 Еще о честности. Ты помнишь, Плечом обшарпанным вперед Огромный дом вплывал в огромный Дождя и чувств круговорот. И он навеки незапятнан, Тот вечер. Дождик моросил На Александровской. На пятом Я на руках тебя носил. Ты мне сказала, что не любишь. И плакала. Затем что так Любить хотелося, что губы Свела сухая маета. Мы целовались. Но затем ли, Что наша честность не могла, Я открывал тебя, как земли, Как полушарья Магеллан. Я целовал твои ресницы, Ладони, волосы, глаза, Мне посегодня часто снится Солоноватая слеза. Но нет, не губы. Нам в наследство, Как детства запахи и сны, — Что каша честность вне последствий И наши помыслы ясны. 14 Он должен ей сказать, что очень… Что он не знает, что сказать. Что можно сердце приурочить К грозе. И вот потом гроза. И ты ни слова не умеешь И ходишь не в своем уме, И все эпитеты из Мея, А большее нельзя уметь… Он должен ей сказать всю эту Огромную как мир муру, От часа сотворенья света Бытующую на миру. Не замуруй ее. Оплошность В другую вырастет беду. Она придет к тебе как пошлость, Когда отвергнешь высоту. Он должен ей сказать, что любит, Что будет все, что «будем жить». Что будет все. От первой грубой До дальней ласковой межи. И в медленные водопады Стекут секунды. Тут провал. Тут что-то передумать надо. Здесь детской честности права. Здесь брат. Ну да, Олег. И, зная, Что жизнь не ребус и кроссворд, Он, путая и запинаясь, Рассказывает ей про спор. Про суть. Про завязь. Про причины. Про следствия и про итог. Сам понимая, что мужчина Здесь должен говорить не то, Но верит, что поймет, что счас он Окончит. Скажет про любовь. Что это нужно. Это частность, И он тревогою любой, Любою нежностью отдышит Ладони милые. Ну да! И все-таки он ясно слышит, Как начинается беда. Она пуховым полушалком Махнет, чтоб спрятать дрожь рукой: — Какой ты трус! Какой ты жалкий! И я такого! Боже мой!.. — И с яростью и с сожаленьем Отходы руша и ходы: — Ничтожество. Приспособленец. Ты струсил папиной беды. — И хлопнет дверью. И растает В чужой морозной темноте. 15 О молодость моя простая, О чем ты плачешь на тахте?Глава III
1 Зимой двадцать второго года От Брянского на Подвески Трясет по всем Тверским-Ямским На санках вымершей породы, На архаичных до пародий, Семейство Роговых. А снег Слепит и кружит. И Володе Криницы снятся в полусне, И тополей пирамидальных Готический собор в дыму За этой далью, дальней-дальней, Приснится в юности ему. 2 Что вклинивалось самым главным В прощальной суеты поток, Едва ль Надежда Николавна Сама припомнила потом. Но опостылели подруги, И комнаты, и весь мирок, И все мороки всей округи До обморока. До морок. И что ни говори — за двадцать. Ну, скажем, двадцать пять. Хотя И муж и сын, но разобраться — Живешь при маме, как дитя. Поэтому, когда Сережа Сказал, что едем, что Москва, Была тоска, конечно; все же Была не главною тоска. 3 Сергей Владимирович Рогов, Что я могу о вас сказать: Столетье кружится дорога, Блюстителей вводя в азарт. Но где-то за «Зеленой лампой», За первой чашей круговой, За декабристами — «Сатрапы! Еще посмотрим кто кого!». За петрашевцами, Фурье ли, Иль просто нежность затая, — «Ну где нам думать о карьере, Россия, родина моя!» Вы где-то за попыткой робкой Идти в народ. Вы арестант. Крамольник в каменной коробке, В навеки проклятых Крестах. И где-то там за далью дальней, Где вправду быть вы не могли, По всей Владимирке кандальной Начала ваши залегли. Да лютой стужею сибирской Снегами замело следы, И мальчик в городе Симбирске Над книгой за полночь сидит. Лет на сто залегла дорога, Блюстителей вводя в азарт, Сергей Владимирович Рогов, Что я могу о вас сказать? Как едет мальчик худощавый, Пальтишко на билет продав, Учиться в Питер. Пахнет щами И шпиками по городам. Решетчатые тени сыска В гороховом пальто, одна Над всей империей Российской Столыпинская тишина. А за московскою, за старой По переулкам ни души. До полночи гремят гитары, Гектограф за полночь шуршит. И пробивалася сквозь плесень И расходилась по кругам Гектографированной прессы Конспиративная пурга. 4 Вы не были героем, Рогов, И вы чуждалися газет, Листовок, сходок, монологов И слишком пламенных друзей. Вы думали, что этот колосс Не свалит ни одна волна. Он задушил не только голос, Он душу вытрясет сполна. Но, родина моя, ведь надо, Ведь надо что-то делать? Жди! Возьми за шиворот и на дом Два тыщелетья приведи. Давай уроки лоботрясам. В куртенке бегай в холода. Недоедай. Зубами лязгай. Отчаивайся. Голодай. Но не сдавай. Сиди над книгой До дворников. До ломоты. Не ради теплоты и выгод, Но ради благ и теплоты, Чтоб через сотни лет жила бы Россия лучше и прямей. Затем, что Пестель и Желябов До ужаса простой пример. 5 Но трусом не были. И где-то Сосало все же, что скрывать, Ругаясь, прятали газеты И оставляли ночевать В той комнатенке на четвертом, На койке с прозвищем «шакал». Каких-то юношей в потертых, В блатонадежных пиджаках. И жили, так сказать, помалу (Ну гаудеамус на паú) И числились хорошим малым, Без кругозора, но своим. 6 Так жили вы. Тащились зимы, Летели весны. По утрам Вас мучили неотразимой Тоской мальчишеской ветра. Потом война. В воде окопной, В грязи, в отбросах и гною, Поштучно, рознично и скопом Кровавый ростбиф подают. Он вшами сдобрен. Горем перчен. Он вдовьею слезой полит. Им молодость отцов, как смерчем, Как черной оспой, опалит. Лабазники рычали «Славу» Не в тон, и все же в унисон. Восторженных оваций лава. Облавы. Лавку на засов — И «бей скубентов!». И над всею Империей тупой мотив. И прет чубатая Расея, Россию вовсе замутив. 7 Ну что же к вашей чести, Рогов, Вы не вломилися в «порыв». Звенят кандальные дороги — Товарищей ведут в Нарым. И в памяти висит как запон, Все прочее отгородив, Махорки арестантский запах И резкий окрик: «Проходи!» И где-то здесь, сквозь разговоры Пробившись, как сквозь сор лопух, То качество, найдя опору, Пробьет количеств скорлупу. Здесь начинался тонкий оттиск, Тот странный контур, тот наряд, Тех предпоследних донкихотов Особый, русский вариант. 8 Я не могу без нежной злобы Припомнить ваши дни подряд. В степи седой да гололобой Ночь отбивался продотряд. Вы шли мандатом и раздором, Кричали по ночам сычи. На всех шляхах, на всех просторах «Максим» республике учил. И что с того, что были «спецом» И «беспартийная душа». Вам выпало с тревогой спеться, Высоким воздухом дышать. Но в партию вы не вступили, Затем что думали и тут, Что после боя трусы или Прохвосты в армию идут. Так вы остались вечным «замом», И как вас мучило порой Тоской ущербною, той самой Тоской, похожей на порок. Наивный выход из разлада: Чтоб ни уюта, ни утех, Чтоб ни покоя, ни оклада, Когда партмаксимум у тех. 9 Итак, зимой двадцать второго Трясет извозчик легковой Седой, заснеженной Москвой К еще не обжитому крову Семейство Роговых. По брови Укутанный в худой азям, Уходит ветер. Он озяб. Снега крутят до самых кровель[1]. Итак, зимой двадцать второго Вы едете с семьей в Москву, Привычность города родного Менять на новую тоску. 10 Поскольку вы считались самым Своим средь чуждых наотрез, Вас посылали важным замом В столицу. В центр. В новый трест. И, зная вас, вам предложили В Москву поехать и купить себе квартиру, дабы жили, Как спецам полагалось жить. И вы купили. На Миусской (Чтоб быть народу не внаклад) Достаточно сырой и узкий, Достаточно невзрачный склад. И, приведя его в порядок И в относительный уют, Вы приготовились к параду И спешно вызвали семью. 11 «Да деньги ж не мои — народа!» — «О, боже, право, тонкий ход. И как я вышла за урода? Ханжа, святоша, Дон-Кихот!» 12 Мир первый раз смещен. Володя Заснет сегодня в темноте. Среди рогож, среди полотен, Болотом пахнущих и тем, Чего он не видал ни разу. А мама плачет. По углам Шуршит в тазах и лезет в вазу И чуть потрескивает мгла.Глава IV
Детство милое. Как мне известен
Запах твой, твой дым, твое тепло.
(Из ранних стихов Владимира) 1 Купили снегиря на пару, Но не пошли пока домой. Тяжелый гам, как мокрый парус, Чуть провисал над головой. Рыдали ржавые лисицы, Цыган на скрипке изнывал, И счастье пряничным девицам Ханжа веселый продавал. И пахло стойбищем, берлогой, Гнилой болотною травой. И мокрый гам висел полого Над разноцветною толпой. Миусский рынок пел и плакал, Свистел, хрипел и верещал, И солнце проходило лаком По всем обыденным вещам. И только возле рей и крынок Редел, плевался и сорил Охотничий и птичий рынок… 2 …О, проливные снегири… О, детства медленная память, Снегирь, как маленький огонь, Как «взять на зуб», как пробный камень. Пройдите у чужих окон И вспомните. Не постепенно — Захлеблой памятью сплошной Те выщербленные ступени, Тот привкус резкий и блатной. Там густо в воздухе повисли, Прямой не видя на пути, Начало хода, контур мысли, Поступков медленный пунктир. Но это сжато до предела В малюсенький цветастый мир, Но там начало пролетело. Пройди неслышно… Не шуми… 3 Его возила утром мама На трех трамваях в детский сад, Далеко, за заводом АМО, Куда Макар гонял телят. Где в арестантские халаты Часов на восемь водворят, Где даже самый дух халатен, О «тетях» и не говоря, Но где плывут в стеклянных кубах В воде общественной, ничьей, К хвосту сходящие на убыль Отрезки солнечных лучей; Где верстаком нас приучали, Что труд есть труд и жизнь — труд, Где тунеядцев бьют вначале, А после в порошок сотрут; Где на стене, как сполох странный Тех неумеренных годов, На трех языках иностранных Изображалось: «Будь готов!» О, мы языков не учили, Зато известны были нам От Индонезии до Чили Вождей компартий имена. 4 В те годы в праздники возили Нас по Москве грузовики, Где рядом с узником Бразилии Художники изобразили Керзона (нам тогда грозили. Как нынче, разные враги). На перечищенных, охрипших Врезались в строгие века Империализм, Антанта, рикши, Мальчишки в старых пиджаках. Мальчишки в довоенных валенках, Оглохшие от грома труб, Восторженные, злые, маленькие, Простуженные на ветру. Когда-нибудь в пятидесятых Художники от мук сопреют, Пока они изобразят их, Погибших возле речки Шпрее. А вы поставьте зло и косо Вперед стремящиеся упрямо, Чуть рахитичные колеса Грузовика системы «АМО», И мальчики моей поруки Сквозь расстояние и изморозь Протянут худенькие руки Людям коммунизма. 5 А грузовик не шел. Володя В окно глядел. Губу кусал. На улице под две мелодии Мальчишка маленький плясал. А грузовик не шел, не ехал. Не ехал и не шел. Тоска. На улице нам на потеху Мальчишка ходит на носках. И тетя Надя, их педолог, Сказала: «Надо полагать, Что выход есть и он недолог И надо горю помогать. Мы наших кукол, между прочим, Посадим там, посадим тут. Они — буржуи, мы — рабочие, А революции грядут. Возьмите все, ребята, палки, Буржуи платят нам гроши; Организованно, без свалки Буржуазию сокрушим». Сначала кукол били чинно И тех не били, кто упал, Но пафос бойни беспричинной Уже под сердце подступал. И били в бога, и в апостола, И в христофор-колумба-мать И невзначай лупили по столу, Чтоб просто что-нибудь сломать. Володя тоже бил. Он кукле С размаху выбил правый глаз, Но вдруг ему под сердце стукнула Кривая ржавая игла. И показалось, что у куклы Из глаз, как студень, мозг ползет, И кровью набухают букли, И мертвечиною несет, И рушит черепа и блюдца, И лупит в темя топором Не маленькая революция, А преуменьшенный погром. И стало стыдно так, что с глаз бы, Совсем не слышать и не быть, Как будто ты такой, и грязный, И надо долго мылом мыть. Он бросил палку и заплакал И отошел в сторонку, сел И не мешал совсем. Однако Сказала тетя Надя всем, Что он неважный октябренок И просто лживый эгоист, Что он испорченный ребенок И буржуазный гуманист. (…Ах, тетя Надя, тетя Надя, По прозвищу «рабочий класс», Я нынче раза по три на день Встречаю в сутолоке вас…) 6 Домой пошли по 1-й Брестской, По зарастающей быльем. В чужих дворах с протяжным треском Сушилось чистое белье. И солнце падало на кровли Грибным дождем, дождем косым, Стекало в лужу у «Торговли Перепетусенко и сын». Володя промолчал дорогу, Старался не глядеть в глаза, Но возле самого порога, Сбиваясь, маме рассказал Про то, как избивали кукол, Про «буржуазный гуманист»… На лесенке играл «Разлуку» Слегка в подпитье гармонист. Он так играл, корявый малый, В такие уходил баса. Что аж под сердце подымалась Необъяснимая слеза. 7 А мама бросила покупки, Сказала, что «теряет нить», Сказала, что «кошмар» и — к трубке, Скорее Любочке звонить. (Подруга детства, из удачниц, Из дачниц. Все ей нипочем, Образчик со времен задачников, За некрасивым, но врачом.) А мама, горячась и сетуя, Кричала Любочке: «Позор, Нельзя ж проклятою газетою Закрыть ребенку кругозор. Ведь у ребенка „табуль расса“ (Да ну из Фребелевских, ну ж), А им на эту „табуль“ — классы, Буржуев, угнетенных. Чушь. Володя! Но Володя тонкий, Особенный. Не то страшит. Ты б поглядела на ребенка — Он от брезгливости дрожит. Все мой апостол что-то ищет. Ну, хватит — сад переменю. Ах, Надя — толстая бабища, Безвкуснейшая парвеню». 8 Володя слушал, и мокрица Между лопаток проползла. Он сам не ведал, что случится, Но губы закусил со зла. Какая-то чужая сила На плечи тонкие брела, Подталкивала, выносила… Он крикнул: «Ты ей наврала. Вы обе врете. Вы — буржуи. Мне наплевать. Я не спрошу. Вы — клеветуньи. Не дрожу и Совсем от радости дрожу». Он врал. Да так, что сердце екнуло. Захлебываясь счастьем, врал. И слушал мир. И мир за окнами «Разлуку» тоненько играл.Из недописанной главы «Есть в наших днях такая точность…»
Есть в наших днях такая точность, Что мальчики иных веков, Наверно, будут плакать ночью О времени большевиков, И будут жаловаться милым, Что не родились в те года, Когда звенела и дымилась, На берег рухнувши, вода. Они нас выдумают снова — Косая сажень, твердый шаг — И верную найдут основу, Но не сумеют так дышать, Как мы дышали, как дружили, Как жили мы, как впопыхах Плохие песни мы сложили О поразительных делах. Мы были всякими, любыми, Не очень умными подчас. Мы наших девушек любили, Ревнуя, мучась, горячась. Мы были всякими. Но, мучась, Мы понимали: в наши дни Нам выпала такая участь, Что пусть завидуют они. Они нас выдумают мудрых, Мы будем строги и прямы, Они прикрасят и припудрят, И все-таки пробьемся мы! ………….. И пусть я покажусь им узким И их всесветность оскорблю, Я патриот. Я воздух русский, Я землю русскую люблю, Я верю, что нигде на свете Второй такой не отыскать, Чтоб так пахнуло на рассвете, Чтоб дымный ветер на песках… И где еще найдешь такие Березы, как в моем краю! Я б сдох как пес от ностальгии В любом кокосовом раю…1940–1941
Алексей Леонтьев Павка
Забуду все, что знал и трогал…
— Дальше!
— Но буду ль рад забыть совсем…
— Дальше, черт!..
— Что жил когда-то Павел Коган
По Ленинградскому шоссе…
Павка смотрит на меня и улыбается.
— Знаешь, хорошо, — говорит он. — Спасибо. А вот читаешь ты отвратительно. Вот как надо читать!..
Мы стоим на Ленинградском шоссе, недалеко от Белорусского вокзала, и обсуждаем, как надо читать шутливые строки о том, что один из нас никогда не забудет другого. Тот факт, что я буду помнить Павку, а не наоборот, он воспринимает как что-то неизбежное или должное…
Никто из тех, кто учился в Московском институте истории, философии и литературы (ИФЛИ), не забудет этот институт. Мы считали его самым лучшим в мире, хотя в шутку называли его Институтом Флирта и Любовной Интриги. Но то в шутку… Мы учились в этом институте в суровые и трудные годы (1936–1941), годы, богатые радостными и горькими, трагическими событиями — в нашей стране и за рубежом. Пылала в огне Испания. На нашу родину надвигалась самая тяжелая, самая страшная и жестокая из всех войн, какие знала история человечества. Мы жили ощущением этой войны. Это, собственно, и было главной темой стихов Павла Когана.
Философия целого поколения с его юношеской романтикой, страстью, категоричностью, непримиримостью выражена в последних строках стихотворения Павки «Гроза»:
Я с детства не любил овал, Я с детства угол рисовал!Читая эти строчки, Павел рубил воздух рукой и резко отводил ее вправо — углом. Жить только так. Никаких овалов. Никаких компромиссов, никакой пощады врагу, никакой жалости к самому себе.
Павел ненавидел всякое лицемерие, ханжество, ложь, всякий шаблон, рутину, равнодушие. Надо искать свои, прямые, неторные пути. В стихах и жизни. Нельзя принимать все на веру. Все надо понять самому — душой, сердцем и разумом. Лучше все сначала оспорить. Так думал Павка.
Он отчаянно любил веселых, честных и смелых людей. Его героем был Щорс. Он любил музыку, а больше всего на свете — стихи. Прочитав стихи, он требовал любого, но прямого ответа, терпеть не мог фальши.
— Что значит «ничего»? Говори прямо, — требовал он. — Нравится? Почему? Не нравится? Почему?
Он родился поэтом, фантазером, романтиком, фрондером.
«Прости мне фрондерства замашки…» — писал он.
Пытливо он вглядывался в людей большими умными глазами. Он был хорошим, отзывчивым, верным товарищем. Ему платили тем же. Многие любили Павку. Даже те, кто вынужден был отчитывать его за нерегулярное посещение лекций.
В детстве он был вожаком, заводилой, атаманом. И в ИФЛИ он как-то сразу оказался главарем.
Предстоящую войну Павел, в отличие от некоторых известных тогда поэтов, не рисовал в радужных красках. Не писал о малой крови и скорой победе. Он ненавидел сладкий сироп. Он твердо знал, что мы победим. Но он знал и другое: будет пролито много крови и многие не вернутся.
Нам лечь, где лечь, И там не встать, где лечь. …………… И, задохнувшись «Интернационалом», Упасть лицом на высохшие травы И уж не встать…Это не была тема жертвенности. Нет, это были раздумья, полные суровой романтики, невыразимой горечи и правды, правды без прикрас. Это были нелегкие, но честные раздумья.
Павка пытался уйти добровольцем еще на финскую войну, но студентов старших курсов, как правило, не брали. Ему отказали. Как и все ифлийцы, Павел тяжело переживал гибель на финском фронте Миши Молочко, Жоры Стружко и других наших товарищей. Их смерть потрясла нас. Мы стали намного старше. Мысленно мы уже примеряли шинели…
Мы стояли в кассе Большого театра. И вдруг, оттесняя нас к окошку, прошла группа толстых, нагловатых господ в шляпах.
— Кто это? — спросил я Павку.
— Немцы…
Был подписан договор о ненападении с Германией. Честно говоря, мы не совсем хорошо разбирались тогда в очень сложной международной обстановке, в целях этого договора.
Мы знали: война идет к нам, Гитлер готовится напасть на нас. Фашизм поднимался коричневым ядовитым облаком над Европой.
Весной 1941 года шли грозовые дожди. Стоим во дворе ИФЛИ. Зашел разговор о войне. Прищурившись на солнце, Павка как-то просто и тихо сказал:
— Я с нее не вернусь, с проклятой, потому что полезу в самую бучу. Такой у меня характер.
Так и случилось. И в одной из братских могил на сопке Сахарная голова, под Новороссийском, вечным сном спит большой поэт и чудесный юноша Павел Коган, погибший на той, как нам казалось, последней войне. Последней ли?..
Перед отъездом из Москвы я с ним говорил по телефону, кажется в августе 1941 года. Павка сказал, что едет в Куйбышев. Договорились встретиться. Но встретиться в те тяжкие дни двум военным курсантам было делом нелегким…
* * *
Каждый раз, когда я иду или еду по Ленинградскому проспекту, я вспоминаю Павку, его глуховатый, ласковый голос, его чудесную улыбку, его умные, немного грустные глаза.
Никогда мы не простим тем, кто его убил. Никогда не забудем тебя, ты слышишь, Павка!
Давид Самойлов Поколение сорокового года
Лет двадцать с лишком назад, до войны (а теперь уже можно писать — в конце тридцатых годов), по Москве ходило множество молодых поэтов. Впрочем, и сейчас, наверное, молодых поэтов в Москве не меньше, просто я не всех знаю, а тогда знал всех.
Поэты были в Литинституте, в ИФЛИ, в университете, были в педагогическом и юридическом. Лет им было от 18 до 20, мало кто из них успел напечататься, но нельзя сказать, что никто их не знал. Во-первых, они хорошо знали друг друга и жили не розно. Во-вторых, их знали многие сотни московских студентов, аудитория строгая и живая.
В ИФЛИ самым знаменитым поэтом был Павел Коган.
Я познакомился с ним осенью 1938 года на заседании литературного кружка. Нахмурив густые брови, чуть прищурив глаза, он уверенно читал стихи, подчеркивая ритм энергичным движением худой руки, сжатой в кулак. Вскоре мы подружились.
…Поздней осенью 1938 года мы решили показать свои стихи Илье Львовичу Сельвинскому. Позвонили ему. Он пригласил нас к себе. В кабинете на Лаврушинском мы — Павел Коган, Сергей Наровчатов и я — читали стихи, пили чай с сушками и разговаривали до поздней ночи. Илья Львович признал нас поэтами. Помню восторженное настроение, в каком мы вышли на пустынный Лаврушинский и обнялись от избытка чувств. Долго стояли мы, обнявшись, на углу и никак не могли расстаться.
Однажды в крошечной прокуренной насквозь комнатке за кухней — у Павла Когана — мы говорили об учителях. Их оказалось множество — Пушкин, Некрасов, Тютчев, Баратынский, Денис Давыдов, Блок, Маяковский, Хлебников, Багрицкий, Тихонов, Сельвинский. Называли и Байрона, и Шекспира, и Киплинга. Кто-то назвал даже Рембо, хотя он явно ни на кого не влиял. Ради интереса решили провести голосование — каждый должен был вписать десять имен поэтов, наиболее на него повлиявших. Одно из первых мест занял Маяковский. На последнем оказался — Шекспир.
Обилие учителей не означало, что мы были неразборчивы. Если присмотреться к именам, мы были довольно разборчивы. Была жадность к стихам. Павел Коган знал их на память в несметном количестве и любил читать чужие стихи не меньше, чем свои.
Сколько бы ни было у нас учителей, наставником нашим и педагогом был Илья Львович Сельвинский. Немало времени отдал он нам, начинающим московским поэтам.
В ту пору Илья Львович руководил поэтическим семинаром молодых при Гослитиздате. Раза три в месяц на Малый Черкасский приходили молодые поэты почитать и послушать стихи. Кажется, там, на семинаре, мы познакомились с Кульчицким, Слуцким, Лукониным и многими другими ныне известными литераторами.
На литобъединении разбирали стихи по косточкам. Хвалили друг друга редко. Спорили резко, не давая друг другу пощады. Считалось, что это закаляет характер. Обижаться не полагалось.
Павел говорил звонко. Коротко рубил воздух ладонью. Увлекаясь, начинал ходить по комнате. Хвалил и ругал без удержу. Он был человек страстный. Так же горячо, как к стихам, он относился к людям. К друзьям — влюбленно, но уж если кого не любил, в том не признавал никаких достоинств. Активность отношения к жизни, к людям была чертой его характера. Он был требователен и порой деспотичен. Создав силой воображения образ человека, он огорчался и возмущался, если человек реальный не во всем соответствовал его созданию. Павел был человеком больших преодолений. Его поэзия начиналась с преодоления условно-романтического строя ранних стихов, в которых атрибуты «гриновской» романтики стесняли проявление его сильного политического темперамента. Он подходил вплотную к «реализму чувств». От ранних стихов оставалась романтическая приподнятость, но уходила красивая невнятица метафор, уже чуждая созревающему поэту.
Стремительная мысль Павла Когана опережала созревание форм. Он нетерпеливо выстраивал свои мысли в стихотворный роман, поставив перед собой задачу, о которой никто из нас не смел помыслить.
Говорят, что юности свойственно отрицание. Я думаю, что это неверно. Юность жадно ищет в жизни положительного начала, стремится к служению, а не к службе. Поэзия Павла Когана — попытка разобраться в сложных и противоречивых событиях предвоенных лет и приложить свои идеальные представления в сфере реальной жизни, воплотить их в гражданский подвиг — человеческий и поэтический.
Его поэма — спор с теми, кто ищет идеала «поверх» действительности, спор двух характеров, двух мироощущений. Это был важнейший спор для поколения, вступавшего в жизнь накануне великой войны. Коган развенчивает поиск идеала в абстрактной сфере, порождающий характер болезненный и деградирующий. Он страстно борется за органическое приятие действительности, утверждает право интеллигента нашего времени говорить от имени народа.
По существу, его герой — это он сам. Один из тех, кто в двадцать пять лет был внесен «в смертные реляции».
* * *
Сороковой год начался трудно. Шла финская война. Стояли холода. Печальные вести доходили с фронта. Наше поколение понесло первые военные потери. Погиб Отрада, рядом с ним смертью храбрых пал Копштейн. Погиб молодой критик Михаил Молочко, которому принадлежат памятные слова: «Романтика — это будущая война, где победим мы».
Весной добровольцы вернулись с финской войны. Они щеголяли в солдатских телогрейках, по-мальчишески изображали бывалых вояк. Но за всем этим был уже настоящий и еще чужой нам всем, необычный опыт. Помню тогдашние первые подлинные стихи о войне, написанные Наровчатовым и Лукониным.
Значит, что-то действительно произошло в нас. Недаром именно тогда появился у нас термин «поколение сорокового года». Год этот был насыщен событиями. Были первые бурные выступления, первые публикации стихов. Собирались выпускать альманах.
Афиша 1940 г.
В начале сорок первого года в журнале «Октябрь» появилась подборка под скромным названием «Стихи московских студентов». Там впервые был напечатан Кульчицкий.
Кульчицкий казался мне самым зрелым поэтом среди наших сверстников.
Было в нем что-то молодецкое. Высокий, со светлыми глазами чуть навыкате, с прямыми, давно не стриженными волосами каштанового цвета, чуть улыбающийся, он производил впечатление человека здорового и беззаботного. На самом деле он был работяга. Он принадлежал поэзии целиком. Поэзия была его призванием и точкой зрения. Он бродил по улицам, слагая стихи. Днем и ночью он отыскивал точные слова и метафоры. Он любил производить эксперименты со словом, любил слушать стихи и спорить о них. Вел дневник и писал письма в Харьков, сестре Олесе — тоже о стихах, о новых товарищах…
Кульчицкий шел от образа, от вещественного ощущения мира. Он был меньше всех нас связан поэтической традицией. Стих его вызревал, не обремененный шелухой подражания. Коган был сплавом. В его накале разнородные элементы сплавлялись воедино, приобретая новые свойства. Кульчицкий был самородным металлом. Он успел дописать первую свою поэму — «Россию». Она не антипод роману Павла Когана. Удивительно едины эти два произведения, такие разные по манере, по характеру. И единые, как мысль и чувство…
Войну мы ожидали, но все же началась она неожиданно. Не думалось, что именно в этот погожий день, когда сдавались последние экзамены, так внезапно и бесповоротно начнется война.
Через неделю большинства из нас уже не было в Москве. Не помню, когда последний раз я видел Кульчицкого. С Павлом последняя встреча была осенью, когда я вернулся со Смоленщины, а он с трудом добрался до Москвы с Кавказа.
Мы встретились, и Павел, едва отмывшись от дорожной грязи, потащил меня на улицу Мархлевского, где в бывшем школьном здании набирали народ на курсы переводчиков. Меня не приняли: я имел глупость сказать, что не знаю немецкого языка.
Павел решительно заявил, что немецкий знает. И ему поверили. Там же, на Мархлевской, мы расстались, чтобы больше никогда не увидеться…
О гибели Павла я узнал на фронте из письма нашего товарища. Были известны и место и обстоятельства его смерти. О Кульчицком долго ходили легенды. Как он погиб — неизвестно до сих пор. Он был рядовым. Рассказывали, что в армии он не расставался с тетрадочкой, куда вписывал стихи. Эту тетрадочку приказал выбросить старшина, когда проверял вещи перед отправкой на фронт. Может быть, где-нибудь до сих пор жива эта тетрадочка?..
* * *
Они погибли слишком рано. Но не только эта трагическая судьба двадцатилетних поэтов волнует нас. Волнуют и их стихи, даже тогда, когда мы осознаем их несовершенство. Волнуют потому, что в них запечатлены характер, мысли и чувства целого поколения, запечатлены цельно и неповторимо. А мысли эти и чувства необходимо входят в ряд мыслей и чувств русской поэзии, и, если бы они выпали, исчезло бы целое звено в ее закономерном развитии, распалась бы связь времен, исчез бы тот мостик, который соединяет довоенное поколение советской поэзии с послевоенным.
Мне кажется, что определяющим свойством поэзии этого поколения была цельность. Цельность и полнота мироощущения. Цельность не за счет примитива, упрощения, нерасчлененности, а цельность сложная, цельность в преодолении сложных противоречий времени и личности.
Обаятельной чертой этого цельного взгляда на жизнь было то, что выражался он непосредственно и ясно, что серьезность этого взгляда воплощена в поэзии со всей чистотой двадцатилетней юности.
В творчестве Когана и Кульчицкого видно, как идея формирует поэзию, как из пестрых элементов формы, часто ученической, незрелой, носящей печать разнородных влияний, под воздействием сильной мысли и устремленного чувства формируется новый характер поэзии.
Поэзия Кульчицкого и Когана неразрывно связана со своим временем. Не случайно, что в ней влюбленно прозвучала тема России.
Россия была формой органического приятия действительности. Грядущая мировая война понималась как всемирная «гражданская» война коммунизма с фашизмом, где Россия — главная, ведущая прогрессивная сила времени.
Это была новая тема поэзии. Это было поэтическое воплощение революционного начала России. В этом бескорыстном предназначении молодые поэты сороковых годов видели величие своей родины, видели великую задачу своего поколения…
Михаил Кульчицкий
Самое такое (Поэма о России)
Русь! Ты вся — поцелуй на морозе.
(Хлебников)I. С истока востока
Я очень сильно люблю Россию, но если любовь разделить на строчки — получатся — фразы, получится сразу: про землю ржаную, про небо про синее, как платье. И глубже, чем вздох между точек… Как платье. Как будто бы девушка это: с длинными глазами речек в осень под взбалмошной прической колосистого цвета, на таком ветру, что слово… назад… приносит… И снова глаза морозит без шапок. И шапку понес сумасшедший простор в свист, в згу. Когда степь под ногами накре-няется нáбок и вцепляешься в стебли, а небо — внизу. Под ногами. И боишься упасть в небо. Вот Россия. Тот нищ, кто в России не был.II. Год моего рождения
До основанья, а затем…
(«Интернационал») Тогда начиналась Россия снова. Но обугленные черепа домов не ломались, ступенями скалясь в полынную завязь, и в пустых глазницах вороны смеялись. И лестницы без этажей поднимались в никуда, в небо, еще багровое. А безработные красноармейцы с прошлогодней песней, еще без рифм на всех перекрестках снимали немецкую проволоку[2], колючую как готический шрифт. По чердакам еще офицеры метались и часы по выстрелам отмерялись. Тогда победившим красным солдатам богатырки-шлемы[3]. уже выдавали и — наивно для нас, — как в стрелецком когда-то, на грудь нашивали мостики алые[4]. И по карусельным ярмаркам нэпа, где влачили волы кавунов корабли, шлепались в жменю огромадно-нелепые, как блины, ярковыпеченные рубли[5]… Этот стиль нам врал про истоки, про климат, и Расея мужичилася по нем, почти что Едзиною Недзелимой от разве с Красной Звездой, а не с белым конем[6]. Он, вестимо, допрежь лгал — про дичь Россиеву — что, знамо, под знамя врастут кулаки. Окромя — мужики опосля тоски. И над кажною стрехой (по Павлу Васильеву) рязныя рязанския б пятушки. Потому что я русский наскрозь — не смирюсь со срамом наляпанного а-ля рюс.III. Неистовая исповедь
В мир, раскрытый настежь
Бешенству ветров.
(Багрицкий) Я тоже любил — петушков над известкой. Я тоже платил некурящим подростком совсем катерининские пятаки[7] за строчки бороздками на березках, за есенинские голубые стихи. Я думал — пусть и грусть, и Русь, в полтора березах не заблужусь. И только потом я узнал, что солонки с навязчивой вязию азиатской тоски, размалева русацкова: в клюкву аль в солнце — интуристы скупают, но не мужики. И только потом я узнал, что в звездах куда мохнатее Южный Крест, а петух-жар-птица-павлин прохвостый из Америки, с картошкою русской вместе. И мне захотелось такого простора, чтоб парусом взвились заштопанные шторы, чтоб флотилией мчался с землею город в иностранные страны, в заморское море! Но я продолжал любить Россию.IV. Я продолжал Россию
Не тот этот город и полночь — не та.
(Пастернак) А люди с таинственной выправкой скрытой тыкали в парту меня, как в корыто. А люди с художественной вышивкой Россию (инстинктивно зшиток[8] подъяв, как меч) — отвергали над партой. Чтобы нас перевлечь — в украинские школы — ботинки возили, на русский вопрос — «не розумию»[9], На собраньях прерывали русскую речь. Но я все равно любил Россию. (Туда… улетали… утки… — им проще. За рощами, занесена, она где-то за сутки, за глаз, за ночью, за нас она!) И нас ни чарки не заморочили, ни поштовые марки с «шагающими»[10] гайдамаками, ни вирши — что жовтый воск со свечи заплаканной упадет на Je[11] блакитные очи. Тогда еще спорили — Русь или Запад — в харьковском кремле. А я не играл роли в дебатах, в играл в орлянку на спорной земле. А если б меня и тогда спросили — я продолжал — все равно Россию.V. Поколение Ленина
Где никогда не может быть ничья.
(Турочнин[12]) …И встанут над обломками Европы прямые, как доклад, конструкции, прозрачные как строфы из неба, стали, мысли и стекла. Как моего поколения мальчики фантастикой Ленина зяманись — работа в степени романтики — вот что такое коммунизм! И оранжевые пятаки отсверкали, как пятки мальчишек — оттуда в теперь. И — как в кино — проявились медали на их шинелях. И червь, финский червь сосет у первых трупы, плодя — уже для шюцкоров — червят. Ведь войну теперь начинают не трубы — сирена. И только потом — дипломат. Уже опять к границам сизым составы тайные идут, и коммунизм опять так близок — как в девятнадцатом году. Тогда матросские продотряды судили корнетов револьверным салютцем. Самогонщикам — десять лет. А поменьше гадов запирали «до мировой революции». Помнишь — с детства — рисунок: чугунные путы человек сшибает с земшара грудью? — Только советская нация будет и только советской расы люди… Если на фуражках нету звезд, повяжи на тулью марлю… красную… Подымай винтовку, кровью смазанную, подымайся в человечий рост! Кто понять не сможет, будь глухой — на советском языке команду в бой? Уже опять к границам сизым составы тайные идут, и коммунизм опять так близок — как в девятнадцатом году.VI. Губы в губы
Когда народы, распри позабыв,
В единую семью соединятся.
(Пушкин) Мы подымаем винтовочный голос, чтоб так разрасталась наша отчизна — как зерно, в котором прячется поросль, как зерно, из которого начался колос высокого коммунизма. И пусть тогда на язык людей — всепонятный — как слава, всепонятый снова, попадет мое, русское до костей, мое, советское до корней, мое украинское тихое слово. И пусть войдут и в семью и в плакат слова, как зшиток (коль сшита кипа), как травень[13] в травах, як липень[14] в липах тай ще як блакитные[15] облака! О как я девушек русских прохаю[16] говорить любимым губы в губы задыххающееся «коххаю»[17] и понятнейшее слово — «любый». И, звезды прохладным монистом надевши, скажет мне девушка: боязно все. Моя несказáнная родина-девушка эти слова все произнесет. Для меня стихи — вокругшарный ветер, никогда не зажатый между страниц. Кто сможет его от страниц отстранить? Может, не будь стихов на свете, я бы родился, чтоб их сочинить.VII. Самое такое
Но если бы кто-нибудь мне сказал: сожги стихи — коммунизм начнется, я только б терцию помолчал, я только б сердце свое слыхал, я только б не вытер сухие глаза, хоть, может, — в тумане, хоть, может, — согнется плечо над огнем. Но это нельзя. А можно — долго мечтать про коммуну. А надо думать — только о ней. И необходимо падать юным. и — смерти подобно — медлить коней! Но не только огню сожженных тетрадок освещать меня и дорогу мою: пулеметный огонь песню пробовать будет, конь в намете над бездной Европу разбудит, и, хоть я на упадочничество не падок, пусть не песня, а я упаду в бою, Но если я прекращусь в бою, не другую песню другие споют. И за то, чтоб как в русские в небеса французская девушка смотрела б спокойно — согласился б ни строчки в жисть не писать… …………… А потом взял бы — и написал тако-о-ое…26. IX. 1940 г.
16. X. 1940 г.
28. I. 1941 г.
Борис Слуцкий Михаилу Кульчицкому
«Высоко он голову носил…»
Высоко он голову носил, Высоко-высоко. Не ходил, а словно восходил, Словно солнышко с востока. Рядом с ним я — как сухая палка Рядом с теплой и живой рукою. Все равно — не горько и не жалко. Хорошо! Пускай хоть он такой. Мне казалось, дружба — это служба. Друг мой — командирский танк. Если он прикажет: «Делай так!» — Я готов был делать так — послушно. Мне казалось, дружба — это школа. Я покуда ученик. Я учусь не очень скоро. Это потруднее книг. Всякий раз, как слышу первый гром, Вспоминаю, Как он стукнул мне в окно: «Пойдем!» Двадцать лет назад в начале мая.Декабрь 41-го года
Та линия, которую мы гнули, Дорога, по которой юность шла, Была прямою от стиха до пули — Кратчайшим расстоянием была. Недаром за полгода до начала Войны мы написали по стиху На смерть друг друга. Это означало, Что знали мы. И вот — земля в пуху, Морозы лужи накрепко стеклят, Трещат, искрятся, как в печи поленья: Настали дни проверки исполненья, Проверки исполненья наших клятв. Не ждите льгот, в спасение не верьте: Стучит судьба, как молотком бочар, И Ленин учит нас презренью к смерти, Как прежде воле к жизни обучал.«Одни верны России потому-то…»
Одни верны России потому-то, Другие же верны ей оттого-то, А он не думал — как и почему. Она — его поденная работа. Она — его хорошая минута. Она была отечеством ему. Его кормили. Но кормили — плохо. Его хвалили. Но хвалили — тихо. Ему давали славу. Но едва. Но с первого мальчишеского вздоха До смертного обдуманного крика Поэт искал не славу, а слова. Слова. Слова. Он знал одну награду: В том, чтоб словами своего народа Великое и новое назвать. Есть кони для войны и для парада. В литературе тоже есть породы. Поэтому я думаю: не надо Об этой смерти слишком горевать.Просьбы
Листок поминального текста! Страничку бы в тонком журнале! Он был из такого теста! Ведь вы его лично знали! Ведь вы его лично помните! Вы, кажется, были на «ты». Писатели ходят по комнате, Поглаживая животы. Они вспоминают очи, Блестящие из-под чуба. И встречи в летние ночи И ощущение чуда, Когда атакою газовою Перли на них стихи. А я объясняю, доказываю: Заметочку! Три строки! Писатели вышли в писатели, А ты никуда не вышел. Хотя в земле, в печати ли Ты всех нас лучше и выше. А ты никуда не вышел, Ты просто пророс травою. И я, как собака, вою Над бедной твоей головою.Его голос
Давайте после драки Помашем кулаками: Не только пиво-раки Мы ели и лакали, Нет, назначались сроки, Готовились бои, Готовились в пророки Товарищи мои. Сейчас все это странно, Звучит все это глупо. В пяти соседних странах Зарыты наши трупы. И мрамор лейтенантов — Фанерный монумент — Венчанье тех талантов, Развязка тех легенд. За наши судьбы (личные), За нашу славу (общую), За ту строку отличную, Что мы искали ощупью, За то, что не испортили Ни песню мы, ни стих, Давайте выпьем, мертвые, Во здравие живых!Михаил Кульчицкий
Бессмертие (Из незавершенной поэмы)
Далекий друг! Года и версты И стены книг библиотек Нас разделяют. Шашкой Щорса Врубиться в лучезарный век Хочу. Чтоб, раскроивши череп Врагу последнему и через Него перешагнув, рубя, Стать первым другом для тебя. На двадцать лет я младше века, Но он увидит смерть мою, Захода горестные веки Смежив. И я о нем пою. И для тебя. Свищу пред боем, Ракет сигнальных видя свет, Военный в пиджаке поэт, Что мучим мог быть лишь покоем. Я мало спал, товарищ милый! Читал, бродяжил, голодал… Пусть: отоспишься ты в могиле — Багрицкий весело сказал. Но если потная рука В твой взгляд слепнет «бульдога» никелем — С высокой полки на врага Я упаду тяжелой книгой. Военный год стучится в двери Моей страны. Он входит в дверь. Какие беды и потери Несет в зубах косматый зверь? Какие люди возметнутся Из поражений и побед? Второй любовью Революции Какой подымется поэт? А туча виснет. Слава ей Не будет синим ртом пропета. Бывает даже у коней В бою предчувствие победы… Приходит бой с началом жатвы. И гаснут молнии в цветах. Но молнии — пружиной сжаты В затворах, в тучах и в сердцах… Наперевес с железом сизым И я на проволку пойду, И коммунизм опять так близок, Как в девятнадцатом году. …И пусть над степью, роясь в тряпках, Сухой бессмертник зацветет И соловей, нахохлясь зябко, Вплетаясь в ветер, запоет.8–9. XI. 1939 г.
Дословная родословная
Как в строгой анкете — скажу не таясь — начинается самое такое: мое родословное древо другое — я темнейший грузинский князь. Как в Коране — книге дворянских деревьев — предначертаны чешуйчатые имена, и ветхие ветви и ветки древние упирались терниями в меня. Я немного скрывал это все года, что я актрисою-бабушкой — немец. Но я не тогда, а теперь и всегда считаю себя лишь по внуку: шарземец. Исчерпать инвентарь грехов великих, как открытку перед атакой, спешу. Давайте же раскурим эту книгу — я лучше новую напишу! Потому что я верю, и я без вериг: я отшиб по звену и Ницше, и фронду, и пять материков моих сжимаются кулаком Ротфронта. И теперь я по праву люблю Россию.Белошицы (Песня о Щорсе)
Дуют ветры дождевые над речной осокой. Щорса цепи боевые держат фронт широкий. Над хатами тучи дыма смертельной отравы, меж бойцами молодыми побурели травы. За спиною батальона Белошицка хаты, где в заре огнистой тонут тополи крылаты. Крайний тополь в зорях ярых по грудь утопает… Из-за дыма, из-за яра банда наступает. Загустело небо хмурью, ветер всполошился… Пулеметчики Петлюры строчат Белошицы. За кустом, где листьев ворох, Щорс приникнул к «цейсу», больно руки жгут затворы у красноармейцев. Шевеля со злобой просо, пули ближе рылись… Пулеметчик вражий косит, из окопа вылез, Туч лохматая папаха, где лесок простерся… Кровью вышита рубаха командира Щорса. Дыма горькая отрава, ветер опаленный… Щорс лежит на красных травах будто на знаменах. Поднята порывом мести штурмовая лава! Имя Щорса звало песней и в глазах пылало. И пошли бойцы за песней, Щорсовы герои, шли, смыкаясь строем тесным в пулеметном вое, по росистому болоту, сквозь огонь проклятый… Захлебнулись пулеметы — петлюровцы смяты! Поскакали сквозь туманы до Польши бандиты… На задымленной поляне Щорс лежит убитый. Грустный тополь наклонился со знаменем вместе, под которым Щорс рубился за Родину-песню. …Это имя в бой водило, этот зов не стерся — смелый голос командира Николая Щорса!«Друг заветный! Нас не разлучили…»
В. В.
Друг заветный! Нас не разлучили ни года, идущие на ощупь, и ни расстояния-пучины рощ и рек, в которых снятся рощи. Помнишь доску нашей черной парты — вся в рубцах, и надписях, и знаках, помнишь, как всегда мы ждали марта, как на перемене жадный запах мы в окно вдыхали. Крыши грелись, снег дымил, с землей смешавшись теплой, помнишь — наши мысли запотели пальцами чернильными на стеклах. Помнишь столб железный в шуме улиц, вечер… огоньки автомобилей… Мы мечтали, как нам улыбнулись, только никогда мы не любили… Мы — мечтали. Про глаза-озера. Неповторные мальчишеские бредни. Мы последние с тобою фантазеры до тоски, до берега, до смерти. Помнишь — парк. Деревья лили тени. Разговоры за кремнями грецких. Помнишь — картами спокойными. И деньги как смычок играли скрипкой сердца. Мы студенты. Вот семь лет знакомы мы с тобою. Изменились? Каплю. Все равно сидим опять мы дома, город за окном огнится рябью. Мы сидим. Для нас хладеет камень. Вот оно, суровое наследство. И тогда, почти что стариками, вспомним мы опять про наше детство.II. 1939
Творчество
Я видел, как рисуется пейзаж: сначала легкими, как дым, штрихами набрасывал и черкал карандаш траву лесов, горы огромной камень. Потом в сквозные контуры штрихов мозаикой ложились пятна краски, так на клочках мальчишеских стихов бесилась завязь — не было завязки. И вдруг картина вспыхнула до черта — она теперь гудела как набат. А я страдал — о, как бы не испортил, а я хотел — еще, еще набавь! Я закурил и ждал конца. И вот все сделалось и скушно и привычно. Картины не было — простой восход мой будний мир вдруг сделал необычным. Картина подсыхала за окном.Новелла
От рожденья он не видел солнца. Он до смерти не увидит звезд. Он идет. И статуй гибких бронза смотрит зачарованно под мост. Трость стучит слегка. Лицо недвижно. Так проходит он меж двух сторон. У лотка он покупает вишни и под аркой входит на перрон. Поезда приходят и уходят, мчит решетка тени по лицу. В город дикая идет погода тою же походкой, что в лесу. Как пред смертью — душным-душно стало. И темно, хоть выколи глаза. И над гулким куполом вокзала начался невидимый зигзаг. Он узнал по грохоту. И сразу, вместе с громом и дождем, влетел в предыдущую глухую фразу — поезд, на полметра от локтей. А слепой остался на перроне. И по скулам дождь прозрачный тек. И размок в его больших ладонях из газеты сделанный кулек. (Поезд шел, скользящий весь и гладкий, в стелющемся понизу дыму.) С неостановившейся площадки выскочила девушка к нему. И ее лицо ласкали пальцы хоботками бабочек. И слов — не было. И поцелуй — прервался глупым многоточием гудков. Чемодан распотрошив под ливнем, вишни в чайник всыпали. Потом об руку пошли, чтоб жить счастливо, чайник с вишнями внести в свой дом. …………… И, прикуривая самокрутку, у меня седой носильщик вдруг так спросил (мне сразу стало грустно): «Кто еще встречает так сестру?» Только б он соврал, старик носильщик.Будни
Мы стоим с тобою у окна, смотрим мы на город предрассветный. Улица в снегу как сон мутна, но в снегу мы видим взгляд ответный. Это взгляд немеркнущих огней города, лежащего под нами. Он живет и ночью, как ручей, что течет, невидимый, под льдами. Думаю о дне, что к нам плывет от востока по маршруту станций — принесет на крыльях самолет новый день, как снег на крыльев глянце. Наши будни не возьмет пыльца. Наши будни — это только дневка, чтоб в бою похолодеть сердцам, чтоб в бою нагрелися винтовки. Чтоб десант повис орлом степей, чтоб героем стал товарищ каждый, чтобы мир стал больше и синей, чтоб была на песни больше жажда.Маяковский (Последняя ночь государства Российского)
Как смертникам жить им до утренних звезд, и тонет подвал, словно клипер. Из мраморных столиков сдвинут помост, и всех угощает гибель. Вертинский ломался, как арлекин, в ноздри вобрав кокаина, офицеры, припудрясь, брали Б-Е-Р-Л-И-Н, подбирая по буквам вина. Первое пили борщи Бордо, багрового, как революция, в бокалах бокастей, чем женщин бедро, виноградки щипая с блюдца. Потом шли: эль, и ром, и ликер — под маузером все есть в буфете. Записывал переплативший сеньор цифры полков на манжете. Офицеры знали — что продают. Россию. И нет России. Полки. И в полках на штыках разорвут. Честь. (Вы не смейтесь, мессия.) Пустые до самого дна глаза знали, что ночи — остаток. И каждую рюмку — об шпоры, как залп в осколки имперских статуй. Вошел человек огромный, как Петр, петроградскую ночь отряхнувши, пелена дождя ворвалась с ним. Пот отрезвил капитанские туши. Вертинский кричал, как лунатик во сне, — «Мой дом — это звезды и ветер… О черный, проклятый России снег — я самый последний на свете…» Маяковский шагнул. Он мог быть убит. Но так, как берут бронепоезд, воздвигнутся он на мраморе плит как памятник и как совесть. Он так этой банде рявкнул: «Молчать!» — что слышно стало: пуст город. И вдруг, словно эхо, — в дале-о-оких ночах его поддержала «Аврора».12. XII. 1939 г.
Хлебников в 1921 г. (Из цикла «Учителя»)
В глубине Украины на заброшенной станции, потерявшей название от немецкого снаряда, возле умершей матери — черной и длинной — окоченевала девочка у колючей ограды. В привокзальном сквере лежали трупы; она ела веточки и цветы, и в глазах ее, тоненьких и глупых, возник бродяга из темноты. В золу от костра, розовую, даже голубую, где сдваивались красные червячки, из серой тюремной наволочки он вытряхнул бумаг охапку тугую. А когда девочка прижалась к овалу теплого света и начала спать, человек ушел — привычно устало, а огонь стихи начал листать. Он, просвистанный, словно пулями роща, белыми посаженный в сумасшедший дом, сжигал свои марсианские очи, как сжег для ребенка свой лучший том. Зрачки запавшие. Так медведи в берлогу вжимаются до поры, чтобы затравленными напоследок пойти на рогатины и топоры. Как своего достоинства версию, смешок мещанский он взглядом ловил, одетый в мешен с тремя отверстиями: для прозрачных рук и для головы. Его лицо как бы кубистом высеченное: углы косые скул, глаза насквозь, темь наполняла въямины, под крышею волос излучалась мысль в года двухтысячные. Бездомная, бесхлебная, бесплодная судьба (поскольку рецензентам верить) — вот эти строчки, что обменяны на голод, бессонницу рассветов — и на смерть (следует любое стихотворение Хлебникова).IV. 1940
«Самое страшное в мире…»
Самое страшное в мире — Это быть успокоенным. Славлю Котовского разум, Который за час перед казнью Тело свое граненое Японской гимнастикой мучит. Самое страшное в мире — Это быть успокоенным. Славлю мальчишек Идена, Которые в чужом городе Пишут поэмы под утро, Запивая водой ломозубой, Закусывая синим дымом. Самое страшное в мире — Это быть успокоенным. Славлю солдат революции, Мечтающих над строфою, Распиливающих деревья, Падающих на пулемет!X. 1939 г.
Дождь
Дождь. И вертикальными столбами дно земли таранила вода. И казалось, сдвинутся над нами синие колонны навсегда. Мы на дне глухого океана. Даже если б не было дождя, проплывают птицы сквозь туманы, плавниками черными водя. И земля лежит как Атлантида, скрытая морской травой лесов, и внутри кургана скифский идол может испугать чутливых псов. И мое дыханье белой чашей, пузырьками взвилося туда, где висит и видит землю нашу не открытая еще звезда, чтобы вынырнуть к поверхности, где мчится к нам, на дно, забрасывая свет, заставляя сердце в ритм с ней биться, древняя флотилия планет.1940
194… г
Высокохудожественной строчкой не хромаете, вы отображаете удачно дач лесок. А я — романтик. Мой стих не зеркало — но телескоп. К кругосветному небу нас мучит любовь: боев за коммуну мы смолоду ищем. За границей в каждой нише по нищему, там небо в крестах самолетов — кладбищем, и земля вся в крестах пограничных столбов. Я романтик — не рома, не мантий, — не так. Я романтик разнаипоследних атак! Ведь недаром на карте, командармом оставленной, на еще разноцветной карте за Таллином пресс-папье покачивается, как танк.«Я вижу красивых вихрастых парней…»
Я вижу красивых вихрастых парней, что чихвостят казенных писак. Наверно, кормильцы окопных вшей интендантов честили так. И стихи, что могли б прокламацией стать и свистеть, как свинец из винта, превратятся в пропыленный инвентарь орденов, что сукну не под стать.1941
«Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!..»
Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник! Что? Пули в каску безопасней капель? И всадники проносятся со свистом вертящихся пропеллерами сабель. Я раньше думал: «лейтенант» звучит «налейте нам». И, зная топографию, он топает по гравию. Война ж совсем не фейерверк, а просто — трудная работа, когда — черна от пота — вверх скользит по пахоте пехота. Марш! И глина в чавкающем топоте до мозга костей промерзших ног наворачивается на чеботы весом хлеба в месячный паек. На бойцах и пуговицы вроде чешуи тяжелых орденов. Не до ордена. Была бы Родина с ежедневными Бородино.Хлебниково — Москва
26. XII. 1942 г.
Григорий Левин Слово о поэте и друге
Когда я думаю о молодой поэзии начала сороковых годов, такой богатой дерзаниями и поисками, такой юношески угловатой и напористой, одно имя среди первых загорается в этом ряду — имя Михаила Кульчицкого.
Поэтический путь Кульчицкого рано оборвала война. Но если сравнить его творчество с тем, что писали тогда его сверстники — Михаил Львов, Сергей Наровчатов, Борис Слуцкий, Давид Самойлов, если сравнить Кульчицкого с Павлом Коганом и Николаем Майоровым, жизнь которых оборвалась так же рано, можно будет заметить, что в те, довоенные, годы Кульчицкий был резче, острее, угловатее всех. Рядом с умной, логически четкой и остро проблемной поэзии Слуцкого, рядом с ориентированной во многом на классическую традицию эпически-величавой поэзией Майорова и романтически-возвышенной Павла Когана поэзия Кульчицкого выделялась своим мощным эмоциональным напором, крепкой мужской хваткой стиха, горячей, взвихренной его темпераментностью. Полемической остротой и резкостью видения стих Кульчицкого был, может быть, в чем-то сродни некоторым стихам тех лет Николая Глазкова.
Мне думается, что именно у Кульчицкого наиболее страстно и сильно выразилась общая черта поколения — протест против схематичности, «официозности» в раскрытии большой политической темы времени, настойчивое, убежденное обращение к двадцатым годам как к хранилищу революционной чистоты и принципиальности, чуждой каких бы то ни было нравственных компромиссов. Бескорыстие революции заполонило душу Кульчицкого. Ему равно были чужды и холодные отписки от гражданской темы, в которых поэт, говоря словами Маяковского, «все входящие срифмует впечатления и печатает в журнале исходящем», и измельченное лирикописание, лишенное гражданской широты и размаха. Характерно, что и теме России, так волновавшей в те годы и Павла Когана, и Николая Майорова, Кульчицкий предпослал собственные строки: «И коммунизм опять так близок, как в девятнадцатом году». Революционная традиция была смыслом и существом поэзии Кульчицкого.
Мне — да, я думаю, и каждому, кто знал Кульчицкого, — трудно было бы говорить о нем как о человеке без ощущения этих особенностей его поэзии. Ибо речь идет о личности поэта во всем единстве его человеческих и творческих качеств.
* * *
На первом курсе филологического факультета Харьковского университета появление Кульчицкого было сразу замечено. Он обращал на себя внимание уже своей внешностью — высокий, несколько угловатый, но крепко и ладно скроенный, широкой кости, с огромной копной волос, с крупными чертами лица, большими, остро и далеко видящими глазами, скульптурной лепкой лба, скул, подбородка. Он и тогда напоминал мне ранние портреты Маяковского, особенно известный фотопортрет — в блузе, с папиросой в руках, с глазами, резко и прямо устремленными на вас. Запоминался и сильный, несколько грубоватый тембр голоса Кульчицкого, как будто наливавшийся металлом, когда он читал свои стихи. А читал он их прекрасно, с необыкновенной энергией и темпераментом, отчетливо выделяя все ритмические повороты в стихе и словно лепя свои метафоры, усиливая голосом предметную ощутимость слова.
Я помню некоторые из ранних произведений Кульчицкого. В стихах о Щорсе меня уже тогда поразил такой, позже очень характерный для Кульчицкого образ:
Щорс лежит на красных травах, будто на знаменах.Стихи в целом еще были малосамостоятельны, в них отчетливо слышалась интонация Багрицкого, которого Кульчицкий высоко ценил, особенно в ранние годы, но этот образ, острота и резкость, объемность и неожиданность сравнения очень типичны для Кульчицкого. Вообще надо сказать, что он больше всего любил не просто ощутимый зрительный образ, но одновременно и широкий, объемный, захватывающий не одну только внешнюю сторону, но и внутреннюю, самую сущность явления. Так построены его метафоры «За границей в каждой нише по нищему, там небо в крестах самолетов — кладбищем, и земля вся в крестах пограничных столбов». Или о том, что после ухода полководца у него на столе «пресс-папье покачивается, как танк». Или строки из поэмы о России: «А небо — внизу. Под ногами. И боишься упасть в небо. Вот Россия. Тот нищ, кто в России не был».
Я часто встречался с Кульчицким и до его отъезда в Москву, где он поступил в Литинститут (на первом курсе Харьковского университета мы учились в 1937–1938 годах), и в каждый его приезд из Москвы в Харьков. Меня всегда трогало чувство коллективной солидарности с поэтами своего круга, которое отличало Кульчицкого. В каждый его приезд он в большей степени, чем свои стихи, читал стихи своих товарищей, особенно Слуцкого, которого высоко ценил, знал наизусть все его новые произведения, такие, как стихи о парижском Доме Инвалидов, стихи о коммунизме. Вообще любимых поэтов Кульчицкий помнил очень хорошо, мог их читать наизусть подолгу. Маяковский, Блок, Сельвинский, Багрицкий, Хлебников, Асеев, Кирсанов — так, насколько мне помнится, определялись в первую очередь его симпатии. Ценил он и ранние стихи Тихонова, поэзию Светлова, раннего Прокофьева, Павла Васильева, Бориса Корнилова. Высоко ценил Марину Цветаеву.
Вообще при первом же общении с ним ощущалось, что он буквально живет поэзией, что это дело всей его жизни, ее смысл, ее главное назначение.
* * *
У меня сохранилось несколько стихотворений Михаила Кульчицкого, написанных им в память нашей дружбы. Одно из них было мною опубликовано в «Литературной газете» вместе с небольшой статьей о Кульчицком. Вот строки из него:
…Я родился не весной, а в осень, Первое, что я познал на свете, — Серый дым дождя и шум деревьев От дождя тяжелою листвою. Это было — август. Я родился В день, когда убили в поле Щорса. Я узнаю в бытии: последний Вздох его не был ли моим первым? Есть приметы, чтоб врага приметил, Есть поверья, чтоб себе поверил — Я хочу, чтоб знаком нашей дружбы Было бы поверие о Щорсе.По стиху эти строки напоминают интонации Багрицкого. Но гораздо важнее этих сопоставлений то, что здесь ярко выражен главный мотив поэзии Кульчицкого: ощущение неразрывности своей судьбы с революцией, восприятие революционной традиции как основы своей жизни. Стихотворение это было названо «На дружбу» и датировано 12–20 февраля 1939 года. За месяц до этого Кульчицкий подарил мне другое стихотворение, которое назвал «Стихи другу». В нем есть предощущение грядущей войны, близящихся боев за коммунизм. Органически входит в эту тему мотив революционного интернационализма, который был так широко развит в поэме Кульчицкого о России «Самое такое». В «Стихах другу» поэтический синтаксис еще усложнен, затруднен. Стремясь добиться предельной четкости и точности выражения, живой интонации человеческого голоса, Кульчицкий сознательно опускал некоторые связующие слова. Получался своего рода поэтический пунктир. Впрочем, искания такого рода были не у одного только Кульчицкого, но ему они были особенно присущи. Вот эти стихи:
Вечер — откровенность. Холод — дружба Не в совсем старинных погребах. Нам светились пивом грани кружки, Как веселость светится в глазах. Мы — мечтатели (иль нет?). Наверно, Никого так не встревожит взгляд. Взгляд. Один. Рассеянный и серый. Медленный, как позабытый яд. Было — наши почерки сплетались На листе тетради черновой, Иль случайно слово вырывалось, Чтоб, смеясь, забыли мы его. Будет — шашки — языки пожара В ржанье волн — белесых жеребят, И тогда бессонным комиссаром Ободришь стихами ты ребят. Все равно — меж камней Барселоны Иль средь северногерманских мхов — Будем жить зрачками слив зеленых, Муравьями черными стихов. Я хочу, чтоб пепел моей крови В поле русском… ветер… голубом. Чтоб в одно с прошелестом любови Ветер пить черемухи кустом. И следы от наших ног веселых Пусть тогда проступят по земле Так, как звезды в огородах голых Проступают медленно во мгле. Мы прощаемся. Навеки? Вряд ли!.. О, скрипи, последнее гусиное перо! Отойдем, как паруса, как сабли (Впереди — бело, в тылу — черно).В этом стихотворении встречаются и характерные тогда для Кульчицкого, как, впрочем, и для многих его сверстников, романтические мотивы, навеянные литературными ассоциациями («О, скрипи, последнее гусиное перо!» и т. д.). В двух других стихотворениях Кульчицкого, которые у меня сохранились, мотивы эти выражены еще сильней. Одно из них написано в манере, имитирующей «Александрийские песни» М. Кузмина, другое — «Пожелание» — тоже стилизовано. Но и в этих стихах видна любовь Кульчицкого к конкретной детали, к предметной ощутимости образа (в стихотворении, посвященном Кузмину, есть, например, строка: «тетрадь на простой серой бумаге с чуть желтоватыми сосновыми жилками…»). Первое из этих стихотворений помечено 7 октября 1937 года, второе — 25 октября 1938 года.
С годами книжная романтика все более уступала место в стихах Кульчицкого живой романтике революции и боев за нее.
* * *
Кроме стихотворений Кульчицкого у меня сохранилось характерное для него письмо в редакцию «Литературной газеты», написанное от имени студентов 1-го курса филологического факультета (или, как писал Кульчицкий, «литфака») Харьковского университета. Типичный для Кульчицкого острый почерк. Письмо написано на вырванном из тетради листке. В конце письма — и это очень показательно! — нарисован — как бы вместо подписи! — красноармеец в шлеме времен гражданской войны. Оно, конечно, несколько наивно, это письмо, — по манере, впрочем, но не по существу. Но как в нем проявилась любовь Кульчицкого к поэзии, забота о ней! И как отчетливо выражен гражданский, революционный пафос молодого поэта в неуклюжих, по-мальчишески угловатых строках. Приведу несколько выдержек из письма:
«Не так давно в „Лит. газете“ была помещена статья Эль-Регистана, где, между прочим, говорится о том, что поразило нас и наших товарищей. Какое возмущение вызвали у нас строки про выселение матери Багрицкого бездушными бюрократами из ее комнаты и о лишении старухи пенсии! Комнату матери Багрицкого занял жизнерадостный чиновник. После долгих хлопот пенсию, правда, возобновили. И это возмутительное издевательство над памятью поэта произошло в то время, когда наиболее преданные поэту литфаковцы мечтали о создании памятника Багрицкому в Одессе!»
Отталкиваясь от этого факта, Кульчицкий говорит в письме о небрежном, недостаточно памятливом отношении к творчеству любимых поэтов молодого поколения.
«Ведь до сих пор отсутствует дешевый и избранный Маяковский походного формата, чтобы пламенные патриотические его стихи могли находиться на столе каждого студента и в сумке красноармейца. Наших поэтов любят, их переписывают в читальнях. Книжки их ходят по рукам. Но часто встречается культурный гражданин родины, не читавший лучших вещей Э. Багрицкого, где шумят ветры нашей родины, где лучшие сыны народа побеждают и умирают за нее!»
Письмо заканчивается обращением в «Литературную газету» от имени студентов филологического факультета Харьковского университета «расследовать дело о многолетнем торможении издания двухтомника Багрицкого и дешевых многотиражных изданий наших любимейших поэтов — Маяковского и Багрицкого».
* * *
Во время своего учения в Литературном институте в Москве М. Кульчицкий в своих письмах рассказывал мне о новостях московской литературной жизни, о первых выступлениях в литературе молодых поэтов сороковых годов, о литературных боях и спорах. Письма эти по стилю напоминают некоторые письма Маяковского. Кульчицкий писал весело, задорно, озорно.
Вот строки из открытки от 28 марта 1941 года:
«Новости вот: 1) Мы работаем в „нео-Росте“, т. е. стихо-лозунги на з-дах. Я в многотиражке электролампы. Бичуем яко Ювенал за окурки и чертежи в масле. 2) Пишу поэму названием „Кабы!“ Это романтика. 3) Устраиваем вечера в разных инст-тах, школах, ремесл. училищах и начинаем греметь и громить. Был парламентер от Алигер-Долмат-Симонова».
В письме от 15 апреля 1941 года в присущей Кульчицкому шуточной интонации говорится о трудностях и передрягах поэтического становления:
«Как напечатали. Стих Слуцкого без начала, без конца, с переделанной серединой. Моя поэма: из 8 глав пошли 3 куска из 3-х глав, и еще концовка. А с каким шакальим воем все это было, как рубали… Почему изменили имя?[18] То к лучшему. Было бы „М… Кульчицкий“… А теперь „А! Кульчицкий!“ Нишево, приобыкнут, сердешные, к именам нашим, и обедать будем в неделю четыре раз, и суп будет. Настроение бодро, и журчанье в желудке, как марш, бравурновато. Асса, гинджалы выдергай!»
(Так же задиристо, без жалоб, без нытья, преодолевая все юмором и бодростью, рассказывал Кульчицкий о своих трудностях в открытке от 20 февраля 1941 года.)
А вот и последнее письмо от 26 апреля 1941 года — менее чем за два месяца до начала войны:
«Сейчас чую в себе прилив для хорошего стиха. И посему боюсь писать, чтоб не плохо вышло…»
* * *
«Царство светлого разума и хороших стихов» — так представлял себе счастье Михаил Кульчицкий.
Для всех, кто знал его, он остался молодым, исполненным боевого задора, рвущимся в бой — за жизнь, за поэзию. Остался веселым, полным планов, замыслов, преданным друзьям, верящим в свое и в их будущее.
Эти страницы, посвященные моему дорогому другу и необыкновенному человеку, незаурядному поэту, по моему глубокому убеждению, самому талантливому в нашем поколении, мне бы хотелось закончить посвященными ему стихами.
Памяти товарищей
Михаилу Кульчицкому
Нам стихи их найти, чтобы правду увидеть воочью, Даже те, где их голос срывался, охрипший в бою. И по замыслам их, что рождались тревожною ночью, Нам поэмы создать, их мечту воплотив как свою. И без этого соль нам пресна и хлеб нам не сладок, Нам и праздник не в праздник, и застит глаза нам туман. Без их тонких, в косую линейку солдатских тетрадок Не имеют цены золотого тисненья тома.Письмо М. Кульчицкого
Генриэтта Миловидова Самое такое
Самое невероятное в жизни Михаила Кульчицкого — ранняя смерть. Казалось, он может пройти сквозь огонь, воду и медные трубы и выйти целым и невредимым, как герой сказки.
Может быть, поэтому многие из его друзей не могли представить себе его смерть, поверить в нее и смириться. Мы не знаем точно место его гибели. Может быть, поэтому и после войны иногда казалось, что он вынырнет из дебрей партизанских лесов какой-нибудь братской страны или, как Одиссей, вернется после фантастических приключений и странствий… И многие ждали этого чуда. Но «чуда» не случилось…
Часто о тех, кого больше с нами нет, говорят как о иконописно правильных людях. Подчас они получаются такими прилизанными, что перестают быть на себя похожи. Кульчицкий никогда не был таким правильным. По своему характеру он бывал очень разным.
То это был серьезный человек, поражавший зрелостью суждений, умевший как педагог говорить с юношами, обращавшимися к нему за советом, то, сам как мальчишка, был способен залезть куда-нибудь на голубятню на окраине города или пройтись по каменному барьеру Москвы-реки совсем над водой, так, что смотреть со стороны — дух захватывало…
Помню, каким я его увидела впервые на занятиях литературной группы при Московском университете. В белом мохнатом полушубке Кульчицкий казался огромным. Чуб густых темно-русых волос, почти закрывавших высокий лоб, подчеркивал желание быть похожим на Багрицкого.
В возрасте двадцати лет поэты часто ищут опору во внешних признаках сходства с любимыми поэтами, и только когда они перестают об этом заботиться, становятся самими собой. Михаил Кульчицкий тоже прошел через этот этап. Следом за обликом Багрицкого, мелькнули жесты и прическа Маяковского, но в стихах Кульчицкого была уже его собственная манера.
Когда он читал, удивительное было ощущение — словно погружаешься в какую-то глубину. С каждой строкой внимание возрастало.
— Важно заготовить первую строчку и для стихов и для выступлений, такую, чтобы «брать быка за рога», чтобы она приковала внимание, — как-то потом говорил он мне. — С каждой новой строкой читатель должен все больше удивляться, чтобы внимание не ослабевало.
— Есть два рода стихов. Одни написаны «сплавом», другие — «свинчиваются». Ты пишешь на одном дыхании, все сразу, это называется «сплав». Заготавливай строчки, а потом их свинчивай. Такие стихи интереснее, образней. Читаешь поэтов — выписывай интересные строчки из стихов в тетрадь. Учись делать строчки, — говорил он мне в одном из наших разговоров.
В то время особенно ценились «строчки». Есть у начинающего поэта «хорошие строчки» — значит, он поэт. Считалось, что «гладкие» стихи могут писать все, а «хорошие строчки» — поэты.
— Но в стихах должен быть «воздух», — говорил Миша, — иногда плюс на плюс получается минус. Если стихи из одних образов, может получиться чрезмерно густо, мы это называем «кич». Нужен воздух. Надо сочетать «сплав» и «свинчивание».
Сохранилась записочка, которой мы обменялись, по всей вероятности, на какой-то лекции или семинаре, где нельзя было разговаривать:
«Первую часть поэмы о Руси ты свинчивал?» (Имеется в виду поэма «Самое такое» 26. IX. 40 г. — 16. X. 40 г.)
«Я написал все сразу в одну ночь позавчера».
Кульчицкий часто бывал окружен юнцами, они слушали его с открытым ртом, а некоторые были готовы подражать ему во всем.
Жил он в то время на Арбате, снимая угол в подвале, где, по его выражению, была «витрина движущейся обуви». Литинститут был еще вечерним и общежития не имел. Стипендию тоже не давали, и Миша то учительствовал в загородной школе, которую пришлось оставить из-за дальности расстояния, то довольствовался случайными заработками. Иногда ему приходилось сидеть на одном хлебе, и вот кое-кто из мальчишек, подражавших ему, переходили на черный хлеб, надеясь, что в черном хлебе таится секрет таланта и успеха.
Педагогическая жилка была в Кульчицком несомненно. Позднее, когда однажды срывалось занятие семинара Луговского из-за болезни Владимира Александровича, Кульчицкий так интересно провел семинар, что многим это занятие запомнилось надолго.
В первый же день объявления войны, вернувшись из однодневного дома отдыха, куда его послали из Литинститута, Михаил обратился в военкомат, прося отправить его на фронт. Он уже заранее постригся наголо, но в тот момент его еще не отправили.
Вскоре сформировался Истребительный батальон. В него вступили почти все студенты Литинститута, и в бойцах в зеленых пилотках и гимнастерках с красными «морковками» на петлицах можно было узнать недавних участников семинаров поэзии, прозы и критики. Истребительный батальон сначала размещался в здании Литинститута, а потом в школе напротив консерватории, в той самой школе, где Арбузовская студия еще до ее официального открытия проводила репетиции спектакля «Город на заре».
Истребительный батальон в начале октября 1941 года был распущен, и студенты, в том числе и Михаил Кульчицкий, снова приступили к занятиям.
Кульчицкий был на последнем, четвертом курсе, но слушать лекции о литературе, когда враг был на подступах к Москве, ему казалось невозможным.
Сначала он едет во фронтовую газету, но это кажется ему недостаточным. Он поступает в пехотно-минометное училище в Хлебникове, чтобы приобрести военную специальность и участвовать в боях самому.
Стихов он в это время почти не писал. Начал писать прозу. Пока это были дневники, заготовки, как когда-то были заготовки стихотворных строчек. Он собирался писать книгу. Она должна была называться «Тайный фронт, или Человек внутри себя».
Однажды он сказал мне:
— Давай писать вместе. Книга будет в форме дневника. Параллельно на одной странице будет дневник ЕГО и дневник ЕЕ. Фронт и тыл.
Фоном должны были быть события на фронтах, и мы делали выписки из сводок Совинформбюро.
В середине декабря 1942 года Михаил Кульчицкий окончил училище в звании младшего лейтенанта и ждал назначения. Дали небольшой отпуск. Новый, 1943 год мы должны были встречать у Лили Юрьевны Брик, но 26 декабря утром Миша появился в Литинституте.
— Сегодня нас отправляют на фронт.
Этим днем помечены строки Кульчицкого:
…На бойцах и пуговицы вроде чешуи тяжелых орденов. Не до ордена. Была бы Родина с ежедневными Бородино.Так он и стоит, перед глазами — огромный, в погонами, похожий на богатыря, и кажется, все пули должны миновать его.
Давид Самойлов «Перебирая наши даты…»
Перебирая наши даты, Я обращаюсь к тем ребятам, Что в сорок первом шли в солдаты И в гуманисты в сорок пятом. А гуманизм не только термин, К тому же, говорят, — абстрактный. Я обращаюсь вновь к потерям, Они трудны и безвозвратны. Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая. Я сам теперь от них завишу, Того порою не желая. Они шумели буйным лесом, В них были вера и доверье. А их повыбило железом, И леса нет — одни деревья. И вроде день у нас погожий, И вроде ветер тянет к лету… Аукаемся мы с Сережей, Но леса нет и эха нету. А я все слышу, слышу, слышу, Их голоса припоминая. Я говорю про Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая.Михаил Львов Николай Майоров
1947 году в вестибюле МГУ я увидел рослого, с открытым лицом, с развевающимися волосами студента и вздрогнул: он был очень похож на Колю Майорова. Сходство это длилось только мгновенье. Пронзила мысль: невозвратные есть потери. Невозможно возвратить человека из земли. И только образ его остается, вечно живой, в нашей душе. Я не видел Колю Майорова мертвым. Только знаю рассудком, что он погиб, а сердцем представить не могу его неживым.
Он таким и остался в моей памяти — высокий, сильный, добрый, со зрением, я бы сказал, цветным. Как цветное кино. Он густо воспринимал жизнь, мир в его стихах вставал объемным, весомым, зримым, цветным. Остались от него недописанные поэмы, стихи, строки, осколки таланта. Но и сейчас неподдельной юностью и свежестью восприятия мира веет от этих стихов. До сих пор я люблю повторять его живые строки:
Что услышишь в ночь такую? То ли влага бьет в суку, То ль тетерева токуют В ночь такую на току.И многие, многие строки, живые, молодые, с языческим восприятием жизни, остались от Коли Майорова.
Говорят, что в 1914 году в первые недели войны во Франции погибло 300 поэтов. Триста поэтов! Это не укладывается в сознании! А сколько поэтов унесла вторая мировая! Блистательно начинали свой поэтический путь Коля Майоров, Миша Кульчицкий, Павел Коган, Коля Отрада, Арон Копштейн. Все, что осталось от них, дорого до боли. В них черты нашей юности, облик наших друзей, погибших на войне, но живущих в наших сердцах.
От Коли Майорова осталось много стихов. Мы должны напечатать все его лучшее. Это будет нашей признательностью, признательностью живых тем, кто своей жизнью отстоял жизнь для всех.
Николай Майоров
Август
Я полюбил весомые слова, просторный август, бабочку на раме и сон в саду, где падает трава к моим ногам неровными рядами. Лежать в траве желтеющей у вишен, у низких яблонь, где-то у воды, смотреть в листву прозрачную и слышать, как рядом глухо падают плоды. Не потому ль, что тени не хватало, казалось мне, вселенная мала? Движения замедленны и вялы, во рту иссохло. Губы как зола. Куда девать сгорающее тело? Ближайший омут светел и глубок, пока трава на солнце не сгорела, войти в него всем телом до предела и ощутить подошвами песок! И в первый раз почувствовать так близко прохладное спасительное дно. Вот так, храня стремление одно, вползают в землю щупальцами корни, питая щедро алчные плоды (а жизнь идет!), — все глубже и упорней стремление пробиться до воды, до тех границ соседнего оврага, где в изобилье, с запахами вин, как древний сок, живительная влага ключами бьет из почвенных глубин. Полдневный зной под яблонями тает на сизых листьях теплой лебеды. И слышу я, как мир произрастает из первозданной матери — воды.1939
Взгляд в древность
Там — мрак и гул. Обломки мифа. Но сказку ветер окрылил: Кровавыми руками скифа Хватали зори край земли. Скакали взмыленные кони, Ордой сменялася орда. И в этой бешеной погоне Боялись отставать года… И чудилось — в палящем зное Коней и тел под солнцем медь Не уставала над землею В века событьями греметь. Менялось все: язык, эпоха, Колчан, кольчуга и копье. И степь травой-чертополохом Позарастала до краев. …Остались пухлые курганы, В которых спят богатыри, Да дней седые караваны В холодных отблесках зари. Ветра шуршат в высоких травах, И низко клонится ковыль. Когда про удаль Станислава Ручей журчит степную быль — Выходят витязи в шеломах, Скликая воинов в набег. И долго в княжеских хоромах С дружиной празднует Олег. А в полночь скифские курганы Вздымают в темь седую грудь. Им снится, будто караваны К востоку держат долгий путь. Им снятся смелые набеги, Стенанья, смерть, победный рев, Что где-то рядом печенеги Справляют тризны у костров. Там — мрак и гул. Обломки мифа. Простор бескрайний, ковыли… Глухой и мертвой хваткой скифа Хватали зори край земли.1937
«Когда умру, ты отошли…»
Когда умру, ты отошли письмо моей последней тетке, зипун нестираный, обмотки и горсть той северной земли, в которой я усну навеки, метаясь, жертвуя, любя все то, что в каждом человеке напоминало мне тебя. Ну а пока мы не в уроне и оба молоды пока, ты протяни мне на ладони горсть самосада-табака.Что значит любить
Идти сквозь вьюгу напролом. Ползти ползком. Бежать — вслепую. Идти и падать. Бить челом и все ж любить ее — такую! Забыть про дом и сон, про то, что твоим обидам нет числа, что мимо утренняя почта чужое счастье пронесла. Забыть последние потери, вокзальный свет, ее «прости» и кое-как до старой двери, почти не помня, добрести. Войти, как новых драм зачатье. Нащупать стены, холод плит… Швырнуть пальто на выключатель, забыв, где вешалка висит. И свет включить. И сдвинуть полог крамольной тьмы. Потом опять достать конверты с дальних полок, по строчкам письма разбирать. Искать слова, сверяя числа. Не помнить снов. Хотя б крича, любой ценой дойти до смысла, понять и сызнова начать. Не спать ночей, гнать тишину из комнат, сдвигать столы, последний взять редут, и женщин тех, которые не помнят, обратно звать, и знать, что не придут. Не спать ночей, недосчитаться писем, не чтить посулов, доводов, похвал и видеть те неснившиеся выси, которых прежде глаз не досягал, — найти вещей извечные основы. Вдруг вспомнить жизнь. В лицо узнать ее. Прийти к тебе и, не сказав ни слова, уйти, забыть и возвратиться снова, моя любовь, могущество мое.1939
Предчувствие
Неужто мы разучимся любить и в праздники, раскинувши диваны, начнем встречать гостей и церемонно пить холодные кавказские нарзаны? Отяжелеем. Станет слух наш слаб. Мычать мы будем вяло и по-бычьи. И будем принимать за женщину мы шкап и обнимать его в бесполом безразличьи. Цепляясь за разваленный уют, мы в пот впадем, в безудержное мленье. Кастратами потомки назовут стареющее наше поколенье. Без жалости нас время истребит. Забудут нас. И до обиды грубо над нами будет кем-то вбит кондовый крест из тела дуба. За то, что мы росли и чахли в архивах, в мгле библиотек, лекарством руки наши пахли и были бледны кромки век. За то, что нами был утрачен сан человечий; что, скопцы, мы понимали мир иначе, чем завещали нам отцы. Нам это долго не простится, и не один минует век, пока опять не народится забытый нами Человек.Гоголь
…А ночью он присел к камину и, пододвинув табурет, следил, как тень ложилась клином на мелкий шашечный паркет. Она росла и, тьмой набухнув, от желтых сплющенных икон шла коридором, ведшим в кухню, и где-то там терялась. Он перелистал страницы снова и бредить стал. И чем помочь, когда, как черт иль вий безбровый, к окну снаружи липнет ночь, когда кругом — тоска безлюдья, когда — такие холода, что даже мерзнет в звонком блюде вечор забытая вода? И скучно, скучно так ему сидеть, в тепло укрыв колени, пока в отчаянном дыму, дрожа и корчась в исступленье, кипят последние поленья. Он запахнул колени пледом, рукой скользнул на табурет, когда, очнувшися от бреда, нащупал глазом слабый свет в камине. Сердце было радо той тишине. Светает — в пять. Не постучавшись, без доклада ворвется в двери день опять. Вбегут докучливые люди, откроют шторы, и тогда все в том же позабытом блюде чуть вздрогнет кольцами вода. И с новым шорохом единым растает на паркете тень, и в оперенье лебедином у ног ее забьется день… Нет, нет — ему не надо света! Следить, как падают дрова, когда по кромке табурета рука скользит едва — едва… В утробе пламя жажду носит заметить тот порыв один, когда сухой рукой он бросит рукопись в камин. …Теперь он стар. Он все прощает и, прослезясь, глядит туда, где пламя жадно поглощает листы последнего труда.Творчество
Есть жажда творчества, уменье созидать, на камень камень класть, вести леса строений. Не спать ночей, по суткам голодать, вставать до звезд и падать на колени. Остаться нищим и глухим навек, идти с собой, с своей эпохой вровень и воду пить из тех целебных рек, к которым прикоснулся сам Бетховен. Брать в руки гипс, склоняться на подрамник, весь мир вместить в дыхание одно, одним мазком весь этот лес и камни живыми положить на полотно. Не дописав, оставить кисти сыну, так передать цвета своей земли, чтоб век спустя все так же мяли глину и лучшего придумать не смогли. А жизнь научит правде и терпенью, принудит жить, и прежде чем стареть, она заставит выжать все уменье, какое ты обязан был иметь.Дед
Он делал стулья и столы и, умирать уже готовясь, купил свечу, постлал полы и новый сруб срубил на совесть. Свечу поставив на киот, он лег поблизости с корытом и отошел. А черный рот так и остался незакрытым. И два громадных кулака легли на грудь. И тесно было в избенке низенькой, пока его прямое тело стыло.Рождение искусства
Приду к тебе и в памяти оставлю застой вещей, идущих на износ, спокойный сон ночного Ярославля и древний запах бронзовых волос. Все это так на правду не похоже и вместе с тем понятно и светло, как будто я упрямее и строже взглянул на этот мир через стекло. И мир встает — столетье за столетьем, и тот художник гениален был, кто совершенство форм его заметил и первый трепет жизни ощутил. И был тот час, когда, от стужи хмурый, и грубый корм свой поднося к губе и кутаясь в тепло звериной шкуры, он в первый раз подумал о тебе. Он слушал ветра голос многоустый и видел своды первозданных скал, влюбляясь в жизнь, он выдумал искусство и образ твой в пещере изваял. Пусть истукан массивен был и груб и походил скорей на чью-то тушу, но человеку был тот идол люб: он в каменную складку губ все мастерство вложил свое и душу. Так, впроголодь живя, кореньями питаясь, он различил однажды неба цвет. Тогда в него навек вселилась зависть к той гамме красок. Он открыл секрет бессмертья их. И где б теперь он ни был, куда б ни шел, он всюду их искал. Так, раз вступив в соперничество с небом, он навсегда к нему возревновал. Он гальку взял и так раскрасил камень, такое людям бросил торжество, что ты сдалась, когда, припав губами к его руке, поверила в него. Вот потому ты много больше значишь, чем эта ночь в исходе сентября. Мне даже хорошо, когда ты плачешь, сквозь слезы о прекрасном говоря.«Мне только б жить и видеть росчерк грубый…»
Мне только б жить и видеть росчерк грубый твоих бровей и пережить тот суд, когда глаза солгут твои, а губы чужое имя вслух произнесут. Уйди, но так, чтоб я тебя не слышал, не видел, чтобы, близким не грубя, я дальше б жил и подымался выше, как будто вовсе не было тебя.«Как жил, кого любил, кому руки не подал…»
Как жил, кого любил, кому руки не подал, с кем дружбу вел и должен был кому — узнают всё, раскроют все комоды, разложат дни твои по одному.«Я с поезда. Непроспанный, глухой…»
Я с поезда. Непроспанный, глухой. В кашне, затянутом за пояс. По голове погладь меня рукой, примись ругать. Обратно шли на поезд. Грозись бедой, невыгодой, концом. Где б ни была ты — в поезде, вагоне, — я все равно найду, уткнусь лицом в твои, как небо, светлые ладони.Весеннее
Я шел веселый и нескладный, почти влюбленный, и никто мне не сказал в дверях парадных, что не застегнуто пальто. Несло весной и чем-то теплым, а от слободки, по низам, шел первый дождь, он бился в стекла, гремел в ушах, слепил глаза, летел, был слеп наполовину, почти прямой. И вместе с ним вступала боль сквозная в спину недомоганием сплошным. В тот день еще цветов не знали, и лишь потом на всех углах вразбивку бабы торговали, сбывая радость второпях. Ту радость трогали и мяли, просили взять, вдыхали в нос, на грудь прикладывали, брали поштучно, оптом и вразнос. Ее вносили к нам в квартиру, как лампу, ставили на стол, — лишь я один, должно быть, в мире спокойно рядом с ней прошел. Я был высок, как это небо, меня не трогали цветы, — я думал о бульварах, где бы мне встретилась случайно ты, с которой я лишь понаслышке, по первой памяти знаком, — дорогой, тронутой снежком, носил твои из школы книжки… Откликнись, что ли! Только ветер да дождь, идущий по прямой… А надо вспомнить — мы лишь дети, которых снова ждут домой, где чай остыл, черствеет булка… Так снова жизнь приходит к нам последней партой, переулком, где мы стояли по часам… Так я иду, прямой, просторный, а где-то сзади, невпопад, проходит детство и валторны словами песни говорят. Мир только в детстве первозданен, когда, себя не видя в нем, мы бредим морем, поездами, раскрытым настежь в сад окном, чужою радостью, досадой, зеленым льдом балтийских скал и чьим-то слишком белым садом, где ливень яблоки сбивал. Пусть неуютно в нем, неладно, нам снова хочется домой, в тот мир простой, как лист тетрадный, где я прошел, большой, нескладный и удивительно прямой.Памятник
Им не воздвигли мраморной плиты. На бугорке, где гроб землей накрыли, как ощущенье вечной высоты пропеллер неисправный положили. И надписи отгранивать им рано — ведь каждый, небо видевший, читал, когда слова высокого чекана пропеллер их на небе высекал. И хоть рекорд достигнут ими не был, хотя мотор и сдал на полпути, — остановись, взгляни прямее в небо и надпись ту, как мужество, прочти. О, если б все с такою жаждой жили! Чтоб на могилу им взамен плиты как память ими взятой высоты их инструмент разбитый положили и лишь потом поставили цветы.«Тогда была весна. И рядом…»
Тогда была весна. И рядом с помойной ямой на дворе в простом строю, равняясь на дом, мальчишки строились в каре и бились честно. Полагалось бить в спину, грудь, еще — в бока. Но на лицо не подымалась сухая детская рука… А за рекою было поле, — там, сбившись в кучу у траншей, солдаты били и кололи таких же, как они, людей. И мы росли, не понимая — зачем туда сошлись полки: неужли взрослые играют, как мы сходясь на кулаки? Война прошла. Но нам осталась простая истина в удел, что у детей имелась жалость, которой взрослый не имел. А ныне вновь война и порох вошли в большие города и стала нужной кровь, которой мы так боялись в те года.1939
Мы
Это время
трудновато для пера.
(Маяковский) Есть в голосе моем звучание металла. Я в жизнь вошел тяжелым и прямым. Не все умрет, не все войдет в каталог. Но только пусть под именем моим потомок различит в архивном хламе кусок горячей, верной нам земли: где мы прошли с обугленными ртами и мужество как знамя пронесли. Мы жгли костры и вспять пускали реки. Нам не хватало неба и воды. Упрямой жизни в каждом человеке железом обозначены следы, — так в нас запали прошлого приметы. А как любили мы — спросите жен! Пройдут века, и вам солгут портреты, где нашей жизни ход изображен. Мы были высоки, русоволосы. Вы в книгах прочитаете, как миф, о людях, что ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы. Когда б не бой, не вечные исканья крутых путей к последней высоте, мы б сохранились в бронзовых ваяньях, в столбцах газет, в набросках на холсте. Но время шло. Меняли реки русла. И жили мы, не тратя лишних слов, чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных да в серой прозе наших дневников. Мы брали пламя голыми руками. Грудь раскрывали ветру. Из ковша тянули воду полными глотками. И в женщину влюблялись не спеша. И шли вперед и падали, и, еле в обмотках грубых ноги волоча, мы видели, как женщины глядели на нашего шального трубача, а тот трубил, мир ни во что не ставя (ремень сползал с покатого плеча), он тоже дома женщину оставил, не оглянувшись даже сгоряча. Был камень тверд, уступы каменисты, почти со всех сторон окружены, глядели вверх — и небо было чисто, как светлый лоб оставленной жены. Так я пишу. Пусть неточны слова, и слог тяжел, и выраженья грубы! О нас прошла всесветная молва. Нам жажда зноем выпрямила губы. Мир, как окно, для воздуха распахнут, он нами пройден, пройден до конца, и хорошо, что руки наши пахнут угрюмой песней верного свинца. И как бы ни давили память годы, нас не забудут потому вовек, что, всей планете делая погоду, мы в плоть одели слово «человек»!1940
«Нам не дано спокойно сгнить в могиле…»
Нам не дано спокойно сгнить в могиле,— Лежать навытяжку и приоткрыв гробы, — Мы слышим гром предутренней пальбы, Призыв охрипшей полковой трубы С больших дорог, которыми ходили. Мы все уставы знаем наизусть. Что гибель нам! Мы даже смерти выше. В могилах мы построились в отряд И ждем приказа нового. И пусть Не думают, что мертвые не слышат, Когда о них потомки говорят.Даниил Данин Памяти Николая Майорова
Кто-то сказал о встречах военных лет: «И незабываемое забывается». Это невесело, но правда. Однако правда и другое: когда незабываемое вспоминается, оно оживает для нас во всей своей первоначальной цельности и неповторимости. Это оттого, что оно тайно живет в наших душах, не изменяясь с годами: завершенное, оно уже не может измениться.
Больше двух десятилетий прошло с тех пор, как университетские друзья Николая Майорова расстались с ним, не простившись. Они уже никогда с ним не увидятся. Исправить тут ничего нельзя. Этому сроку предстоит только увеличиваться. Но законы перспективы, не нарушимые в пространстве, к счастью, могут нарушаться во времени. Отдаляясь, образ Коли Майорова не уменьшается и не тускнеет. А то, что стирается в памяти, наверное, никогда и не было существенным.
Я познакомился с Колей Майоровым за три года до Великой Отечественной войны — в мирную пору, когда увлеченные литературой студенты Московского университета объединились в литгруппу. Как всегда и во всех юношеских литературных объединениях, там, конечно, господствовали лирики.
Удивительное дело: во все времена повторяется одно и то же: молодые поэты, ищущие себя и жаждущие понимания, находят других, себе подобных, таких же ищущих и жаждущих, по незримому и неслышному пеленгу, который неведом посторонним. (Так в человеческом водовороте столицы любые коллекционеры каким-то образом вылавливают других коллекционеров — по случайному слову, по жесту, что ли, по оценивающему взгляду…) Когда осенью 1938 года в одном из старых университетских зданий на улице Герцена студенческая литгруппа собралась на первое регулярное занятие, Коля Майоров был незаметен в пестрой аудитории. Но почему-то все уже что-то знали друг о друге, и больше всего именно о Майорове. Будущие биологи и географы, химики и математики, физики и историки читали свои стихи. И помню, как из разных углов раздавались уверенные голоса:
— Пусть почитает Майоров, истфак!
Но он смущенно отнекивался — то ли от робости, то ли от гордыни. Казалось, он примеривается к чужим стихам, звучащим в аудитории, мысленно сравнивает их со своими, выбирает — «что прочесть?» Наконец он вылез из-за студенческого стола, встал где-то сбоку и начал читать.
Крепко стиснутым кулаком он, этот «Майоров, истфак», словно бы расчищал живой мысли стихотворения прямую дорогу через обвалы строф. И к концу того первого вечера стало очевидно со всей несомненностью: это будет «первая ракетка» в поэтической команде университета.
Не для традиционного сопоставления скромности и таланта упомянул я, что Николай Майоров был незаметен в пестрой толпе участников университетского литобъединения. Просто захотелось вспомнить, как он выглядел, каким показался в минуту знакомства. Совсем недавно, через столько лет после той поры, один ныне здравствующий поэт уверял меня, что Коля Майоров был высоким красавцем. Это легко объяснимая аберрация памяти. Я разубеждал поэта, а потом пожалел, что так старался. В воображении поэта жил образ Майорова, я же рассказывал ему про облик своего старого приятеля. А это разные вещи, и они не обязаны совпадать.
Коля Майоров поразительно не был похож на стихотворца, как не был похож на «служителя муз» поэт божьей милостью Николай Заболоцкий. Ничего завидного во внешности — ничего впечатляющего, что заставило бы на улице оглянуться прохожего. (Швейцары в гостиницах — вот из кого вербоваться бы академикам, полководцам, поэтам!..) Может быть, это экономная природа не наделяет истинное достоинство лишними одеждами — они ведь ему не нужны… Впрочем, это сомнительный закон — слишком много из него исключений. Но Коля Майоров был выразительнейшим его подтверждением.
Нет, он не был скромен: Есть в голосе моем звучание металла. Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.Он знал, что он — поэт. И, готовясь стать историком, утверждал себя прежде всего как поэт. У него было на это право.
Как все юноши, он много писал о любви. Но в отличие от большинства начинающих лириков он размышлял о ней не мечтательно и бесплотно, а требовательно, жарко и даже зло. Не столь важно искать для этого объяснения — гораздо существенней увидеть в этом первый и самый доказательный намек на своеобразие поэтического видения жизни, какое свойственно было Майорову.
Пусть люди думают, что я трамвая жду. В конце концов, — кому какое дело, Что девушка сидит в шестом ряду И равнодушно слушает Отелло? …………… Как передать то содроганье зала, Когда не вскрикнуть было бы нельзя? Одна она с достоинством зевала, Глазами вверх на занавес скользя. Ей не понять Шекспира и меня…Немногие отважились бы на такую строку. Но талант — это смелость. И всю молодую отвагу своего сердца и своего ума Майоров тратил не на маленькую поэтическую фронду против внешне традиционных форм стиха — фронду, которая часто оказывается единственной доблестью начинающих, а на поиски своего «угла зрения», своего понимания прекрасного.
Как все юноши на пороге начинающейся зрелости, он много думал и писал о смерти (так устроен человек!). Но в отличие от большинства философствующих юнцов он размышлял о ней не меланхолически-печально и тревожился не о бренности всего земного, а искал в этой теме мужественное утверждение жизни, героическое начало, бессмертие человеческого творчества и труда.
Им не воздвигли мраморной плиты. На бугорке, где гроб землей накрыли, как ощущенье вечной высоты пропеллер неисправный положили. …………… О, если б все с такою жаждой жили! Чтоб на могилу им взамен плиты как память ими взятой высоты их инструмент разбитый положили и лишь потом поставили цветы.Внешне незаметный, он не был тих и безответен. Он и мнения свои защищал, как читал стихи: потрясая перед грудью кулаком, чуть вывернутым тыльной стороною к противнику, точно рука несла перчатку боксера. Он легко возбуждался, весь розовея. Он не щадил чужого самолюбия и в оценках поэзии бывал всегда резко определенен. Он не любил в стихах многоречивой словесности, но обожал земную вещность образа. Он не признавал стихов без летящей поэтической мысли, но был уверен, что именно для надежного полета ей нужны тяжелые крылья и сильная грудь. Так он и сам старался писать свои стихи — земные, прочные, годные для дальних перелетов.
…Я полюбил весомые слова.Разве это не чувствуется даже в тех немногих строках, что приведены выше? Иногда после занятий университетской литгруппы мы бродили по ночной Москве, обычно вчетвером: Коля Майоров, Виктор Болховитинов, Николай Банников и я. У Коли всегда оказывались в запасе почему-то не прочитанные сегодня на занятии стихи. «Почему? Что же ты молчал?» — «А ну их к черту, это не работа, еще не получилось!» — отвечал он. И он продолжал искать свои весомые слова, которые не сразу даются в руки только сильным поэтам, потому что ощущение «веса» слов у них совсем иное, чем у версификаторов. Он не доверялся чужим гирям и гирькам, и ему невозможно было подсказать строфу или строку — он с ходу отвергал любые предложения или прямым протестом, или улыбкой, или молчанием. Ему годилось только то, что выковалось в нем самом.
Он полюбил весомые слова, когда было ему около двадцати. А в двадцать три его уже не стало. Он успел сделать сравнительно немного: его литературное наследство — это сто страниц, три тысячи машинописных строк. Но все, что он считал законченным, — настоящее. Он был весь обещание. И не потому только, что природа дала ему талант, а воспитание — трудоспособность. Он очень рано осознал себя поэтом своего поколения — глашатаем того предвоенного поколения, которое приходило к поре начинающейся внутренней зрелости в конце 30-х годов.
Он чувствовал себя тем «шальным трубачом», о котором прекрасно написал в стихотворении «Мы».
Еще меньше, чем на поэта, Николай Майоров был похож на записного героя. Но и героем он стал таким же, как и поэтом, — настоящим. Он умер, как сам предсказал: в бою.
Мальчик, родившийся в девятнадцатом году под Иваново-Вознесенском, погиб совсем еще юнцом в сорок втором под Смоленском. Доброволец-разведчик погиб, не докурив последней папиросы, не дописав последнего стихотворения, не долюбив, не дождавшись книги своих стихов, не окончив университета, не доучившись в Литературном институте, не раскрыв всех возможностей, какие сам в себе прозревал… Все в его жизни осталось незавершенным, кроме нее самой. Но стихи его, сработанные для дальнего полета, продолжают свой рейс: у них сильные крылья — такие, как он хотел.
Уходя, он в своих стихах точно предупредил нас, что останется неотъемлемой частью пережитого нами. Так оно и случилось. Он вошел в разряд незабываемого. И навсегда помнится, что он был.
Борис Слуцкий Последняя встреча
Был октябрь 1941 года, один из самых тяжелых для Москвы дней октября — 16 или 17 число.
Немцы наступали где-то у Можайска. Их еще не удавалось остановить. Кое-где над центром города падал странный серый снег, вялый, медленный. Это был пепел. Эвакуируемые учреждения жгли бумаги. Каждый час тысячи людей уходили на запад, на юго-запад, на северо-запад — на фронт. Другие тысячи уходили и уезжали на восток, в эвакуацию.
Вот в такой день на улице Герцена я и встретил, в последний раз в жизни, Колю Майорова.
Какой он был тогда — помню: хмурый, лобастый, неторопливый, с медленной доброй усмешкой на губах.
— А я вот иду в военкомат, записываться в армию.
Постояли мы на улице, на самой важной для нас обоих улице Герцена — больше трех лет проучились мы на ней, через два дома друг от друга. Поговорили о товарищах: кто как и кто где. Торопливо, в двух словах, рассказал я Коле о фронте и о госпитале. И — разошлись, чтобы никогда более не увидеть друг друга.
* * *
В книге Майорова, которая вышла год назад, и в этом сборнике собраны почти все известные мне стихи Коли — последних трех-четырех лет его жизни. Почти все, но не все.
Я хорошо помню стихи о деревенской гулянке, со строкой:
Я сам любил ходить в такие игры.Может быть, когда-нибудь вспомнятся, приснятся другие стихи, другие строки, а может быть, и не вспомнятся. Мы, наверное, слушали в те годы друг друга не очень внимательно. Все написанное и читанное казалось присказкой. «А сказка будет впереди». Главное еще напишется. У иных так и случилось. А у иных вместо сказки впереди была смерть.
* * *
Я перечитываю стихи Майорова тридцать девятого, сорокового, сорок первого годов. Многое вспоминаю, со многим встречаюсь впервые и думаю, что нет, это уже не присказка.
Мы никогда не прочтем того, что Коля написал бы о войне, о нашей победе. Но он сказал свое честное и точное слово о том, что думали и чувствовали люди его поколения за день, за год до войны. О буре истории, ревевшей за окнами наших студенческих общежитий. И о том, как
…были высоки, русоволосыте, кто шагнул навстречу буре. Победа начинается с решимости ее добиться, с уверенности в правоте нашего дела. Об этой решимости, об этой правоте — всё, что написал Майоров.
Михаил Луконин Коле Отраде
Я жалею девушку Полю. Жалею За любовь осторожную: «Чтоб не в плену б!..» За: «мы мало знакомы», «не знаю», «не смею»… За ладонь, отделившую губы от губ. Вам казался он: летом — слишком двадцатилетним, Осенью — рыжим, как листва на опушке, Зимою — ходит слишком в летнем. А весною — были веснушки. А когда он поднял автомат — вы слышите?.. — Когда он вышел, дерзкий такой, как в школе, Вы на фронт прислали ему платок вышитый, Вышив: «Моему Коле!» У нас у всех были платки поименные, Но ведь мы не могли узнать двадцатью зимами, Что когда на войну уходят безнадежно влюбленные — Назад приходят любимыми. Это все пустяки, Николай, если б не плакали. Но живые никак представить не могут: Как это, когда пулеметы такали, Не встать, не услышать тревогу? Белым пятном на снегу выделиться, Не видеть, как чернильные пятна повыступали на пальцах, Не обрадоваться, что веснушки сошли с лица?! Я бы всем запретил охать. Губы сжав — живи! Плакать нельзя! Не позволю в своем присутствии плохо Отзываться о жизни, за которую гибли друзья. Николай! С каждым годом он будет моложе меня, заметней. Постараются годы мою беспечность стереть. Он останется слишком двадцатилетним, Слишком юным для того, чтобы дальше стареть. И хотя я сам видел, как вьюжный ветер, воя, Волосы рыжие на кулаки наматывал, Невозможно отвыкнуть от товарища и провожатого, Как нельзя отказаться от движения вместе с Землею. Мы суровеем, Друзьям улыбаемся сжатыми ртами, Мы не пишем записок девочкам, не поджидаем ответа… А если бы в марте А если бы в марте тогда мы поменялись местами, Он сейчас обо мне написал бы вот это.Н. Отрада и М. Луконин
Юрий Окунев «В актовом зале…»
В актовом зале нового педагогического института в Волгограде Михаил Луконин читает притихшим студентам свое стихотворение «Коле Отраде»…
Он читает, а перед моими глазами всплывают далекие годы и старое здание довоенного учительского института на Академической. В коридоре после лекций по-молодому шумно, весело, бестолково. Из аудитории литфака выходит восемнадцатилетний веснушчатый парень. Он держит в руке книгу. Это стихи Багрицкого.
Он подмигивает мне и делает шутливый, приглашающий жест: «А вам не хотится под ручку пройтиться?»…
Николай Отрада.
Самый близкий его друг — Михаил Луконин. Я знаю: они вместе учились в школе, поступили в учительский, одновременно начали печататься в газетах, зачитывались стихами любимых поэтов и увлеченно занимались своеобразной «стратегией» и «географией»: раскладывали перед собой географическую карту и жадно распределяли «сферы» и «зоны», огромные пространства и территории нашей планеты, на которые должно было распространиться их тематическое освоение и поэтическое завоевание. Владения музы одного поэта торжественно объявлялись неприкосновенными для другого.
В то время мое воображение полностью захватила республиканская Испания, ее борьба, ее героические люди. Прочитав в областной комсомольской газете мои стихи «Лина Одена» и «Я кулаки сжимаю и клянусь», Коля Отрада по «высшим стратегическим соображениям» предупредил меня:
— Давай жми, набирай темпы. А то отберу у тебя Испанию. Учти!
Это было в 1936 году, но как возмужал и вырос Отрада за два последующих года…
У меня сохранился старый выцветший номер областной газеты от 3 декабря 1938 года. В нем целая страница отведена митингу интеллигенции города. О своем возмущении зверствами фашистов в Германии говорили на митинге профессора Лебедев, Прикладовицкий, артист Скалов, инженер Шилкин. И вдруг читаю: «Речь Николая Отрады». И тут я вспомнил, как он волновался перед выступлением, вышел на трибуну, огляделся и, отложив в сторону листок с речью, заговорил сначала глуховато, а потом все более громко и внятно:
— От имени писателей нашего города я выражаю глубокое возмущение и гнев в связи с кровавыми событиями в Германии. — Глаза у Николая блестели. Он перевел дыхание и продолжал: — Многие говорят, что это похоже на средневековье. Нет! Средневековье бледнеет перед творящимися сейчас в Германии чудовищными зверствами!..
Николая Отраду хорошо знали рабочие, студенты, школьники. На страницах областных газет, в сборниках и альманахах местного издательства часто появлялись его стихи.
…Первым «перебежал» в Москву, в Литературный институт, Михаил Луконин. Потом он приехал на несколько дней и увез с собой Отраду. Я совершил это «дезертирство» несколько позднее.
В коридоре старинного дома на Тверском бульваре я увидел трех студентов. Их лица были мрачными. Позерски сложив руки, они снисходительно посматривали на меня — на новичка, приехавшего из провинции. В стороне от них стоял Николай Отрада. По сравнению со мной он уже был здесь «бывалым» человеком. Увидев меня, он быстро подошел и сказал:
— Ты этих непризнанных гениев не бойся, держись меня — и все будет в порядке!..
Некоторые студенты института уже на первом курсе выделялись своей большой начитанностью и эрудицией. Отрада к этому времени успел прочитать меньше, чем они, но он лучше знал рабочую среду, глубже чувствовал и понимал природу.
За городом, в Переделкино, в студенческом общежитии жили С. Смирнов, А. Яшин, М. Луконин, Б. Ямпольский, И. Бауков, тепло встретившие Колю Отраду.
Счастливая пора! Молодые поэты и прозаики спорили, делились и хлебом и замыслами, а так называемую «курицу славы» делить пока не приходилось, до нее еще тогда было далеко. Однажды группу студентов, в которую вошли и Отрада, и я, пригласили на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку читать стихи перед колхозниками.
Слушатели нам аплодировали, а когда все поэты прочитали стихи, во втором ряду поднялся старик, чем-то очень напоминавший крестьянина в исполнении Бориса Чиркова в кинофильме «Чапаев». Старый колхозник с хитроватой улыбкой спросил:
— Что же, граждане, чтение окончено или еще какое представление будет?..
И тут Николая Отраду «осенило». Он вскрикнул:
— Будет!.. Будет!..
Мы растерянно переглянулись. Николай вышел на авансцену и с солидной важностью циркового конферансье, объявляющего новый рискованный аттракцион, оповестил:
— А сейчас, товарищи колхозники, главный номер нашей программы: мастер народного танца студент Литературного института Юрий Окунев станцует перед вами сербиянку!
Раздались голоса:
— Просим! Просим!..
Я онемел от неожиданности и в ужасе обратился в бегство. Но Отрада настиг меня, вывел на эстраду и, пристукивая в такт ладонями, уговаривал:
— Давай, давай, лиха беда начало, а потом пойдет!..
Видя, что толку не будет, отстранил меня и со словами: «А ну-ка, интеллигенция! Дай дорогу!» — начал виртуозно выбивать чечетку. Зрители были в восторге. А Отрада, улыбаясь, шептал мне: «Учись! Это тебе не стихи писать!..»
А вот я вижу Николая Отраду другим: сосредоточенным, строгим, решительным.
Он сдавал зачет по истории, зная, что утром следующего дня вместе с Михаилом Лукониным, Платоном Воронько, Ароном Копштейном и другими студентами-добровольцами лыжного батальона уедет на войну с белофиннами.
Ответ не удовлетворил преподавателя, и он поставил Николаю тройку. Тогда Отрада так сказал:
— Историю пересдам, когда вернусь, а пока сам пойду на фронт делать историю…
Добрый, сильный, влюбленный в людей и птиц, в жизнь, в поэзию и природу, Николай Отрада писал с нежностью в стихотворении «Осень»:
…Я вышел. Над избами гуси вплавь спешат и горнистом трубят в рожок. Мне хочется выстрелить в них сплеча, в летящих косым косяком гусей, но пульс начинает в висках стучать. «Не трогай!» — мне слышится из ветвей.Но к врагам своей родины доброволец лыжного батальона Николай Отрада был беспощаден. Окружив его, разъяренные белофинны кричали: «Москва, сдавайся!..»
И тут же последовал далеко и громко эхом раскатившийся единственно возможный ответ:
— Москва не сдается!..
Николай Отрада
Мечта
Внизу беспокойный лежит океан. Холодный, туманный и темный. В суровые северные края Трое летят спокойно! «Трое отважных. Простых людей Летят туда днем и ночью»… — Отец читает, А сын скорей Сам птицу увидеть хочет. Но папа «спи» говорит ему, Укрыл одеялом спину. Сын погружается в тишину, Мечтанья приходят к сыну. А ночь каспийская. И месяц здесь В окне нарисован тонко. Так сын засыпает, И сном этим весь Окутан русый мальчонка. Снится Невиданный звездолет, А воздух прозрачный, чистый. Он смотрит и видит: Трава растет, Земли отраженье ищет. Летит, улыбаясь близкой луне, Сквозь сон этот милый И сладкий. И думает: «Может, придется мне Мир облететь без посадки?»1938
Футбол
И ты войдешь. И голос твой потонет в толпе людей, кричащих вразнобой. Ты сядешь. И как будто на ладони большое поле ляжет пред тобой. И то мгновенье, верь, неуловимо, когда замрет восторженный народ, — удар в ворота! Мяч стрелой и… мимо. Мяч пролетит стрелой мимо ворот. И, на трибунах крик души исторгнув, вновь ход игры необычайно строг… Я сам не раз бывал в таком восторге, что у соседа пропадал восторг, но на футбол меня влекло другое, иные чувства были у меня: футбол не миг, не зрелище благое, футбол другое мне напоминал. Он был похож на то, как ходят тени по стенам изб вечерней тишиной. На быстрое движение растений, сцепление дерев, переплетенье ветвей и листьев с беглою луной. Я находил в нем маленькое сходство с тем в жизни человеческой, когда идет борьба прекрасного с уродством и мыслящего здраво с сумасбродством. Борьба меня волнует, как всегда. Она живет настойчиво и грубо в полете птиц, в журчании ручья, определенна, как игра на кубок, где никогда не может быть ничья.Почти из моего детства
Я помню сад, круженье листьев рваных да пенье птиц, сведенное на нет, где детство словно яблоки-шафраны и никогда не яблоко-ранет. Оно в Калуге было и в Рязани таким же непонятным, как в Крыму: оно росло в неслыханных дерзаньях, в ребячестве, не нужном никому; оно любило петь и веселиться и связок не жалеть голосовых… Припоминаю: крылышки синицы мы сравнивали с крыльями совы и, небе синее с водою рек сверяя, глядели долго в темную реку. И, никогда ни в чем не доверяя, мы даже брали листья трав на вкус. А школьный мир? Когда и что могло бы соединять пространные пути, где даже мир — не мир, а просто глобус, его рукой нельзя не обхватить… Он яблоком, созревшим на оконце, казался нам, на выпуклых боках — где родина — там красный цвет от солнца, и остальное зелено пока.Август, 1939
В поезде
В вагоне тихо. Люди спят давно. Им право всем на лучший сон дано. Лишь я не сплю, гляжу в окно: вот птица ночная пролетает над рекой ночной. Вот лес далекий шевелится, как девушку, я б гладил лес рукой. Но нет лесов. Уходит дальше поезд. Мелькает степь. В степи озер до тьмы. Вокруг озер трава растет по пояс. В такой траве когда-то мы с веселым другом на седом рассвете волосяные ставили силки — и птиц ловили, и, как часто дети, мы птиц пускали радостно с руки. В вагоне тихо, люди спят давно. Им право всем на лучший сон дано. Но только я сижу один, не сплю… Смотрю на мир ночной — кругом темно. И что я ни увижу за окном, я, как гончар, в мечтах сижу леплю.Некогда
Клены цветут. Неподвижная синь. Вода вытекает в ладонь. Красиво у Дона, И Дон красив, Тих и спокоен Дон. Вот так бы и плавал В нем, как луна, У двух берегов на виду. И нипочем Мне б его глубина, Вода б нипочем в цвету. Вот так и стоял бы на берегу И в воду глядел, глядел; Вот так бы и слушал Деревьев гул, — Но много сегодня дел.1938
Попутно
Я, кажется. Будто все спутал, Чувства стреножил со зла. А ты говоришь: — Попутно, Нечаянно как-то зашла. — Минуты проходят в молчанье, Нам не о чем говорить. И будто совсем случайно: — Поезд уйдет до зари, Поезд уходит скорый… — Его не вернуть назад. Я ждал тебя И без укора Хотел тебе все сказать. Сказать, Что при этой погоде Непогодь в сердце, Дождь. А ты говоришь: — Проводишь? К поезду ты придешь? — На улицах воздух мутный — Это идет весна. Ушла И с собой попутно Радость мою унесла.1938
Гуси летят
Гуси летят в закат Розовый, как крыло; В перистые облака Рвутся они напролом. Милая! Я к тебе… Милая! Посмотри — Гуси летят в Тибет, Стая, другая, три. Больше их, больше там, В воздухе голубом, Но я не хочу летать, Я не могу летать — Я хочу быть с тобой.Одно письмо
Вот я письмо читаю, а в глазах совсем не то, что в этих строках, нет. Над полем, Поля, полнится гроза, в саду срывает ветер яблонь цвет. Ты пишешь: «Милый, выйдешь — близок Дон, и рядом дом. Но нет тебя со мной. Возьмешь волну донскую на ладонь, но высушит ее полдневный зной». Так пишешь ты… В разбеге этих строк другое вижу я — шумят леса… К тебе я ласков, а к себе я строг. И грусти не хочу. Ты мне близка. Но как все это трудно описать, чтоб не обидеть… Знаешь, я б сказал — меж нами нет границ на много лет, Над полем, Поля, полнится гроза, в саду срывает ветер яблонь цвет. В душе — дороги жизни между гроз, а я иду, товарищи вокруг. Попробуй это все понять без слез и, если можешь, — жди, мой милый друг.Полине
Как замечательны, как говорливы дни, дни встреч с тобой и вишен созреванья. Мы в эти дни, наверно, не одни сердцами стали донельзя сродни, до самого почти непониманья. Бывало, птиц увижу на лету во всю их птичью крылью красоту, и ты мне птицей кажешься далекой. Бывало, только вишни зацветут, листки свои протянут в высоту, ты станешь вишней белой, невысокой. Такой храню тебя в полете дней. Такой тебя хотелось видеть мне, тебя в те дни большого обаянья. Но этого, пожалуй, больше нет, хотя в душе волнение сильней, хоть ближе до любимой расстоянье. Все отошло в начале расставанья.Осень (Отрывок)
Сентябрьский ветер стучит в окно, прозябшие сосны бросает в дрожь. Закат над полем погас давно. И вот наступает седая ночь. И я надеваю свой желтый плащ, центрального боя беру ружье. Я вышел. Над избами гуси вплавь спешат и горнистом трубят в рожок. Мне хочется выстрелить в них сплеча, в летящих косым косяком гусей, но пульс начинает в висках стучать. «Не трогай!» — мне слышится из ветвей. И я понимаю, что им далеко, гостям перелетным, лететь, лететь. Ты, осень, нарушила их покой, отняла болота, отбила степь, предвестница холода и дождей, мороза, — по лужам — стеклянный скрип. Тебя узнаю я, как новый день, как уток, на юг отлетающих, крик…Весна
Она начиналась у самого моря, у края соленой густой воды. Она заводила с деревьями споры, когда заходила в мои сады. И где проходила, журча и пенясь, — там травы тянулись на яркий свет. И лист, пробегающий по ступеням, напоминал о густой листве, о розовых днях и о первоцветах, о ласке любимой, о песне простой, про старость, глядящую косо на это и все-таки думающую о том. По-своему верующую глубоко в силу солнца и в силу людей. Ей помнится птиц пролетавших клекот и первый в их жизни весенний день. И вечер… Кочуют зеленые звезды!.. Мне надо всего лишь одну звезду, мне надо немного для легких воздуха, я снова на берег реки пойду (где снова — весна, что меня встречала, а я не могу ее не встречать), чтоб песня любимая зазвучала, чтоб встала любимая у плеча. И я подойду к ней, и я увижу в глазах любимой — ее, весну. Мне станет роднее, мне станет ближе все то, к чему я рукой прикоснусь. И к небу потянутся гибкие ветки, по облакам недоступным грустя, мы жажду весеннего роста заметим, то видеть нелюбящие не хотят. Но я пройти не посмею мимо, — как можно весне нам теперь изменять! Я рад, что дыханье моей любимой точно такое же, как у меня. Я рад мотыльку, что над нами кружится, движенью листа, что слегка дрожит… Нам кажется морем широкая лужица, нам кажется песней весеннею — жизнь. Пора! Мы уходим домой, качаясь, и нас не клонит ничто ко сну. И только сомненье берет вначале, кто полночью этой кого встречает: весна нас иль мы весну?!.1938
Мир
Он такой, Что не опишешь сразу, Потому что сразу не поймешь! Дождь идет… Мы говорим: ни разу Не был этим летом сильный дождь. Стоит только далям озариться — Вспоминаем Молодость свою. Утром Заиграют шумно птицы… Говорим: по-новому поют. Всё: Мои поля. Долины, чащи. Солнца небывалые лучи — Это мир, Зеленый и журчащий, Пахнущий цветами и речистый. Он живет В листве густых акаций, В птичьем свисте, В говоре ручья. Только нам Нельзя в нем забываться Так, Чтоб ничего не различать. …………… Стоит жить на славу И трудиться, Чтоб цвела земля во всей красе, Чтобы жизнь цвела, Гудела лавой, Старое сметая на пути. Ну а что касается до славы — Слава не замедлит к нам прийти.1939
Письмо Н. Отрады с фронта товарищам
Михаил Луконин Незабываемый друг
Есть у меня такие друзья, которые всегда и навсегда со мной: это друзья по оружию, по биографии, по надеждам. В литературу мы приходили поколением, опоздавшим к боям в Октябре. Мы жаждали боя за родину, и было предчувствие этого боя. За большую победу отдали жизни Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Коля Майоров — двадцатидвухлетние и красивые, талантливые, надежда поэзии.
Мы съехались со всех концов страны в Литературный институт имени Горького. Сергей Смирнов из Рыбинска, Яшин из Вологды, Кульчицкий из Харькова, Михаил Львов с Урала, Майоров из Иванова, Платон Воронько из Киева. Потом из другого института перешли Наровчатов, Слуцкий, Самойлов.
Осенью 1939 года я привез из Волгограда Николая Отраду. Ходил с нами добрый и большой Арон Копштейн. Коридоры гудели от стихов, стихи звучали в пригородных вагонах, когда мы возвращались в общежитие.
Мы бушевали на семинарах Луговского, Сельвинского, Асеева и Кирсанова, сами уже выступали на вечерах и уже затевали принципиальные битвы между собой. Это была пора опытов, исканий, мятущаяся пора нашего студенчества, пора неудержимого писания и любви.
* * *
Коля Отрада только-только начинал находить себя в поэзии, осталось очень немногое из его начинаний. На фронт мы ушли прямо из общежития, и те, кто вернулся, не нашли уже ничего из своих рукописей. Этой зимой я задумался над тем, что бы Коля Отрада написал сейчас, что бы он сейчас сказал людям?!
В стихотворении «Коле Отраде», написанном в 1940 году, у меня есть строки —
А если бы в марте тогда мы поменялись местами, Он сейчас обо мне написал бы вот это.Сейчас мне захотелось представить стихи Отрады о родине, о войне, стихи, обращенные к молодежи. Захотелось написать книгу «Стихи Николая Отрады».
Я вспоминаю его.
Зеленоватые зоркие глаза. Продолговатое лицо, крепкая шея, крупные руки — все в веснушках. И светло-рыжий чуб над высоким лбом. Прямые широкие плечи этого высокого подростка внушали доверие, обнадеживали товарищей. Сойдясь с ним в шестом классе, мы действительно никого не боялись в неуемной неразберихе враждующих мальчишеских улиц строящегося поселка Тракторного.
Мы, оба деревенские, заняли последнюю парту в новой школе. Спинами прижимались к горячей батарее, разувались и незаметно сушили дырявые башмаки и мокрые чулки. Дел хватало. К первому уроку мы приносили каждый свое новое стихотворение, обменивались и читали. Сблизило еще и то, что в его семье работал один отец, а их было пятеро, а у нас, четверых, работала одна мать. Завод, Волга, школа — вот наш мир. Мы, деревенские души, часто уходили за бугор реки Мечетки, читали Багрицкого, Корнилова, П. Васильева, Сельвинского, ахали над юным Смеляковым.
Из класса в класс, от лета к лету. Летом 1933 года, приехав с пионерлагерем в незнакомую донскую станицу, в тот же вечер залезли в сад, выходящий на площадь. Поймал нас старший вожатый; наутро мы понуро стояли на линейке и выслушивали приговор: отправить в город. С крыльца дома, к которому примыкал сад, сошел высокий старик в белой блузе, приставил ладонь к бровям и подошел к линейке. «Пионеры? Здравствуйте! Что делаете?» Вожатые подтянулись и почтительно приветствовали старика, начальник лагеря покраснел и растерянно доложил: «Вот они залезли к вам в сад. Отправляем в город…»
Старик засмеялся и махнул рукой. «Я сам их накажу. В город отправлять не надо. Идите за мной».
Линейка распалась. Мы идем и не чуем ног — впереди маячит высокая спина, время от времени старик поворачивает к нам свою орлиную голову и смеется. Потом мы пили чай, читали ему свои стихи и стали друзьями. Первый в жизни писатель — Александр Серафимович Серафимович!
Стихи и стихи, это было как состязание. Когда меня увлек футбол, Коля некоторое время сердился и смирился с этим только тогда, когда наша юношеская команда завоевала первенство города. Однажды он поехал со мной на игру в Камышин; мощные игроки сборной совхозов выбили у нас инсайда, запаса не было. Для счета мы поставили Колю, он часто попадал «вне игры», но неожиданно закатил мяч в ворота и стал героем поездки.
Помню, как переступили порог пионерской газеты, помню первые напечатанные стихи. Литературный кружок «СТЗ», учительский институт, потом недолгое расставание — осенью 1939 года я приехал в родной город за Колей, и мы снова вместе — студенты Литературного института имени Горького в Москве.
«Война!» — услышали мы, войдя в институт декабрьским утром 1939 года. Переглянулись, вышли и заторопились в военкомат. Дня через два пахнуло нестерпимым морозом, мы поставили на снег свои лыжи. Мы прощаемся — нас разбили по разным взводам 12-го лыжного батальона московских добровольцев. Сидим на валуне, шутим, достаем свои смертные медальоны, разглядываем их, передавая друг другу. Уже потом, в Москве, сдавая оружие, я раскрыл медальон и обнаружил, что тогда мы с Колей перепутали их.
Незадолго перед этим Коля очень поссорился с нашим товарищем, поэтом Ароном Копштейном. Вообще крупные разговоры были не редкостью в нашей принципиальной, задиристой юности.
Арон и Коля оказались в одном взводе.
Несколько раз мне доводилось встречать Арона. Он шел на лыжах тяжело. Останавливался, опирался на палки и начинал о стихах: «Что написал? Почитай». Сам читал. Рассказывал о своем взводе, я расспрашивал его об Отраде, передавал привет. Арон не скрывал, что их взаимоотношения так и не наладились. Чаще других бывал у нас комсорг батальона Платон Воронько: однажды, лежа под елью в секрете на передовой, я уловил скрип лыж и навел СВТ. «Стой!» — «Это ты? Здорово! Идем по делу», — ответил мне из темноты Платон, узнавший меня по голосу.
Но вот 4 марта 1940 года Платон прибежал к нашему блиндажу, сбросил лыжи и горько сказал: «Нету Отрады и Копштейна. Вчера на озере в бою белофинны окружили взвод и кричали: „Сдавайтесь!“ Коля крикнул: „Москвичи не сдаются!“ — и бросился на них, ведя огонь. Взвод прорвался, вдали черной точкой на снегу виднелось тело Отрады. Арон Копштейн посмотрел на всех своими добрыми глазами, сошел с лыж, взял ремень волокуши и пополз туда. Стреляли снайперы, Арон уже возвращался обратно, тащил Колю: пуля сначала обожгла его плечо, другая попала в голову…»
Прошло двадцать с лишним лет. Имени Коли Отрады долго не было на мемориальной доске в Доме литераторов, как не было там имен Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Коли Майорова и других молодых поэтов, не успевших вступить в Союз писателей. Сейчас эта несправедливость исправлена. Это настоящие поэты и настоящие люди — вечная гордость и вечная скорбь нашей литературы. Сама их жизнь — поэзия. Сама их смерть — служение родине. Нельзя нашей литературе забывать ни об их жизни, ни об их смерти.
Примечания
1
Откинувшись назад, назад, Он шел на марь, на мад, И вдруг запутался в домах, Как пономарь в «азах». А день побыл, и день иссяк Раскосый, как якут. Дожди над городом висят, А капли не текут. — прим. автора. (обратно)2
Немецкая оккупация Харькова. (Все примечания принадлежат автору. — Ред.)
(обратно)3
Шлемы покроя военного коммунизма — без наушников, острые.
(обратно)4
Нагрудные — почти боярские — полоски.
(обратно)5
Бумажные знаки 1924 г.
(обратно)6
«На белом коне под малиновый звон» — фраза Деникина.
(обратно)7
Медные монеты 1924 г.
(обратно)8
Тетрадь.
(обратно)9
Не понимаю.
(обратно)10
Шаг — денежная единица Центральной Рады, равна 1/2 коп.
(обратно)11
Желто-блакитный флаг украинских националистов от Скоропадского до Петлюры.
(обратно)12
Поэт-товарищ, убит на финском фронте. (Турочкин — настоящая фамилия Николая Отрады. — Ред.)
(обратно)13
Май.
(обратно)14
Июль.
(обратно)15
Голубые.
(обратно)16
Прошу.
(обратно)17
Люблю.
(обратно)18
Стихи Кульчицкого ошибочно были подписаны А. Кульчицкий. — прим. Г. Левина.
(обратно)
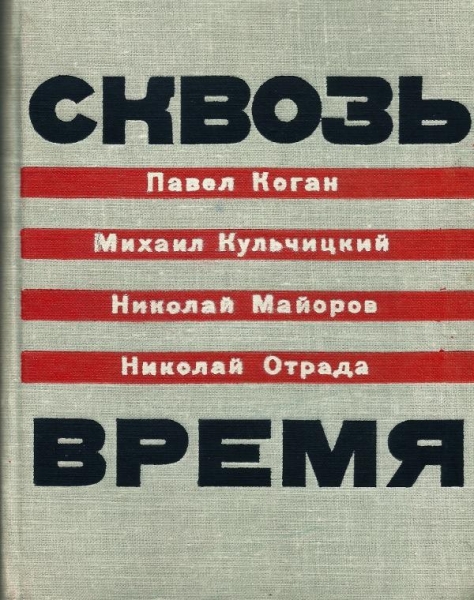



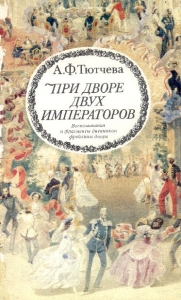

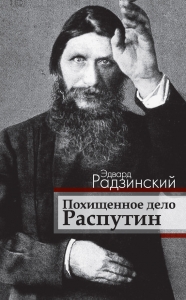
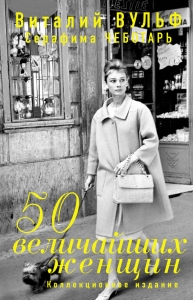
Комментарии к книге «Сквозь время», Михаил Валентинович Кульчицкий
Всего 0 комментариев