Валентина Чемберджи XX век Лины Прокофьевой
От автора
Может быть, более, чем обычно, эта книга обязана своим появлением доброй воле всех тех, кто своим участием дал автору возможность написать её.
Я с глубокой признательностью называю в первую очередь сына Сергея Сергеевича Прокофьева и Лины Ивановны Прокофьевой Святослава Сергеевича Прокофьева, горячо откликнувшегося на инициативу рассказать правду о судьбе матери, и оказавшему мне личную поддержку. Его подробное интервью составляет костяк книги, предоставленные им материалы – уникальны. Вместе с сыном Сергеем Святославовичем, также принимавшим деятельное участие в судьбе книги, он взял на себя труд по прочтению рукописи, послуживший на благо её тексту и выразившийся в бесценных для автора советах и замечаниях. Рукопись получила одобрение и была дополнена и Сергеем Олеговичем Прокофьевым. Читатель оценит его пространный и глубоко проникающий в сущность натуры Лины Прокофьевой рассказ.
Внуки Лины Ивановны Сергей Святославович и Сергей Олегович поделились фотоматериалами из семейных и личных архивов, – послужившими незаменимыми иллюстрациями к образу героини.
Сердечная благодарность Ноэль Манн, куратору Архива Прокофьева в Лондоне, открывшей путь к некоторым из его материалов.
Господину Андре Шмидту, за его эмоциональный и остроумный рассказ о Лине.
Дмитрию Николаевичу Чуковскому за моральную поддержку и веру в успех.
Софье Прокофьевой за её яркие рассказы о Лине Ивановне и Мире Александровне.
Особая благодарность Наталье Новосильцов, в разговоре с которой впервые вспыхнула идея написать книгу о Лине Прокофьевой. Два с половиной года, ушедшие на её написание, она принимала самое непосредственное участие в работе, вникая во все хитросплетения прошлого и настоящего.
Спасибо моим первым читателям, мужу, дочери и сыну, они всё время были со мной.
Путеводной звездой от начала и до конца служил автору «Дневник» Сергея Сергеевича Прокофьева.
Из истории написания
Почему здесь и сейчас? Где начало истории?
Оно скрывается в далёких временах, – автору надо заглянуть в первую половину прошлого века, точнее в сороковой, последний предвоенный год в Москве, когда впервые перед глазами в ту пору четырёхлетней девочки возникла героиня, как некое сказочно прекрасное существо женского пола, – притом цветное и пёстрое! (на фоне тусклых и унылых привычных одеяний окружающих). Пёстрое и сверкающее. Чем? Глазами? Блестящими чёрными волосами? Драгоценными камнями? Всем!
Такой она увидела тогда Лину Прокофьеву, жену Сергея Прокофьева.
Потом грянула война, эвакуация, и все разъехались кто куда.
В 1942 году, ещё в разгар войны, вернувшись с мамой из эвакуации в Москву, девочка пошла в школу, занималась своими делами, чуть что убегала во двор, где были сосредоточены её интересы, а родители – композиторы – продолжали дружить с Сергеем Прокофьевым, перед которым преклонялись как перед гением, спустившимся на землю из других миров, совершенно особенным человеком, свободным, независимым, одарённым во всём, с чем он соприкасался, великим композитором и пианистом, дирижёром, писателем, шахматистом, бриджистом, путешественником, любимым во всех испостасях. В доме постоянно звучала его музыка, а девочка ходила в Большой Театр на «Золушку» и «Ромео и Джульетту» десятки раз.
Родители встречались семьями, но место пёстрой красавицы рядом с Сергеем Сергеевичем заняла худенькая дама, обыкновенно в чёрном, ломкая тростинка, говорившая в нос, тихо и ласково. Мама называла её Мира. Дружили, общались, вместе веселились, каждая встреча с Прокофьевым была для родителей источником огромной радости, гордости и восхищения.
Невдомёк было девочке, что тоненькая, благожелательная женщина принесла драму в жизнь семьи Прокофьева.
Предвоенное видение куда-то исчезло.
А «Мира» приходила, приносила пирожные и письма от Прокофьва.
Прошло много лет, прежде чем Лина Ивановна Прокофьева снова переступила порог нашего дома. За 20 лет большие несчастья потрясли её семью. Муж оставил её и женился на Мире Мендельсон. Музыка его была осуждена как вражеская и вредная для народа и запрещена к исполнению. Сама Лина в 1948 году была арестована и оказалась сначала в тюрьме, а потом в сталинских лагерях Заполярья. Сыновья остались одни, жили под присмотром друзей. В 1953 году умер Сергей Прокофьев, в один день со Сталиным. Она вышла на свободу в 1956 году. Теперь она не была уже так молода и ослепительна. Но в выражении всё ещё прекрасного лица по-прежнему не было следов обыденщины, в Лине кипела жизнь, она шутила, смеялась, была по-прежнему «пёстрая» в своём безупречном туалете, она приносила в дом праздник.
С начала шестидесятых годов и до самого отъезда Лины Ивановны из СССР в 1974 году нас связывала тесная дружба, и я никогда не переставала восхищаться ею, уже зная в самых общих чертах перипетии её жизни. Однако мне ни разу не пришла в голову мысль, что надо описать эту одновременно прекрасную и трагическую жизнь.
Вмешалась судьба: Лина Ивановна воскресла передо мной на берегу Средиземного моря на четырнадцатом году моей жизни в Каталунии. Море всегда было страстью Лины Прокофьевой, у моря случился и первый разговор о ней с Натальей Новосильцов.
Наталья Новосильцов – профессор барселонского университета, знаток русского искусства начала века и автор книги о нём, представительница русского старинного рода, с давних пор живущая в Испании. По радио «Каталуния Музыка» (к слову, в первые годы моей жизни в Каталунии передачи этой радиостанции вызывали у меня такой восторг, что свой очерк о Каталунии, напечатанный в России, я назвала «Каталуния музыка») она услышала передачу, посвящённую Сергею Прокофьеву, из которой узнала о судьбе его первой жены – испанки, каталонки! Я рассказала Наталье Новосильцов о том, что дружила с Линой и с детства была знакома со всей семьёй композитора. В разговоре с ней вспыхнула мысль, что мне надо непременно написать об этой замечательной женщине, испытавшей на себе величие и бедствия двадцатого века, ровесницей которого была.
Я начала с того, что поехала к Святославу Прокофьеву, старшему сыну композитора, живущему с 1991 года в Париже. Младший сын, Олег Прокофьев, скончался в 1998 году в Англии.
С волнением я переступила порог парижской квартиры Святослава, где в окружении множества дисков, книг, записей, видеоплёнок, картин, альбомов, он как бы продолжал жить со своими родителями, окружённый их портретами кисти Наталии Гончаровой, Остроумовой-Лебедевой, Шухаева. Стены просторной гостиной украшали полотна Петрова-Водкина, Малявина, – я как бы вернулась в прошлое: ожил Сергей Сергеевич, молодой, блистательный, ожило и прекрасное видение детства. С портретов смотрело на меня лицо Лины Прокофьевой, много моложе, чем в сороковом году, когда я увидела её впервые.
Святослав Прокофьев в полной мере выполнил предназначение сына великого композитора: его долгий и кропотливый труд над рукописями отца увенчался появлением двух томов «Дневника» Прокофьева, уникального в литературном, музыкальном и историческом смысле произведения, положившего конец бесчисленным недобросовестным и далёким от истины спекуляциям по поводу жизни и творчества композитора.
Прокофьев был замечательным литератором и сам писал о себе: «Если бы я не был в композитором, я, вероятно, был бы писателем или поэтом».
В «Дневнике» Прокофьев открыто, точно и подробно, с отличным чувством юмора, изо дня в день писал обо всём, что происходило в его жизни, начиная с сентября 1907 года и кончая июнем 1933. Но было бы напрасным делом пытаться описать «Дневник». Он существует.
На страницах «Дневника» в 1919 году появляется и наша героиня, «Линетт», Лина, будущая жена композитора. В своей опере «Любовь к трём апельсинам» Прокофьев заменил имя Виолетты на Линетт, в честь своей будущей жены.
Святослав Прокофьев с большим энтузиазмом отнёсся к намерению написать, наконец, правду о матери, чей образ был искажен в советской печати, что доставляло большие страдания ее сыновьям. Она жила лишь в памяти знавших её людей, – советские современники предпочитали не упоминать о ней. Вторая жена ни слова не говорит даже об её аресте. В России не любят раскаиваться.
Святослав Прокофьев передал мне письма родителей, копии многих документов и дал не только своё благословение, но и многостраничное интервью о жизни матери. В новогоднем поздравлении с 2005 годом он пишет мне: «Вам особое пожелание в успешном создании уникальной книги о моей маме. Да восторжествует справедливость!»
В Париже я встретилась с внуком Лины, сыном Святослава, Сергеем, который ярко рассказал о своей бабушке.
Ещё одного внука Сергея Прокофьева – сына Олега Прокофьева – я знаю больше сорока лет. В Москве мы жили в одном доме. Видный антропософ, обосновавшийся теперь в Швейцарии, он был свидетелем жизни Лины Ивановны и в Москве, и на Западе. Его рассказ об «Авии» тоже помещён на этих страницах.
В Лондонском Архиве Прокофьева при фонде, основанном Линой Ивановной, Наталья Новосильцов получила копии её рассказов о годах, проведённых ею в СССР с Сергеем Прокофьевым и сталинских лагерях.
Моя жизнь сложилась так, что я хорошо знала не только Лину Ивановну, но и Миру Александровну. Годы высветили многое в облике и характере этих двух, таких разных женщин, противоположных по всему своему складу. В отличие от Лины Ивановны, талантливой рассказчицы и собеседницы, не любившей писать, Мира Александровна была привержена к описанию событий и своих впечатлений от них, но речь её была бедна. Её дневники теперь также опубликованы. Она стремилась подражать Прокофьеву и тоже тщательно записывала происходящее. Однако в силу недостатка литературного и художественного дарования оставила нам хоть и богатые важными событиями, но в то же время саморазоблачительные документы, с печатью к тому же советского мироощущения. Нельзя, однако, забывать о том, что она, минуя все законы, стала женой Сергея Сергеевича, которую он любил и которая тоже по-своему любила его. Жена Цезаря…
В 1936 году Прокофьев вместе с семьёй вернулся из Парижа на родину, которую покинул в 1918 году. В разгаре сталинского террора он сразу же попал в орбиту внимания НКВД. Удивительно, что ещё в 1925 году, когда советскому правительству, казалось бы, вовсе не было дела до музыкальных проблем, оно принимает решение: «разрешить С. С. Прокофьеву и И. Ф. Стравинскому приехать в СССР». Престиж!
Власти ставили целью вернуть и сохранить в СССР декоративную фигуру гения, но не его брак с совершенно им не нужной свободомыслящей иностранкой. Политика в отношении Лины не ограничилась только её арестом, – они пошли дальше: умело распуская среди интеллигенции разного рода слухи, полностью исказили её образ. Пока она царила среди друзей, музыкантов, артистов, писателей, она вызывала лишь восхищение. Но вот она арестована! Исчезла на долгие годы. Её нет. И тогда постепенно ее образ стал трансформироваться в не слишком отягощённую заботами о детях и муже экстравагантную любительницу рассеянного времяпрепровождения, к тому же ещё и иностранку! Она уже была арестована по обвинению в шпионаже, уже находилась в Лефортовской тюрьме, а кумушки всё судили да рядили о том, как она распоряжалась своими драгоценностями. Лишь несколько самых верных друзей знали и помнили правду, но тогда её нельзя было произносить вслух, а потом они умерли.
Фальсифицирован и её собственный рассказ о жизни, оборванный «почему-то» на довоенном периоде, в сборнике воспоминаний о Прокофьеве, выпущенном в начале шестидесятых годов. Скучная гладкопись напоминает только об одном жанре: передовой статье в газете «Правда». Советские штампы, клише в описании самых ярких событий парижского периода жизни так же далеки от реальной Лины, живой, брызжущей энергией, острой на язычок, как обвинение в шпионаже от истины. И бездна патриотизма.
Но что, может быть, особенно хорошо удалось нашей прославленной организации, так это как бы вовсе вычеркнуть из жизни Прокофьева его первую жену. Они прожили вместе двадцать очень счастливых лет, но с появлением Миры Менднльсон её безупречной анкетой, существование Лины начинает замалчиваться, и иностранные исследователи с удивлением замечают, что была у Прокофьева и первая жена, испанского происхождения, и он как будто бы был с ней вполне счастлив. Даже очень счастлив. Впрочем, есть и такие биографии, где нет ни слова о Мире, поскольку брак с ней не был законным.
Трагедия С. С. Прокофьева отчасти коренится в сущности его совершенно необычной личности. Гениальный композитор, умнейший и талантливейший человек, он остался доверчивым, цельным, не тронутым, скажем мягко, «особенностями» общества, в которое попал. Наивно верил в силу искусства, на которое никто не посмеет посягнуть. Он не задумывался о втором, третьем и тридать третьем плане поведения окружающих. Трагедия Лины была такого же происхождения: постигнувшая чутьём, но не способная осознать до конца советскую действительность – иностранка! – она стала её жертвой.
Лина Прокофьева сама редко касалась своих личных бед, она не любила рассказывать о лагерях, называя их «Севером», и если мы идём на то, чтобы рассказать о ней, то только с целью восстановить справедливость по отношению к первой жене композитора, пусть даже после ее смерти. Она была, она жила, они любили друг друга, у них было двое сыновей. Может быть, Прокофьев не судил бы нас слишком строго.
Горестные события отнюдь не составляют единственную суть жизни Лины Ивановны. Она была любимой и любящей женой, артисткой, певицей, она дружила с великими мира сего, она знала, что такое западная элита, Европа, она узнала и что такое Россия, которую готова была полюбить и принять. Обо всём этом мы и попытаемся рассказать, основываясь на личном знакомстве, семейных архивах, «Дневнике» Прокофьева, записках и письмах самой Лины Ивановны, беседах со Святославом Прокофьевым и двумя внуками Лины Ивановны, её друзьями, на документальных материалах, полученных в Лондонском Архиве при фонде, основанном Линой Прокофьевой, и многом другом.
И начнём с самого начала.
3 февраля 2005БарселонаГлава первая Принцесса Линетта
Летом я обещал Linette, что принцесса Виолетта, для которой я совершенно случайно придумал имя, будет переименована в принцессу Linette. Сегодня, когда мы дошли до Виолетты, я объявил о переименовке Смоленсу.
Это почему? – спросил он.
Я ответил: – Так у Гоцци.
30 октября 1921 года.Счастье улыбнулось мне, когда, соединив «Дневник» Сергея Сергеевича Прокофьева и архивные плёнки воспоминаний Лины Кодина, удалось выяснить дату того концерта Сергея Прокофьева в Нью-Йорке, на который впервые пришла слушательницей юная Лина. Ей был двадцать один год, ему – двадцать семь.
10 декабря 1918 года, Нью-Йорк. «Дневник» Прокофьева.
«Сегодня ещё две репетиции и вечером концерт в Карнеги. Зал полон, что необычайно для концертов Альтшулера. Первым номером – Симфония e-moll Рахманинова, которую я прослушал с большим наслаждением. После симфонии автора, хотя он и прятался за спину жены, нашли и сделали ему овацию, заставив его встать и раскланяться.
Затем следовал ряд мелких оркестровых вещей, среди них моё „Скерцо для четырёх фаготов“. Сыграно оно было весьма бойко и так скоро, как я не ожидал.
Альтшулер поставил его в программе впереди фортепианного концерта „для установления хороших отношений между публикой и мной“. Публика действительно осталась довольна и даже требовала повторения.
Концерт прошёл хорошо и я был вызван семь раз. ‹…›»
«Впервые я увидела Сергея Прокофьева, – рассказывает Лина, – когда он играл свой Первый Концерт для фортепиано с оркестром в Карнеги Холл. Оркестр состоял в основном из русских музыкантов и дирижировал Владимир Альтшулер. Я пошла на этот концерт благодаря маминой подруге – Вере Дончаковой, известному биологу и биохимику, а также большой любительнице музыки. Она работала в крупной американской фармацевтической фирме. Несколько раз летом я провела у них каникулы в „Вудс Хоул“ в Коннектикуте и была под сильным впечатлением боевого порядка поколений, выстроившегося за столом как в добрые старые времена.
Однажды Вера Дончакова позвонила маме и пригласила её на концерт некоего молодого русского композитора и пианиста Прокофьева. Как его тогда только ни называли: большевистским декадентом и ещё Бог знает как! Одни – футуристом, только что прибывшим из загадочной России; другие – интересным музыкантом; третьи – феноменальным виртуозом и так далее. Я выросла в музыкальной семье, училась пению, слушала много музыки, ходила на концерты и не могла пропустить такое событие. Впрочем, тогда это ещё не считалось событием. Я услышала конец разговора, спросила, что происходит, и сказала: „О, я тоже очень хотела бы пойти“.
Это было 10 декабря 1918 года, и я помню только Первый фортепианный концерт и молодого композитора, который играл его. Я была ошеломлена! В жизни не слышала ничего подобного, ни в смысле ритма, ни в смысле той лёгкости, с которой он справлялся с текстом. Мне было около двадцати лет и под огромным впечатлением я в конце хлопала как сумасшедшая. Две дамы встретили это исполнение вежливыми аплодисментами, а когда увидели мой энтузиазм, засмеялись и заметили: „Посмотрите-ка на неё! Должно быть, она влюбилась“. Само собой понятно, как молодые люди реагируют в подобных случаях. Я страшно возмутилась и сказала: „Вы что, не понимаете? Это потрясающе – какой ритм, какая красивая тема!“. Они в ответ только рассмеялись.
Прокофьев был высоким, очень худым и очень красивым. Он был коротко острижен, по тогдашней моде. И после того, как сыграл, поклонился странным образом – из положения стоя вдруг как будто сложился пополам, как складной ножик.
Когда мы вернулись домой, меня стали поддразнивать, и я ужасно рассердилась.
Несколько дней спустя позвонили наши друзья Стали: Вера Янакопулос и её муж Алексей Фёдорович Сталь, – до революции очень важная персона в России. Теперь они жили в Америке. Он не был красавцем, но отличался огромным обаянием.
Стали пригласили меня на сольный концерт Прокофьева в старом Эолиан-Холл, а не в Таун-Холл, как потом старались убедить меня многие люди.
Я ответила, что с удовольствием пойду, а они рассказали, что уже знают Прокофьева, что он интересный человек, и они хотят познакомить меня с ним. Я сказала, что мне очень нравится и его музыка и как он играет, я с радостью пойду слушать его, но вовсе не собираюсь знакомиться с ним. Почему же нет, – спросили они. И я ответила, что если я с ним познакомлюсь, то мама и все её друзья начнут говорить: „Смотрите-ка! И она ещё спорит, что влюбилась в него самого, а не только в его музыку и игру.“ Молодые люди очень чувствительны к подобным замечаниям старших.
Я всё же пошла на концерт, не сказав об этом маме, насколько я помню. После концерта Стали захотели пойти в артистическую. Я сказала: „Вы идите, а я подожду вас здесь“. Я была совершенно непреклонна. Потом ждала-ждала, они всё не шли, и я решила, что прозевала их и пошла на поиски. В это время дверь в артистическую отворилась, и кто-то вышел оттуда. Я заглянула внутрь. Сергей сделал несколько шагов вперёд, поднял глаза и улыбнулся мне. Я улыбнулась ему в ответ. Он сказал что-то приветливое вроде: „Вот она где“, и нас познакомили. Потом мы все много болтали, я всё-таки не была дикаркой. Тогда мы и заговорили с ним в первый раз. Это событие стало первым из невероятной череды последовавших – случилось! Разве можно было представить себе тогда, чем это кончится в будущем; предстоял длинный-длинный путь; но в случившемся было что-то правильное, может быть, потому что я была брюнеткой, а он – блондином…»
«Когда я пришёл в Эолин-Холл, то зал оказался полным. Это было приятно. Я сейчас же вышел играть, – пишет Прокофьев о концерте в Эолиан-Холле, – и был встречен овацией, но – проклятое тугое фортепиано!»
Справившись с тугим новым «Стейнвеем», Прокофьев, как обычно, подробно рассказывает об исполнении каждого произведения.
«Рахманинова я сыграл просто-напросто очень хорошо, а Скрябина менее честно с точки зрения точности, но очень эффектно 12-й Этюд. ‹…› Я был вызван десять раз во время перерывов и восемь раз в конце, в том числе три бис'а. Затем меня повели в артистическое фойе при зале, где набилась масса музыкального народа и где меня восторженно поздравляли. Отрывали руку человек пятьдесят. Успех превзошёл ожидания.»
Стали заметили, что знакомство прошло удачно и пригласили молодых людей провести с ними уик-энд в их доме на Стейтен Айленде. Лина не ответила ни да, ни нет. Они уточнили, что приглашают много гостей. Но даже при этом условии ее мама была недовольна такой идеей. Лина с трудом выпросила разрешение.
Так Сергей Прокофьев и Лина впервые встретились у общих друзей в домашней обстановке.
«Они снимали дом на Стейтен Айленд – рассказывает Лина. – Она была бразильской певицей по фамилии Янакопулос и пользовалась в это время очень большим успехом, а её муж – русским, очень известным в России человеком. Я по сей день отлично помню Сталя, эту лису, с его рыжей бородой и узкими, блестящими, озорными глазами, улыбающегося мне через стол. Подумать только, в России он был членом Думы. В тот раз у них собралось всего несколько человек».
«Вам нравится гулять?» – спросил меня Сергей. – «Конечно, мне нравится гулять», – ответила я. И мы отправились в лес. Мы гуляли очень долго, потерялись и не знали, как найти обратную дорогу. Я очень робела, но он недавно приехал из России, и меня страшно интересовало всё, что он мог рассказать о ней. Хотя мой русский в тот момент не был ещё беглым, но всё же мне удавалось поддерживать разговор.
Я вернулась домой страшно взволнованная после этого уик-энда на Стейтен Айленд, и мама сразу стала подробно меня расспрашивать. Я рассказала ей обо всех наших разговорах, как это было интересно, и она слушала меня с подозрительным видом.
Стали снова пригласили нас, и в этот второй приезд у них было несколько музыкантов.
Помню, что на Стейтен Айленде был то ли речной залив, то ли река. На реке стояли плоскодонки, и мы поехали на них кататься. Прокофьев, который ехал не в моей лодке, делал всё возможное, чтобы как следует врезаться в нашу и перевернуть её. «А вы что, не умеете плавать?» – спрашивал он в ответ на наши жалобы. «Я прекрасно умею плавать», – сказала я. «Что ж, посмотрим», – был ответ. На самом деле он, конечно, не хотел по-настоящему перевернуть нашу лодку. Ему всегда нравилось дразнить молоденьких девушек.
Через многие годы Лина Ивановна скажет: «Это был его обычный способ обращения с женщинами, если он хотел им понравиться. Он не умел обращаться с женщинами. Он никогда не флиртовал, у него не было ни времени, ни желания, он не хотел, чтобы его беспокоили. Очень странно, но это было именно так.»
Прокофьев любил ездить к Сталям, часто бывал у них и писал об этом в «Дневнике»: «После концерта Стали увезли меня на Staten Island, где они живут, где свежий воздух и красочная осень (хотя и не такая яркая, как под Петроградом)».
Лина полюбила Прокофьева сразу, и это было головокружительно сильное чувство, не оставившее её до самой смерти. Прокофьев же пока пожинал плоды своего успеха, окружённый сонмом поклонниц, и среди них – актриса Стелла Адлер. Собственные актёрские устремления (не осуществившиеся в связи с разными обстоятельствами и, может быть, недостаточным дарованием) были для неё важнее привязанности к Прокофьеву. Она была им увлечена, но легко оставляла его на сколь угодно долгое время, если предоставлялась возможность играть в спектакле, поступал ангажемент и т. д. Прокофьев слегка страдал, но не порывал с ней окончательно.
И вот, наконец, на страницах «Дневника» появляется Linette.
18 октября 1919 года.
«Большой компанией ездили к Сталям, где было солнечно и приятно. Я кокетничал с Linette, моей новой поклонницей, впрочем, сдержанной, несмотря на свои двадцать лет. Но Сталь утверждает, что это только снаружи, а на самом деле она даже петь решилась при всех, лишь бы это сделать под моим аккомпанементом.»
О «первом уроке по пению с Прокофьевым» на даче у друзей Лина вспоминает:
«Во время этого уик-энда кто-то спросил меня, что я проходила по пению на уроках с моей мамой, и я ответила, что мы работаем над романсом „Ночь“ Антона Рубинштейна – весьма драматическим сочинением. Я даже начала произносить текст и мычать себе под нос мелодию, когда Сергей немедленно остановил меня и авторитетно заявил: „Всё неправильно!“ Я стала спорить, что я именно так учила; но он настаивал на том, что я всё перевираю, и стихи, и музыку и стал петь своим „композиторским голосом“. Мы начали пререкаться. Я сказала ему, что не могу даже разобрать ноты, которые он поёт, да и слова неправильные.
В дальнейшем я обнаружила, что это сочинение существует в нескольких редакциях, отличающихся друг от друга. Во времена моей мамы романсы Рубинштейна были в большой моде, а теперь забыты».
С Рубинштейном Прокофьева связывали давние «отношения», начавшиеся в незапамятные времена. Мария Григорьевна – мать Сергея Сергеевича – рассказывала Лине, что ещё в детстве маленький Серёжа остановил её, когда она играла какие-то фортепианные пьесы Рубинштейна. «Играй другое» – сказал он. Мария Григорьевна очень много играла на фортепиано, когда ждала Серёжу и в самые ранние годы его жизни. Она не была виртуозной пианисткой, но, как и полагалось в те времена, играла достаточно хорошо. Серёжа очень любил её игру, не давал ей останавливаться, она даже порой засыпала за роялем. Так что ещё совсем малышом Прокофьев отказался слушать Рубинштейна и предпочёл ему Бетховена.
Линетт упоминается теперь в «Дневнике» всё чаще, так как молодые люди встречаются почти каждый день. В ноябре 1919 года именем Linette пестрят все записи.
Первая запись 2 ноября (у Сталей), а следующие почти каждый день.
«Солнечный и тёплый день. Приехали гости, приехала Linette, косили в саду траву и вообще было очень мило. Вечером я с Linette возвращаюсь домой вдвоём ‹…›»
«Утром хорошенько поиграл на рояле и затем с необычайным удовольствием поехал к Сталям в деревню. Я думал, что приедет Linette, но завтра Стали уезжают днём на концерт и гостей не будет».
«Прелестный осенний день, и я много гулял среди красивых осенних пейзажей. Linette сама догадалась позвонить, и, пока Сталь собирался объяснить ей, что днём они уезжают на концерт, я успел пригласить её к ним. Таким образом, мы провели в отсутствие хозяев несколько очень милых часов. Linette совсем в меня влюблена».
«Учил программу и читал Freud'a. Вечером был с Linette в cinema и отвёз её с поцелуями домой. Но прийти ко мне она почему-то отказалась».
«Утром с большим удовольствием отправился к Сталям на week-end. Право, дни, которые я провожу там – самые приятные. Туда же приехала Linette и другие гости. Miss Janacopulos спела в Кембридже с Бостонским оркестром, имела чрезвычайный успех, поэтому настроение в доме царствовало самое весёлое. Сталь расхваливал моё исполнение „Карнавала“ и особенно – русских вещей».
«Утром с остервенением гребли листья в саду и так проголодались, что еле дождались завтрака. Днём Сталь и Янакопулос уехали в Нью-Йорк на концерт и мы с Linette остались вдвоём. Это время не было потеряно. Затем вернулись хозяева и вечером обсуждали их будущую поездку в Бразилию. Вечером с Linette ходили смотреть на звёзды».
Вероятно, именно этот ноябрьский холодный день запечатлён на известном снимке: замерший сад, опавшие листья, над ними в клубах дыма парит, подняв к небесам вилы, худющий высоченный юноша Прокофьев, опираясь левой рукой на хорошенькую головку Лины, чьи ноги уже и не видны в тумане или в дыму. Лина тоже описывает этот ноябрьский день, как они жгли листья, смотрели на костёр, валил густой дым, он был как облако, и в этом облаке стоял он, «а я перед ним, и он был как рыцарь в „Валькирии“, который спас меня из погребального костра».
18 ноября.
«‹…› обедал с Linette и вечером опять был в кинематографе, ибо эта гадкая девчонка ни за что не хочет придти (прийти) ко мне. Сегодня я, впрочем, и не настаивал, так как у неё разболелась голова, и я рано отвёз её домой».
Через день:
«(…) опять звал её ко мне, ибо отправляться каждый раз в кинематограф скучно. Она сначала заколебалась, но потом сказала: „Нет, нет, не сегодня! Посадите меня в subway, и я поеду домой.“ Я рассердился и, посадив её в subway, простился. Через час она мне звонила, назвала букой и мир был заключён».
Поездки в подземке иной раз раздражали Лину. Она рассказывает, что однажды, выйдя из театра или кино, он повёл её в метро. «Куда вы меня ведёте?» – спросила я. – «Вы ведь поедете на метро, разве нет?» Тогда я сказала: «Да знаете ли вы, который час? Если бы моя мама знала, она бы с ума сошла. Кроме всего прочего вы вообще очень плохо воспитаны. Даже представить себе не могу, с какого рода женщинами вы имели дело». «ОК, пойду поищу такси.» Он пошёл за такси. Я уже спускалась вниз по ступенькам подземки, я была в ярости. Он подбежал, схватил меня в охапку, посадил в такси, обнял и сказал: «Да, я просто дурак!»
21 ноября.
«Пальцу лучше[1], и завтра смогу играть, хотя и хуже процентов на двадцать пять. С Linette говорили по телефону. Когда я спросил, проведёт ли она со мной вечер накануне концерта, она ответила, что сегодня занята. Я сказал: вероятно, есть кто-нибудь, кто больше вас захочет провести со мной этот вечер. Она ответила: „Vous etes mechant“»[2].
На другой день:
«Linette звонила и спрашивала, с кем я провёл вчерашний вечер. Я не сказал, с кем. Она вызвалась днём навестить меня, но потом позвонила, что идёт на фортепианный концерт Гофмана, а потом звонила опять и просила не сердиться. Я днём скучал и был нервным. Пальцу было лучше, но он всё же болел и я почти не упражнялся, чтобы его не разбередить. В половину девятого вечера концерт. Зал полон и встреча хорошая. (…)
Затем Сталь позвал меня к себе. (…)»
Назавтра:
«Сегодня, как и в другие воскресения, солнце и хорошая погода. Но наехала масса гостей и была толкотня, а на бедную Linette за моей спиной обрушилась целая атака – её почти до слёз дразнили мною досужие языки. (…)»
«(…) Вечером Linette таки приехала ко мне. Она, вероятно, первый раз в жизни на холостой квартире, дрожала и волновалась до такой степени, что я должен был её успокаивать (…)»
2 декабря.
«Вечером была Linette. Она хотя и в безумном страхе, что кто-нибудь увидит её, идущую ко мне, но теперь охотнее соглашается на посещение меня».
Мама волновалась, что дочь всё время где-то пропадает, боялась злых языков, нравы были строгими. Лина не хотела огорчать Ольгу Владиславовну, но удержаться от встреч не могла, и 9 декабря 1919 года Прокофьев записывает:
«Вечером была Linette. Кажется, давно меня никто так не любил, как эта милая девочка».
Постепенно Linette завоёвывает его сердце, становится близкой, нужной, незаменимой. Их счастливые дни протекают в романтических прогулках за городом, в гостях у друзей. Они встречаются на пристани, отправляются к Сталям, и хоть на дворе стоит декабрь, солнце то и дело проглядывает сквозь тучи, природа благоволит, окружающие преисполнены симпатией. Дни в деревне проходят тихо и мирно. Часто они проводят его вчетвером: Вера Янакопулос, Сталь, Сергей и Лина.
Между тем встреченная вначале с бешеным энтузиазмом опера «Любовь к трём апельсинам», вот-вот уже готовая к постановке, всё же откладывается, Прокофьев расстроен, и в его горестях поддержкой служит Linette, и это уже очень серьёзно. К этому времени относятся и энергичные старания Прокофьева выписать к себе оставшуюся в России мать Марию Григорьевну, он постоянно нервничает по этому поводу, поднимая на ноги всех, кто мог бы оказать ему поддержку. Linette принимает его хлопоты близко к сердцу.
16 декабря.
«Настроение среднее. Я не могу сказать, что я особенно убит отменой „Трёх апельсинов“, а между тем надо сознаться, что весь мой сезон рухнул и полетел к чёрту. Сейчас я как-то без руля и жду дальнейших переговоров с Чикаго (…)
Очень уравнивает моё состояние факт присутствия милой Linette.
Linette – то, что я давно искал и то, что мне не удавалось. И я стараюсь рассуждать так: нет оперы, но есть Linette – радуйся ей. А если будешь печалиться об опере, то опера от этого не приблизится, зато радость иметь Linette затуманится.
Сегодня Linette провела у меня два часа и была нежна».
Время от времени Прокофьев получает сведения о Стелле, они нерегулярны, Стелла живёт своей жизнью и по словам сестры «веселится как бабочка».
«Не лучше ли пристальней вглянуться в нежность Linette? И когда вечером Linette и я на пароходе поехали к Сталям встречать Сочельник и Рождество, моё сердце как-то нежнее лежало к Linette,‹…›»
Рождество праздновали у Сталей. Нарядная, в беличьей шубке Лина нравилась Прокофьеву необычайно.
25 декабря.
«Рождество. Но первые новости нехорошие: Деникин продолжает отступать перед большевиками. Доскочат ли деньги до мамы прежде, чем они придут в Россию? И успеет ли мама покинуть Россию? Считал по пальцам, и, по-моему, через две недели от сегодня деньги будут у неё. Тогда успеет, так как если большевики возьмут Ростов, то не раньше февраля. Успокоило несколько прогулок с Linette по острову по яркому солнцу и белому снегу, Стали нас выпроводили рано, так как им надо укладываться – едут в Бразилию. Затем с Linette влезли на Wolworth Building, было адски холодно, но оттуда красивый вид на весь Нью-Йорк, а потом Linette была у меня».
26 декабря.
«Утром собрал мои вещи и расстался с квартирой на 340W 57, держа путь в Чикаго. Завтракал в Pennsylvania Hotel с Linette, которая удрала по этому поводу со своей службы. В своей новой серой шубке она выглядит очень мило и так нежна, как никто. ‹…›
Настроение ничего, больше всего успокаивает существование Linette, больше всего огорчает – мама».
Наступал 1920 год.
Когда Лина вернулась домой после первого посещения Стейтен Айленда вместе с Прокофьевым, её мама (Мэмэ, как называли её впоследствии внуки и сам Прокофьев) сказала, что хотела бы познакомиться с Сергеем. Его пригласили на обед. У мамы было больше вопросов к Прокофьеву о России, чем у дочери. Лина побывала там с родителями еще крошкой, а Ольга Владиславовна сохранила о России чёткие и живые воспоминания.
Прокофьев очень понравился Ольге Владиславовне, да и он сам получил удовольствие от разговора с обаятельной женщиной с великолепными манерами. Он приходил несколько раз и однажды пригласил Лину на концерт Рахманинова. Рахманинова знали оба, хотя обстоятельства знакомства с ним, конечно, были различными. ‹…›
Лина с радостью согласилась, но мама нахмурилась. «Подумай-ка, – сказала она, – вы ещё даже не помолвлены, а ты уже хочешь идти с ним на концерт. Все увидят вас вместе, и твоя репутация рухнет».
О Сергее Прокофьеве уже действительно говорили в музыкальных кругах, и люди посматривали на молодую пару с интересом. После концерта они зашли в артистическую к Рахманинову, который встретил их приветливой улыбкой.
Ольга Владиславовна и Лина встречались с Рахманиновым в 1909–1910 году, он сказал тогда о Лине: «какая хорошо воспитанная девочка». Видимо, считал американских детей несколько развязными. По словам Лины первое турне не было слишком удачным, но сейчас, в 1918–1919 году его выступления проходили с триумфальным успехом.
«Ему было уже сорок пять, и он, конечно, обладал куда большей проницательностью, чем я. Потом подошла его младшая дочь, тогда ещё маленькая и спросила его громким шепотом, чтобы я услышала: „Они собираются пожениться?“ Я, конечно, не рассказала об этом маме, иначе она бы сказала: „Я же говорила тебе!“».
‹…›
18 января 1920 года С. Прокофьев записывал в своём «Дневнике»:
«Обедал у Linette, точнее – у её матери, ибо Linette хочет, чтобы я иногда у неё показывался. После этого увёз Linette в кинематограф – так было сказано матери – а на самом деле к себе. Linette была у меня очень нежна, но всё ещё очень недотрожиста».
Лина признавалась Ольге Владиславовне не во всех своих свиданиях с Сергеем. Рассказывать о каждом походе в кино или театр было невозможно. Мама относилась к увлечению Лины насторожённо, не особенно верила в серьёзность намерений музыкантов, которых, ей казалось, она хорошо знала. Отец, Хуан Кодина, повторял: «Он должен понять, что ты из хорошей семьи».
В другой раз Прокофьев пригласил её на обед, который давали в Богемском клубе, членом которого он состоял. На этот раз джентльменам предписывалось привести с собой даму.
Прокофьев предложил Linette оказать ему эту честь. Ольга Владиславовна пришла в ужас и немедленно придумала отговорку: у дочери не было подходящего платья. Лина, между тем, уже вообразила себя одетой в платье, которое сама сошьёт с помощью подруги. Когда Сергей ушёл, Лина объяснила это маме.
– Ты хочешь сказать, что в самом деле собираешься пойти с ним? – спросила мама.
– О, мама, – сказала ответила я, – во-первых, мне в любом случае нужно вечернее платье, а, кроме того, это ведь не будет встреча tete-a-tete, там будет много музыкантов.
– Да, но что скажут люди? Они решат, что ты его дама. И под каким предлогом? Ты ему не невеста, не жена – никто! Все подумают, что ты девушка лёгкого поведения.
Всё же Лине удалось получить согласие на этот выход. Когда Сергей пришёл за ней, мама строго-настрого наказала, чтобы он привёл дочь домой не позже одиннадцати или даже половины одиннадцатого. Он обещал и сдержал своё слово.
Лина слышала, как в тот вечер Артур Рубинштейн шепнул Прокофьеву по-русски: «Где вы нашли такую красотку?»
Она страшно покраснела и чуть не бросилась бежать. Через шестьдесят лет Рубинштейн напомнил ей об этом обеде.
В самом деле, фотографии и портреты, рассказы и воспоминания дают нам представление о необыкновенной привлекательности девушки. Брюнетка с густыми локонами, миниатюрная, стройная, как танагрская статуэтка, с безупречными и тонкими чертами несколько удлинённого лица, в которых играли и переливались испанско-каталонские, французские и польские загадки и мотивы, блестящие глаза, не утратившие этого знаменитого блеска до конца её жизни, и всё это, помноженное на живость и пылкость характера, врождённые манеры. Натура честная, прямая, наивная, послушная и строптивая, одарённая в музыке и языках, остроумная, робкая и искренняя, горячая, верная. Обожала и умела красиво одеваться и кружила всем головы.
«Обед у Bohemians в честь Бауэра в Билтморе очень парадный» – записывает Прокофьев в «Дневнике». – «Я и Linette, которую я пригласил в качестве моей дамы – за почётным столом, чем Linette в начале крайне смущалась…»
Так или иначе, лёд тронулся, и Linette появилась вместе с Прокофьевым в высших кругах общества. В свете она сразу стала пользоваться большим успехом. Прокофьев часто бывал в гостях у подруги дочери Годовского – Либман, где собирались знаменитые музыканты, играли в бридж. Linette заходила туда с Прокофьевым «и за нею, как он пишет, много ухаживали до Боданского и Гофмана включительно».
‹…›
1920 год в жизни Прокофьева чрезвычайно насыщен событиями, и в эти события вовлечена и Linette, ставшая его радостью и утешением.
Начало года застаёт его в Чикаго.
7 января 1920 года. Чикаго.
«Сегодня и завтра опять дни ожидательные, медлительные и спокойные, если бы не мысли о маме. От Linette наконец письмо, простое и мягкое. Мне бы очень хотелось её увидеть, но надо не торопясь закончить дело с Чикагской оперой: это исходный пункт для всего двадцатого года».
Запись от 13-го февраля 1920 года это трогательное свидетельство дружеских чувств Прокофьева к оставшимся в России друзьям, в этом случае Мясковскому:
«Сегодня с большим трудом отрыл у Ширмера 2-ю Сонату Мясковского, ту, которую я безуспешно добивался два года. Страшно был рад, будто встретил самого Мяскунчика. Я её непременно выучу и буду играть, здесь ли, в Лондоне.
Вернувшись домой, нашёл записку, что звонила Miss Adler. Стелла? Неужели вернулась? Стелла, молчавшая шесть месяцев, снова здесь и звонит мне. Впечатление было самое сложное. И мне было страшно, что она своим появлением разрушит мои столь милые отношения с Linette. Надо быть благоразумным, надо беречь Linette, а что такое Стелла и как она ко мне относится – всё же остаётся загадкой.»
Соната Мясковского оказалась чрезвычайно трудной, даже для Прокофьева. Он довольно мучительно учил её, она не запоминалась. Со Стеллой тоже не заладилось, хоть она и попросила Прокофьева заниматься с ней на фортепиано. Композитор попросил принести ему Баха и проводил Стеллу домой.
«Через час после этого я встретил Linette. Linette была так проста и влюблена, что вскоре тень Стеллы покинула нас, и вечер прошёл нежно и безмятежно.»
* * *
Между тем Европа манит Прокофьева всё сильнее. Рубинштейн рассказывает ему, что в Париже и Лондоне артистическая жизнь бьёт ключом, иные люди, иные взгляды.
Именно 1920 году будет суждено стать поворотным в принятии решения покинуть Америку и переехать во Францию.
Linette тоже собиралась ехать в Париж, чтобы продолжать учиться пению, но, может быть, ещё сильнее ей хотелось провести лето с Прокофьевым.
Появлялась и Стелла. Со стороны кажется (впрочем, кто знает…) что уроки по музыке у Прокофьева служили Стелле предлогом для того, чтобы не потерять его из виду. Он был достаточно наивен, чтобы полностью поверить, будто Стелла хочет срочно усовершенствовать свою фортепианную технику. На первом уроке, однако, обнаружилось, что задания она не приготовила, так как не купила ноты Баха. И даже такая небрежность нисколько не поколебала его доверия к чистоте намерений ученицы. Он нашёл, что её техника в беспорядочном состоянии, а потом читал ей первый акт «Огненного ангела», переводя его на английский. Прокофьев неуверенно пишет, что ей, кажется, понравилось либретто.
От этой встречи у него осталось неопределённое чувство.
Иногда, впрочем, кажется, что Прокофьев отлично понимает внутренние, пусть даже не осознанные импульсы Стеллы. 16 февраля он записывает в «Дневнике», что Стелла не сможет взять урок, она не приготовилась и уезжает на неделю с отцом играть в Филадельфии. Она опоздала на пять часов. «Рассмотрев мои рецензии, фотографии, оперы, распустила волосы и была очень мила. Я тоже мил, но сдержан».
Вскоре Стелла отказалась брать уроки, так как выяснилось, что дома у неё нет возможности заниматься.
Прокофьев честно и открыто описывает свои отношения со Стеллой, в то же время нисколько не забывая об искусстве: чувства чувствами, но он считает необходимым вникнуть в её театральные интересы. Талантлива ли она? Он встречается с сестрой Стеллы Бланш, которая всегда вызывала у него симпатию, и они вместе отправляются в набитый битком театр отца Стеллы – Адлера, пользовавшийся горячей любовью публики. Бланш была чрезвычайно внимательна к Прокофьеву и очень волновалась: какое впечатление произведёт на композитора спектакль и Стелла? Прокофьеву очень понравился отец, а «сама Стелла выглядит эффектно, но в своей игре она не всегда естественна». Бланш передала Прокофьеву приглашение пообедать после спектакля со всей семьёй, но он не мог даже пробыть на спектакле до конца: «в половине шестого было назначено свидание с Linette. Опять страшное перемещение из одного мира в совсем другой и опять Линетт, ласковая, робкая, а потом пламенная».
Стремясь загладить обиду, нанесённую своим уходом с конца спектакля и отказом принять приглашение на семейный ужин, Прокофьев отправился к Стелле. Но хотя вся семья отсутствовала и Стелла очень мило выглядела, мысли Прокофьева витали далеко, он «сделался сух и скучен. Стелла пыталась быть любезной, но скоро израсходовала свой запас. Пробыв у неё час, я стал прощаться. Стелла удивилась и кажется обиделась.
Вообще вечер вышел до крайности глупым, и наши отношения попали в какую-то идиотскую колею. Идя домой, я ломал себе голову и не мог понять ни самого себя, ни куда всё это идёт»…
Прокофьева по-настоящему волновали затруднения, связанные с приездом мамы. Хотя всё обещало хороший исход, но беспокойство за маму не оставляло Прокофьева.
В Нью-Йорке счастливые Прокофьев и Лина заводят дружеские связи, Лина покоряет высший свет. Прокофьев констатирует это не без удовольствия. Сообщает, например, что совершенно влюбился в Лину скульптор Дерюжинский, занятый в то время «головой» Прокофьева.
Глеб Владимирович Дерюжинский[3] был поглощён лепкой головы Прокофьева, в феврале – много упоминаний об этом: «Днём позировал Дерюжинскому, который лепит мою голову. Я удивился, как хорошо выходит» (23 февраля); «Позировал Дерюжинскому. Выходит превосходно и почти готово» (24 февраля); «Дерюжинский кончил мою голову и считает её самым своим удачным произведением за последнее время» (25 февраля).
Дерюжинский собрал гостей «на глиняную голову». Прокофьев отправляется к нему вместе с Linette, но прежде они с утра едут вместе на окраину Нью-Йорка, чтобы с оказией передать чек для мамы. Приходят обнадёживающие известия, мама уже в Константинополе. Огромная тяжесть сваливается с души.
Преданная Linette всегда рядом. Она разделяет все волнения Сергея, но в то же время она объята беспокойством: как поехать летом в Европу. Она боится трудностей, как она справится… 2-го марта Прокофьев приводит Линины слова: «Я не знаю, что я буду делать, если останусь здесь одна».
Но пока столько всего интересного! Большой костюмированный бал у Больма, одного из известных балетных артистов дягилевской труппы.[4].
Через несколько дней после костюмированного бала вместе пошли на выступление балетной труппы «Ballet Intime», организованной Больмом, в которой он был танцовщиком и балетмейстером. На другой день концерт, а после концерта в студии у Дерюжинского, «который был мил и ухаживал за Linette». Дерюжинский, Больм, Рерих – друзья, живущие на взлёте русского искусства начала века.
Сергей и Лина неразлучны. Даже во время грандиозного бриджа у Либман, длившегося чуть ли не восемь часов подряд, к обеду появляются Linette и Дерюжинский, которого Прокофьев ввёл в этот дом, Рахманинов и Гофман и ещё, как говорит Прокофьев «куча всякого народу». Linette блистает красотой, счастье любви придаёт ей уверенность, робость исчезает, она украшение общества великих людей, создающих вокруг себя не сравнимую ни с чем творческую атмосферу.
А в день весеннего равноденствия 21 марта Сергей и Linette удирают прочь от Нью-Йоркских бензиновых паров, за город, где солнце, тепло, весенние запахи. Linette полностью разделяет страсть Прокофьева к природе, к долгим прогулкам, будь то лес, поля или берег моря, – с любопытством они пускаются осваивать новые места, наблюдают, как постепенно зима уступает весне, снег тает, «но трава ещё не зеленеет», замечает дотошный ко всем проявлениям жизни в природе Прокофьев.
11 апреля 1920 года.
«Тёплый, весенний день и мы с Linette отправились гулять за Hudson в New Jersey, прогуляв там пять часов. Linette сказала: „Милый, нынче праздник твой“[5] – и подарила портсигар. Я ответил, что она украла из моей жизни тринадцать дней, так как я родился одиннадцатого апреля по старому стилю, и пока абсолютно не чувствую, что мне уже двадцать девять».
Через тринадать дней тема дня рождения была продолжена у Либман, во время обеда с Дерюжинским, Linette и хозяйкой дома. Прокофьев объявил, что накануне ему исполнилось двадцать девять лет. Хозяйка поцеловала его, заставила и Линетт сделать это, а Прокофьев пришёл в отчаяние: «Ужас: тридцатый год!»
18 апреля 1920 года.
«Днём с Linette были за городом, где много солнца и уже совсем зелено, но удивительно – совсем нет цветов. Мы гуляли много и очень хорошо».
25 апреля 1920 года.
«Пользуясь воскресеньем, солнцем и весной, отправились с Linette за город. Linette выбрала место, называемое Orange и состоящее из трёх частей – East, West и North Oranges, т. е. три апельсина. Место оказалось очень милым и прогулка вышла удачной. Но удивительно – совсем не видно цветов. Только изредка мелькали деревья, сплошь засыпанные белыми цветами, как в Гонолулу.»
В записи от 16 апреля 1920 года Прокофьев пишет: «Linette никак не может решить, поедет ли она в Европу, и, конечно, бедная девочка в своём решении путается между целой бездной „да“ и „но“. Сегодня во время завтрака случилась даже мелкая размолвка на эту тему» (…)
Но всё идёт своим чередом, приближается приезд мамы, Чикагская Опера находится в окончательной стадии постановки оперы «Любовь к трём апельсинам», Linette на пути к решению приехать в Европу. Предстоит ещё много событий, которыми переполнена жизнь Прокофьева, потому что каждый день его жизни – событие (слава «Дневнику»!), но корабль идёт в нужном направлении.
* * *
В конце апреля Либман заказала Прокофьеву билет на небольшой пароход, идущий в Англию через Францию, и началась предотъездная суета. Никогда не откладывавший дел в долгий ящик, он сейчас же помчался в контору и получил билет. В шесть часов вечера прибежала Linette, которая никак не ожидала, что отъезд произойдёт так скоро. Прокофьев звал её в Европу и даже выдал авансом некоторую сумму денег на перевод «Трёх апельсинов» на английский язык для постановки в Ковент Гарден.
На пристани сундук был сдан для доставки прямо в Париж, пароход опаздывал с отплытием, и Прокофьев сошёл на берег, чтобы снова позвонить Linette, ещё раз простился с ней, она просила, чтобы он ей писал, он, чтобы она приезжала.
На этот раз он приехал в Париж с непривычной стороны, завершив тем самым путешествие вокруг света – Санкт-Петербург – Япония – Америка и теперь Париж с запада.
Его ожидала бурная музыкальная жизнь, произошла радостная встреча с Дягилевым, который при виде его закричал Мясину: «Серёжа Прокофьев приехал!» Дягилев изъявил полную готовность ставить балет Прокофьева, сказал, что декорации (и очень удачные) – уже сделаны Ларионовым. В мае же Ларионов показывал композитору декорации для «Шута». Прокофьев пишет, что декорации блестящи, художник проявил массу фантазии и изобретательности, и хочется, чтобы поскорее поставили «Шута».
* * *
На первом спектакле Русского балета в ложе Дягилева Прокофьев встретился со Стравинским и Mme Edwards. Стравинский заботился о нём, помогал достать рояль, но, главное, обещал поговорить с мадам Эдвардс относительно мамы.
Мадам Эдвардс – Мисия Серт, урождённая Мисия Годебска, символ и вдохновительница знаменитого «Revue blanche», в котором сотрудничали Дебюсси, Аполлинер, Пруст, Толстой, Чехов, Горький, Бакунин, Ибсен, Стриндберг, Киплинг, Уайльд, Малларме, вовлечённая с поры своего первого замужества в круг гениальных деятелей литературы и искусства, пианистка, ученица Форе, страстная поклонница Дягилева, принимавшая в нём самое деятельное участие, друг Пикассо и Стравинского. Мадам Эдвардс во втором браке с мультимиллионером, длившемся недолго, встретила, наконец, испанского каталонского художника Хосе Марию Серта, в котором с первого мгновения угадала свою настоящую единственную любовь, воспылала к нему страстью, и, потом покинутая им, не перестала его любить. Её писал Тулуз Лотрек, она была подругой Коко Шанель. Её имя обладало волшебной силой и открывало все двери, рафинированная, экстравагантная, с поразительной интуицией в открытии и поддержке молодых талантов, всемогущая повелительница в мире искусства, Мисия Серт ввела Прокофьева в свой дом с парадного входа, представила его в высшему свету Парижа.
Весь этот период жизни во Франции захватывает: Прокофьев оказывается в эпицентре музыкальной жизни Парижа, становится планетой среди других, самостоятельно вращающихся планет, связанных и взаимным притяжением, и тяготением к другим небесным телам и отталкиванием от них. Прокофьев не забывает о Linette, думает, как будет хорошо, когда она приедет. В кругу Дягилева, Стравинского, Хейфеца, Ларионова и Гончаровой, засыпающих его множеством идей о постановках балетов, у Мисии он встречает Равеля, Пикассо. Хлопоты Мисии о визе для мамы приводят его к представителям русской знати, князю Львовскому, Вырубовой, он завтракает у princesse de Polignac, уже знавшей его музыку, горячей покровительницы современной музыки и молодых композиторов.
18 мая 1920 года.
«Был с визитом у Mme Edwards, которая подтвердила, что с удовольствием и быстро устроит маме визу (…) От Linette вчера второе письмо, одно нежнее другого, но ни слова о поездке в Европу. Я думаю, что пока она молчит, но недели через три-четыре соскучится и заговорит».
У Mme Edwards слово не расходилось с делом, и буквально на другой день виза для Марии Григорьевны уже отправилась в нужном направлении. Прокофьеву оставалось только поблагодарить её. После спектакля Стравинский повёз друга к принцессе Мюра, у которой был большой вечер в честь русского балета. У принцессы собрались Дягилев, Стравинский, Ларионов, великий князь Дмитрий Павлович, Пикассо, Кокто, много говорили, а потом, как шутит Прокофьев, «много шумели и прыгали».
Прокофьев ждёт Linette, и вот уже появляется надежда, что она скоро приедет! Перед тем как отправиться в Лондон, он получает от неё письма, в которых Linette пишет, что очень хочет ехать, но не может достать билетов, – до августа всё распродано. Прокофьев страшно рассердился и, по обыкновению тотчас вникнув в суть, уже вечером из Лондона послал Linette телеграмму с объяснениями и указаниями, как достать билеты. Вскоре приходит письмо от Linette, она получила место на 10 июля, но возникает новое осложнение: Ольга Владиславовна не совсем здорова и ждёт обследования. Если выяснится, что у неё что-то серьёзное, Linette не сможет ехать. Если же всё окажется благополучно, то Linette считает возможным оставить мать месяца на три. (Официальным предлогом поездки в Европу всегда была необходимость продолжить обучение вокальному искусству в Европе). «Ужасно мне хочется, чтобы она приехала», – пишет Прокофьев в июньском Лондоне.
Здесь он много работал с Дягилевым над постановкой «Шута», тщательным образом проясняя все детали постановки, композицию и музыкальный язык балета. Получив серьёзные предложения участия в симфонических концертах на будущий сезон, практически договорившись о постановке оперы «Любовь к трём апельсинам» в Ковент Гарден, Прокофьев уехал из Лондона, так как пришла телеграмма от мамы, что она выехала из Константинополя в Марсель.
С мыслями о предстоящей встрече Прокофьев сел на переполненный пароход и проснулся в Гавре. Из Гавра в Париж, из Парижа в Марсель. Прокофьев узнал, что «Souriah» из Константинополя ожидается в десять часов и провёл оставшиеся часы, гуляя по Марселю. «День был дивный, солнечный, южный, и настроение у меня отличное, хотя проскальзывала тревога: в каком виде будет мама.»
Когда корабль пришёл, Прокофьев полтора часа ходил возле него и так и не встретил Марию Григорьевну. Но дальше всё пошло как в сказке: он услышал, как кто-то говорит, что должен проститься с госпожой Прокофьевой, этот кто-то оказался Шлёцером, племянником Скрябина, они увидели Прокофьева, потащили его за собой, и Прокофьев, наконец, увидел Марию Григорьевну: она оказалась не в первом классе, как он ожидал, а в матросской каюте. «Когда я вошёл в каюту на восемнадцать человек, она смотрела в другую сторону и меня не видела, так что я не знал, совсем ли она слепа или видит ещё немного. Она загорела как пергамент, надела синие очки и очень похудела. Однако встреча была бодрая и почти деловая, очень радостная.(…) Под руку с мамой мы спустились с парохода и поехали в гостиницу». Мама привезла важнейшие для Прокофьева ноты, записи, куски дневника, партитуры, рассказы. Весь день до отъезда в Париж мать и сын провели в нескончаемых разговорах, они не виделись два года! На другой день вечером они приехали в Париж и остановились в Hotel Quai Voltaire, на берегу Сены.
А наутро Сергей узнал, что приехала Linette! Он побежал к ней в отель, который оказался совершенно рядом, – её не было дома. Она вернулась через два часа и тут же потащила Прокофьева в другой отель, тоже поблизости, куда она, как выяснилось, уже перебралась, однако подниматься к себе в номер с Прокофьевым не захотела, сказав, что это неудобно, и они отправились гулять по Парижу. Их отношения и история были настолько тесно связаны с Нью-Йорком, что в Париже всё им казалось странным. «Linette была немного нервная, но такая же очень милая, как всегда», – пишет Прокофьев в «Дневнике». Вечером отправились на прогулку в Булонский лес.
Так получилось, что за считанные дни приехала мама, приехала Линетт, договорились с Дягилевым.
Воодушевлённый этими счастливыми событиями, Прокофьев начал со свойственной ему энергией искать дачу, он писал письма, ездил по пригородам Парижа и в конце концов нашёл чудесный дом на берегу Сены, в часе езды от Парижа. Этим удачи не ограничились. После переезда на дачу в Мант через четыре дня, в начале июня 1920 года, Прокофьеву посчастливилось найти замечательную (недорогую! по сравнению с Америкой) кухарку, а также хорошего профессора по пению для Линетт, которая с увлечением приступила к урокам.
Маме он решил представить Linette как американку, будущего переводчика своей оперы для Ковент Гарден, и знакомство их прошло как нельзя лучше. Маме очень понравилась Linette, а кузина, заехавшая в гости в Мант, нашла её замечательно хорошенькой. Гончарова и Ларионов тоже сразу с ней подружились.
Рассматривая теперь старинные фотографии Лины Ивановны, оживляя их в воображении, сопоставяя с той, которую я знала в двух её обликах – довоенном и послелагерном, и третьем – мистика! – из моего недавнего сна (она приснилась мне в труакаре цвета бордо, весёлая и очень ласковая), я вдруг подумала, что она могла бы быть идеальным воплощением самой красивой актрисы немого кино. Ведь они всегда были или должны были быть безупречными красавицами (но чаще всего находилась в их облике какая-нибудь «подгулявшая» деталь) – в немыслимой шлемообразной шляпке, воздушном маленьком платье стиля ретро и на высоченных каблуках (это-то как в жизни!), оживлённая, пикантная, артистичная, иногда томная, – впрочем, и в испанском наряде она была неправдоподобно хороша.
Linette, однако, проявила благоразумие и отказалась сразу переезжать в Мант, чтобы не испугать маму. Она многое знала о ней от Сергея: ко всем перипетиям на пути к встрече Прокофьева с Марией Григорьевной Лина с самого начала проявляла живой интерес. В своих воспоминаниях Лина с сочувствием описывает все типичные для уезжавших русских злоключения Марии Григорьевны, её пребывание среди беженцев, состарившие её и изменившие моложавую наружность. Ей было уже шестьдесят. В молодости, – говорит она, – мама Сергея была вполне хороша собой, но выпавшие на её долю треволнения не могли не сказаться на её здоровье и облике. Её зрение находилось в самом плачевном состоянии. «К счастью, Сергею удалось привезти её в Париж, где я занималась пением», – заключает Лина.
Прокофьев очень сердился на Linette за то, что в первое время она приезжала только на субботу и воскресенье. В ожидании Линетт он работает, совершает ежедневные долгие прогулки, восхищаясь живописностью французского пейзажа, в который он влюбился в тот момент, когда впервые оказался во Франции. Он совершенствует свою игру на рояле и не скрывает, что делает это под впечатлением игры Рахманинова. В конце июня Прокофьев познакомился с русскими писателями, Алексеем Толстым, Куприным, Буниным. Он играл им свои сочинения, приводя всех в восторг.
Дом, снятый Прокофьевым, был трёхэтажным, на первом этаже – гостиная и столовая, на втором жила мама, а на третьем был огромный кабинет Прокофьева и маленькая комната для гостей, в которой поселилась Linette. Умная Мария Григорьевна, как пишет Прокофьев, «глазом не моргнула, очевидно, решив не вмешиваться в мои дела, – и нам с Linette очень хорошо наверху. Я жду с нетерпением, когда она, наконец, переедет в Mantes».
31 июля 1920 года.
(…) «Очень приятное событие – это Linette, которая сегодня в шесть часов водворяется на дачу. Я страшно доволен этим».
Отношения мамы с молодой женщиной налаживались самым лучшим образом, и Мария Григорьевна даже стала брать у неё уроки английского языка.
Август 1920 года.
«Август протёк в Манте хорошо и спокойно. Linette окончательно поселилась на даче, лишь три раза в неделю выезжает в Париж на уроки пения. Отношения наши самые нежные, и если иногда мы чуть-чуть вздорили, то мало, и сейчас же мирились. Иногда она как будто немного тосковала, но мало. Я работал над балетом, написав за этот месяц восемьдесят семь страниц, а также сочинив второй и третий антракты. Программа тоже – на два recital'я стояла на ногах. Роялем я занимался только вечером, час или два.»
По возвращении в Париж в октябре 1920 года Марии Григорьевне сделали операцию на глазах, чтобы предотвратить полную потерю зрения.
Прокофьев и Linette поселились в уже знакомом отеле на Набережной Вольтера, заняв там комнаты на разных этажах, – щепетильную особу едва удалось уговорить жить в одном отеле.
Начались уроки пения с Фелией Литвин, в своё время успешно занимавшейся с Ниной Кошиц. Литвин рахвалила голос Линетт, сказала, что сделает из него «petit bijou», и Линетт расцвела.
Сохранились короткие отрывки из письма Лины Прокофьеву об уроках пения у Фелии Васильевны Литвин от 14 декабря 1920 года:
«Уроки у Литвин – довольно много. Теперь две репетиции в день. Она советует беречь голос и петь только, когда у меня отдельные куплеты, а в хоре как можно больше молчать. В смысле сцены и игры находит, что вреда мне не принесёт, наоборот…»
Вскоре Прокофьев отправляется в Чикаго улаживать дела с постановкой оперы. Поездом в Гавр, потом пароходом в Нью-Йорк. На пароходе сразу украли один из двух его чемоданов, где помимо смокинга, костюма и прочей одежды находились рисунки Ларионова, несколько портретов Прокофьева, рисунок по поводу воображаемого исполнения «Шута»: Прокофьев, Дягилев, Стравинский, Гончарова, Мясин и Linette, а также карандашный набросок головы Прокофьева, сделанный Гончаровой. Мария Григорьевна была недовольна шаржевым характером рисунков. Попытки найти чемодан успехом не увенчались.
Глава вторая Воспоминания о детстве и юности Лины Кодина
Впервые встретившись с Линой Кодина на концерте Прокофьева в конце 1918 года в Карнеги-Холл, мы провели с ней два года и прежде чем перейти к дальнейшим событиям её жизни, заглянем в её начало.
Святослав Прокофьев записал сведения о родителях Лины Ивановны с её слов в 1988 году, за два месяца до смерти матери в Боннской больнице. Этот рассказ публиковался и был повторен с некоторыми подробностями в беседе со мной.
11 июня 2006 года в Париже Святослав Прокофьев рассказывал мне, что маму оскорбило то, что было напечатано и подано как её воспоминания. Она до конца жизни хотела написать впротивовес им новые, настоящие. Она даже начала работать над ними, завела картотеку, записывала, что вспомнится, мысли, события.
– Как они были составлены, – по темам?
– Да нет, в элементарном хронологическом порядке, но дальше она никак не могла работать: картотека есть, кассеты есть, а для того, чтобы из этого что-то сделать, настоящей трудоспособности уже не хватало. Ей очень хотелось, конечно, чтобы наконец-то стало известно, как всё было на самом деле. Она в России уже занялась этим, завела массу книжечек, тетрадочек, блокнотов.
Ею владела генеральная идея написать ответ на ерунду, которая была опубликована. Она была очень расстроена, ведь половину оттуда выкинули. Крупный партийный чиновник от музыки сказал, что это «как воспоминания светской дамы». Всё личное было убрано. Если бы не такая их жизнь, что одно только перечисление событий уже очень интересно, то вообще не нашли бы что печатать.
– Какая печаль, что Сергей Сергеевич перестал вести дневник, – я отвлекаюсь на минуту от темы разговора.
– Ну и правильно сделал. Он возвратился с настолько открытым сердцем, что трудно даже вообразить, каково ему пришлось, когда он увидел, что жизнь оказалась совершенно другой.
– Всё-таки, почему Лина Ивановна его поддержала?
– От чрезмерной любви. Она чувствовала, что ему очень хотелось в Россию, и пошла на это ради него.
Кроме последовательного рассказа Святослава Сергеевича, существуют расшифрованные и переведённые автором с английского языка плёнки бесед с Линой Ивановной, касающиеся ВСЕХ периодов её жизни, они отрывочны, это разговор, иногда прерываемый спорами, это фрагменты. Но все слова принадлежат ей, живой, с её характером, острословием, прямотой, даже раздражительностью. Они очень дороги нам. Потому пусть не удивится читатель некоторой разноголосице в изложении: это не было написано, это было сказано. Журналистам нелегко приходилось в работе с Линой Ивановной. Ей было уже много лет, порой изменяла память. Но я думаю, что трудности лежали не столько в её нелогичности или провалах в памяти, сколько в неумении выслушивать непредубеждённо, не перебивая, «не ведя за собой», не находясь во власти предвзятой идеи: вот женщина – кладезь высших культурных достижений двадцатого века. Надо было бы молча слушать и мотать на ус. Лина Ивановна говорит о том, что помнит, хочет, считает нужным, и хотя её воспоминания не обогатят нас хронологическими открытиями, но, как и всё, что делала Лина Ивановна, они наполнены жизнью.
Сергей Святославович Прокофьев передал из семейного архива документ, написанный на испанском языке Линой Прокофьевой:
Lina Prokofieff
Naci en Madrid el 21 de Octubre 1897, calle Dona Barbara Braganza numero cuatro.
El nacimiento fue regisytado el mismo dia por mi padre Don Juan Codina y Llubera natural de Barcelona, y tres testigos.
El numero de este documento es 630, 766, 439 46.
Mi padre Don Juan Codina y Llubera, como su madre Dona Isabela Llubera y Codina, los dos espanoles, nacidos en Barcelona.
El ultimo pasaporte espanol que yo tenia me dieron en Milano, Italia, el 18 de Marzo 1923. En esta ciudad yo estudiava el canto.
El 29 de Setiembre 1923, en Ettal, Alemania Federal, me case con el compositor ruso Sergei Prokofieff.
(…)
Лина Прокофьева
Я родилась в Мадриде 21 октября 1897 года, улица Дона Барбара Браганса, номер четыре.
Рождение было зарегистрировано в тот же день моим отцом Доном Хуаном Кодина и Любера родом из Барселоны, в присутствии трёх свидетелей. Номер документа 630 766 43946.
Мой отец Дон Хуан Кодина и Льюбера, как и его мать Дона Изабелла Любера и Кодина, оба испанцы, родились в Барселоне.
Последний испанский паспорт, который у меня был, мне выдали в Милане, в Италии, 18 марта 1923 года. В этом городе я изучала пение.
29 сентября 1923 я вышла замуж за русского композитора Сергея Прокофьева, в Эттале, в Германии…[6].
По рассказу Святослава Сергеевича отец Лины Ивановны Прокофьевой – Хуан Кодина, чистокровный испанец (каталонец), родился в Барселоне 8 октября 1866 года. Сын был наречён Хуаном в честь своего отца. Как артистический псевдоним Лина Кодина взяла девичью фамилию бабушки Любера.
Отец Лины Ивановны учился пению в Италии, в Милане, где познакомился со своей будущей женой Ольгой Владиславовной Немысской, приехавшей из России и тоже учившейся пению. Их встреча произошла в школе при оперном театре Ла Скала.
Лина рассказывает:
«Мой отец был испанцем, а точнее сказать, каталонцем. Когда я была в Барселоне, родители бесконечно пререкались по этому поводу. Папа родился в Барселоне, поэтому можно сказать, что он был испанец – каталонец, и ещё какой каталонец! В большинстве случаев он говорил со мной по-каталонски, и это злило мою маму. „Почему ты не говоришь с ней по-испански? Ей никогда не понадобится твой диалект“ – говорила мама, – что в свою очередь вызывало ярость отца: „Каталонский язык – не диалект, это язык. У нас есть своя литература, и раньше мы были огромной империей“. И исторически так оно и было, это ведь всем известно? Каталуния включала большую порцию Испании, Лангдок и часть Прованса – это было мощное королевство.
В папином роду было множество разных моряков, от матросов до капитанов, они все были связаны с морем. Именно в этом корни отцовской семьи.
Это было огромное семейство, а в те времена процветать в таком количестве было трудно, – или на краю нищеты, или если вам принадлежит собственный замок. Я ещё не родилась тогда и никогда не видела семью моего отца, так что это только отрывочные сведения со слов моей мамы. Она говорила так: „О, я их видела однажды, и так как я не была католичкой, они стали называть меня ‘еретичкой’, и поэтому я больше к ним не вернулась, я их никогда с тех пор не видела“.
В семье было шестеро сыновей, но родители мечтали о девочке, и их мечта сбылась, – родилась моя тётя Изабелла. Наверное, она видела меня, когда я родилась в Испании, но мы уехали оттуда, и я побывала там снова совсем недавно. Я не знаю точно, в какие страны отправились родители, оставив Испанию. У мамы были друзья в России, в Санкт-Петербурге и в Москве. Они навещали их. Я была тогда крошкой.
В Испании я бывала очень редко. Каждый раз, когда я собирадась ехать туда с Сергеем, что-то мешало мне. В последний раз я ждала второго сына.
Может быть, мой отец был единственным человеком во всей семье с артистической профессией.
Папа стал музыкантом, хотя начинал как бизнесмен. Но он не смог стать бизнесменом, потому что для этого был чересчур артистом. Я знала его как артиста.
Он не только пел, но и сочинял лирические песни с национальным колоритом. В детстве у него был исключительный голос, высокое сопрано. В Барселонском Соборе он солировал в церковном хоре, и люди приезжали издалека, чтобы послушать его соло. Он также умел играть, как это обычно бывает у музыкантов, но пианистом не стал.
В ранней юности папа отправился в Италию учиться пению, потому что в те времена Италия была единственным местом для этого. Именно там он и встретил маму.
По происхождению мама была наполовину француженкой (со стороны матери), наполовину полькой. Мамина мама, урождённая Верле, происходит из Дубс (Doubs), в Эльзасе, и поэтому, не знаю точно откуда, но во мне есть капля немецкой крови. Мой дедушка был поляк знатного старинного рода, исторически известного. Мама родилась в России. В свою очередь, решительно воспротивившись воле дедушки она тоже поехала учиться в Италию, потому что обладала исключительно красивым голосом. Мама училась в Италии у знаменитого Ронкони».
По рассказу Святослава родители Лины несколько раз побывали в России, так как в России жили родители Ольги Владиславовны Немысской – Лининой мамы, в дальнейшем ставшей членом семьи Прокофьевых, любящей бабушкой «Мэмэ». В первый приезд Лине был один год.
Отец Лины, Хуан Кодина, пользовался в России успехом и выступал в концертах. Газетные рецензенты даже называли его «выдающимся испанским тенором». Лина рассказывала, что у него был не такой уж сильный голос, но красивого тембра. Выходам на сцену мешал страх перед публикой, который каждый раз приходилось преодолевать.
Сохранилась старая пластинка с записью двух испанских народных песен, которые он пел, аккомпанируя себе на гитаре.
Я была взволнована, когда Святослав Сергеевич дал мне плёнку с записями Хуана Кодины. Я думала о том, насколько изменились времена, – теперь такое пение можно услышать только на пластинках начала двадцатого века, – «старинное», характерное именно для очень популярного в ту пору понятия «тенор», музыкальное, очень «вокальное». Время на секунду остановилось для меня. Было удивительно, что этот тенор был отцом Лины Прокофьевой.
Хуан Кодина носил пышные чёрные усы, и в России его ласково называли Иваном Ивановичем. На первых порах отец Ольги Владиславовны не очень хорошо принял зятя и даже сказал, что лучше выйти замуж за швейцара, чем за певца.
Отец Ольги Владиславовны – Владислав Адальбертович Немысский – польско-литовского происхождения, родился в Вильно, получил юридическое образование, имел чин статского советника и служил в железнодорожном управлении – в конце XIX века в Воронеже, а в начале XX века в Одессе, где он умер в 1905 году вскоре после смерти своей жены, скончавшейся в возрасте 47 лет от рака. Лина Ивановна помнит пространные некрологи с перечислением заслуг В. А. Немысского, опубликованные в одесских газетах, а также торжественные похороны.
О дедушке Лина рассказывает:
«Они вели своё происхождение от польских королей, а те – от литовской Королевы. В сундуке, который я видела в Кракове, лежат документы моего дедушки, удостоверяющие, что это именно так. Поэтому я так боролась за эти сундуки. В Краковской библиотеке я выяснила, что семья принадлежала к знатному старинному роду, но в ней постоянно шли распри, потому что один из дедушек отличался большим свободомыслием, он дал вольную своим крепостным. Остальные члены семьи не могли этого перенести, они поссорились и разделились.
Когда мой дедушка поступил в Санкт-Петербургский университет – в то время Польша уже была частью России – он всегда принимал участие в вольнолюбивых дебатах.
В университете он изучал право, стал судьёй и дослужился до действительного статского советника, кажется, это так называется. Уйдя в отставку, он поселился в Одессе, потому что там был хороший климат. Когда он умер, один из его учеников написал замечательный некролог.
Дедушка был известен своей справедливостью и пользовался всеобщим уважением именно за полную беспристрастность. Он отличался к тому же большой строгостью, но меня обожал, и я могла делать всё, что мне заблагорассудится. Все говорили тогда, что я была очень одарённой и грациозной и должна стать балериной, но, конечно, в те времена в хорошей семье и помышлять нельзя было о том, чтобы отдать девочку в балетную школу.
Моя бабушка была блестящим филологом, литературоведом, она прекрасно писала. Как-то она поехала с друзьями в Россию. Там она встретилась с дедушкой, и вспыхнула любовь с первого взгляда. Мой дедушка был очень красивым, высоким, какие-то его черты сохранились в моём младшем сыне».
* * *
Из рассказа Святослава:
«После смерти Владислава Немысского молодые Кодина решили уехать в Америку, где в Нью-Йоркском университете преподавал французский и английский языки брат бабушки Лины Ивановны Каролины Немысской. Он именовался по-американски Charles Wherley (искажённое Verle). Помимо основной работы он много времени уделял развитию „международного языка будущего“ – эсперанто, одним из видных приверженцев которого считался. Несмотря на обещания, дядя мало помог, и средством существования родителей Лины Ивановны стала концертная деятельность, гастроли по Америке, Кубе.
Кажется, с того времени, когда родилась мама, дедушка Хуан пел один. Семья осела в Америке на какое-то время после смерти Немысского в 1905 году, а во Францию они попали позже, в двадцатые годы. Видимо, они переехали туда потому, что мои родители с осени 1923 года стали жить в Париже. Во всяком случае, с самых ранних лет я помню бабушку и дедушку жившими во Франции.
Когда родители отправлялись а гастроли, они отдавали нас с братом на лето бабушке, – папа и мы называли её Мэмэ – которая жила на юге, в маленькой деревушке, Le Cannet.
Дедушка умер, наверное, в 1934–1935 году, бабушка после его смерти переехала в Париж. Жила она более чем скромно. Особенно после переезда нашей семьи в СССР в 1936 году. Кто-то из маминых знакомых посетил её после войны и прислал нам фотографию, которая позволяла судить о том, как ей, вероятно, было трудно».
Лина вспоминает:
«Я очень мало что помню о том времени, когда бывала в России ребёнком. Один раз, когда мне было пять лет, а другой – семь. Меня взяли в магазин покупать пальто. Это было на третьем этаже московского магазина, с которым я снова познакомилась десятилетиями спустя. Мне выбрали пальтишко с пуговицами, на которых были изображены листья и сказали: „Мы получили его из Парижа“. Одну из этих пуговиц я хранила чуть ли не всю жизнь. К пальтишку купили бархатный берет, который очень мне шёл.
Летом дедушка и бабушка жили в суровых горах Кавказа. Дома были примитивного строения и располагались вблизи горных потоков, так как искусственного водоснабжения не было. Ночью я страшно испугалась, услышав вой шакалов, которых отгоняли лаем волкодавы, сторожившие наш дом. Это были свирепые собаки, и в дальнейшем я навидалась их в лагерях.
Там жил пчеловод, и его пчёлы производили самый потрясающий мёд который я пробовала в жизни (обожаю мёд и по сей день). Этот пчеловод учил меня надевать защитную маску, посвятил меня во все особенности жизни пчёл, и я до сих пор помню его рассказы, хотя в ту пору мне было шесть или семь лет. Ещё там жили гуси, много гусей, я трясла перед ними свою игрушечную лопатку и с удовольствием их дразнила. Я передразнивала и их гоготанье. Однажды кто-то закричал, чтобы я поскорее убиралась подобру-поздорову, потому что гуси разозлились и собирались напасть на меня. Я побежала к калитке, и кто-то вовремя подхватил меня и оттащил вглубь двора.
Остальную часть года бабушка и дедушка жили в Одессе. Однажды я разбила яйцо и никак не могла понять, почему этот проступок вызвал столь суровый гнев. „Ты думаешь, что можешь возместить его?“ – спросил дедушка. „Конечно, – ответила я, – завтра пойду на базар с Матрёной, и татары дадут мне яйцо“. На следующий день я отправилась на рынок и отважно попросила продавца дать мне одно яйцо. Он протянул мне его и попросил одну или две копейки. У меня не было денег. „Барышня, – сказал продавец, как же я могу дать вам яйцо, если у вас нет денег? Пожалуйста, верните мне яйцо обратно“. Вернувшись домой, я чувствовала себя совершенно уничтоженной.
– Где яйцо? – спросил дедушка.
– Но я ведь не знала, что мне нужны копейки, – ответила я.
Так я получила небольшой урок. Дедушка обожал одновременно поддразнивать и учить меня уму-разуму. Я была у него единственной и горячо любимой внучкой.
У него была длинная седая борода (он был старомоден) а ля Римский-Корсаков, и я часто сидела у него на коленях и вплетала в неё ленточку. Мама приходила в ужас, но он разрешал мне делать всё на свете. „Дедушка, что мне станцевать для тебя, маленький танец или большой танец?“ „О пожалуйста, маленький танец, потому что и он никогда не кончается. А уж большой вообще неизвестно когда кончится“. Я пела, танцевала, декламировала и показывала всё, что приходило мне в голову – всегда устраивала театр, постоянно играла в театр.
Бабушка тоже сажала меня на колени и учила декламировать „Басни“ Лафонтена. Обычно мы начинали в сумерках, потом темнело, и я чувствовала себя весьма неуютно. Бабушка научила меня не бояться темноты, показывая, как хороши деревья в сумерках. Она прочитала мне также старую сказку о детях, охотившихся за прекрасной бабочкой и поймавших её. Мораль, заключающуюся в этой сказке, я много раз припоминала потом: „Pour vivre heureux, vivons cache's“[7].
Моя тётя, мамина сестра, – полная мамина противоположность: мама – голубоглазая блондинка, а тётя – темноглазая брюнетка. Обе среднего роста. У мамы была красивая фигура, а тётя, личность с сильным характером, была довольно пухленькой и не столько красивой, сколько пикантной».
* * *
Папа и мама Лины побывали с гастролями на Кубе, где пробыли недолго, две или три недели. Они испытывали материальные трудности, но никогда не говорили об этом в присутствии дочери. Иногда прибегали даже к тому, чтобы общаться друг с другом с помощью записок. Лина сердилась: «Перестаньте писать, я не слушаю, о чём вы говорите».
Они ездили также и в Европейские страны, но нигде не могли останавливаться надолго, так как Лина была ещё маленькой и считалась избалованной. На время гастролей родители оставляли её иногда в пансионате в Монтрё (во французской Швейцарии).
«В дальнейшем становится трудно жить, если вы избалованы. В России говорили, что я страшно избалована. С другой стороны, когда я оказалась в лагере… нет, я думаю, что я всегда умела приспосабливаться… Я оказалась в лагере сразу после разрыва с мужем и была настолько переполнена своим личным горем, что оно заглушало во мне даже самые тяжёлые лагерные переживания».
«Я не погружалась в страдания. Теперь я гораздо больше страдаю, когда читаю эти ужасные глупые статьи, которые пишут. Если бы я только имела доступ к документальному материалу, который находится теперь в России! Теперь я – единственный человек, который может расшифровать уменьшительные имена в письмах и определить, кого Прокофьев имел в виду, не называя по имени, в описываемых событиях.
Совершенно непростительно, что они не интересовались в России моими знаниями о его жизни».
«Я хорошо училась и приносила хорошие оценки. Когда я закончила школу, у нас в аттестате на первом месте значилось шитьё, мы должны были научиться сшить себе платье, наше выпускное платье, и я оказалась одной из немногих, кто сделал это хорошо, по очень простой выкройке. Мама ничего в шитье не смыслила и не могла мне помочь ни в чём. Платье было с облегающим верхом и такой же юбкой, а блузка – с пышными рукавами, так что это в самом деле было просто. Но для меня это было событие, и я надела платье на выпускной бал. Мы очень хорошо танцевали Менуэт Моцарта, в двух парах, под аккомпанемент маленького школьного оркестра. Я помню двух партнёров, один – Уильям Толли, а другой – Ховард Джонс. Толли был настоящим англичанином, а Ховард Джонс очень улыбчивым юношей, которому я, по-моему, нравилась, хоть он этого никак не проявлял, но я чувствовала.
Всё это происходило в Нью-Джерси. Я заканчивала Хай Скул и должна была решить, что я предпочитаю: продолжать учёбу и готовиться к поступлению в университет или начать понемногу работать, может быть, секретаршей у какой-нибудь леди или взять группу детей и учить их французскому языку. Потому что у меня всегда было очень хорошее произношение. Но ничего из этого не осуществилось.
Потом, однако, я нашла некое занятие, наши друзья, близкие с Рахманиновым, предложили мне секретарскую работу. Через Рахманинова мы подружились с его секретарём, который на самом деле был директором какой-то русской организации – не советской, а дореволюционной. Кажется, назывался Центросоюз, нечто вроде кооперации, а я говорила на обоих языках и могла оказаться им полезной. Но кончилось всё тем, что мама сказала мне: „Ты должна быть лучше подготовлена к жизни. Надо не только поступить в вечернюю школу (что я и сделала), и продолжить обучение, но и освоить какое-нибудь ремесло, профессию“.
Нам становилось труднее жить, росла неуверенность в завтрашнем дне, люди вокруг боялись, что не смогут заработать себе на пропитание. Нужно было иметь в руках специальность, независимо от того, выйдете вы замуж или нет, в любом случае надо всегда иметь возможность сохранять независимость.
Я поступила в школу бизнеса; именно там я научилась стенографировать и печатать на машинке. Стенографию я забыла, пользуюсь ею только иногда в своих записях.
Я, конечно же, училась петь и, само собой разумеется, давала уроки пения сама».
«Всё это происходило незадолго до моего замужества. Может показаться странным, но через долгие десятилетия даже в лагерях я давала уроки пения девушкам, у которых был хороший голос. Когда речь заходит о развлечении, возникают огромные возможности для некоторой независимости даже в этих лагерях».
«В то время существовали особые тенденции в мышлении, произошёл подъём в феминистском движении, шла борьба за независимость женщин, конечно, не до такой степени, как это происходит сейчас, но всё же в известной мере. Моя мама была увлечена феминистским движением. В то же самое время она считала, что женщина должна ухаживать за мужчиной, равно как и принести ему в дар свою девственность».
«Я никогда не работала. Я хотела работать, но без строгого расписания по часам, не механически.
И благодаря нашим друзьям я получила такую работу. Я должна была находиться несколько часов со старой леди, которая приехала из России – революционеркой, но, конечно, не из большевиков. Это была женщина из знатного и богатого рода, принадлежала к землевладельческой аристократии, к одному из двадцати процветающих семейств старой России, пожертвовавших деньги для первой русской революции. Они помогали, но не так-то легко снабдить людей деньгами и продовольствием, потому что чем больше люди получают, тем больше они хотят. Вроде профсоюзов, они всё заграбастали в свои руки, так что капиталисты ничего не могут с ними сделать, они бессильны. Это у меня сложилось такое впечатление, но я не так уж хорошо в этом разбираюсь. В Америке очень трудно решить, к какой партии принадлежать. Русские поняли это, и поэтому у них существует только одна партия, потому что в этом случае вы должны придерживаться одной линии принципов и не можете выбирать, – не из чего.
Я работала с ней отчасти переводчицей, отчасти секретаршей. Это была Брешко-Брешковская[8], польского происхождения, с политической кличкой „Бабушка русской революции“. Одна из основательниц революционного движения. Я видела многих из этих людей, хотя они не проявляли ко мне особого интереса, потому что меня совершенно не интересовала политика. Она скоро уехала. Думаю, она пробыла не больше месяца, но произвела на меня огромное впечатление, потому что была совершенно выдающейся личностью. Она никогда не навязывала мне своих взглядов, но у неё были основательные, прекрасные жизненные принципы. Этими принципами люди должны были бы руководствоваться, это гуманистические основы. Её личность наложила свой отпечаток на меня. Она была первым из моих идеалов. Её семья лишила Брешковскую наследства, которое было огромным. Она принесла свою жизнь в жертву, отказавшись от всего, по праву ей принадлежавшего».
«Наверное, это происходило перед Первой Мировой войной, не позже, потому что потом события понеслись с огромной скоростью. Встреча с Прокофьевым, поездка в Европу и обучение пению, знакомство с его матерью и Этталь, наше бракосочетание, возвращение в Париж и наш ребёнок. События последовали друг за другом как водопад, наплывая друг на друга, перегоняя одно другое».
«Я поехала в Париж с друзьями моей мамы, которые должны были „следить за мной“, к её величайшему облегчению. В Париже им принадлежала квартира на Рю Бассано. Они водили знакомство с массой людей, и я выходила с ними иной раз.
Помню, что когда я покидала дом, мама налила мне стакан молока. Она всегда перекармливала меня, считала, что у меня малокровие. Странные идеи были распространены тогда: мама Сергея тоже постоянно спрашивала меня, какого цвета у Сергея губы, чтобы проверить, нет ли у него анемии. Абсурд! Но в те дни это так не выглядело. В любом случае, я попросила стакан воды, а мама побежала налить мне молока. Стакан опрокинулся на рояль, но мама даже глазом не моргнула.
Я самостоятельно совершила поездку на трансатлантическом судне, чего мама так отчаянно боялась. На борту было несколько музыкантов и других интересных людей. Друзья встретили меня в Гавре.
Это были совершенно необыкновенные люди. Миссис Кларита Дэниэл, урождённая Спенсер, и её подруга, миссис Джули Гарвин, активный член продовольственной программы для Франции во время Первой Мировой Войны. Кларита же – первая американская лётчица. Удивительная женщина, искренняя, добрая, милая; она даже вызывала ревность у мамы, потому что я её очень сильно любила.
Среди друзей, которых я встречала в их доме, был китайский дипломат, который непрестанно звонил и пытался вытащить меня из дома. „Вам нравятся цыгане? – спрашивал он меня, – Я найму какой-нибудь оркестр, чтобы они пели под вашими окнами“. Я отвечала: „Пожалуйста, не надо“».
«Сергей прибыл в Париж весной (5 мая) 1920 года и сказал мне, что скоро приедет его мать. Они не виделись два года. Первым делом он повёл её к специалисту, так как она страдала очень плохим зрением. Профессор Поллок говорил по-русски. Он сказал, что ввиду тяжелой глаукомы необходима операция, иначе ей грозит полная слепота. Доктор Поллок был очень добр и положил её к себе в клинику.
В это время я занималась пением у Фелии Литвин (знаменитая вагнеровская певица и очень хороший педагог), но я ежедневно навещала Марию Григорьевну, она просила меня об этом. Я читала ей вслух почту – в основном от Сергея – и газеты. Можно сказать определённо, что я никогда не делала для своей мамы всего того, что я делала для неё. Она называла меня Линетт. Когда я приходила, она говорила: „Вы сегодня так поздно!“ Я извинялась и обещала побыть подольше на следующий день. Она говорила со мной по-русски. Её французский был абсолютно беглым, но с акцентом».
«Мария Григорьевна много рассказывала мне об отце Сергея и об их прошлом.
У неё были две сестры, не очень состоятельные, но получившие хорошее образование и воспитание. Семья была родом из Санкт-Петербурга. Когда она вышла замуж за отца Сергея, тот как раз только что закончил знаменитую сельскохозяйственную академию в Москве. Его лучший друг, Сонцов, был невероятно богат и владел огромными состояниями в разных частях России. В ходе разорительных для отца Сергея обстоятельств дело кончилось тем, что друг предложил ему управлять своим имением Сонцовка. Прибыль с владения этим имением шла отцу Прокофьева.
Имение оказалось весьма продуктивным. Оно приносило массу сельскохозяйственных товаров; крестьяне отличались зажиточностью и выполняли разную работу, одни были поварами, другие ведали уборкой дома, ухаживали за землёй. Прокофьевы не знали, что такое домашняя работа. В имении была даже часовня и всем преподавали Закон Божий.
Мать Сергея очень много времени посвящала деревенским детям. Так как ближайшая школа была в двадцати пяти верстах оттуда, она сама организовала деревенскую школу и вела начальные классы. Она знала также азы медицины и фармакологию.
Мария Григорьевна много играла на фортепиано, особенно когда ожидала Сергея.
Чрезвычайно энергичная и занятая женщина, она имела в Санкт-Петербурге прямую связь с Биржей, делала инвестиции, что по тем временам было величайшей редкостью.
Вот пример её энергии:
Как-то раз после одного из концертов Сергея в Париже (это было в мае 1926 года) к нему подошла женщина и сказала: „Я – Луиза Роблен“. Он взволнованно позвал меня: „Пташка!“ (это было моё уменьшительное имя): „Это Луиза Роблен, которая приехала в Сонцовку, когда мне было семь лет, а ей семнадцать“.
Мы стали часто видеться, и я выяснила много интересного о семье Сергея.
Луиза была юной девушкой, представительницей среднего класса во Франции, дочерью ветерана Франко-Прусской войны. Семья оказалась без гроша, и Луиза отправилась в Польшу на поиски работы. Мать Сергея хотела, чтобы в доме появилась француженка, – с ними уже жила немка, и Сергей понемногу начинал осваивать немецкий. Мария Григорьевна отправилась из Сонцовки в Варшаву на запряжённой лошадьми коляске за этой девушкой.
Девушка сначала боялась ехать так далеко, но мать Сергея сказала: „Мадемуазель, я научу Вас верховой езде и игре на фортепиано; и мой маленький сын очень симпатичный и талантливый“. Так что обратно они вернулись вдвоём.
Луиза рассказывала мне почти в тех же словах, в каких позднее описывал в своей книге Сергей, как она добралась до их дома, усталая и голодная, и накинулась на бутерброды с джемом, которые ей предложили. Но джем пах рыбой и был настолько солёным, что у неё на глазах выступили слёзы. Она с усилием проглотила икру, только из вежливости.
Сергей пытался научить её русскому языку по своей книге с картинками, произнося по-русски названия того, что было нарисовано.
Предполагалось, что Луиза будет проводить с ним всё время; но иногда он не слушался. Ему разрешали играть с крестьянскими детьми. Существовала такая странная причуда: передвигаться на ходулях. У Сергея была пара ходуль, и они с Луизой наверняка учились ходить на них.
Луиза должна была неотлучно находиться при нём, когда он уходил из дома, но самой важной её задачей было следить за тем, чтобы он не упал. Он, конечно, иногда падал, и тогда Луиза получала выговор. Мать больше всего беспокоилась за его руки, дрожала над ними.
Сергей был единственным ребёнком – две его сестры умерли в младенчестве, ещё до его рождения, но она не любила говорить на эту тему и говорила только, что у неё есть единственный сын».
«Зрение Марии Григорьевны оставалось очень плохим, она различала только силуэты. Если я покупала какое-нибудь платье, она спрашивала меня, какого оно цвета, потом сколько оно стоит, прибавляя обычно, что надо бережно относиться к заработкам Сергея; я часто отвечала, что это подарок мамы, и зачастую так оно и было. Тем самым я избегала дальнейших расспросов на эту тему. Но всё это было позднее, когда мы уже все вместе жили в Париже.
Летом 1920 года Сергей вместе с Дягилевым работал над „Шутом“ в доме, который снял в Mante-la-jolie, на берегу Сены, недалеко от Парижа.
Там жила мама, бывала кузина Соня, часто приезжали обсуждать спектакль Наталия Гончарова и её муж Ларионов. Сергей и Ларионов оба были большими шутниками, и иногда после репетиции Ларионов рисовал с Сергея смешные наброски. Сергей принимал забавные позы, задирал ногу, а его мама говорила: „Вы не должны позволять себе столь недостойное поведение. Это останется для потомства! Что подумают о вас люди?“
Он, конечно, задирал ногу ещё выше, и мама настолько огорчалась, что покидала комнату. Но это были всего лишь шутки, и они просто поддразнивали её.
Расположенный на берегах Сены, дом был окружён прекрасными лесами. Обыкновенно Сергей провожал меня в Париж, потому что его мама не хотела, чтобы я ездила одна. Мы брали купе первого класса; и однажды перед тем, как поезд отошёл от платформы, он поцеловал меня. Молодёжь, стоявшая по другую сторону рельс немедленно начала кричать „Жених и невеста!“, что меня очень смутило».
«Премьера в Париже состоялась весной 1921 года и вызвала сенсацию. Либретто написано на основе русской народной сказки, – оригинальное название „Сказка про шута, семерых шутов перешутившего“. Поскольку костюмы были особыми и не слишком привычными для танцев, постановка нуждалась в профессиональном танцовщике, помощнике и советчике. Им стал член дягилевской группы Славинский – прекрасный танцовщик. Постановка требовала „деревянных“ механических жестов, наподобие марионеток. В конце концов Славинский стал основным ответственным за постановку.
Сергей использовал темы, который сочинил ещё в 1915 году. Он часто прибегал к такой практике. У него была записная книжка, куда он записывал посещавшие его идеи, и иной раз пользовался какой-нибудь несколько лет спустя.
Публика пришла в некоторое замешательство, так как это было совершенно ново для неё, но у критики, музыкантов, музыкального Парижа балет имел огромный успех.
После спектакля мы довольно большой толпой отправились в ресторан (boite) на Монмартр праздновать премьеру. Пили шампанское, к которому я не привыкла. Я неважно почувствовала себя и отправилась в кабинет для дам; и потом я совершенно отчётливо запомнила, что кто-то стянул у меня с запястья часы. Это был подарок мамы, и поэтому я очень расстроилась. Мне казалось, что это сделала Гончарова. Так или иначе, но кто-то в дамской комнате оказался воришкой. Я была под парами шампанского, и он воспользовался этим. Вернувшись к столу, я спросила Гончарову, нет ли у неё моих часов. Сначала все удивились, но когда я объяснила, что случилось, посыпались шутки, стало понятно, что меня обокрали. Но нам было неприятно, и Сергей на следующий же день купил мне другие часы».
«Летом 1921 года Сергей снял дачу „Ле Рошле“ (Les Rochlets) в St. Brevin-les-pins, по нижнему течению Луары в Бретани, и пригласил меня приехать. Там он должен был очень много сочинять и заниматься и хотел, чтобы я составила компанию его маме и следила за хозяйством. К этому времени я уже и сама жила в Париже. Дэниэлз и миссис Гарвин вернулись в Америку. Все разъезжались на каникулы, и я приняла это приглашение. Мать Сергея очень хотела, чтобы я присоединилась к ним, так как мы уже стали хорошими друзьями.
В то лето мы с Сергеем решили, что моим сценическим псевдонимом будет фамилия бабушки „Любера“, но в дальнейшем оказалось, что мне больше нравилось быть Линой Прокофьевой, и я пользовалась псевдонимом редко.
Недалеко от нас в другой деревушке в Бретани жил поэт Константин Бальмонт с семьёй. Сергей заканчивал свой Третий Фортепианный концерт, работая на ужасном пианино. Однажды Бальмонт прошёл через комнату, в которой играл Сергей, и впечатление, произведённое на него музыкой, было таким сильным, что он написал стихотворение – два четверостишия, очень выразительных и ярких. Бальмонт занимал важное место в Российской поэзии, но в СССР он был persona non grata. Поэтому его стихотворение, посвящённое Третьему фортепианному концерту, никогда не было напечатано. Бальмонт читал свои стихи нараспев, закинув назад голову, они нравились Сергею, и он написал пять романсов на его стихи.
Я всегда слушала, когда Сергей сочинял, и во мне до сих пор сохранилось огромная любовь к композиторскому процессу. Это очень трудно объяснить. Он оказывался в другом мире, когда сочинял музыку; и живя рядом с ним, я чувствовала себя так, словно попала с ним вместе в этот мир.
Эффект, который производил на меня этот процесс, приносил мне почти физически ощутимое удовлетворение. Вы отрывались от земли и всех её проблем, вы оказывались в „вечности“, – не знаю, как выразиться точнее. В этом заключено нечто гораздо большее, чем может себе представить большинство людей. Думаю, что причина необыкновенной близости между Сергеем и мной, особенно в то время, крылась в том, что я чувствовала частичку того, что чувствовал он сам. Я с самого начала понимала то, чего не понимала тогдашняя публика.
Позднее, в Мюнхене, когда он сделал мне предложение, то спросил, не боюсь ли я выйти замуж за бедного неизвестного композитора; я не могла понять, что он имеет в виду. Я никогда не задумывалась о материальной стороне и была удивлена постановкой вопроса. Конечно, мы прошли через трудные времена. Однажды нам помогли мои друзья, благодаря которым я получила возможность лечь в великолепную клинику, где должен был родиться мой старший сын, и снова туда же, когда рождался второй сын.
Сергей часто отлучался из St.Brevin-les-pins. И кто-то должен был оставаться с его матерью. Так, незаметно, я всё более глубоко становилась частью жизни и его самого, и его семьи».
«Когда я только познакомилась с Сергеем Прокофьевым, я уже занималась пением с мамой, – она, как я уже говорила, училась у Джорджо Ронкони, написавшего знаменитый том Вокализов. Он был тогда уже очень стар и брал совсем мало студентов. У моей мамы был удивительно красивый тембр, блестящий голос; Ронкони оценил это и давал ей уроки».
«Моим первым педагогом была Фелия Литвин, прославившаяся исполнением ролей в вагнеровских операх; вторая – Эмма Кальве, великая Кармен.
Литвин не только великолепно преподавала пение, но придавала также огромное значение искусству дикции, вовсе на данный момент забытому достоинству. По-моему, я ей очень нравилась и когда мы в классе импровизировали разные сцены, она говорила остальным: „Посмотрите! Делайте как она – она прирождённая актриса!“»
Сохранились отрывочные записки Лины Прокофьеву об уроках пения у Фелии Литвин, они относятся к декабрю 1920 года. Лина пишет, что уроков много, в театре каждый день по две репетиции. Литвин советует беречь голос и петь в полную силу только соло, в хоре же – «мычать». Литвин находит, что игра на сцене не принесёт вреда Лине, скорее наоборот.
Кальве же, напротив, не выдвигала никаких педагогических идей. Несмотря на бурно прожитые годы, она и в свои шестьдесят с лишним лет, когда Лина познакомилась с ней, сохраняла былую красоту. Ей принадлежал замок в Авейроне, куда она приглашала к себе на лето трёх – четырёх человек из своих учеников и учила их петь. По мнению Лины, она поступала так главным образом потому, что не любила жить одна, поскольку никаким специальным призванием к преподаванию не обладала. Зная, например, что у Лины очень высокое сопрано с природной колоратурой, она заставляла её петь всё выше и выше, чтобы проверить предел высоты, а потом спускаться ниже и ниже в совершенно не свойственный Лининому голосу регистр, и это было несерьёзно и скорее вредно.
Тем не менее, ученики жили в замке, со своим замечательным поваром и великолепным запасом вин.
28 июня 1921 года Лина пишет Прокофьеву:
«Calvé несомненно замечательная женщина с таким редким блестящим прошлым. И сейчас трудно дать ей шестьдесят лет, столько у ней энергии, силы физической и моральной, и голос до сих пор такой поразительный и стиль до того тонкий. Преподаёт она изумительно (когда хочет) и не только даёт примеры пения, но также игры, заставляя петь всё с выражением, исполняя роль, – в общем гениальная женщина. Но несмотря на все эти достоинства иногда бывает невыносима до того, что прямо хочется удрать и больше никогда её не видеть.
После еды она нам рассказывает эпизоды своей жизни, часа два старается внушить, что была святая всю жизнь. Она не переносит, чтобы мы между собой дружили».
Конечно, она была местной знаменитостью, и как часть её окружения ученицы часто приглашались на пышные банкеты, устраиваемые в её честь в соседнем Роше, столице Авейрона. (Rochez, Aveyron). В те дни эта часть Франции особенно славилась своей гастрономией. Для банкетов даже печатали меню, и Лина хранила одно долгие годы.
«Однажды молодой человек, сидевший по соседству со мной, предупредил меня: „Знаете, – сказал он, – это только начало трапезы. Оставьте местечко, иначе вам никогда не добраться до окончания“.
По возвращении домой Кальве всегда спрашивала нас: „О чём вы говорили с молодыми людьми? Вы что, хотите подорвать репутацию моей школы? Вы чуть ли не смеялись! Над чем это вы смеялись? Я никогда больше не возьму вас с собой, если вы будете вести себя таким образом“, – и тому подобное. Предполагаю, что только люди с особенно бурной биографией могут так реагировать на самое невинное поведение молодых людей. В ответ молодым людям нам дозволялось отвечать только: „Да, месье“, „Нет, месье“. Иногда нас брали в поездки по интересным и живописным окрестностям.
Одной из заманчивых прелестей её замка были старые костюмы, которые Кальве хранила у себя на чердаке.
Помню, я нашла костюм маркизы, который отлично сидел на мне, и его я тоже хранила долгие годы…»
Глава третья Обучение вокальному искусству. Трудности. Этталь
В январе 1921 года Прокофьев засыпает Лину нежными письмами из Лос-Анджелеса. Второго января подробно описывает встречу Нового Года, всех друзей и знакомых, танцы, веселье, а седьмого сетует:
«Моя маленькая Верле, получил твоё письмо от 24 декабря и совсем не остался доволен твоим уклончивым ответом относительно Лондона. Когда из этой поездки ничего не выходит, как в прошлый сентябрь, то ты очень хочешь поехать, а когда тебя зовёшь, то ты в колебании. Я, вероятно, пробуду в Лондоне с неделю, но может быть и две, и три – зависит, скоро ли получу визу – и будет совсем противно, если мы будем сидеть по разным сторонам Ла-Манша и не сможем это время провести вместе. ‹…›»
В этом же письме он отвечает на упрёки Лины, которая ревнует его к взбалмошной женщине, но замечательной певице Кошиц. «Linette всегда ревновала меня к Кошиц и ни за что не желала поверить, что между мною и Кошиц ничего не было». Прокофьев пишет, что романсы для Кошиц написал потому, что она подала эту новую идею, которая его заинтересовала (песни без слов); во-вторых, потому, что он уже четыре года как обещал написать ей романсы, в-третьих, она пока лучшая исполнительница его вещей. ‹…›
На сообщение Лины о том, что ей приходится петь в хоре, Прокофьев отвечает:
«Это вовсе не так плохо, там ты потренируешься. В хоре, конечно, не так уж интересно, но если дальше представится возможность выступить в сольной партии, то это совсем хорошо. Хорошо также, что уроки у Литвин продолжаются, а то в одном из предыдущих писем ты написала, что ты их временно прекратила – и это было жалко. ‹…›
Крепко тебя, Верлэша, целую и радуюсь, что скоро начну неуклонно двигаться к Парижу. Приезжай, деточка, в Лондон, я буду так рад этому.
Твой Бус».
Лина тоже шлёт письма и продолжает рассказывать Сергею о своих новостях. Они нерадостные. «Оказавшись по ту сторону рампы» и вкусив закулисную атмосферу, ужаснувшую её, она бросила театр. Размышляет о работе в «Фортунио», но «это предприятие немузыкальное, и там не стоит оставаться и терять время».
В письме от 14 января 1921 года перед отъездом в Нью-Йорк Прокофьев благодарит Лину за подарок:
«Перчатки получил, крепко целую за них и очень важничаю ими. Они чуть-чуть велики, но всё-таки сидят в десять раз лучше, чем американские. Как они дошли, до сих пор не могу понять. Газета была порвана, и оттуда торчал кусок перчатки. Вчерашний концерт был очень успешным, с цветами и вызовами. На будущий год приглашают на два: recital и симфонический. ‹…› С нетерпением жду Лондон. Приезжай, Птанчик.
Целую много раз. Твой Бус».
Прокофьев ждёт в Лондоне Лину с начала февраля.
«‹…›В полдень я был уже в Лондоне и отправился в Hotel National, где мы условились съехаться с Linette. Но приедет ли она или нет, я всё ещё не знал, так как положительного согласия от неё не получил. Может, она уже была в Лондоне? Может, меня ждало письмо от неё? Ни того, ни другого. Так как все поезда из Парижа приходят между шестью и восемью вечера, то к этому времени я уселся в вестибюле отеля и стал ждать. Однако вместо Linette пришла телеграмма, что Linette приедет завтра. Значит, приедет! Я не был уверен в том до сих пор.
На другой день я её встретил на Victoria Station, очень хорошенькую в её серой шубке, и мы поехали в National. Это большой, но очень странный отель. Комнаты были крошечные и все одинаковые. А если побольше, то есть так называемая двойная, то страшно дорогие. Поместиться в одной комнате мы не решились (в Америке бы без разговоров вытурили), и потому у Linette была большая комната, а у меня маленькая напротив, в которой я ни разу не ночевал, но аккуратно каждый вечер мял постель для фасона.
Время нашего пребывания в Лондоне определялось получением французской визы, о которой я немедленно послал Стравинскому телеграмму и получил ответ, что всё будет сделано».
Паспорт был выдан Прокофьеву через десять дней, которые Сергей и Лина провели в Лондоне очень счастливо и гордились тем, что оба оделись там на полгода вперёд.
В мартовских письмах Лины к Сергею и Марии Григорьевне тема уроков пения на время исчезает, так как у Лины находят аппендицит, она попадает в больницу. Воспаление оказалось очень сильным, и ей дали совет прооперироваться, чтобы не дождаться осложнений.
«Бедная девочка относилась к событию храбро, только разревелась, когда за нею явились с носилками, чтобы брать в операционную. Операция прошла отлично и через три дня Linette уже быстро шла к поправке.»
Оптимизм Прокофьева в отношении быстрой поправки Linette, как выяснится позже, был не совсем оправдан. С последствиями операции ещё пришлось повозиться.
Тогда же в отношениях Сергея Сергеевича и Лины появляется лёгкая тень.
Прокофьев и Linette жили в разных местах, хотя виделись каждый день. Прокофьев записывает в Дневнике:
«Один раз случилась неприятность: она упрекнула меня, что живя с нею нелегально, я ставлю её в ложное положение, и это уже начинают замечать. Я рассердился. Но по существу, мне было её очень жалко, однако выхода я не видел. Жениться? Это так просто и ясно казалось для неё. Женитьба мне казалась камнем, привязанным к ноге».
Сомнения, разлуки. Прокофьев много и успешно сочиняет, Лина возобновляет уроки пения, они часто расстаются. Прокофьев прилагает все силы, чтобы Лина продолжала вокальное образование, Лина страдает от неопределённости своего положения.
После постановки «Шута» Прокофьев пишет:
«У Linette событие: до сих пор она занималась пением у Литвин, которая была очаровательна, но недостаточно внимательна. Теперь она перешла к Calvé, одной из знаменитых французских певиц. Между прочим, проведя апрель (1921) в деревне, Linette много пела, и я занимался с нею тоже, и голос её вырос прямо преудивительным образом».
В апреле 1921 года в Париже была исполнена «Скифская сюита» Прокофьева, одно из любимых сочинений Лины Ивановны. Лина приехала к Сталям накануне, а на другой день все вместе отправились на концерт. Прокофьев жалуется, что его ложа расположена слишком близко к оркестру. Он считает, что и зал «Гаво» маловат для такого большого оркестрового состава. Зал полон. Первым исполняли «Остров мёртвых» Рахманинова, «сыгранный Кусевицким превосходно». Затем шла «Скифская сюита». Прокофьеву чрезвычайно интересно было впервые услышать её из зала, он описывает все части Сюиты, замечает свои погрешности, но «Восход солнца» в четвёртой части, по его мнению, всё искупает. Именно в этом месте Глазунов вышел, и об этом же crescendo Лина писала и говорила всю жизнь как чуть ли не о высшем достижении оркестрвого мастерства Прокофьева. Последовали бурные овации и масса поздравлений.
«Стравинский пришёл в ложу после второй части и всё время похваливал. Linette возмущалась его покровительственным тоном. На концерте присутствовала масса русских поэтов и художников. После концерта ужин: Стали, Кусевицкие, Linette и я.
На другой день мы с Linette отправились в деревню».
Calvé приглашает Linette к себе в шато заниматься. Придётся в июне расстаться с ней на три-четыре недели. Очень досадно, но важно, чтобы она наладила свои отношения с Calvé, которая как никто заботится о своих ученицах. Прокофьев очень хочет, чтобы Linette нашла свою собственную дорогу.
Лина тоже не стремилась расставаться, она привязалась к жизни в Rochelets, разлука была ей тяжела. Вместе с тем она по-прежнему горела желанием стать настоящей оперной певицей и во имя этого готова была терпеть лишения.
Занятия у Calvé протекали нелегко. Она очень требовательна, придирается буквально к каждой ноте, и Лина подумывает о том, что когда станет певицей, напишет книгу от имени несчастной ученицы знаменитости. У неё складывается впечатление, что все они в чём-то ненормальны. С наслаждением Лина вспоминает от начала до конца музыку «Шута», и это приводит её в равновесие.
Лина в подробностях описывает всё Прокофьеву:
15 июня 1921 г.
«Когда я впервые пела Calvé различные вещи, она нашла, что голос звучит у меня очень хорошо и остаются лишь некоторые усовершенствования. А теперь после двух пятнадцатиминутных уроков она говорит, что мне форсировали голос, „у вас настоящий колоратурный тембр, а вам постарались сделать лирический или драматический, которые непохожи на ваш натуральный тембр, это вам совершенно не подходит“, и что я не умею дышать и т. д. Представь, как это было приятно… Все эти прежние звёзды к старости с ума сходят. Ей шестьдесят лет, но голос остался как у молоденькой девушки. Она легко берёт верхнее „ре“, а внизу „до“. Значит если даже в шестьдесят лет у неё почти три октавы, то в молодости было полных три. Не правда ли, это показательно и тембр такой чудесный. Но по-моему у неё нет никакого музыкального вкуса в смысле выбора вещей. Предпочитает всю итальянщину.»
Одно за другим приходят письма от Ольги Владиславовны Немысской, она волнуется, растеряна, не знает, где и каким образом встретиться с дочерью. Сначала на её письме стоит Лондонский штемпель, затем, судя по письму, она возвращается в Нью-Йорк, где встречается с Calvé и пишет, что по её словам у Лины очень красивый голос, и он звучит всё лучше и лучше, но Лине не хватает терпения. После месяца занятий, – жалуется певица, – она делает перерыв на три месяца.
В это же время Лина с увлечением рассказывает об уроках, на которых обязательно присутствуют все. Каждой ученице персонально достаётся пятнадцать минут. Ей нравится, как Calvé занимается вокализами, и Лина всё больше и глубже проникается любовью к работе со своей знаменитой преподавательницей.
Лина уже свободно пишет по-русски, но часто переходит в своих письмах на английский или французский язык.
В июле 1921 года ученица сама удивляется тому, как спела арию из «Манон».
15 июля Лина пишет:
«Уроки продолжают идти всё более успешно. После каждого Calvé всякий раз замечает: „Как досадно, что вы уезжаете теперь, когда вы так быстро двигаетесь“».
По мнению Calvé Лина может стать профессиональной певицей.
Увы, обстоятельства её жизни, вынужденные и не вынужденные перерывы, связаны ли они со здоровьем, нервным устройством или ещё с дюжинами причин, встающих на пути каждого профессионального музыканта, не будут благоприятствовать ей. Успехи окажутся в тени неудач, – судьба будет противиться Лине в осуществлении её мечты.
Но пока, в последние месяцы 1921 года, Лина ещё довольна собой, она сообщает Прокофьеву, что в сентябре Кальве уезжает, будет петь в «Метрополитен» партию Кармен и настоятельно советует ему не пропустить этот спектакль. Она просит его при случае замолвить за неё словечко. А также достать для неё ноты «Снегурочки».
В декабре 1921 года Лина пела, как она говорит, на «большом американском чае». Вначале немного нервничала, но во втором номере разошлась. Имела большой успех и признаётся, что приятно получать аплодисменты. В зале было накурено, это мешало, но Лина с энтузиазмом рассуждает о романсах Римского-Корсакова, «На холмах Грузии», ариях из «Золотого петушка» «Лакмэ» Делиба и т. д. Как она пишет, «на все вкусы».
После этого достаточно успешного выступления Лина упрекает Прокофьева: «Когда же я буду петь на сцене! Но если ты с твоими связями, с твоим именем ничего не делаешь и, вероятно, не сделаешь, так кому же мне помочь. Ни одна певица не сделала ничего сама».
Она жалуется на Сталей, которые не были к ней внимательны, на Кальве, ограничившейся ласковой подписью под своей фотографией, подаренной Лине на память.
Лина снова пела у американцев на чае, по её словам, лучше, чем в прошлый раз. «Память о солнце»[9] очень понравился. Во втором отделении пела итальянский репертуар. Говорит, что концерт прошёл очень успешно.
«Знакомые советуют ехать в Италию и уверяют, что при необходимой работе я смогу достигнуть того, что хочу. Я много занимаюсь. В Милане буду работать, как никогда, ещё больше».
Прокофьев, хоть и помогал всячески Лине, всё же не мог позволить себе поручиться за неё и попросить для неё роль. Для него её профессиональная состоятельность ещё не была доказана.
В «Дневнике» мы читаем запись, которая звучит как ответ на укоры Лины:
22 декабря 1921 года
‹…› «От Linette письмо, упрёки, что я бросаю её одну и не забочусь о её жизни, о её карьере певицы. Конечно, ей грустно, и тем неприятней читать мне это. Но до сих пор я не мог рекомендовать её как певицу. Что будет после успеха „Апельсинов“ – неизвестно, может можно её устроить на будущий сезон петь Нинетту, но я всё ещё не знаю, хорош ли её голос и могу ли я её навязывать».
Конец 1921 года не был солнечным временем в жизни молодой женщины. Отношения с Прокофьевым осложнялись его страхом перед женитьбой. Его письма изменились, в них, по его собственному выражению, можно было найти лишь повествовательные элементы и ни слова лирики. Прокофьев умышленно писал так, чтобы не запутывать положение.
Для него наступает самый решительный период в постановке «Трёх апельсинов». Он играет, слушает, погружается в музыкальные события своей жизни. Ходит концерты Рахманинова и говорит, что он играл «прямо-таки изумительно». Диссонанс только в их отношениях с Linette, зашедших в тупик. Он записывает: «От Linette письмо сдержанное. Надо, чтобы отношения вступили в такое русло. Я не знаю иначе, какая развязка».
Если жизнь Лины в этот период скорее полна разочарований, то при всех треволнениях, связанных с постановкой «Трёх апельсинов» в Чикаго, собственными концертами, делами, антрепренёрами, оркестром, репетициями, – всего не перечислить, – сколько радости приносит Прокофьеву, например, встреча с Шаляпиным, на которого он набрасывается с расспросами о своих ближайших друзьях Мейерхольде, Асафьеве[10], Мясковском[11]. О Мясковском Шаляпин ничего не слышал, Асафьев занимает виднейшее положение в Мариинском театре, Мейерхольд болен: это глубоко огорчает Прокофьева, – он мечтал о том, чтобы Мейерхольд поставил его оперу. «Мы вышли вместе с Шаляпиным. Это такая великолепная фигура, что все вокруг на него оглядывались.»
Четвёртого декабря Прокофьев записывает в дневнике, что получил от Linette телеграмму, в которой она поздравляет его с первым представлением, благодарит за присланные деньги, а дальше он делает нелёгкое признание:
«‹…› Телеграмма эта породила странное ощущение какой-то горечи. Linette так давно не писала, что она стала как-то отходить от меня в пространство. Я не могу жениться на Linette, как она хотела бы, а продолжать наши отношения – значит чувствовать или слушать её жалобы о том, что я гублю её. А между тем такая телеграмма напоминает, что она хочет их продолжать».
Через несколько дней Прокофьев получает письмо от мамы, в котором Мария Григорьевна описывает успех «Скифской сюиты» в Париже, где она была исполнена в ноябре в Grand Opera под управлением Кусевицкого. Мария Григорьевна сидела в ложе с Равелем и Linette. Равель воскликнул: «Vive la Russie», на что Мария Григорьевна ответила: «Vive la France». Прокофьев даже не ожидал, как больно заденет его упоминание о Linette: «Иллюзия, что наши отношения разошлись, не воплощаются. А разве я могу жениться, если я убеждён, что это не принесёт мне счастья?»
Очевидно, что не столько шла на убыль любовь и сердечная привязанность, сколько пугала мысль о женитьбе, которую трудно было себе представить, втиснуть в бешеный круговорот событий профессиональной жизни, требующей, помимо всего прочего, напряжённого общения с дюжинами их участников.
30 декабря состоялась премьера оперы «Любовь к трём апельсинам», сопровождавшаяся триумфальными овациями, восторгами поклонников и поклонниц. Прокофьев чувствовал себя счастливым и безмятежным. Правда, меру успеха он по собственным словам почувствовал первого января следующего 1922 года, оказавшись на приёме в честь Мэри Гарден.[12] «На приёме была масса спонсоров оперы, и тут-то я в первый раз действительно понял, что моя опера имела настоящий успех: давно я не слышал столько восторженных комплиментов от знакомых и незнакомых людей, как сегодня».
31 декабря 1921 года.
«Итак, год окончен. Хороший год. Начался хорошо и весело в Калифорнии, затем контракт с Мэри Гарден, постановка „Шута“, чудесное лето в St.Brevin и постановка „Апельсинов“. Чего же лучше! Феноменальный год».
10 февраля Лина пишет из Милана, рассказывает, что изучает итальянский репертуар, «Риголетто». Она чувствует себя не в своей тарелке, так как совершенно отвыкла от этой музыки. В Париже она пела современные романсы, – Лина ощущает огромный контраст. Ей скучно окунаться в оперную рутину.
Лина живёт в «музыкальном пансионате» в самом центре города, очень шумно. Она выучила порученную ей партию из «Риголетто», начала разучивать другую, небольшую, из четырёхактной итальянской оперы Альберто Каталани «Валли», написанной по мотивам сентиментального немецкого романа, положенного в основу либретто Illico. Лине не нравится ни музыка, ни сюжет. Во всей Италии театральные дела в упадке, половина театров закрыта, платят гроши. Процветает только Ла Скала, а Милан – самый дорогой город Италии. Концертов в Милане нет, Лина была на балете русской труппы Леонидова, – осталась недовольна. На улицах Милана наблюдала карнавал и была совершенно поражена и даже напугана размахом народного празднества. По улицам было невозможно ходить, во всех театрах давали балы, по вечерам миланцы появлялись только в масках. Наконец всё успокоилось. Лина посетила Ла Скала, чтобы послушать «Бориса Годунова», и нашла постановку превосходной. Живя в Италии, она в основном говорит на итальянском языке, но письма Прокофьеву пишет по-русски и без ошибок. Правда, она не решается взяться за перевод стихов, на которые написаны романсы Прокофьева, и считает, что эти переводы следовало бы поручить опытному переводчику.
В это время Прокофьев уже озабочен поисками жилья – дачи. Лето 1922 года, по его мнению, хорошо было бы провести в окрестностях Мюнхена, в райских местах, в Баварских Альпах. Его прельщало и то, что там происходило действие «Огненного ангела», над которым он работал.
19 марта 1922 года он пишет Лине из Берлина, куда только что приехал из Парижа. Отношения молодых людей нисколько не поблекли, несмотря на всё ещё продолжающиеся разногласия, именно с этого времени Прокофьев начинает называть Linette «Пташкой» и производными от этого ласкового прозвища, которое и осталось основным во всей жизни Лины – жены Прокофьева. Но хотя в дальнейшем Лина окажется частой гостьей на этой даче, Прокофьев пишет ей о том, что он (а не «они») ищет себе дачу.
В этих поисках он рассчитывал на помощь старинного, с петербургских времён, друга, подопечного Прокофьева, поэта, Бориса Николаевича Верина. Лина его недолюбливала. Она рассказывает о Башкирове-Верине:
«Башкировы были очень зажиточной семьёй меценатов, покровительствоваших искусству, они проявляли большой интерес к Сергею, когда он только становился известным. Борис дружил с Сергеем, был поэтом-любителем, оказавшимся после революции в Париже без гроша в кармане. Он жил с нами некоторое время, и Сергей постоянно поддерживал его в финансовом отношении. Но так как он не работал и не имел к этому ни малейшего расположения, их отношения постепенно расстроились.
Сергей написал два романса на его стихи.
Однажды попросил его помочь купить машину, потому что Борис разбирался в технике».
Как это бывает у Прокофьева, сказано – сделано. Окончив дела в Берлине, откуда он пишет Пташке, поторапливая её с переводом романсов на французский и английский язык и настоятельно приглашая приехать, он отправляется в Мюнхен, и вот перед нами оказывается первое письмо, отправленное из Этталя, – знаменательного места в жизни будущей четы Прокофьевых. «Борис Николаевич уже начал свою деятельность по отысканию дачи», – так пишет Прокофьев Лине. Он, однако, скрывает от неё истинное положение вещей. Б. Н. в самом деле встретил его в Мюнхене, но к этому времени уже потерял часть вверенных ему денег, ничего не искал, жил в одном из лучших отелей, не оплатив счёт, бродил по берегам озера и наслаждался жизнью. Сказал, что очень счастлив. Всё это Прокофьев скрыл от Лины, стараясь представить друга в лучшем свете.
«Пришлось забрать дело в свои руки, купить план и начать правильный изыск (sic!) окрестностей. Первым делом мы отправились в Берхтесгаден, чудесное место, но, проездив два дня, ничего не нашли. Вторая поездка была в Гармиш, откуда нас послали в Этталь, тихое местечко около большого монастыря, долина зажата между горами, в четырёх километрах от Обераммергау, знаменитого моста, где раз в десять лет – и как раз в этом году – показывают Passionenspiele, представления из Библии, в память избавления от чумы времён „Декамерона“».
6 апреля Прокофьев пишет из Этталя:
«….после отчаянных поисков мы нашли очаровательный дом, в высоких горах, близ Тирольской границы, куда немедленно переселились и откуда я тебе пишу. Дом – настоящий барский особняк, с изящными меблированными комнатами, электричеством, ванной, паровым отоплением, балконами, коврами, широкими кроватями, мягкими кушетками, библиотекой на трёх языках, футуристическими картинами на стенах – словом, такой, какой и не снилось. Вид вокруг великолепный, воздух как мёд, рядом большой монастырь и с десяток других домов, поэтому тишина изумительная. Одним словом мы с Б. Н. расцеловались, когда нашли. Когда ты сюда приедешь?»
В Этталь, в дом под названием «Христофорус» приезжает и мама, успокоенная после свидания с врачом, нашедшим её состояние не внушающим опасений. Продолжается переписка с Linette. Она обещает приехать в июле, недели на две, отдохнуть. Прокофьев пишет в Дневнике, что очень рад этому, её не хватало в Эттале, ей здесь понравится.
Прокофьев в восторге от Этталя.
«У нас тут только что разыгрывается запоздалая весна: зацвёл фруктовый сад, появилась черёмуха и сирень. (письмо от 14 мая 1922) Жизнь протекает тихо и приятно, Мария Григорьевна водворилась и довольна, Борис Николаевич спит, ест, толстеет, приготовляет к печати свою книгу и проигрывает мне в шахматы. Дягилев будет давать „Шута“ в Grand' Opera в первых числах июня, но я, кажется, не поеду: дорого, да и не хочется уезжать отсюда».
В Милане Лина продолжает заниматься. Она просит Прокофьева прислать для русской подруги какие-нибудь лёгкие сочинения для рояля – Гавот, Мимолётности или что-нибудь из «Сказок старой бабушки», для экзамена в консерватории; а также купить ей фотоаппарат, так как свой она потеряла при переезде из Парижа. Она трудится в поте лица. Из письмы Лины Сергею от 1 июня 1922 года:
«Работаю во всю, как никогда – это самое необходимое – помню твой завет. Хочу во что бы то ни стало в сентябре – октябре дебютировать. Это возможно. Нельзя терять ни минуты, нужно работать. У меня чудный маэстро и репетитор. Связи тоже приобретаю понемногу. Директор Ricordi и Компания (всемогущие в Италии). Гранди – главный декоратор Scala.»
Она сообщает также, что подруга – американка – во время её отсутствия сняла квартиру для Лины и Сергея. Квартира великолепная, хорошо меблированная, есть удобства, прислуга – хорошая и всё это обходится дешевле, чем жизнь в «музыкальном пансионе». Здесь бывает много народа, подруги – весьма интересные. Забегает Маринетти, известный футуристический художник, добрый знакомый Гончаровой и Ларионова. Но всё время поглощает работа. Scala закрылась, однако в консерватории продолжаются симфонические концерты. В программе первого концерта Франк, Сибелиус, Скарлатти, во втором исполнялись Вебер, Бетховен, Брамс.
Прокофьев настойчиво приглашает Лину в Этталь. В письме от 8 июня 1922 года он пишет:
«В Этталь жду тебя с большой радостью, и хотя совсем не намерен становиться поперёк твоих занятий, но о „двух неделях“ и слышать не хочу. Ведь всё-таки лето есть лето и каникулы всё-таки каникулы. В июле и августе Милан будет сковородкой и ни один урок не пойдёт в голову. Словом, как только твой маэстро тебя отпустит, садись в поезд и направляйся в Этталь. Подготовиться к дебюту – дело хорошее, но и набраться перед ним сил тоже не мешает. Здесь тихо и хорошо. Днём солнышко поджаривает, но не мучительно, как в Милане, а вечером и ночью всегда прохладно».
Прокофьев пишет, что слова Лины, будто она своим приездом нарушит гармонию в Христофорусе, он принимает не иначе как за кокетство. Она отлично знает, что это не так, и что все её встретят с распростёртыми объятиями.
Он рассказывает, что «Шут», кажется, идёт в Париже сейчас, но он туда не поедет и вообще собирается сидеть здесь до осени, а может быть и часть зимы.
Христофорус прямо прелесть и снят на год.
Однако трудности в отношениях с Линой продолжаются. Лина хочет большей определённости, она против двойной жизни, надо упорядочить отношения или расстаться. Она считает, что Сергей должен взять на себя ответственность за их отношения, но не требует от него насильно принять это решение, «зелёных яблок» не хочет, – это просто её точка зрения. В этих пререканиях проходит июль. Прокофьев не вполне готов соединить с ней свою жизнь окончательно. Лине кажется, что в таком случае лучше оставить друг друга навсегда, Прокофьев убеждает её не следовать советам Ольги Владиславовны, нормам, принятым в обществе, обязательным для всех. Он не уходит от проблемы, он пишет длинные, серьёзные, прочувствованные письма, но пройдёт ещё почти весь год, пока в декабре он напишет Лине:
17 декабря 1922 года
«Я тебя очень люблю и не хочу никого другого».
А пока идёт обычное разбирательство, взаимные упрёки, доводы и контрдоводы. Извечная ситуация мужчины, наслаждающегося свободой, в нашем случае ещё и великого, и любящей женщины, видящей своё единственное счастье и предназначение в том, чтобы соединить с ним свою жизнь. Прокофьев ещё не созрел для женитьбы, и это не было связано именно с Линой, – что следует из приводимых далее писем. Ну а Лина, при её испанском происхождении и полученном сызмальства воспитании, страдала от свободных отношений, не только и не столько задетая в самолюбии, сколько привыкшая считать их недозволенными. В переписке, в «Дневнике», однако, просто поражает степень духовной открытости и честности, свойственной обоим. Отсутствие хитрости или притворства стало залогом спасения отношений, иногда и болезненных для того и другого.
Этталь. 9 июля 1922 года:
«(…) Ах, Пташка, Пташка! Два года ты живёшь самостоятельной жизнью, занимаешься философией, сделалась почти свободной артисткой, и в результате на десяти страницах повторяешь то, что мама приказала из Нью-Йорка. Ты меня любишь за то, что я человек не такой, как все, за то, что я лишён обыкновенности, и в то же время меряешь обыкновенным аршином.
(…) Ты пишешь, что тебе горько постоянно прятать самое дорогое. Конечно, у каждого на это своя точка зрения. Одни предпочитают выставлять дорогое перед всеми, другие любят прятать от посторонних глаз. Но не думай, что я не понимаю, насколько тебе неудобны и иногда тяжелы наши нелегальные отношения. Хотя несомненно ты это преувеличиваешь (…). Ни одной знаменитой артистке такие вещи не поставлены в упрёк. Правда, ты ещё не Мэри Гарден, но будем надеяться, что уже немножко на пути к свету рампы. Года два назад я бы в глаза рассмеялся тому, кто сказал мне, что я когда-нибудь женюсь: настолько я твёрдо решил, что никогда этого не случится. Теперь я, кажется, несколько изменился, но всё же ещё не готов. Ты умно рассуждаешь, говоря, что не хочешь „зелёных яблок“, и мне кажется, на этом надо пока сделать резюме наших разговоров.
Как же ты собираешься дать дозревать им: сидя по разным концам Альпов или может быть всё-таки приедешь, как раньше писала, „отдохнуть недели на две“? Если ты всё-таки окажешься милой девочкой и перемахнёшь через Альпы, то, может, мы вместе, как в прошлом году, покатаемся со Сталями. Как ты думаешь? (…) Ну, мой взъерошенный птенчик, нежно целую тебя и всё-таки, хоть ты меня и бранишь, поджидаю тебя. (…)
Твой Серж.»
Этталь. 29 июля 1922 года:
«Дорогая Пташка! Хотя, чем скорее бы ты сюда приехала, тем больше бы это доставило мне радость, но всё же твоё последнее письмо написано в таком боевом настроении, что я хочу, чтобы ты до твоего отъезда получила мои ответы. (…) Если ты начнёшь бить зелёное яблоко палкой или жечь спичкой, чтобы оно скорее созрело, то яблоко сгниёт. Мы целый месяц переписываемся, и разговоры ничего к этому не прибавят, кроме горького осадка. Ты в двух письмах пишешь, что не хочешь зелёного яблока, а сама едешь, чтобы сварить из него компот. Как бы не пришлось вылить этот компот за окошко. (…)
Жду я тебя с большой радостью, но жду милую и нежную пташку, а не летучую мышь, вцепившуюся в волосы.
В Мюнхен приеду тебя встретить непременно. Ни в Эттале, ни в Оберхаммерау нет международного расписания поездов, поэтому телеграфируй накануне отъезда, в котором часу ты будешь в Мюнхене. Я приеду в Мюнхен с первым утренним поездом, в 10.13 утра».
Пташка приехала из Милана через Швейцарию седьмого августа. Прокофьев встречал её в Мюнхене, как и обещал. «Она очень похорошела, вообще оказалась гораздо лучше, чем я думал. Я был чрезвычайно доволен её приездом, Christophorus оживился.» Лина поселилась в Эттале.
В обществе Прокофьева и Бориса Николаевича она ездила по окрестностям, друзья водили и возили её в горы, они осматривали старинные замки и застали продолжавшиеся восемь часов «Passionenspiele».
Каждая минута была наполнена содержанием, действием, как это было характерно для Прокофьева, который не представлял себе, что можно наслаждаться ничегонеделанием, и впоследствии стало единственно возможным способом жить и для Лины. Прокофьев учит Лину играть в шахматы, и сначала кажется, что она делает успехи. Устав от обучения, Прокофьев садится за рояль, и Лина поёт и его романсы, и Дебюсси, и подаренные ей романсы Пуленка, разбирали партию Ренаты из «Огненного ангела». Прокофьев показывал Лине свои бесчисленные пометки в этом произведении Брюсова. Действие происходило именно в Баварии. Здесь в Эттале Прокофьев отдавался своей страстной любви к цветам. Однажды под своим окном Лина увидела клумбу из незабудок в форме L. Ещё не прошло и месяца со дня приезда Лины, как Прокофьев вместе с нею и со Сталями совершили на их автомобиле поездку из Штутгарта через Шварцвальд и Рейн в Эльзас. Преодолели перевал через Вогезы, «которые в осеннем уборе были ослепительны», и спустились в долины Франции. Красота европейских пейзажей этой части усиливала особую романтическую атмосферу путешествия. Алексей Сталь и Вера Янакопулос, как всегда, были близкими, любящими и любимыми друзьями.
Вернулись в середине сентября, – Прокофьев сочинял «Ангела», Лина занималась пением, вместе с упоением читали стихи Белого, которого в ту пору открыл для себя Прокофьев, он с гордостью пишет, что Пташка выучила наизусть первую страницу.
Седьмого октября Лина уехала в Милан. Прокофьев пишет в «Дневнике»:
«Её голос развился и вышколился, надо было ещё позаняться – и постараться достигнуть сцены. Но это свидание нас очень связало, да и Пташка развилась, похорошела и во всех отношениях много подвинулась в лучшую сторону».
Лина возобновляет свои занятия в Милане. Они идут весьма успешно, но, как это часто бывало на протяжении всей её профессиональной жизни, снова подстерегают неожиданно возникающие помехи. В письме от 16 октября 1922 года она пишет: «как назло начинается насморк, так что я попробую сегодня остаться в постели, чтобы не дать ему развиться. Голова болит.»
Лина, отличавшаяся несокрушимым здоровьем, беспокоилась исключительно о своей вокальной форме, но та, в самом деле «как назло» всё время ускользала от неё то в насморк, то в хрипы, то в обстоятельства сложной театральной жизни.
Она не отчаивается и пишет о своих планах: «Думаю на эту зиму остаться в Италии, здесь дебютировать, а на будущий год поехать совершенствоваться как артистка к Лили Леман».[13]
В ноябре Лина чуть не встретилась с Прокофьевым в Берлине «Вдруг выяснилось, что быть может я буду дебютировать в декабре в Вероне, – пишет Лина Прокофьеву 8 ноября 1922 года. – Я очень много работаю, зубрю итальянский репертуар, увы, не всегда очень охотно. Голос звучит хорошо, и верхи улучшаются.»
И вот печальное сообщение от 1 декабря:
«Я уже не буду петь в Вероне, так как опера, в которой я должна была петь, не состоится, а в той, которая будет, нет для меня роли».
Профессиональные горести соседствуют с большим потеплением в отношениях с Прокофьевым. Сомнения постепенно оставляют его, последний приезд Linette сыграл большую роль в его привязанности к ней. Он пишет об этом: «Мысль о женитьбе ещё не окрепла, но чуть крепче, чем раньше».
«Яблоки созревают», Прокофьев жалуется, что начинает «слишком много обращать внимания на Пташку». Он уже с несравненно большей лёгкостью касается возможной женитьбы. Нежность Linette радует и зажигает ответный огонь.
И вот наступает 17 декабря, важный день в судьбе будущей четы.
Совпадение двух источников – записи в «Дневнике» и письма Лине – освещает его во всей достоверности пережитого обоими.
В «Дневнике» 17 декабря Прокофьев пишет:
«(…) Письмо от Пташки, очень нежное. Её томило, что я отпустил её из Этталя, не сказав ничего.
Я написал ей, что очень люблю её, жду на Рождество и что теперь мы не должны так часто расставаться, но что всё же пока ещё в браке я боюсь мглы любви».
А вот и само, уже упоминавшееся письмо от 17 декабря:
«Дорогая Пташка!
Я отпустил тебя в Италию, потому что не считал себя вправе становиться поперёк дороги твоего пения, думая, что после полугодовых занятий в Милане ты могла рассчитывать на дебют и на начало артистической карьеры. Кроме того, я не сомневался, что через месяц или два мы снова встретимся. Я понимаю, что наши долгие разлуки очень мучительны, но причиной им были мои поездки в Америку. Теперь это повторяться больше не будет. Я ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ И НЕ ХОЧУ НИКОГО ДРУГОГО.[14]. Но я всё ещё не могу отделаться от мысли, что законный контракт есть вещь, созданная для того, чтобы губить отношения. (…) Муж имеет право на жену, жена на мужа, и при одной мысли об этом хочется бежать без оглядки. Вот почему я тебе до сих пор не даю на этот вопрос никаких ответов. Если у тебя в Милане не налаживается дело с дебютом, тебе надо ехать к Lili Lehman, тем более, что она уже дала такое любезное согласие.»
В этом же письме Прокофьев объясняет Лине, насколько удобна была бы для них жизнь в Берлине, со всеми её особенностями и приводит расписание поездов из Этталя в Берлин в обоих направлениях.
Приближается Рождество. Прокофьев в Эттале, сочиняет, читает второй том Блока, готовится к концерту в Барселоне, в Испании, называя её очень музыкальной страной, разучивает присланную Мясковским рукопись «Причуды», две из них собирается сыграть в Барселоне, где Боровский с огромным успехом исполнил сочинения Прокофьева. Наступает сочельник. Как пишет Прокофьев, он обещал быть совершенно будничным. В Эттале всего два человека: он и мама. Пташка почему-то не пишет, Б. Н. не едет. Но вдруг в семь часов вечера является Б. Н., а в девять часов вечера Пташка! Телеграммы, посланные ими, не пришли. Про Пташку:
«Бедная девочка должна была целый час в темноте и по снегу лезть в гору, причём сын начальника станции тащил её чемодан. Я прямо не верил её приезду. Появилось шампанское и праздник разыгрался вовсю.
Вообще всё Рождество прошло очень весело. Катались на саночках с Эттальских гор».
Глава четвёртая Бракосочетание в Эттале. Рождение Святослава. Счастливая семья
В Эттале встретили и Старый Новый 1923 год. Но тут уж Лине пришлось поскорее собираться в Милан в надежде на ангажемент. Сидя в Эттале можно было всё прозевать.
Лина упорхнула в Милан 15 января.
В начале года, не прекращая напряжённой сочинительской работы, Прокофьев обдумывает предстоящую встречу с Испанией. Из Барселоны пришли приглашения на два концерта.
«Мысль: а ведь туда можно ехать через Милан, то есть через Пташку!» Если итальянцы не дадут транзитную визу, то он поедет через Страсбург – Лион – Тараскон. И до этих двух последних городов Пташке совсем недалеко, и по дороге можно провести вместе два-три дня. Будущая встреча с Линой приводит его в отличное настроение. Из Барселоны торопят, и Прокофьев записывает, что на смену сочинению приходят концертные скитания.
«8 февраля в семь часов вечера – Милан, и Пташка на вокзале.
В своём пансионе она заявила, что уезжает на несколько дней, и мы отправились с ней в гостиницу „Комо“, против вокзала.
Она пела недавно на театральной пробе и, возможно, получит дебют в „Риголетто“ в самом Милане».
С восьмого до двенадцатого февраля провели время вместе. Вместе ужинали, пили вино Asti, осматривали Миланский собор, на этот раз скрытый в тумане и дожде, и от желания подняться наверх пришлось отказаться. На другой день отправились осматривать старинную Геную, – там открыли для себя прелесть её гористых узких улочек, старинных палаццо, посетили знаменитое кладбище, парк, набережную, на ней дом с невероятной колоннадой.
Расставшись с Пташкой «очень трогательно», Прокофьев отправился в Марсель, чтобы последовать дальше в Барселону.
В Испании, как это часто бывает, иностранца встречали одновременно в высшей степени дружелюбно, но в то же время бюрократически непреклонно. Прокофьев мог находиться на территории Испании, но в Барселону – ни-ни. Ждали соответствующего разрешения. Наконец поздно вечером, усталый, добрался до Барселоны.
В десять часов вечера (в Испании всё начинается на два часа позже), Прокофьев завтракал у Момпоу – «здешнего молодого композитора, который играл довольно милые сочинения». Момпоу и взялся показывать Прокофьеву окрестности города, великолепную avenue, которую тогда только начинали строить. Прокофьева очаровали и узкие улицы Барселоны, ярко освещённые и многолюдные в шесть-семь часов вечера. Проехался он и на фуникулёре к Тибидабо, откуда открывается вид на весь город и море. Вечером состоялся ещё один концерт, из «коротушек», как говорит Прокофьев. Прошёл с шумным успехом.
Покинув Этталь и возвратившись в Париж, Прокофьев с Линой сразу попадают на премьеру Первого скрипичного концерта в Гранд Опера под управлением Кусевицкого, который, надо сказать, из молодого поколения композиторов отдавал решительное предпочтение Прокофьеву. Лина рассказывает, что на концерте встретили множество интересных людей, старых и новых знакомых: Шимановского, Рубинштейна, Сигети, Пикассо, Бенуа и Анну Павлову.
Прокофьев оживлённо переписывается с Мясковским и Асафьевым. Письма читает вслух Пташке, – они обсуждают всё, что пишут русские друзья.
1923 год, однако, не так богат записями, как предыдущие и последующие, и, что вполне неожиданно для читателя, это запись от 4 сентября, в которой Прокофьев пишет, что ходил гулять с полковником Эвальдом, который гостил в Эттале и вызвал симпатию хозяев. С этим полковником Прокофьев имел таинственное объяснение: как наладить брак с Пташкой. В Америке это делается просто, за несколько дней, в Германии же было сопряжено с множеством бюрократических процедур. Полковник обещал помочь. Разговор с ним состоялся 4 сентября, а чуть больше чем через месяц мы уже читаем документ, свидетельствующий о новом статусе Сергея и Лины.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ
HEIRATSURKUNDE
(Standesamt (ЗАГС, Бюро записей гражданского состояния) Этталь – № -5/ 1923-)
Композитор Сергевич (sic!) Прокофьев,
Местожительство: (проживающий) в Эттале,
Родился: 24 апреля 1894 года[15]
В: Сонцовка Екатеринослав, Россия
И артистка Кодина Каролина,
Местожительство (проживающая) в Эттале,
Родилась: 20 октября 1897 года
В Мадриде, Испания
8 октября 1923
В ЗАГСе Этталя
Заключили брак (вступили в брак)
Подпись, печать
Новый 1924 год встречали в Париже у давних друзей Самойленко. Пианист Боровский выпил с Прокофьевым на брудершафт. Шампанское лилось рекой, Лине даже пришлось прилечь.
Днём Сталь угостил супругов шикарнейшим обедом у Прюнье.
Боровские сняли квартиру из трёх комнат и уговорили Прокофьевых переехать туда и платить вскладчину, так как Боровский уезжал в концертное турне, и жена его Мария Викторовна оставалась одна.
Новое место понравилось, спали долго, никак не могли проснуться.
Плейель прислал рояль.
Прокофьев продолжал посещать концерты, играть концерты, писать концерты, и ничто даже и не говорило о крутой перемене жизни – холостой на семейную. Пока 17 января 1924 года в дневнике не появилась фраза: «Пташка рассказала Фру-Фру о своём состоянии (восемь месяцев). Об этом, кроме Сталя, кажется, никто не догадывался до сих пор. Вечером корректировал партитуру 3-го Концерта и раскладывал пасьянс».[16]
Вот, оказывается, что. Ожидается прибавление семейства. Но, как уже и было сказано, образ жизни нисколько пока не изменился. Появились некоторые дополнительные дела: пришлось, например, навестить русское консульство, чтобы получить для Пташки паспорт, так как у неё всё ещё оставался девичий испанский.
Ссорились с Пташкой оттого, что именно в конце февраля, на время родов, у Прокофьева были запланированы концерты в Риге. Потом, как пишет муж, «трогательно помирились».
Начало года сопряжено с тяжёлыми переживаниями, связанными с состоянием Марии Григорьевны. Оно стало настолько угрожающим, что перевозить её из Этталя в Париж было небезопасно для жизни. Всё же Прокофьев едет за ней в Этталь, и там проводит несколько дней, «маме хуже», «мама умирает», и вдруг запись: «маме лучше». Всё это время Прокофьев собирает вещи и ноты для возвращения в Париж. Переживания самые горестные… Однако в Париже Лина на сносях.
Но дома всё благополучно, и Пташка чувствует себя прекрасно. Прокофьев водит её к доктору, и, по тем временам, настоящее чудо: Ещё до родов доктор берёт на себя смелость предсказать, что скорее всего будет мальчик.
18 февраля Пташка отправилась в клинику, Прокофьев навещал её ежедневно, – может быть, приехали слишком рано? Вместе занимались проверкой перевода «Апельсинов».
Вечер провёл в обществе Милюкова, Бунина, Мережковского, Куприна, Шмелёва, Ремизова, Ларионова и, как пишет Прокофьев, «прочих», – трудно представить себе, кто же были эти прочие? Кажется, уж все здесь. Но после вечера Сталь под предлогом предстоящего рождения сына потащил будущего отца на Монмартр, где выпили шампанского.
С утра поспешил в госпиталь, думая, что сбудется предсказание Сталя. Но всё было без перемен. Пташка переехала в огромную, солнечную и тихую комнату. Два раза Прокофьев ездил на вокзал встречать Ольгу Владиславовну, но она ещё не приехала.
Наконец 24 февраля она прибыла, и первый вопрос был, конечно, о Лине. Прокофьев отвёз её сначала в отель, а потом к Пташке, состоялась бурная встреча.
Запись Прокофьева об Ольге Владиславовне:
«Ольга Владиславовна очень нервна. Держится политики никому не мешать и не тратить ни копейки денег, кроме своих. Всё время у Пташки в больнице. Сама Пташка без перемен».
Мама приехала вовремя.
27 февраля 1924 года родился Святослав. Запись Прокофьева обо всём и обо всех:
«У входа в больницу встретил Ольгу Владиславовну. Доктор уже приехал, прогнал О. В. и велел ей вернуться через полчаса. Мы стали бродить по соседним удицам. О. В. очень волновалась, а я её старался подбадривать. Затем я пошёл в больницу, а О. В. осталась на улице, дошёл до двери Пташкиной комнаты, но дверь была закрыта и внутри всё тихо. Затем вдруг появилась сестра и доложила, что всё благополучно кончилось, родился сын, и я могу войти. Доктор надевал пиджак и поздравлял меня.
Пташка лежала страшно плоская, без живота. Она была ещё в полусне, но улыбнулась, когда я подошёл к ней. Ребёнок был в люльке, он был лиловый и страшно уродливый. Сестра побежала на улицу звать О. В. Рождение прошло чрезвычайно благополучно и произошло в 8.45 утра.
Отношение моё к ребёнку скорее тёплое, лишь бы не очень орал.
Пташка очень хотела сына. Я не имел специального выбора. Назвать решили по моему предложению Святославом. Я хотел бы Аскольдом, но, вероятно, поп не окрестил бы.»
Жизнь продолжается. Святослав становится не таким лиловым, Сергей и Пташка правят под его крик перевод либретто «Апельсинов», который уже был сделан Линой. Турне в Ригу отменилось, чему Прокофьев рад. Отношения супругов нежные и доверительные.
Тем временем крик младенца начинает раздражать М. В. Боровскую, и Ольга Владиславовна с ожесточением принимается срочно подыскивать квартиру. Не без приключений, характерных для этого рода деятельности, она, тем не менее, достаточно скоро находит квартиру из четырёх маленьких, но солнечных комнат, даже Сену видно немного. Ольга Владиславовна и Прокофьев в сборах, они, как всегда, нелёгкие, гора чемоданов, стопа нот в метр вышиной, но вот уже всё собрано, и семья переселяется на новую квартиру, 5, rue Charles Dickens. Сначала перевозят все вещи, приготавливают комнаты, и на другой день переселяется Пташка с младенцем. «Пташке понравилась квартира», – пишет Прокофьев, которому она тоже гораздо больше понравилась при ближайшем рассмотрении: очень солнечная! Однако всего не предугадаешь. Стены оказались «картонные», и снизу с шести до одиннадцати вечера квартира оглашалась звуками, – внизу жила девочка, которая дубасила на фортепиано невесть что. Пташка озаботилась этой проблемой и попросила маму купить восковые шарики для ушей, чтобы спастись от «пианистки» и Святослава.
Все встречи, предшествующие первому «выходу в свет» жены, Прокофьев оживлённо обсуждал с ней, это было характерно для всей их жизни. Темы для обсуждения самые животрепещущие; помимо музыкантов, Прокофьев встречается со всеми «нашими», как он называет их, писателями: Бунин, Мережковский, Гиппиус, Куприн, Ремизов. Осоргин, известный призывами к русской молодёжи немедленно ехать в Россию, и Милюков играют в шахматы. Милюков проиграл, тогда Прокофьев занял его место, разнёс Осоргина в пух и прах, и хотел поговорить с Мережковским о Гильгамеше, «Но он так важно беседовал с Буниным о миссии русской эмиграции, что не удалось».
В разные годы и по разным поводам Прокофьев возвращается к мысли о своей аполитичности, его поглощает творчество, над всеми его многочисленными интересами полностью царит музыка.
В дни, предшествующие рождению Святослава, он побывал на митинге русской колонии, «где говорили Бунин („сухо и академично; я не люблю его“), Мережковский („более интересно, но у него тоненький голос и незадача с буквой ‘р’“), Карташёв и другие. Все они ругали большевиков, жалели попранную Россию и во имя Христа призывали к ненависти. Я с интересом слушал, хотя душой был как-то в стороне. Говорят, Пифагор (или Архимед), когда брали приступом город, в котором он жил, сидел у себя в саду и чертил на песке теорему. Так его и убили за чертежом. Этот человек по-настоящему любил свою науку!»[17].
Гиппиус присылает стихи для романсов, дружба связывает Прокофьева с Бальмонтом, Ларионов делает интересные предложения о кукольном балете сначала для Монте-Карло, а потом уже Парижа. Прокофьев продолжает учить 2-й Концерт, занимается усердно и пишет: (…) «страшная точность – и не прощать себе ни одной сомнительной ноты. При такой системе можно достичь рахманиновской безукоризненности».
6 апреля состоялся первый выход в свет Пташки. Это было вечером, у Prunieres. Там масса композиторов: Равель, Пуленк, Орик, Онеггер, Руссель. В тот день разгорелся жаркий спор между Шлёцером и Равелем. Темой стал Чайковский. Равель сказал, что «вы, люди византийской культуры, никогда не поймёте нас, западных…». Прокофьев вставил: «Тем более, что Шлёцер – бельгиец». Орик и Пуленк – противники Равеля – радостно рассмеялись.
Лина стала выходить. Как-то у Самойленко вчетвером играли в карты. Разгорелись такие страсти, что «выли от волнения и ненавидели партнёров».
«С Пташкой очень нежные отношения», – записывает Прокофьев в день, когда Святославу исполняется шесть недель.
Перед Русской Пасхой разразилась ссора со Сталями. Читатель «Дневника» заметит, что с какого-то времени Вера Янакопулос перестаёт фигурировать как «Вера» или «Янакопулос», а почему-то станосится «Дивой». С Дивой Прокофьев договаривается и о романсах, которые она будет петь в его концерте, – композитор хочет, чтобы она пела новые. Как вдруг от неё приходит сообщение, что она будет петь только старые, а если Прокофьеву это не нравится, то она может отказаться. Тон и поступок странный. Прокофьев сразу же вступает на тропу войны. «А как будет фамилия аккомпаниаторши? Он-то ведь не станет аккомпанировать старые романсы?» Отвечает Сталь, и очень резко. Прокофьев потрясён: ведь затевал всё именно Сталь. Ночью Прокофьев не спал, обдумывал ответ, написал вежливо, но доказывал непорядочность поступка. Днём вместе с Линой ждали, что Сталь придёт скандалить и договорились, что Сергей выйдет чёрным ходом. Уж не профессиональная ли ревность Лины сыграла роль в неожиданном ухудшении отношений со Сталями?
Но Сталь не появился.
Вечером преисполненная сочувствия жена Кусевицкого Наталья Константиновна настоятельно рекомендовала певицу Юрьевскую. У Пташки безумный насморк. Пришла Юрьевская, выбирали с ней романсы, которые она споёт в дальнейшем на реситале 12 мая вместо Янакопулос.
Бальмонт прислал письмо, в котором описывал разные дачи у океана на лето.
15 мая Прокофьев нашёл до 1 ноября очень комфортабельный дом в St.Gilles-sur-Vie, маленьком городке к югу от St.Brevin. Изумительный пляж, но нет сада. Так как мечтали об океане, то вопрос решил пляж.
Жизнь с Линой протекала как нельзя лучше, пока не пришло письмо от мамы – Марии Григорьевны – с советом отдать Святослава в какое-нибудь хорошее место на воспитание. Лина в слёзы. Всякая мать её поймёт, тем более, что Прокофьев – совершенно преданный и послушный сын – привык считать, что мама всегда права. Всё же слёзы Лины его убедили, они помирились. Святослав остался дома.
Ольга Владиславовна верой и правдой помогала молодым супругам. Каждый вечер они вместе ходили на концерты, но 24 мая Прокофьев «проводил Ольгу Владиславнвону, которая уехала в Америку, оказав нам массу услуг и, вместо отдыха, замучившись окончательно.»
На следующий день Святослава впервые в жизни оставили одного, поскольку по приглашению Прайса родители поехали в Севр пить чай. Прайс – это, кажется, первый контакт с Christian Science.[18] Он умирал от болезни сердца, его спасло вмешательство проповедника, который полностью излечил его. Рассказ Прайса произвёл на Прокофьева огромное впечатление. По возвращении домой Святослав оказался цел и невредим, хоть и устал от крика.
Прокофьев на протяжении почти всей жизни – в особенности в молодые годы – был весьма привержен «Christian Science», суть которой состояла в главенстве воли человека, которая может управлять всеми телесными проявлениями в жизни человека. Christian Science являлась прагматическим ответвлением христианской веры, помогавшей человеку справляться со страданиями и горестями, телесными и душевными.
Православный Прокофьев в двадцатые годы в США прочёл труды Мэри Бейкер Эди, основательницы Christian Science. Он увлёкся этим религиозным движением и вовлёк в него Лину.
В Париже Прокофьев посещал Вторую церковь Christian Science на бульваре Фландрен 58.
В его записной книжке, найденной в Париже в 1959 году, есть факсимильная репродукция текста, написанного Прокофьевым на английском языке. Перевод сделан Святославом Сергеевичем Прокофьевым.
Несомненно, это учение сыграло существенную роль в трудные времена жизни Сергея Сергеевича и Лины Ивановны, и поэтому кажется важным привести его максимы. Для Прокофьева оно стало этической платформой. Оно же сыграло спасительную роль в жизни Лины Прокофьевой. В последние годы жизни она предприняла путешествие в храм Christian Science в Бостоне.
Угнетённое состояние (депрессия) является обманом, порождённым смертным мозгом, следовательно, оно не властно надо мной, ибо я – проявление жизни, то есть духовной силы.
1) Я являюсь проявлением жизни, то есть духовной силы.
2) Я являюсь проявлением души, которая мне даёт силу для сопротивления всему тому, что не является духом.
3) Моё постоянство обеспечивает непрерывную приверженность всему правдивому.
4) Я – проявление Любви, которая поддерживает мой постоянный интерес к моему творчеству.
5) Индивидуальность дана мне для создания Красоты.
6) Являясь проявлением Разума, я способен к сильному творческому мышлению.
7) Являясь частью единственной великой Цели, я игнорирую всё, что не создано для этой цели.
8) Я выражаю радость, которая сильнее, чем любое явление, отличающееся от неё.
9) Я – проявление совершенства, и это обязывает меня к безупречному использованию своего времени.
10) Я здоров, следовательно, я работаю легко.
11) Я обладаю мудростью для того, чтобы постоянно её выражать.
12) Я олицетворяю Разум, это меня обязывает выражать вдохновение мысли.
13) Я честен перед собой и, следовательно, сделаю работу как можно лучше.
14) Так как творческая деятельность является моим неотъемлемым свойством, то моё желание работать является естественным.
15) В связи с тем, что я являюсь отражением Духа, я испытываю необходимость выражать красоту.
16) Я одухотворён, следовательно, силён.
17) Бесконечная Жизнь – источник моей жизнеспособности.
18) Я в любое мгновение готов выражать прекрасные мысли.
19) Я страстно желаю творить, так как деятельность является проявлением жизни.
20) Я пребываю в радости несмотря на неприятности, ибо столкновение с ними показывает реальность жизни.[19]
В Париже Прокофьевы дружили с приверженцами Christian Science. Лина, страдавшая небольшими осложнениями после родов, с успехом прибегла к помощи священника этой веры.
Лечение протекало следующим образом: американская миссис приняла Лину очень любезно, поговорила с ней, а потом сказала: «а сейчас начнётся лечение». Она закрыла глаза рукой, сосредоточилась и через десять минут сказала: «Вы будете здоровы».
На следующий день Прокофьев и сам отправился к Mrs Getty, обсуждал с ней основы Christian Science, а потом так же, как и Лина, прошёл сеанс терапии, заключавшейся в том, что миссис Гетти дала Прокофьеву читать книгу «Наука и здоровье», а сама углубилась в медитацию, закрыв глаза рукой. В конце сеанса она тоже заверила Прокофьева в том, что у него больше не будет неприятностей с сердцем. Ещё через год Прокофьев запишет в Дневнике, что Christian science несомненно влияет на смягчение характера, сглаживая, а иногда вовсе уничтожая ненужные ссоры.
В конце мая 1924 года состоялась премьера «Семеро их». Сергей Прокофьев вместе с Пташкой в ложе Кусевицкого. Здесь же Боровские, Дебюсси, позже Равель. Первое исполнение этого произведения заставило автора поволноваться, но оно было сыграно отлично и сопровождалось огромным успехом. Автор кланялся публике из ложи. В антракте виделись с Бакстом, Милюковым – страстным любителем музыки, они были в восторге. Во втором отделении новое сочинение Прокофьева было исполнено во второй раз, на бис, после «Ноктюрнов» Дебюсси. Очень хвалил сочинение Равель, оценивший новые средства выражения, новое звучание. Мадам Дебюсси говорила с Пташкой и сказала, что ей нравится самостоятельность музыки.
Каждый день приносил с собой захватывающие события, открытия. В Париж приехала Венская опера с операми Моцарта. Супруги ходили слушать «Похищение из сераля», «Фигаро», потом «Дон Жуан». Было бы поистине невозможно рассказать о всех музыкальных событиях, свидетельницей и участницей которых была Лина.
Летом Прокофьев, как обычно, искал дачу, где-нибудь вдали от городской суеты, в окружении живой природы, которой он с детства был так предан. Теперь на дачу переезжали уже всей семьёй: М. Г., Лина, он сам и пятимесячный Свтослав. В Вандее, на самом берегу Атлантического океана, в небольшой деревне в Сен-Жиль-сюр-Ви сняли домик под названием «Villa Bethanie». Главная прелесть местечка состояла в изумительном пляже, уединённом, диком, песчаном и бесконечном во время отлива.
Прокофьев работал, поступаясь иной раз столь любимым утренним купанием. Пташка не боялась холодной воды, самоотверженно пускалась в плавание, и кончилось всё тем, что оба заболели. У Прокофьева снова начались отчаянные головные боли, а Пташка простудилась. Но теперь появилась панацея от всех болезней: миссис Гетти. Сергей и Лина написали ей, прося заочной помощи.
Миссис Гетти написала: «Не думайте о боли, и она не будет думать о вас», привела страницы книги. Супруги послушно штудировали эти страницы. И что же? Голова прошла, что редко случалось раньше. Пташке же скорее всего помогло повышение температуры воды в океане, которая поднялась до 21 градуса.
Лечила она и Святослава. Способ был не вполне традиционным – пить сырую воду. Прокофьев писал, что Святослав был вялым, но вёл себя превосходно.
Прокофьев продолжал штудировать Christian Science, его взаимоотношения с Кантом, Ветхим Заветом, естественными науками.
Миссис Гетти помогала Лине и в её концертной деятельности, учила избавляться от волнения, свойственного всем артистам перед выходом на сцену. Она говорила Лине: «Пойте как если бы для Бога». Этот совет Прокофьев запомнил и пользовался им и сам.
Супруги, страстные любители путешествий, совершали поездки, на автобусе, на парусной лодке с мотором. О Святославе Прокофьев пишет:
2 сентября 1924 года
«Святослав всегда мне улыбается и в общем меня любит, вероятно, главным образом, за красную полосатую куртку и очки. Par contre, ненавидит одетого в белое аптекаря, к которому его возят еженедельно взвешиваться, однако, если я снимаю куртку и остаюсь в белой теннисной рубашке, он начинает дико орать, так как принимает меня за аптекаря.»
Сергей и Лина с тоской думали о возвращении в тесную парижскую квартирку на улице Чарлза Диккенса, как вдруг случилось настоящее чудо: в Бельвю, под Парижем, сдаётся огромная зимняя дача!
Осенью 1924 года всей семьёй переехали в загородный дом, о котором Лина пишет, что в нём было множество комнат и огромный сад, разнообразный и интересный, с урнами и саркофагами, хорошая оранжерея. Одна ваза понравилась Прокофьеву, напомнив ему скифские сосуды. Для Марьи Григорьевны и Святослава нельзя было и мечтать о лучшем. Сергей Сергеевич всегда предпочитал жизнь за городом, а Париж, в который ему часто приходилось ездить, был рядом. Лина пишет, что по воскресеньям приезжали гости из Парижа: композиторы Орик, Мийо, Пуленк, Онеггер, Соге, художники Петров-Водкин, Николай Бенуа, пианист Боровский.
На этом славном перечислении остановимся на минутку. Само собой разумеется, что в таком сонме разноодарённых личностей, (Рахманинов НИКОГДА не участвовал в интригах и был одержим только одной идеей – помогать уступавшему ему в таланте Метнеру, что и делал, всю жизнь чувствуя себя виноватым перед ним), всё было безоблачно. Пробегали тени, разражались грозы, перегруппировка сил то и дело происходила по непонятным Прокофьеву причинам. Прокофьев в отношении к музыке коллег всегда руководствовался исключительно музыкальными соображениями, он безошибочно и честно судил о музыке, – и если кому-то показались бы неблизкими его суждения, они всё равно были чисто музыкального происхождения. Рискну предположить, что единственное оружие Прокофьева – его музыка – не всегда убедительно на коротких дистанциях, и в ряде случаев внезапные перемены в отношении к нему коллег бывали связаны с коньюнктурными обстоятельствами, – Прокофьев не понимал, что происходит, терялся в догадках, огорчался. Впрочем, как же без этого? По соседству с гением многие чувствуют себя неуютно. Пташка своей преданностью была ему всегда верной опорой. Она самозабвенно любила музыку Прокофьева.
Лина рассказывает, что Сергей особенно дружил с Франсисом Пуленком. Оба обожали шахматы и бридж. Перед исполнением своих концертов Прокофьев всегда репетировал их с Пуленком на двух роялях: Первый, Второй, Третий и Пятый концерты для фортепиано с оркестром они проигрывали целиком, – Пуленк исполнял партию оркестра. Для Прокофьева это было необходимым повторением перед исполнением, для Пуленка – прекрасным музицированием с композитором, которого он ценил чрезвычайно высоко, а для Лины неизъяснимым удовольствием слушать любимую музыку.
12 декабря 1924 года
«Кончина мамы, у меня на руках, в 12.15 ночи на тринадцатое декабря.»
В начале января 1925 года Прокофьев возвращается из Польши в Бельвю: «в пять часов Париж, и очень нежная встреча с Пташкой, приехавшей на вокзал. Отправились в Бельвю».
В марте Сергей Сергеевич и Лина в отличном настроении поехали в Кёльн, где ставилась опера «Любовь к трём апельсинам». Первые репетиции проходили под фортепиано. В зале в это же время шли световая и декорационная репетиции. Прокофьев нашёл, что в кёльнских декорациях больше юмора, оперу же сократили на один антракт и разделили ровно пополам. 11 марта проходила уже генеральная репетиция, и Прокофьев обратил внимание на сценическую сторону выступления хора, который своей игрой (не только пением, как в Чикаго) принимал участие в действии. Каждый хорист играл в меру отпущенных ему возможностей, – Прокофьев почувствовал руку режиссёра, любящего своё дело.
Премьера. В первом акте Прокофьев находится в ложе с Линой, но поближе к единственному антракту его просят пересесть в ложу рядом с оркестром, чтобы оттуда кланяться. Однако реакция была сдержанная, и Прокофьев немного огорчился. Ему объяснили, что немецкая публика несколько огорошена, а в антракте они поговорят между собой, и потом будет успех. Так и оказалось. По окончании оперы раздался гром аплодисментов, и по подсчётам критиков Прокофьев вышел на вызовы двадцать раз.
Супруги едва ли не больше всего любили путешествовать, и этой своей страсти не изменяли до наступления мрачных времён уже в СССР.
Запись в «Дневнике» от 22 марта 1925 года.
«Встали в 6.30 и отправились с Пташкой в Monte Carlo. Оделись ради юга легко и потому дрожали от холода. Из Парижа в девять утра с отличным рапидом, одним из самых скорых поездов Франции, и в 9.30 вечера в Марселе, где заночевали. Немного походили по улицам, глядя на пёструю портовую толпу: матросов, африканцев, кокоток etc.»
На другой день продолжили путешествие, проехали Канн, Ниццу, не отрываясь от окон. Напрасно было ждать в это время южного тепла, было прохладно и моросил дождь. В отеле был прекрасный вид на море, которое, по словам Прокофьева, было синим даже в серую погоду. Вечером гуляли и сидели в вестибюле казино, наблюдая за выходившими оттуда людьми, старались по выражению лица угадать, выиграл или проиграл тот или иной посетитель. «Впечатление тяжёлое: многие выходили в трансе, шаркая ногами, ничего не видя; ужасные старухи…».
Однако не все путешествия проходили в идиллической обстановке. Всё же характеры у супругов были разными (недаром Сергей Сергеевич уповал на Christian Science), да и Лина не была ангелом, вспыльчивая, резкая, и, как это часто бывает, присутствие третьего человека (три – в общении очень плохая цифра) вносило лишнее раздражение. Племянник Владимира Набокова, композитор Николас Набоков, большой друг Лины, живо описал в своих воспоминаниях одно из так называемых «гастрономических путешествий». Кажется, он не вполне справедлив к Сергею Сергеевичу, упрекая его в отсутствии интереса к статуям и соборам. Всё же какая-то часть атмосферы передана. Не исключаю, что реакции Сергея Сергеевича были вызваны протестом против всяческой восторженности.[20]
«У неё была слабость к симпатичным маленьким трактирам в живописных окрестностях, среди зелёных холмов или притулившимся к очаровательным пригоркам, а он предпочитал останавливаться в городах, в самом лушем отеле, рекомендованном гидом Мишлин. Ни музеи, ни замки, ни катедрали его совершенно не интересовали. И так как мы должны были строго следовать тому, что он называл „правильным ритмом“ и пр., у него становился совершенно непроницаемый и индиферентный вид при любом нарушении. Всё, что он сказал о Шартрском соборе, было: я всё время задаю себе вопрос, как это им удалось взгромоздить эти статуи так высоко, чтобы они не упали. Но когда ему в руки попадало меню, он совершенно преображался и начинал заказывать для нас „блюдо дня“, по специальности того или иного дома и выбирал вина по карте. Надо сказать, что Прокофьев водил машину неровно: то он вёл с чрезмерной осторожностью, очень медленно, то вдруг внезапно дёргал машину с места.
Мы путешествовали в его маленькой новой машине по дорогам Франции, и всё наше путешествие было разделено на отдельные этапы. Он сообщил, что на другое утро мы должны выехать в 9.30 и ни одной минутой позже. И так как мы с Линой Ивановной хотели посетить дом, где родилась Жанна Д'Арк, музей и базилику, мы договорились встретиться с ней в 8.30, пока Прокофьев брился. Посмотрев все уродливые памятники, мы прибыли к монструозной базилике и между прочим в крипте этой базилики нашли очень интересную достопримечательность города, подаренную Музею Жанны Д'Арк маршалом Кохом: редкие монеты, в том числе серебряные русские времен Петра Великого и его дочери Елизаветы. Мы покинули крипт чуть позже 9.30 и помчались к отелю, зная, что нас ожидает. Прокофьев в самом деле ждал нас зелёный от злости. Во время взрыва его гнева Лина Ивановна расплакалась, это обозлило его ещё больше и он начал кричать: „Что это за манера? – кричал он, – и за кого вы меня принимаете? Я просто ваш слуга, чтобы выполнять ваши приказы. Можете взять свой чемодан и сесть на поезд.“ Это продолжалось полчаса, в течение которых портье с олимпийским спокойствием заряжал аккумулятор и готовил машину. Мы снова пустились в дорогу. Я сидел рядом с Прокофьевым впереди. Никто рта не раскрывал. Он хранил ещё большую непроницаемость, чем обычно, крайне недовольный, на заднем сиденье его жена плакала горючими слезами и не могла остановиться. Час прошёл в этой приятной атмосфере, пока я не повернулся к Прокофьеву и не сказал ему: „Сергей Сергеевич! Ну хватит! Или прекратите всё это немедленно или действительно остановите машину в следующем городе. И я сяду на поезд.“ Он не ответил, потом на его лице появилась улыбка, и он сказал: „Да, забавно, не правда ли?“
Пунктуальность Прокофьева обросла множеством мифов.
Святослав Сергеевич рассказывает: „По возрасту Набоков ближе к папе, хотя разница между мамой и папой всего шесть лет. Набоков описывает в своей книге, как однажды встретился с папой на улице, и Прокофьев пригласил его пройтись. Он выработал маршрут прогулки (обход всего комплекса Инвалидов с остальными зданиями), давал комментарии и когда они возвратились домой точно или на несколько секунд раньше, папа был очень доволен. Тогда как раз изобрели такой инструмент – шагомер – и папа им очень увлекался“».
Полное счастье испытывали супруги во время путешествий с приезжавшими из Москвы друзьями Сергея Прокофьева, Асафьевым и Ламмом[21]. С ними Сергей и Лина ездили по Швейцарии и Франции. Восторги разделялись, чувства и мысли всех участников сливались в унисон. Прокофьев и Лина были счастливы доставить удовольствие друзьям, а те платили сторицей своей способностью восхищаться, удивляться, радоваться.
Впервые после двухлетнего перерыва Лина начала выступать в концертах. В мае она пела в Льеже. Приехали туда шестого мая, а концерт был седьмого. В первом отделении Сергей Сергеевич играл «Картинки с выставки» Мусоргского, во втором Лина пела романсы. Прокофьев был сравнительно спокоен, Пташка очень волновалась и не дотягивала ноты в романсах Прокофьева, русские же романсы исполнила удачно и имела большой успех. Прокофьев пишет, что не меньше чем у него самого. Критики единодушно хвалили её, музыку Прокофьева недопоняли.
24 мая Прокофьевы устраивали последний приём в Бельвю, так как истекал срок контракта, и хозяин торопил. Гостями были Пташкины американки и итальянцы, М-ме Кусевицкая, Дукельский. В центре внимания находился Святослав, который только-только начал ходить самостоятельно. Кусевицкая дразнила Прокофьева, говоря, что Святослав красивее него. Потом поехали все вместе к Боровским.
Дни напролёт Прокофьев работал, сочинял, корректировал, играл, концерты с исполнением его новых произведений происходили чуть ли не каждый день. Невозможно было найти время, чтобы переехать! И вот наконец:
2 июня 1925 года.
«Утром колоссальная укладка и к двенадцати часам выехали в грузовом автомобиле, нагруженном двадцатью пятью вещами. Поселились 32, rue Cassette; у нас очень хорошо, большая комната, у Святослава и няни – маленькая.
Пташка мечтает о квартире в Париже, чтобы иметь постоянный угол, а то эти переезды действительно мучительны. Я хотел бы под Парижем кусок земли в 3000 кв.м., с небольшим домом.»
Денег на такую покупку не было, но Прокофьев мечтал получить их после поездки в Америку.
А пока идя навстречу пожеланию Дягилева сделать балет о Советской России, Прокофьев написал «Стальной скок». Прокофьев сочинял либретто вместе с художником Якуловым, – работа была трудной, одно время казалась обречённой на неудачу. На горизонте появился вездесущий Эренбург, но сотрудничество с ним не состоялось. Якулов всё же справился, Дягилев одобрил замысел, Прокофьев работал не покладая рук и к сентябрю закончил балет в клавире.
Следуя день за днём за жизнью семьи Прокофьева, ощущаешь, насколько же это была счастливая жизнь, полная, насыщенная всем, что вносит смысл и красоту в творческое, семейное и дружеское сосуществование. Прокофьев был широко признан как композитор, пианист, дирижёр – европейский, американский, русский. Он находился в плодотворнейшем периоде своего творчества. Из-под его пера появлялись на свет всё новые и новые произведения, во всех жанрах музыкального искусства, оперы, балеты, фортепианные и скрипичные концерты, фортепианные пьесы, камерные и вокальные сочинения, исполненные новизны, мелодизма, остроумия. Они звучали во множестве стран, на самых известных сценах мира. Рос Святослав, в семье царила любовь, преданность, взаимопонимание. Лина искала свои пути на сцену, ей сопутствовали и удачи, и неудачи. Важной частью жизни были и постоянные радости общения с природой, домашние спектакли, встречи с самыми выдающимимся современниками, с друзьями, которым Прокофьев и Лина оставались преданы на протяжении всей жизни.
Перед американскими гастролями Прокофьев отправился в Голландию, а жена осталась ещё на шесть дней: уроки, туалеты и укладывание вещей. Всё имущество надо было уложить в три сундука, два ящика и несчётное количество чемоданов. «Господи, когда же у нас будет постоянный угол?» У Прокофьева болело сердце, он искал помощи, и снова небезуспешно, в Christian Science. Потом приехала Пташка, и хотя встреча была очень нежной, но жена была нервная и усталая.
В самом конце 1925 года Сергей и Лина отправились в Америку. Переезжали через океан на французском пароходе «Де Грасс». Пароход качало, дул холодный ветер. Но супруги не теряли бодрости духа. Прокофьев работал над переложениями для фортепиано, отвечал на письма, принял участие в шахматном турнире и выиграл все партии. Тут же честно сообщается, что противники были слабыми. Пташка перенесла качку хорошо. «За ней пытались ухаживать буквально все мужчины, включая капитана», – с гордостью сообщает Прокофьев.
Вечером были танцы и костюмированный бал, но Лина настолько устала от очередной укладки сундуков, что супруги немного повздорили. Лина сказала даже, что лучше никуда бы не ездила.
На другой день наступал Новый 1926 год, на этот раз в Нью-Йорке.
Глава пятая Гастроли в США в 1926 году. Поездка в СССР в 1927 году
«Нет другого города, кроме Нью-Йорка, который так красив, когда к нему подъезжаешь, – пишет Прокофьев. – Как всякие добрые русские из обиженных эмигрантов, мы чувствовали некоторое волнение перед паспортным контролем, но всё обошлось легко».
В отеле были уже приготовлены апартаменты, а Стейнвей позаботился об инструменте, который уже ждал там Сергея Сергеевича и Лину.
Отправились гулять. Общее ощущение, сложившееся у супругов: сытость, богатство и некоторая безвкусица. Лина, истинный знаток моды, так жаждавшая вернуться в Нью-Йорк, была совершенно поражена кричащей одеждой дам.
Выяснилось, что ей тоже оплатили дорогу, из этого следовало, что она примет участие в концертах. Она не была уверена в этом перед поездкой, но теперь очень обрадовалась, и муж был рад за неё, хотя, как он, не без юмора отмечает: «турне будет беспокойным, и всё настроение будет зависеть от того, как будет звучать наш голос».
В предвидении концертных треволнений усталая Лина сразу же по приезде отправилась в Aeolian Building, где находилась читальня Christian Science, чтобы на родине этого учения ей порекомендовали наставника. Оказалось, что там было не принято оказывать предпочтение одному перед другим, и Лине дали список тех, кто находился в том же здании, состоявший из двенадцати человек. Она растерялась: кого выбрать? Случайно попала к Worran Klein. Он решительно отличался убеждённостью и убедительностью от представительниц Христианского Учения, с которыми она общалась в Париже. Прокофьев тоже решил посетить его.
Поход к Клейну оказался необыкновенно удачным, Прокофьев был поражён его идеей и свою подробную запись об этом визите заканчивает такими словами: «Ушёл я от него очень бодрый и, идя по 5-й авеню, думал, что Нью-Йорк не только городит механику, дома и доллары, но таит и настоящие идеи».
Прокофьев не раз возвращается к тому, что стал спокойнее чувствовать себя перед концертами: «Я не волновался! Какое счастье! Это Клейн».
Прокофьев выступал в Америке и с симфоническими оркестрами, и с сольными программами, которые проходили более чем успешно. Он описал в своём «Дневнике» все концерты, в том числе и те, в которых принимала участие Лина.
8 января 1926 года, St.Paul, USA
«Вечером концерт в частном особняке, человек сто пятьдесят публики, очень нарядной. Пташка была целый день усталая и безголосая, но вечером пела недурно. Мы оба не волновались. Klein?»
12 января 1926 года, Денвер, США
«Концерт состоялся в небольшом зале, человек на триста-четыреста, в котором присутствовало около двухсот слушателей. Я опять не волновался, Пташка очень мало. ‹…› Пташка пела недурно, если принять во внимание утомление, плохое самочувствие и голос, утром совсем незвучавший. Публика была внимательна, благосклонна, старалась понять, но по-серьёзному разаплодировлась только в конце, после „Токкаты“».
В Денвере Прокофьев оставил Лину, а по приезде нашёл её зелёной и измученной: во-первых, высотой (город расположен в на высоте полутора тысяч метров), но больше всего местными дамами, которые не знали удержу в своём внимании к ней и затаскали её по завтракам и обедам.
22 января 1926, Канзас, США
«Я играл хорошо. Пташка пела недурно, лучше чем в Denver'е, и во всяком случае лучше, чем можно было ожидать от её утренних упражнений».
26 января 1926, Нью-Йорк
«Пташка сегодня вовсе без голоса, поэтому решили – лучше, чтобы она вовсе не пела вечером. Концерт (от Pro Musica) состоялся в частной квартире …»
Лина в своих воспоминаниях рассказывает, что кроме произведений Прокофьева исполняла романсы Чайковского, Мусоргского, Метнера, Стравинского, Мясковского. Аккомпанировал Сергей Сергеевич. Всё портило мучительное сценическое волнение. К счастью, Лине всё же удавалось преодолевать его.
Супругов встречали везде необыкновенно гостеприимно, показывали города, окрестности, потом в частных клубах угощали, приглашая видных музыкальных деятелей из округи. Но, как это и бывает у артистов, ведущих концертную жизнь, каждый день требовал большого напряжения. Чуть отдохнул, позанимался, и пора одеваться к концерту, а сам концерт, так или иначе, – это всегда сильное волнение. После концерта, как обычно, – банкет, попытка расслабиться, и снова на поезд – и в путь.
В Бостоне рядом с концертным залом находится основная церковь приверженцев Христианской Науки – Christian Science Church. Вечером её купол освещался прожекторами, поставленными на крыши соседних домов. Это было очень красиво. В последние годы жизни Лина Ивановна снова посетила её.
В январе Лина несколько раз была и у своего отца, Хуана Кодины. Сергей Сергеевич, может статься, и не был основательно знаком с ним до сих пор. Он хорошо знал Мэмэ, которая и во Францию приезжала чаще всего одна. О встрече с Хуаном Кодиной в Америке мы узнаём из записи Сергея Сергеевича:
«Были у Пташкиного отца. Пташка уже была у него в предыдущие дни, а он приходил на концерт, которым остался очень доволен. Ему шестьдесят лет, но можно дать сорок-сорок пять. Он произвёл на меня очень приятное впечатление, даже несмотря на то, что плохо говорит и по-французски, и по-русски».
Гастроли по Америке заканчивались в Нью-Йорке, этом самом трудном, наверное, городе, сытом всеми знаменитостями мира, определяющем судьбы музыки. Прокофьев едко сравнил его с парвеню, покупающим старинный замок. Однако выступление Прокофьева с Бостонским оркестром прошло триумфально, с овацией после пяти вызовов, а в артистическую среди прочих пришли с поздравлениями Клемперер, Гизекинг, Тайфер и другие. На другой день «парадный» завтрак устроил Стейнвей: Тосканини, Рахманиновы, Кусевицкие, Ауэр. Пташка разговорилась с Рахманиновым о его внучке, он был рад побеседовать с ней. С Тосканини и его женой Пташка заговорила по-итальянски. Жена Тосканини пришла в восторг и пригласила Прокофьевых приехать к ним в гости в Италию.
Прокофьев и в Америке не забывал своих друзей: он организовывал исполнение симфонии Мясковского, пытался уговорить Кусевицких напечатать книги Асафьева. В конце-концов он нашёл издателя, но гонорар показался ему ничтожным, и он временно отложил свои хлопоты.
По пути на гастроли в Италию во время концерта в Германии, Прокофьев с удовольствием делает запись о происшествии во время ужина, последовавшего за концертом (Третий концерт для фортепиано с оркестром под управлением Крауса). Некий слушатель посетовал на кастаньеты, зазвучавшие во второй части побочной партии, считая это совершенно ненужным. И тогда кто-то, знакомый, по-видимому, с биографией композитора, сказал: «У него жена испанка». «Здорово»! – написал Прокофьев.
В Италии Пташку ждали интересные встречи. Первая – в Риме, и не больше – не меньше, чем с Папой.
В Риме Прокофьев выступал в Академии св. Цецилии, где играл Третий концерт с молодым дирижёром Росси, вызвавшим у него уважение знанием партитуры, в которой он даже нашёл ошибки.
6 апреля повторяли романсы с Пташкой, которая никак не могла отделаться от страха. Вдруг вошёл секретарь «Общества новой музыки» и вручил Прокофьевым письма к монсиньору, заведующему приёмами у Папы. Получить аудиенцию у Папы! Можно себе представить, как это было интересно Сергею и Лине. Когда Прокофьев пришёл с письмом от Академии, его встретила швейцарская стража в средневековых костюмах, сшитых, как узнал Прокофьев, по рисункам Микеланджело. Ни Сергей, ни Лина не представляли себе, что это может произойти так легко.
8 апреля в восемь часов утра раздался стук в дверь номера: принесли билеты на аудиенцию. Приём состоялся днём. На билете написано: мужчины во фраке и белом галстуке, дамы в чёрном и в вуали. Когда Лина пошла покупать чёрные чулки, её спросили: «Для Папы?» Нарисованная на билете хорошенькая женщина была одета в длинное чёрное платье, что вызывало страшное волнение Пташки: у неё такого не было. Нашли платье матери знаменитого Казеллы[22]. Прокофьев надел фрак, и они отправились.
«Я не знал, какой жилет – белый или чёрный, поэтому надел белый. А чёрный свернул в трубочку и положил в карман пальто. Одевание доставило нам несколько весёлых минут – точно на маскараде, но по дороге мы спрашивали друг у друга: а вдруг Папа спросит: „Какой вы веры?“ Что ему говорить? „А дети у вас есть?“ – „Да, сын“. – „А он крещёный?“. – Что говорить? „А вы в мою непогрешимость верите“? – я предлагал ответить, что „мы очень уважаем такую идею“».
Всё же, как это обычно бывает, в Папском дворце оказались и непослушные: мужчины (о ужас!) в смокингах, а некоторые дамы остались в пальто, так как у них не было чёрных платьев. Лина вспоминает, что один из лакеев проверил, туго ли завязаны платки на головах женщин, чтобы не было видно шеи и попросил заколоть платки булавкой. В зале, куда провели Сергея и Лину, уже были посетители. Пришлось ждать. Вошли несколько кардиналов, пришедшие опустились на колени. Потом появился Папа в сопровождении двух монсиньоров, одетых в чёрное с малиновыми накидками. Папа Пий XI оказался более симпатичным, чем на фотографиях, он был одет в простую длинную одежду с пелериной кремового цвета и в маленькой шапочке на голове. Он медленно шёл, опустив правую руку с кольцом, которое целовали коленопреклоненные гости. Прокофьев, с одной стороны, был во власти размышлений, правда ли, что он будет целовать руку наместника Петра на земле, а с другой, внимательно наблюдал за церемонией, разглядывал кольцо и не успел поцеловать изумруд, окружённый бриллиантиками (по мнению Пташки, жемчужинами), а только приложился к нему. Но Пташку, как пишет Прокофьев, из-за того, что у неё оттопырилось пальто, Папа принял за беременную и задержал свою руку подольше.
Потом снова репетировали романсы, навестили Вячеслава Иванова, который уже второй год жил в Риме, а 9 апреля в Риме и 11 в Сиене состоялись концерты с участием Лины. В Сиене – в замке XIII века.
Пташка пела лучше чем в Риме, – замечает Прокофьев. 12 апреля Лина должна была петь в Генуе, но, устав с дороги, совсем потеряла голос, и Прокофьев спас положение, сыграв свою Вторую Сонату. Зато 17 апреля во Флоренции концерт проходил в зале Pitti, и был первым большим успехом Лины в Италии. Требовали бис. Между прочим, после Мясковского. Ей преподнесли огромную корзину роз.
Перед концертом в Неаполе Лина простудилась. Зато 19 апреля произошла приятная встреча с монахом-каталонцем, патриотом и любителем музыки. «Он страшно заинтересовался, узнав, что предки жены Прокофьева – каталонцы и она говорит на этом языке.»
20 апреля перед самым возвращением в Париж концерт Прокофьева в Неаполе произвёл настоящий фурор. После концерта за кулисы пришёл сын Горького, сказал, что Горький в зале и очень надеется, что Сергей с женой приедут к нему обедать.
«Горький нанял автомобиль и мы все вместе (он, я, Пташка и его сын) отправились на дачу, которую он снимал на берегу залива, на краю Неаполя, – записывает Прокофьев 20 апреля 1926 года. – Дача – большой дом с огромными, неуютными и пустынными комнатами. Сын женат на молоденькой и очень красивой женщине, которая в доме за хозяйку». Лина, по её словам, заметила Горького ещё во время концерта, в щёлку занавеса. Сергей уже был знаком с ним раньше, а Лина читала его сочинения.
В гостях у Горького, естественно, зашёл разговор о России. Сначала, как показалось Прокофьеву, Горький отрицательно отнёсся к идее композитора навестить родину, расспрашивал его о прошлом, о воинской повинности, но потом, видимо, переменил своё мнение и обещал Прокофьеву снабдить его письмом к Рыкову, который будучи премьер-министром, разумеется сделает всё для Прокофьева по его, Горького, просьбе. Супруги пробыли у писателя долго. Он очень много рассказывал о жизни в Советском Союзе, об искусстве, музыке и литературе (упоминал Пастернака, Тынянова, Ольгу Форш, Каверина, Никулина среди других). Говорил о колонии беспризорных его имени. Пташку совершенно покорил, и она ушла в полном восторге от него.
Неугомонная чета не преминула, однако, отправиться и на Везувий. Конечно же, добрались до кратера, а добравшись, решили, что надо непременно увидеть и лаву. И увидели! Жаркую, огненную, сочившуюся довольно далеко от конуса и тут же превращавшуюся в тёмно-серый пепел. Дальше произошёл семейный скандал: Пташке непременно хотелось ехать и в Помпею, а Прокофьев очень устал (не забудем, что он сыграл концерт в этот день!), считал, что уже поздно, и времени на её осмотр не хватит. Так что, как говорит Прокофьев: «бурно поссорились и наговорили друг другу кучу глупостей, совершенно зря».
Вернувшись в Париж, поехали в Кламар, где Ольга Владиславовна жила со Святославом. Приехал и Avi[23]. Прокофьев говорит о нём как об очень симпатичном, но довольно заурядном человеке, а жена, мол, и дочь всю жизнь третируют его, к чему он относится с удивительной кротостью.
В Париж приезжал Мейерхольд с Зинаидой Райх. У Мийо проходил приём в его честь, – Кокто блистал рассказами о Дягилеве, Лифаре, Браке, Пикассо. Мейерхольд выглядел довольно мрачным, не говорил ни на одном языке, чего не могли поправить ни Пуленк, ни Орик, ни Согэ. Прокофьев пытался переводить, но Мейерхольд был не в духе.
На репетиции у Дягилева Прокофьев провёл с Мейерхольдом много времени. Мейерхольд всячески уговаривал его приехать в Москву, выражал настойчивое желание поставить в Москве «Игрока» и обещал в случае опасений Прокофьева и Лины в передвижении приставить к ним охрану из двух коммунистов, которые, по его выражению, больше преданы театру, чем коммуне. «На репетицию заглянул и Пикассо, который очень мило сказал: „Ведь мы почти компатриоты“, намекая на наших жён».
На стене гостиной Святослава в Париже висят замечательные портреты Лины кисти известной русской художницы Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой.
Остроумова-Лебедева писала портреты сначала Сергея, а потом и Лины. Работа протекала тщательно, портреты переделывались, для Пташки все вместе выбирали платье. Лину уже пробовали писать Гончарова и Якулов, но не закончили портретов, не получалось. Написал портрет Лины маслом и художник Шухаев.
Сеансы продолжались по два часа. Днём позировали художнице, вечером концерт… Остроумова-Лебедева рассказывала о невероятных вещах, происходивших в Москве. В частности, о Валерии Брюсове, чьё произведение послужило основой для «Огненного ангела», о его смерти, о том, что за неименеием ничего лучшего, череп его после посмертной трепанации заполнили скомканными газетами «Правда», в чём усматривалась символическая месть судьбы за переход Брюсова в коммунизм, совершённый не по убеждениям, а по расчёту.
Лина не прекращала свою концертную деятельность. 31 мая 1926 года Сергей отправился к Ротшильду по его приглашению. Ротшильд хотел поговорить о предстоящем концерте. Дом его, хотя и в самом центре Парижа, стоял в огромном саду. Он высказал пожелание, чтобы Лина пела, а Прокофьев ей аккомпанировал. Было решено, что она споёт несколько романсов Прокофьева и несколько испанских Де Фалья.
Через неделю пришли к Ротшильду репетировать, и Прокофьев замечает, что она пела очень хорошо.
В тот же день снова отправились искать квартиру, на её поиски уходили недели за неделей. При всём запасе оптимизма Лина понемногу приходила в отчаяние, она мечтала снять немеблированную квартиру и поселиться, наконец, в своём собственном доме вместо того, чтобы пять раз в год укладывать весь скарб, что по выражению Прокофьева «буквально вгоняло в гроб».
А вечером снова концерт, с исполнением скрипичного концерта Прокофьева, на другой день надо было играть на каком-то концерте, чтобы доказать Парижу, что он ещё существует. Но поднялась какая-то свара, Прокофьев отказался, а на другое утро опять прослушивания новых сочинений новых композиторов, потом проигрывание отрывков из «Шута» Больму и т. д. и т. п.
Тем не менее, концерт у Ротшильда состоялся. «Пташка пела недурно, лучше, чем в Италии. Приём был хороший, хотя без особого энтузиазма. Может быть потому, что это всё выхоленная и любящая свои ладони публика».
Маленький Святослав подрастал, окруженный заботой Ольги Владиславовны и сеньора Хуана. Он в свои два с небольшим года вовсю «болтал по-французски и по-русски, различая произношение буквы „р“. Входя в дом, он вытирал ноги, а выходя, закрывал за собой дверь». Сергей Сергеевич считал это неплохим результатом.
Сняли дачу в трёх километрах от Фонтенбло, в Саморо. Ольга Владиславовна провела в доме генеральную уборку. Дом нравился всем, уединённый, с садом. Долгие прогулки, музицирование, работа Сергея Сергеевича, Святослав заполняли жизнь Лины. Прокофьев играл клавир «Снегурочки», а Лина пела её партию. Работали и над романсами Прокофьева, Стравинского, Мясковского. Репетируя романсы Казеллы, подняли такой грохот, что с полки упали груды рецензий, только что рассортированных ею для наклейки. Прокофьев шутит, что романсы Казеллы не стоили такой катастрофы.
Лина рассказывает, что одна из её «нагрузок» летом состояла именно в том, чтобы рассортировывать кипы рецензий, накопившихся за год и приходивших со всех концов света. Она разбирала их в хронологическом порядке и наклеивала на большие листы бумаги, которые впоследствии переплетали в альбомы. Это начала делать Мария Григорьевна, продолжила жена, а впоследствии ей помогала в этом и Ольга Владиславовна. Сергей Сергеевич и сам любил это занятие, следил за красотой и порядком в альбомах. Пташка помогала и с корректурами, считала такты, проверяла паузы.
Большой помощью в жизни была Ольга Владиславовна. Дочь с матерью нежно любили друг друга, но их «многонациональные» характеры порой сталкивались на почве каких-то совершенно незначительных обстоятельств, обе были вспыльчивые, обе могли кричать и топать ногами. Обе очень огорчались, но ничего не могли с собой поделать.
В начале августа Ольга Владиславовна вместе с Хуаном покинули Францию и возвратились в Америку, предварительно пообещав приехать, чтобы оставаться со Святославом в том случае, если супруги отправятся в Россию.
Родители часто гуляли со Святославом. Однажды Святослав отличился. Посадил в свою коляску медведей и уехал с ней из сада по большой дороге, искать пароходы, которые он видел на Сене. По пути его обступили ребятишки, заинтересованные медведями. Святослав испугался и поднял рёв. Мама увидела его из окна второго этажа уже далеко впереди, посреди дороги и в полном отчаянии бросилась к нему на выручку. Она, конечно, его догнала, и он был водворён в дом со строжайшей нотацией.
За день втроём, с Пташкой и Святославом делали по четырнадцать километров, а то и больше. Прокофьев привык возить коляску и замечает, что в этом, видимо, сказалась, его детская привычка (продержавшаяся, впрочем, до поступления в консерваторию) возить за собой поезда.
В сентябре вернулись в Париж и вновь пустились на поиски квартиры. Париж переполнен. Четыре дня прожили у Кусевицких. Потом – отель. Наконец, уже потеряв надежду, всё же отыскали ещё одно агентство и квартиру на rue Troyon рядом с Площадью Этуаль. Квартира типа мансарды, с шестью маленькими комнатами и огромным балконом, с которого открывался вид на Париж. Лине не нравилась квартира, не нравилась дешёвая мебель, не нравилась улица. Было страшно шумно: сначала из гаража выезжали грузовики, в семь часов утра запускали какую-то электрическую машину, которая, по словам Прокофьева, так равномерно гудела, что он даже ждал её звук, чтобы снова заснуть, к тому же машина заглушала автомобильные гудки. Но Лине этот шум не давал спать.
И всё равно: жизнь в семье била ключом и постоянная смена удивительных явлений становилась чуть ли не монотонной и привычной.
Нужно заставить себя остановиться, и от всех прожитых, пусть и трудных иногда, радостей и побед перейти к новым событиям, скорее похожим на землетрясение.
К ним, несомненно, относится поездка супругов в СССР в 1927 году. Она, конечно, не была неожиданностью. Прокофьев постоянно получал приглашения и предложения из СССР. Он упоминает о полученном ещё в 1924 году письме от Александра Гаука, впоследствии занявшего пост главного дирижёра Большого симфонического оркестра СССР. В своё время соученик Прокофьева по классу дирижирования, «сладенький, карьерист, со всеми любезный». Теперь он работал в Мариинском театре и предлагал Прокофьеву ставить там «Игрока».
Приезжал как к «пролетарскому композитору» пролетарский композитор из Одессы; навещала балерина и хореограф из Большого Театра, поставившая на его сцене «Сарказмы»; появился Эренбург, – все зазывали в Москву. Говорили о том, что Прокофьев на родине знаменит, и публика жаждет увидеть и услышать его.
В июне 1925 года Прокофьев получает письмо от Асафьева: Мариинский театр серьёзно задумывается о постановке «Трёх апельсинов».
Прокофьеву передали также приглашение повидаться с Красиным[24] и Тительманом. «Вращаясь всё время в антибольшевистской среде, я привык, что с большевиками не надо общаться, иначе „это может запятнать“. Но из письма Мясковского я знал, что этот Красин милый человек».
Прокофьев отправляется на встречу с ним. Ему предлагается десять концертов, симфонические в Москве и Ленинграде, клавирабенды в Москве, Ленинграде, Харькове и Ростове. Вопрос о гонорарах предложили решать композитору, и Прокофьев счёл нужным договориться о самых минимальных, принимая во внимание положение России. Это произвело на Красина и Тительмана благоприятное впечатление. Прокофьев же сказал, что основным для него является получение гарантии на свободный выезд обратно за границу. Красин спросил: «Но мы можем считать, что ваше отношение к этой поездке благоприятное, и можем сделать в прессе заявление, что вы собираетесь приехать?» Я: «О, конечно». Тительман смягчился и похлопал Прокофьева по коленке.
Июль Прокофьев рассматривает как неожиданный расцвет отношений с Россией: вдруг явилась реальная возможность ехать и иметь постановки.
В 1926 году приходит запрос от Персимфанса[25]: приедет ли в Москву Прокофьев и выступит ли с ними.
Борис Николаевич Верин был чрезвычайно взволнован тем, что Прокофьев собирается в Россию. В Дневнике Сергей Сергеевич рассказывает о своём разговоре с ним, в котором проявилась присущая ему свобода, отсутствие шор. Не то чтобы он прав, а все не правы, – нет! Но он такой как есть, и политика ему безразлична. Жаль, в дальнейшем оказалось, что в СССР уйти от политики было нельзя. И последствия оказались катастрофическими. «Что будут говорить люди», – волновался Борис Николаевич. Жать руки «этим убийцам?» Прокофьев спокойно отвечал, что никто не отказался бы от возможности побывать в родных местах, встретиться с друзьями, просто погулять по Москве и Петербургу, и затем свободно выехать обратно. Разве кто-нибудь бы отказался?
«Три апельсина» запросили Харьков, Киев, Одесса и Загреб.
Из Москвы приехал профессор Б. Л. Яворский[26], чрезвычайно недоверчивый и осторожный человек, который на первых порах даже как будто бы «не узнал Прокофьева», но на следующий день сказал ему: «В Москве у большой публики вы сейчас так же популярны, как Чайковский в последние годы своей жизни»… «Советовал мне приехать в Россию и даже давал понять, что ему поручено узнать у меня, как я отношусь к этой поездке и на каких бы условиях я отправился». Прокофьев ответил, что не собирается наживаться на голодной России и хотел бы поехать, чтобы увидеть российских музыкантов. Яворский по его просьбе рассказывал о некоторых из них, в частности о Мясковском, заметив, что он занимает высокий пост в издательском деле и относится к тем, кто «мягко стелет».
Яворский познакомился и с Линой, которая пришла в ресторан Дюгеклена: он осыпал её комплиментами, был с ней чрезвычайно галантен и сказал, что в Москве чрезвычайно ею интересуются, кто она такая, да при том ещё испанка. Лина была совершенно очарована. Прокофьев пишет, что Яворский только что получил письмо из московских «сфер», в котором его поощрили за успехи, достигнутые во встрече с Прокофьевым и его женой. Красина выгнали, и руководство Российской филармонией обещали передать Яворскому, чем он чрезвычайно доволен. Он договорился с Прокофьевым по поводу того, что станет его главным советчиком во взаимоотношениях с Россией.
Идёт август 1926 года. С Ленинградской филармонией наладилась переписка. Оттуда выражают сожаление, что Прокофьев отказался сам дирижировать «Апельсинами» и в Мариинском и в Большом театре, и в Харькове. Прокофьев цитирует фразу из «Гадкого утёнка»: «Мог ли он мечтать о таком счастье?»
Яворский, однако, начинает вести себя самым типичным для советских начальников образом. Он вдруг замолкает, исчезает, не отвечает, увёртывается от прямых ответов. И отчего же Прокофьев продолжает ему доверять? Он сам объясняет: «Только потому, что он – большой музыкант». Поистине детская наивность. Яворский пишет и так: «Фотография вашей жены пользуется таким успехом, что я вам прямо посоветовал бы оставить её в Париже». Тут мало кто не испугался бы. Прокофьев пишет: «Заядлый эмигрант сказал бы, что, конечно, это предупреждение: не берите, не то могут оставить залогом. Но я думаю, что это просто „элегантная шутка“».
В октябре Прокофьев получает царское предложение от Персимфанса: в Москве они устраивают пять концертов из его сочинений. Прокофьев пишет: «Это что-то невероятное. Так чествуют только Бетховена через сто лет после его смерти. Вот она, Москва!» На время пребывания в СССР Пташке и Сергею Сергеевичу дают «проходное свидетельство», не навязывая советского паспорта. Это свидетельство можно будет вновь обменять на обычный паспорт Лиги Наций по выезде из СССР. При выезде обещают беспрепятственно выдать обратную визу.
13 ноября 1927 года Сергей Прокофьев, полностью поддержанный Линой, отправился вместе с ней в Советский Союз. Это было первое посещение родных мест с 1918 года.
Прежде чем присоединиться к путешествию по Россию четы Прокофьевых холодной зимой 1927 года, обратимся к витиеватой судьбе его собственного рассказа о нём. «Путешествие в СССР 1927», написанное Сергеем Прокофьевым, было издано его младшим сыном Олегом Прокофьевым на французском языке в 1991 году (перевод записных книжек отца на французский язык сделал Андре Маркович).[27].
Олег скончался в 1998 году. Мы не можем поговорить с ним, вспомнить былые времена, встречи в Москве на З-й Миусской, где он жил со своей женой Сонечкой и сыном Серёжей, но частично процитировать его предисловие можем:
«Я нашёл рукопись этих записных книжек среди бумаг моей матери после её смерти в январе 1989 года. Речь идёт об уникальном документе, который описывает первое возвращение отца в Советский Союз в 1927 году, девять лет спустя после его отъезда в 1918 году.
Это не единственные записные книжки Прокофьева. С детства он прилежно вёл дневник и продолжал его примерно до сорока лет. Со временем характер записей менялся. В двадцатые годы он уже прибегает к своей собственной „стенографии“, пропуская гласные. 25 февраля 1927 года он начинает свою запись так: „На этом месте прерывается мой сокращённый дневник и последующее пребывание в Москве восстановлено по записям Пташки и другим документам. Вследствие чего какие-нибудь факты могли оказаться пропущенными, хотя сообщённые – несомненно точны“».
Дневник 1927 года не попал в СССР, он остался на западе. Прокофьев прекрасно сознавал, что Россия не была подходящим местом, чтобы высказывать антибольшевистские суждения даже в том случае, если Прокофьев не мог удержаться, чтобы их делать. Он хранил этот дневник отдельно от других, и когда после его смерти бумаги были преданы огласке, этой части Дневника там не было.
Но Прокофьев себе никогда не изменял, и делал «антибольшевистские» замечания в адрес России и до, и после поездки туда. Это были объективные зарисовки, и дело каждого судить по ним о контр– или про– революционности. Другое дело, что в 1933 году он вообще перестал вести дневник, и вот это событие столь же многоговорящее, сколь печальное. Больше писать было НЕЛЬЗЯ. Может быть, и не хотелось. И он остановился.
Но в этом же предисловии Олег описывает свою с братом жизнь, многие другие подробности времяпрепровождения родителей, и это очень интересно.
«Эти несколько лет, предшествующих 1936 году, на время отъездов папы и мамы нас с братом поручали заботам моей бабушки по материнской линии, которая жила на юге Франции. Время от времени мы получали от отца весёлое письмо или открытку, и у нас создавалось волнующее чувство приобщения к путешествиям по дальним странам. На них к тому же бывали наклеены экзотические марки, на радость моему брату, который их собирал. Тексты бывали очень остроумны. Помню, например, описание посещения Голливуда, где живёт отец Микки Мауса и где построены замки и города из картона, чтобы снимать фильмы. Даже расположение текста было иногда очень смешным: одно письмо было написано в виде спирали, в последнем витке которой было написано „от папы“.
В 1938 году я сделал один рисуночек, в котором полностью выразил наше ощущение, что папины и мамины путешествия это и есть наш способ жить. Хотя этот рисунок относится ко времени уже после переселения в Москву и адресован моей бабушке, оставшейся в Париже, он выражает самую сущность моего детства. Под рисунком подпись: „Поезд, на котором приедут домой мама и папа …“ Это и есть в двух словах схема семейной жизни нашего детства. ‹…›
Хотя бесконечные перемещения родителей казались мне совершенно естественными, всё же им была присуща некоторая таинственность. Однажды (только один раз!) по неизвестной мне причине папа взял меня и Святослава в короткое путешествие за границу (мне было семь лет – 1935 г). Помню нашу растерянность по прибытии в достаточно большой город может быть, в Вену?[28] Мы мчались на такси по залитым светом, незнакомым ночным улицам и остановились в маленьком уютном отеле. Я уже был в кровати, и папа поцеловал меня на ночь перед сном, а потом ушёл на концерт. Но у меня не было чувства беспокойства. Как ни говори, это путешествие было из ряда вон выходящим событием, и мы воспринимали его уход как должное, как проявление некоего сообщничества между нами, двумя маленькими мальчиками и их папой – соучастником. И то, что мы остались одни в незнакомом месте – это был необходимый элемент необыкновенного и захватывающего приключения.
Профессия отца казалась нам совершенно особой и необычной. С самых ранних лет у меня было очень ясное чувство, что в некотором смысле эта профессия находилась за пределами обычных человеческих занятий, являлась почти привилегией, и наша семья была отмечена некоей изысканностью, она была другой. Это чувство быть другим (не как все) никогда не покидало меня, но в дальнейшем в Советском Союзе ощущение отличия от всех иногда удручало меня.
Когда я впервые читал эти дневниковые записи, я вдруг понял и увидел глазами отца, из чего на самом деле состояли эти путешествия. И в особенности меня околдовывала возможность сопоставить события в том виде, как их прожил отец, с моими детскими представлениями.
Но каковыми бы ни были мои романтические переживания при его чтении, доминанта записей – это их объективность и точность. В них можно найти критические замечания, саркастические комментарии, но никогда не встретишь преувеличения или шутки на чей-то счёт. В его намерения не входило касаться личных проблем. Чего бы это ни касалось, ни тогда, ни потом, он писал о том, что видел собственными глазами, без всяких попыток или намёков на двойной смысл или скрытничанье. В этом дневнике мой отец демонстрирует абсолютную честность, готовый признать свои сомнения или поражения, касались они прохождения таможни на советской границе или внезапной потери веры в себя на своих первых сольных концертах в Москве. Но его чувства были „объективными“. ‹…›
Читая эти записи, не надо забывать о том, что правление Сталина ещё только-только начиналось. Голод был впереди, так же как все испытания индустриализации и коллективизации, не говоря о чистках тридцатых годов. Мало вероятно, что находились люди, которые способны были вообразить, куда это всё шло».
Теперь записи о первой поездке четы Прокофьевых в СССР входят в «Дневник», опубликованный в 2002 году Святославом Прокофьевым.
13 января 1927 года, в день выезда из Франции, нагруженные чемоданами подарков для друзей и родных, Сергей Сергеевич и Лина Ивановна двинулись на восток. Сергей Сергеевич принципиально не захотел ехать в Москву в меховом пальто, Лина же не преминула надеть по случаю поездки в холодную страну свою леопардовую шубку. Сергей Сергеевич отметит, что во время фотографических сессий Пташка чудесно выглядела в голубом платье, а в своей леопардовой шубке представляла собой отличное световое пятно в групповой фотографии на фоне оперного театра в Риге, куда они приехали сначала, а также на фоне их собственной афиши.
По мере приближения к стране социализма поезд приобретал всё более пролетарский характер. С детства знавший толк в поездах, Прокофьев регистрировал изменения. Холодно, темно, ледяная вода, два купе, но проход между ними и туалет закрыт, чёрное сырое постельное бельё. Ни Сергей Сергеевич, ни Пташка ни разу не посетовали на эти привычные для СССР неудобства. Это даже удивляет: неужели предвидели всё заранее? Лина, которая понятия не имела о том, что путешествие может проходить в таком холоде, с беспрерывными проверками документов, со снежной пустыней за окном медленно ползущего вагона, полностью разделяла с мужем все эти трудности – оба относились к ним с неизменным чувством юмора. А по прибытии в Ригу с утра вместе уже давали интервью трем газетчикам, двум латышам и одному русскому.
Вечером Прокофьевых пригласили на «Майскую ночь». На Сергея Сергеевича нахлынули консерваторские воспоминания о постановке этой оперы. Его окружали друзья юности, дома у одного из них Прокофьев увидел портрет Мясковского и огорчился. «Вид скучный, взгляд тяжёлый; вместо пиджака какая-то куртка, застёгнутая до подбородка». Прокофьев знал, что Мясковский не любил сниматься и сделал вывод, что момент оказался неудачным.
А уже 17 января был объявлен их с Линой концерт. Ночью Лина чувствовала себя нездоровой, плохо спала, часто просыпалась. Концерт должен был состояться в восемь часов вечера в том же оперном театре, где Прокофьев был накануне. Весь день репетировали. К восьми отправились в театр.
«Я играл чуть нервно. Где моё американское спокойствие, которое я считал приобретённым навсегда? Пятая соната имела успех лишь весьма относительный, впрочем, я и не рассчитывал, что она понравится рижанам, поставил же её в программу для того, чтобы прорепетировать перед Москвой. Последнее отделение занимали мои короткие пьесы ‹…› Успех был совершенно трескучий, с вызовами и бисами. Пташка спела две группы романсов, но голос её звучал слабо, так как она сама чувствовала себя слабой. Успех средний, но ничего.
После концерта в артистической довольно много народа».
На другой день пошли с Пташкой в гости к А. Г. Жеребцовой-Андреевой[29], она очень обрадовалась этому визиту и хвалила Лину за вчерашнее выступление, чем несколько подняла её настроение.
Прокофьев сознаётся, что подумал: а может быть вернуться из Латвии, а то ведь могут не выпустить потом. Не повернуть ли оглобли, пока не поздно? Однако, как он говорит, «трусливые мысли были отброшены и мы явились на вокзал». Лина, маленькая отважная испанка, тоже не робкого десятка.
«Мы вошли в наш мягкий вагон. Было неуютно: холодно, сумрачно, на полу без ковриков, умывальник в нашем купе заколочен. ‹…› Поезд тронулся и мы в довольно среднем настроении легли спать. Русский проводник постелил нам бельё, но оно было грубое и диван жёсткий».
Русская таможня. Осмотр поверхностный (о приезде Прокофьевых была получена соответствующая телеграмма), таможенник листал французскую книгу о музыке, которую Прокофьев вёз Асафьеву. Лина всплакнула, увидев детские туфельки, вынутые у другой дамы, – вспомнила Святослава. Купили русские газеты: организован комитет встречи с Прокофьевым. Сергей Сергеевич сразу заволновался, так как больше всего на свете боялся всяких «официальностей». Но председателем оказался Асафьев, и он успокоился.
В Москву приехали рано утром. Встречали Цейтлин, Цуккер и Держановский. Цейтлин – представитель Персимфанса, Цуккер – деятельный коммунист. В дальнейшем Сергей Сергеевич будет называть их Це-Це. Они, перебивая друг друга, рассказывали обо всех хлопотах, связанных с приездом Прокофьевых, и, в частности, что сам Литвинов[30] разрешил выдать им советские паспорта, не сдавая нансеновских. Поселились в Метрополе, на этаже для иностранцев. Номер – безукоризненно чистый, но ванны нет и вода в кувшинах. На всех остальных этажах – чудовищная грязь. Сразу озаботились поисками инструмента. В прежнем магазине Дидерихса нашли новенькое пианино, тугое, – как раз то, что нужно. К вечеру его доставили в номер. Холод, мороз. Люди на улицах спокойные. Не верилось, что это те самые безжалостные жестокие крушители, которые только что ужаснули весь мир. Дни проходили в страшной суматохе. Дверь номера Прокофьевых хлопала каждую секунду, журналист пытался интервьюировать, но не успевал он поставить вопрос, как прибегал с распростёртыми объятиями кто-то из друзей, – расспросы, восклицания, восторги, журналист спрашивает снова и дверь хлопает снова, Прокофьев старается отвечать по существу, но тут влетает новый посетитель… Появился и Асафьев, он поправился, под пиджаком тёплая вязаная куртка, а вслед и Мясковский, – он очень мало изменился, рижская фотография исказила его вид, за Мясковским Сараджев, Держановский, Цуккер. Наконец столпотворение закончилось, и Цуккер повёл супругов в ресторан на Пречистенке. Тут-то Прокофьев поразился: рябчики, взбитые сливки, клюквенный морс, – масса отменных русских блюд. Цуккер поясняет, что ресторан содержат «бывшие», из купцов и аристократии. (Это остатки нэпа. Он ещё существует как вопиющее противоречие окружающей нищете). Вернувшись в номер, Прокофьевы обнаруживают, что простыни, наволочки – из тончайшего полотна, невиданного ни в одном американском отеле. Ошеломление Москвой. Но супруги настороже. Они наслышаны о том, что иностранцев принимают по-особому, они, конечно, не верят рассказам эмигрантов, что под кроватями установлены микрофоны, но одна из дверей номера плотно закрыта, заперта, и за ней можно совершенно спокойно подслушивать всё. Поэтому Сергей и Лина говорят шепотом.
Всё же рассказы Цуккера о планетарных масштабах работы коммунистической партии произвели на Прокофьева впечатление.
На следующий день начинается шествие Прокофьева по ведущим сценам России. Большой зал консерватории. Композитора встречают тушем, приветственные речи, которых так боится Прокофьев, много репетиций. Пташка, Сергей и Цейтлин идут в правление Персимфанса, обсуждают предстоящие концерты, потом снова на улицу, Цейтлин показывает набитые икрой магазины, снова Пречистенка, снова нэповский ресторанчик. Где же голодная Москва? – недоумевают супруги. Но в это время Цейтлин говорит: «Вы только посмотрите, как у нас хорошо. Слава Богу, вы уехали из Парижа. А то, пишут у нас, у вас там уже гробов не хватает. (Прокофьевы в изумлении). Как? Вы не знаете, что там от инфлюэнцы умирает ежедневно столько людей, что не знают, как хоронить».
Навещают уплотнённого Мясковского. Среди прочего Мясковский вдруг говорит: – Ну ничего, вы, кажется, не забыли русского языка. – А почему мне, собственно, надо было его забыть? – смутился и слегка рассердился Прокофьев. Но после этого начал следить за своей речью и стал запинаться.
История повторяется: Пушкина наставлял Вяземский, Рахманинова упрекал Метнер, над Прокофьевым подшучивает Мясковский. Кстати, насчёт языка: «Когда мы впервые приехали в Россию в 1927 году, – рассказывает Лина, – и нас приглашали на обед, чай или ужин, я почти всегда молчала, потому что я могла разговаривать с кем-то одним и не умела участвовать в общей беседе. Я думала, что мой русский был ещё недостаточно хорош для этого. Но он быстро улучшался. Однажды я не согласилась с тем, что кто-то сказал, и присоединилась к разговору. Все остолбенели: „Так вы нас обманывали! Вы говорите по-русски“».
Прокофьевых принял Луначарский, (Асафьев проводил их до дверей, но внутрь не зашёл). Читал стихи Уткин, какой-то пианист исполнял Сонату Луначарского, сам Луначарский читал письмо в стихах Маяковского Горькому: в России-де столько работы, отчего же вы, Алексей Макисмович, где-то там в Италии. Прокофьев ощущает это как намёк, Луначарский рекомендует ему оценить это стихотворение.
Вечером в Большом театре на «Садко». Лина уже там с Цуккером. Забегают Голованов, Пазовский, обсуждают постановку «Апельсинов», Прокофьев наслаждается любимой оперой, хоть и не всё нравится ему в постановке.
Навещали с Линой друзей и родственников. Прокофьев знал об арестах, о необходимости соблюдать конспирацию, о тени, которую может бросить на людей его посещение. Пробирались с Пташкой дворами.
В гостях у Держановских, где собрались Асафьев, Мясковский, Александров, Фейнберг, Половинкин, Книппер, Мосолов – ученики Мясковского. Все молодые композиторы вовсю ухаживают за Пташкой, но больше всех старается, по словам Прокофьева, сам Держановский.
Первый концерт Прокофьева в Москве состоялся 24 января 1927 года и произвёл настоящий фурор. Он начинается сюитой из «Шута», которую превосходно играет Персимфанс. По окончании публика вызывает автора, но уже заранее было решено с Це-Це, что до исполнения концерта Прокофьев не выйдет. Успех настолько велик, что удержаться от выхода на сцену трудно, и даже Цейтлин вбегает в угаре успеха: может быть, отменить это решение. Однако всё же удаётся следовать плану, и Прокофьев не выходит. Предоставим слово Прокофьеву:
«Перед тем, как играть Третий Концерт, я начинаю волноваться. Работаю и несколько успокаиваюсь. Как-никак, а появиться в Москве, где меня так ждут, и где, самое ужасное, отлично знают мой Концерт, который, стало быть, врать нельзя, дело нешуточное.
Наконец появляется Табаков, первый трубач (замечательный), и сообщает, что оркестр на месте и что мне надо выходить. При моём появлении оркестр играет туш, затем весь встаёт и аплодирует. Овация зала и оркестра становится грандиозной и необычайно длинной. Я долго стою, кланяюсь во все стороны и вообще не знаю, что делать, сажусь, но так как аплодисменты продолжаются, опять встаю, опять кланяюсь и опять не знаю, что делать. Я не был десять лет в Москве, мне хочется сосредоточиться, чтобы сыграть как следует, а эти эмоции совершенно не способствуют углублению. Наконец мне это надоедает и я решительно сажусь.‹…›
Я играю неспокойно, но довольно хорошо. ‹…› По окончании Концерта зал ревёт. Конечно, такого успеха у меня не было нигде.[31]
Я выхожу без конца. На бис сначала играю „Гавот“ из „Классической“, затем „Токкату“. Оба штюка выходят хорошо. Наконец уединяюсь в артистическую, а оркестр играет сюиты из „Апельсинов“. Марш по традиции бисируется, а по окончании новые вызовы и я ещё выхожу несколько раз».
Среди причин окончательного возвращения Прокофьева на родину ещё через десять лет, – а приводятся самые разные, и нелепые, и неправда, – какое-то место наверняка принадлежит той неистовой любви публики, которую ощутил Прокофьев во время своего первого посещения России в 1927 году. Лина была свидетельницей этого успеха. Как артистка и жена гениального композитора она не могла не почувствовать, что это был за успех. Она десятки раз присутствовала на концертах своего мужа, премьерах его сочинений, сама их исполняла, она видела рукоплескания в Париже и Нью-Йорке, и всё же здесь было что-то особое: взаимная радость признания, или особая восприимчивость московской публики, приходящей в залы не из соображений этикета. Такой успех мог глубоко отразиться на внутреннем ощущении художника, и Лина поняла это. В своих воспоминаниях она называет этот успех Прокофьева «ни с чем не сравнимым», но в Ленинграде, ещё через несколько дней, «этот успех был превзойдён». И поддержав впоследствии решение мужа переселиться на родину, она, быть может, в глубине души, помнила прием, который превзошел всё, что она доселе видела.
В тот вечер в артистической побывали разве что не все самые крупные музыканты России, присутствовал и Литвинов, чья жена – англичанка – была страшно рада, что может говорить с Линой по-английски.
Понемногу артистическая пустеет, вечером выходят на улицу Пташка, Сергей Сергеевич и Це-Це. Восторженно болтая, они провожают Прокофьева и Пташку до Метрополя.
В эти же дни Прокофьев проявляет чудеса своего мгновенного умения ориентироваться, касается ли это похода в ГПУ за паспортами, внимания к Красину, проявившему к нему доброту в своё время, а теперь отставленному из Персимфанса в пользу Росфила, интереса ко всем сколько-нибудь одарённым русским музыкантам всех возрастов, предложения и проведения благотворительного концерта в пользу беспризорных, репетиций с Линой, встреч с дальними родственниками и псевдо-родственниками, или баталий, развёртывающихся вокруг места рядом с Линой во время совместного фотографирования.
В первый раз – во время приёма, устраиваемого Персимфансом: каждый раз, когда объектив был уже открыт, Цуккер бросался в группу, чтобы попасть на снимок. Ему непременно хотелось сфотографироваться рядом с Линой, а друзья, угадывая его намерения, не давали ему этой возможности. Цуккер пробовал снова и снова.
Троюродные племянники Прокофьева Костя и Шура Сеженские в числе прочих нередко приходили повидаться с знаменитым дядей. Лине нравился Костя – она находила его трогательным.
Впоследствии я знала Константина Сеженского как заведующего редакцией камерной музыки на Всесоюзном Радио, он отличался высокой компетентностью и доброжелательностью.
Шура успевает обмолвиться, что у неё остались кое-какие фотографии родителей Прокофьева. Пташка настораживается. Все семейные фотографии погибли вместе с квартирой после ареста и теперь у неё цель – собрать у родственников и знакомых фотографии семьи Сергея Сергеевича из их альбомов.
В такой же кутерьме прошёл и ужин в Цекубу – клуб для улучшения быта учёных. После концерта в огромном зале поставили в ряд много столов, Прокофьев сидел между Асафьевым и Е. В. Держановской, Лина – рядом с Мясковским. Тосты, фотографии, здесь же Яворский, молодые композиторы. Держановский всё время старается сняться рядом с Линой. «Вообще он, Мосолов и другая молодёжь всячески за нею ухаживают». В разгаре пиршества Сергей Сергеевич и Лина решаются убежать. Их провожают аплодисментами. Добираются в Метрополь еле живые.
Многое поражало в Москве, и любимые маленькие особнячки в тихих переулках, как выяснилось, перенаселённые, с одной кухней на восемнадцать семейств, и племянница Мясковского, девица лет шестнадцати, вызвавшая глубокую неприязнь Лины. Она провела вечер с сёстрами Мясковского, где встретилась с этой юной яростной комсомолкой. Лина была в ужасе: девица нахваталась коммунистических лозунгов и не давала матери открыть рта, обвиняя её по любому поводу в буржуазных воззрениях. Превратив её жизнь в ад, она без зазрения совести жила на её счёт, ничего не делала и пропадала невесть где. Лина притихла и старалась не вмешиваться в разглагольствования барышни, которая, по словам Асафьева доводила до белого каления самого Мясковского, так что он кричал и топал, чего Прокофьев даже вообразить себе не мог.
Темп был набран высочайший: концерты, постановки, репетиции, выступления, встречи, приёмы, хлопоты об арестованном ни за что ни про что Шурике[32], встречи с коммунистическим суперменом, лукавившим с паспортами, бесконечные съёмки, приглашения в гости с каким-то невероятным угощением, – всё это отчасти привело к тому, что Прокофьев снова стал нервничать на концертах и очень от этого огорчался, так как в Америке сумел уже почти совсем избавиться от волнения перед игрой. Супругов взяли в оборот, до полного их изнеможения показывали Москву, возили в Кремль, («Пересекая Москву-реку в двух санках, я кричу Пташке, чтобы она оглянулась на Кремль, он весь залит солнцем и вид у него ошеломляющий»). Во встречах с супругами принимали участия самые высокие лица страны: Литвинов, замещавший Чичерина, Сергей Сергеевич называл его «великим аптекарем» и находил его внешность фармацевта совершенно не соответствующей проведённой им экспроприации тифлисского банка, его жена Айви, ставшая с той поры подругой Пташки, и находившая огромное удовольствие в общении с ней на английском языке, Луначарский и Розенель, Мейерхольд, Яворский, Голованов, Дикий.
С главным дирижёром и главным режиссёром Большого театра обсуждается постановка «Трёх апельсинов», ежедневно проходят концерты, все сочинения пользуются бурным успехом; вместе с С. Е. Фейнбергом Сергей Сергеевич играет на двух роялях своё переложение вальсов Шуберта. Зал воет. Тем временим и Лина нарасхват, и как экзотически очаровательная женщина, жена Прокофьева, и как певица. Все немножко влюблены в неё.
Пока Прокофьев с Головановым и Диким обсуждали второй акт спектакля, Цуккер заехал за Линой и увёз в студию Станиславского на «Царскую невесту». Работа с Головановым и Диким закончилась только к одиннадцати часам, и хотя из студии много раз звонили и ждали там Прокофьева, он поехал домой в виду позднего часа. Пташка вернулась лишь в половине первого, так как спектакль затянулся, а в гардеробе была такая толкотня, что невозможно было получить шубу. «Я на неё обрушился, что из-за её выездов я не могу вовремя ложиться спать, между тем завтра с утра нужно много заниматься. В результате на сон грядущий поссорились.»
На другой день, конечно, помирились. Постановка «Царской невесты», в особенности режиссёрская работа, произвела на Лину сильное впечатление. Она сказала Цуккеру: «Вот в таком театре я хотела бы работать». Цуккер ответил: «Отлично. Хотите, завтра же подпишем контракт».
Прокофьев замечает, что ради этого Лина готова была бы переселиться в Москву.
В эти дни по стечению обстоятельств, связанных с опозданием на репетицию Фейнберга, Прокофьев вновь встречается с Павлом Александровичем Ламмом, впоследствии его близким другом и помощником. Знакомство с ним восходит к первым композиторским выступлениям в Москве. С П. А. Ламмом сыграло злую шутку его немецкое происхождение, повинное в его драматической судьбе. Сосланный в незапамятные времена на Урал, он перекладывал в восемь рук все существующие русские симфонии. Уже вернувшись, он продолжал этим заниматься. Павел Александрович уже вышел в люди и заведовал Музсектором, когда последовали новые интриги, аресты, обыски, скандалы и пр. В тот момент он был профессором консерватории, и по средам у него собирались музицировать лучшие музыканты.
Наши доблестные органы не дремали. Прокофьевым занимался чрезвычайно элегантный и воспитанный тов. Гирин, который возглавлял паспортные приключения. Он поднимал свои акции разного рода сказками. Они-де заступились за Прокофьева, так как в газете появилось сообщение о том, что Прокофьев ходатайствует о советском подданстве. Они, мол, его опровергли. Однако этого опровержения никто не увидел. Видно, сами и опубликовали свою заметочку, сами и осудили в разговоре с Прокофьевым, но в печати своего мнения не высказали. Всему этому Сергей Сергеев особого значения не придал.
У кого только не побывали супруги! 5 февраля за ними зашёл Цуккер и повёл их в гости к Каменевой, сестре Троцкого, жене советского посла в Риме, главе Общества культурных связей с заграницей. Она жила в Кремле, так что супруги познакомились с системой пропусков. На всей территории по выражению Прокофьева «почтение носилось в воздухе». К Каменевой пришли Карахан и Литвинов с женой. Так как все присутствующие искренне любили музыку, Прокофьев охотно согласился немного поиграть для них. Потом Карахан и Литвинов внимательно расспрашивали Прокофьева о жизни заграницей и желали разнообразных сравнений. Прокофьев был осторожен и в то же время правдив. Тогда же он проявил свой независимый характер в ситуации, невозможной ни в одном обществе, кроме большевистского. К концу вечера явился сын Каменевой и его жена, очень молодые, а жена – просто девочка. Эта девочка попросила Прокофьева поиграть лично для неё. Об этом попросила Прокофьева и Каменева. «Уже поздно и я устал», – отвечает композитор. Девочка настаивает. Прокофьев предлагает ей прийти на другой день на его концерт. Она не может. Ну тогда на другой… Нет, она никогда не может. Каменева присоединяется к дочери, но Прокофьев неумолим. Он насмешливо замечает, что «с принцессами крови» так не полагается обращаться, но рад, что проучил девчонку.
Тут оказывается, что уже поздно, и пропуска уже недействительны. Что делать? Выручает Литвинов, который не живёт в Кремле и тайным образом вывезет супругов оттуда, так как его машину не проверяют.
Мадам Литвинова несёт в руках свои ботиночки, чтобы не запачкать ковра, и говорит: «Как я люблю этот тихий Кремль».
В лимузин садятся Литвинов с женой, Прокофьев с Линой и Карахан с Цуккером. Литвинов, Карахан и Цуккер предъявляют часовым свои постоянные пропуска. Литвинов довозит Сергея Сергеевича и Лину до Метрополя.
Дома супруги, как принято, делятся впечатлениями.
Пташка спрашивала о любезном чёрном господине, который тряс ей руку. Прокофьев назвал Карахана.
Вопрос Лины пришёлся на расцвет деятельности известного советского дипломата Л. М. Карахана, которому суждено было в империи Сталина пополнить собой ряды приговорённых к смертной казни и расстрелянных в 1937 году.
С женой Литвинова Айви Вальтеровной у Лины произошёл интересный разговор: Литвинова пожаловалась, что в Париже очень трудно с шофёрами, все шофёры там – белые. Лина собиралась рассказать, что в Нью-Йорке тоже в основном белые шофёры, но Айви Вальтеровна продолжила свою мысль: каждый третий – врангелевский офицер, может не захотеть вести в советское посольство, а то и надерзит.
Усиленно звала Лину в гости.
Лина познакомилась и с женой Голованова – Антониной Васильевной Неждановой, – самой знаменитой колоратурой страны. Ей очень хотелось узнать её поближе. Уже пожилая женщина, Антонина Васильевна продолжала петь и хотела исполнить роль Нинетты в «Апельсинах», и хотя Голованову этого хотелось, Прокофьев сомневался по поводу соответствия её габаритов габаритам Нинетты. Как же она влезет в апельсин?!
Во время триумфального шествия по России в 1927 году Прокофьев смотрел на всё происходящее без шор. Он умирал от скуки на официальных мероприятиях (это он ненавидел больше всего и постоянно после каких-нибудь пышных приветствий как школьник спрашивал у сопровождающих, обязательно ли ему говорить. Так и не приучился к этому.) Скучал над книгами комсомольцев, которые комсомольцы же ему и прислали. Важный коммунист (Сосновский) бубнил ему что-то о достоинствах этих книг. «Неужели так томительно скучны вожаки коммунизма и рекомендуемые ими книги», – думал Прокофьев.
Прошло исполнение Второго фортепианного концерта, который ввиду своей грандиозности, не говоря уж о трудности, произвёл на публику ещё более сильное впечатление, чем Третий. Пришлось бисировать Скерцо – вторую часть концерта.
Успели ещё с Пташкой и Цейтлиным забежать в Рабис (клуб работников искусств), а на следующий день отправились в Ленинград.
Ленинград покоряет Прокофьева, он показывает Лине все площади, улицы, памятники, решётки, Зимний. Выход к Неве во время заката. В розовом закате Нева и Петропавловская крепость выглядят как сказка. Потом идут на зимнюю Канавку. Вечером проходят мимо Александринского театра, освещённого малиновыми прожекторами, снег, колонны, памятник Екатерине, в этом же свете. Лина увидела места, где проходила юность её мужа, консерваторию, в которой он учился, дом, где он жил.
Почётных посетителей провели в Эрмитаж через особый вход и в сопровождении директора в самую сокровенную часть Эрмитажа – отдел драгоценностей. Потом скифский отдел, персидский отдел и уже бегом через постоянную экспозицию. Устали до изнеможения.
Прокофьев пришёл с женой, чтобы засвидетельствовать своё почтение, к Глазунову, но дома его не застал. Глазунов побывал всё же на концерте, но Прокофьеву не показался, передал комплименты и ушёл на заседание. Проявлял осторожность.
И снова концерты, превосходящий возможное успех, на чествовании поднимают тост и за Лину, Прокофьев польщён.
И наконец Асафьев ведёт Прокофьевых в Мариинский театр на постановку «Трёх апельсинов». Друзья юности, шахматный партнёр Прокофьева, режиссёр С. Э. Радлов и дирижёр В. А. Дранишников, поставили оперу феерически, – Лина рассказывает, что Сергей Сергеевич находил эту постановку лучшей из всех виденных им раньше: «Я ошеломлён и в восторге от изобретательной и необычайно оживлённой постановки Радлова и обнимаю моего старого шахматного партнёра».
Во время спектакля, узнав о том, что в зале присутствует композитор, ему устраивают овацию. Он кланяется из ложи; рядом жена, привлекающая внимание красотой.
По окончании Дранишников уводит гостей к себе на чай. Пташка сражается в шахматы с женой Асафьева, и Прокофьев замечает, что неизвестно, кто из них играет хуже.
Лина в восторге от Ленинграда.
Среди сумасшедших ленинградских дней один, проведённый у Асафьева, в Детском Селе, на окраине которого он жил, выдался спокойный. Снова встретились с друзьями юности Прокофьева, Мясковского, Дранишникова, Радловых, день проходит в разговорах, прогулках по пушкинским местам, за великолепным столом, – передышка.
12 февраля концерт в Колонном зале, и после «Скифской» сюиты успех, превзошедший всё возможное: Прокофьева вызывали пятндцать раз. И это даёт основание написать: «Ленинград обыграл Москву в смысле успеха».
В артистической через жену Асафьева с Линой знакомится Элеонора Дамская, консерваторская приятельница Прокофьева, и обещает ей письма и фотографии.
Снова Москва. Тот же номер в Метрополе. Шквал телефонных звонков, с которым обыкновенно борется Пташка. Много очень заманчивых проектов. Мейерхольд хочет ставить «Игрока». И. М. Рабинович, к которому отправились с Пташкой (и не пожалели!) сделал, по выражению Прокофьева, просто ослепительные макеты для «Трёх апельсинов», которые ставили в Большом театре Голованов и Дикий. Прокофьев говорит, что таких нарядных декораций для этой оперы ещё не делалось, поразила первая картина с перспективой уходящих вглубь зеркал.
Прокофьев был посвящён и в происходящие в то время коммунистические театральные передряги, в которых Мейерхольд умудрялся отстаивать свои позиции. Видимо, уже тогда взяли на заметку нечёткость его позиции, чтобы расстрелять через десять лет с большим удовольствием. Цуккер говорил Прокофьеву, что Мейерхольд не пользуется достаточно хорошей коммунистической репутацией.
Оркестранты, знакомые со времён юности, не советовали композитору и жене оставаться. «Живите там, а здесь совсем не хорошо».
Снова – в Ленинград. Лина подружилась с Катей Шмидтгоф, сестрой трагически погибшего совсем молодым любимого друга Прокофьева Макса, которому Прокофьев посвятил свой Второй фортепианный концерт. Катя рассказывала Лине свою жизнь. Все проникались доверием к Лине, а она больше и больше узнавала о России. Подруги юности Прокофьева водили Пташку по магазинам.
Специально для Луначарского давали «Три апельсина». «В ложе сели так: Луначарский, я и Пташка в первом ряду. Луначарский должен был решать, посылать ли эту оперу в Париж. „Ведь если мы пошлём вашу постановку ‘Апельсинов’, то мне большевики жить не дадут“, – сказал он».
Речь шла о постановке в Большом театре, работа над которой началась, постановка обещала быть более роскошной, чем в Ленинграде.
Зашёл Глазунов, Луначарский тотчас спросил его мнение об опере, но Глазунов промычал что-то невнятное и передал Луначарскому билеты на концерт из произведений Бетховена.
25 февраля. Снова Москва. Прокофьев пишет, что на этом месте прерывается его Дневник, и дальнейшее пребывание в Москве восстановлено по записям Пташки.
О чём она писала: снова знакомый номер в «Метрополе». Репетиция «Классической симфонии». После репетиции Сараджев[33] и Держановский были приглашены Прокофьевыми в ресторан на Пречистенке есть блины, потом к тёте Кате (двоюродной сестре Прокофьева и Шурика) – они с Пташкой очень понравились друг другу.
Ходили смотреть спектакль Мейерхольда «Ревизор», делающий полные сборы, вопреки или благодаря разноречивым мнениям. Для Прокофьева особый интерес состоял в том, что он смотрел на работу Мейерхольда как будущего постановщика «Игрока». Спектакль нашёл хорошим.
27 февраля Святославу исполняется три года. Но вот уже десять дней о нем нет известий. В последнем письме Святослав писал, что он «охоший мальчик». Родители скучали, несмотря на бешеный водоворот разнообразных событий.
Прокофьев посылает деньги нуждающимся друзьям, хлопочет перед Цуккером о судьбе Шурика, – разговор с ним протекает трудно, он не хочет ввязываться в это контрреволюционное дело. Но Прокофьев нажимает. Говорит, что готов обратиться в другие организации, – например, политический Красный крест, но Цуккер отзывается о нём с раздражением. А также супруги хотят пойти на лекцию Троцкого. Цуккеру такая просьба – нож в сердце.
Однако какие ещё были времена… Лекция Троцкого! Но на неё-то попасть не удалось, – билетов не оказалось.
1 марта. Держановский сказал, что политический Красный крест возглавляет бывшая жена Горького – Пешкова. Она приняла Прокофьева очень любезно, может быть, и припомнила Раевского и сказала, что, кажется, кто-то хлопотал по этому делу, и благодаря этому срок ему был сокращён на треть. Пешкова сказала, что не советует ехать в ГПУ самому Прокофьеву (они могут исполнить его просьбу, но при случае непременно припомнят). А она сделает вот как: в разговоре с Ягодой наведёт разговор на Прокофьева. И он, конечно, спросит, доволен ли Прокофьев своим приездом в Москву. И тогда Пешкова ответит, что «Да, конечно, очень доволен, хотя его огорчает, что его двоюродный брат в тюрьме». О результате она в иносказательной форме скажет Держановскому на следующий день. Предосторожности в таких делах были необходимы.
Тем временем Цуккер повёл Лину в Госторг, чтобы посмотреть меха. Цуккер добился, чтобы ей показали меха, предназначенные для вывоза за границу, но продали бы ей по своей цене. Вечером Лина пошла в Камерный театр одна, так как Сергей Сергеевич устал.
Зашли на музыкальную среду к Ламму. Там играли в восемь рук симфонию Мясковского. На другой день Сергей Владимирович Протопопов – композитор, дирижёр – повёл Лину осматривать храм Василия Блаженного. Большой знаток по этой части, он давал ей интересные пояснения.
К Прокофьеву же пришёл Мейерхольд, чтобы поговорить об «Игроке», Сергей Сергеевич не преминул направить беседу на Шурика. В отличие от Цуккера Мейерхольд с охотой взялся помочь Прокофьеву в этом деле.
Лина отправилась в гости к Айви Вальтеровне Литвиновой. Лина не только чисто говорила по-английски, но и была человеком англо-саксонского воспитания, и это притягивало к ней Айви Вальтеровну. Литвиновы занимали шикарный особняк на Софийской набережной, принадлежавший раньше очень богатым людям (Харитоненкам), и Прокофьев даже побывал там однажды перед отъездом из России в мае 1918 года у князя Горчакова. Лина нашла особняк огромным и красивым, но сочла, что он содержался в беспорядке. Тогда же она увидела и детей Литвиновых, с которыми потом во время войны по просьбе Айви Вальтеровны недолго занималась английским языком. Вообще же Айви Вальтеровна выражала желание в дальнейшем воспитывать их в Англии, что, как заметил Прокофьев, находилось в вопиющем противоречии с ядовитыми нотами, которые направлял в это время в Англию её супруг.
Вечером ходили смотреть «Любовь Яровую». Сергей Сергеевич выразил сожаление, что к концу пьеса превращается в агитку.
На следующий день Цуккер, чрезвычайно исполнительный по части приобретения мехов, сопроводил Лину в Госторг, где она выбрала себе отличного голубого песца, а также белку, которая начинала входить в моду на западе. Вечером она отправилась в Художественный театр смотреть «Фёдора Иоанновича» с кузиной Прокофьева, Катей и Надей, женой Шурика. Вернулась взволнованная неосторожным поведением спутниц, которые во время спектакля отпускали замечания вроде: «Ах, как чудно было в те времена!», «Ах, как я люблю эти костюмы!» Катя говорила громким шёпотом (поскольку была глухая) и совершенно не понимала, отчего Лина толкала её в бок.
У Прокофьева продолжались встречи с Мейерхольдом, а жена уехала на «Снегурочку» в Большой театр. Её посадили среди членов Художественного совета. Лина учила в это время партию Снегурочки, и уж никак нельзя было пренебречь постановкой любимой оперы на московской сцене.
Всё же идиллия нарушилась самым типичным образом. В «Дневнике» описывается, как в «Жизни искусства» был сделан выпад в сторону Прокофьева: почему он наконец не скажет прямо о своем отношении к Советской власти? Журнал, видимо, был вынужден поместить эту статью, но в обрамлении двух других: чрезвычайно хвалебной о Прокофьеве, и не слишком выразительной о Метнере. Прокофьев хотел было ответить, но Мейерхольд отговорил его. Интересно, что западная пресса из всех многочисленных статей перепечатала только эту.
Гастроли Прокофьева продолжились в Харькове, Киеве и Одессе. Сергей Сергеевич давал в этих городах клавирабенды. Концерты пользовались шумным успехом. Произошли встречи с многим друзьями юности. Переезды не отличались особым комфортом, было множество смешных приключений, как обычно, с постельным бельём, с новыми знакомствами Лины среди многодетных правительственных дам с Украины, и вдруг задержанным специально для супругов вагоном Международного Общества, в котором никто, кроме них, не ехал.
Неожиданная встреча произошла в поезде Киев – Москва: в соседнем купе оказался Сеговия[34], концертировавший в Киеве и тоже возвращавшийся в Москву. Радости Сеговии по поводу встречи с Линой не было пределов. Они буквально утонули в своём испанском языке, это в любом случае было бы так, но усугублялось тем, что мрачный сопровождающий гитариста не говорил с ним ни слова и только без перерыва курил. Прокофьев, предоставив им с Линой разговаривать, лёг и уснул.
18 марта вернулись в Москву. Цуккер. «Метрополь». Тот же номер. С Цуккером в Кремль. Оружейная палата, шапка Мономаха, но потом попали в вотчину Н. Н. Померанцева, реставратора живописи в кремлёвских соборах, и он показал Рублёва. Прокофьева смущало, что в церковь входят в шляпе, но Померанцев объяснил, что это не церковь, а музей. На том же основании Лину ввели в алтарь, чтобы показать ей рублёвские иконы.
Вечером у Мейерхольда «Лес» Островского.
На другой день репетиции Персимфанса к последнему концерту, а вечером в оперной студии Хукдожественного театра «Евгений Онегин». «Крестьянская сцена первого акта выпущена, как оскорбляющая рабоче-крестьянское правительство». В остальном постановка замечательная.
20 марта днём последний концерт с Персимфансом. В программе «Классическая симфония», «Скифская сюита» и Второй концерт. Зал полон и настроение парадное.
Присутствует на концерте Рыков, глава правительства. Цуккер познакомил с ним Прокофьева:
– Как же вам у нас понравилось? – спросил Рыков.
– Мой приезд сюда – одно из самых сильных впечатлений моей жизни, – хитро ответил Прокофьев, который по собственному признанию не похвалил «Большевизию», но Рыков остался как будто очень доволен.
В артистической мадам Литвинова с детьми, Мясковский, Асафьев, Беляев, Яворский, Протопопов, Сараджев, Оборин, Блуменфельд, «заблестевший глазами», когда Прокофьев представил его Пташке.
Последние дни: Пташка на «Турандот», Сергей Сергеевич пошёл посидеть тихо с Асафьевым и Мясковским. Он забрал у Мясковского два толстых пакета со старыми дневниками, а Асафьев передал переплетённую объёмистую тетрадь с ранними пьесами Прокофьева. Побывали и в Художественном театре, – там ждали Станиславский, Книппер-Чехова. Станиславский узнал, что Лина – певица – и сразу пригласил её поступать в театр.
Предотъездная суета, сборы, подарки друзьям, достигла такого накала, что еле успели на поезд.
23 марта. «Поезд тронулся. Был чудный, ясный мартовский день, с косыми лучами заходящего солнца».
Глава шестая Возвращение в Париж. Рождение Олега
По возвращении в Париж жизнь приобрела ещё одно измерение. Набирая скорость, наполняясь делами, она снова помчалась дальше, но российские мотивы уже вплелись в неё. Исполнения сочинений часто сравниваются с московскими. Квинтет – хуже, чем в Москве, неуверенно и без огня, без русского энтузиазма. «Письмо от Цейтлина (концертмейстер Персимфанса) – длинное, подробное, ласковое. Уже идут разговоры о моём приезде в будущем году».
В другом месте: «Из Москвы целый ряд телеграмм с поздравлениями по поводу успеха „Апельсинов“».
В самом деле, особая обстановка России 1927 года, с её нищетой (но не для иностранцев!) и в то же время эмоциональным и духовным подъёмом среди лиц ещё не уничтоженных, как вскоре это случится, создавала волнующую атмосферу. Но и тогда Прокофьев неоднократно просил не торопить его с возвращением и говорил, что жизнь в Европе «непредставимо лучше».
В Париже снова большая забота: квартира! А ещё решили купить автомобиль. Для Башкирова это было целым событием, в котором он принял живейшее участие. Забраковав несколько «умывальников» – так прозвала Пташка подержанные Фиаты, чуть было не остановились на Panhard (Панхард), понравившемся ещё и тем, что на его радиаторе были помещены литеры SLP, то есть Лины и Прокофьева. Предпочтение отдали, однако, автомобилю фирмы Ballot (Байо), – нашёл Башкиров! Лина не слишком жаловала Бориса Николаевича, а теперь, в связи с автомобилем, он снова вошёл в жизнь Прокофьевых. Русские парижские друзья, конечно, были не прочь попрекнуть Прокофьева новой машиной, на которую он заработал-де в России. Русские московские друзья недалеко ушли от парижских.
«В Москве ведь до сих пор не успокоится муть от моих успехов», – пишет Прокофьев по прочтении письма от Мясковского.
Прокофьев заранее боялся намёков на заработки в России и оправдывался, что финансовые дела налаживались уже до России, когда кое-что скопил и не без труда получил водительские права. Всё же упрёки неприятны. В России Прокофьев дал бессчётное количество концертов, там шла его опера, много концертов были благотворительными, – в чём же был смысл укоров? Даже Стравинский, по словам Прокофьева, поздравил его с успехом в России выспренно и искусственно.
И тут меня посетила простая мысль. В чём же дело? Почему ТАКОЙ успех в России? Не потому ли, что было что показать? Разве кто-нибудь мог бы представить широчайшей публике с чуткими ушами столько каких-то немыслимых и в то же время доступных музыкальных откровений во всех жанрах? Он нагрянул и ошеломил города, залы, людей, он мог всё: он играл свои потрясающие фортепианные концерты, а самый главный оркестр России исполнял его симфонические произведения, ансамбли играли Квинтет, в Мариинском театре уже поставили знаменитую оперу «Любовь к трём апельсинам», а в Большом за неё взялись Голованов и Дикий.
Фортепианные концерты, оперы, балеты, симфонии, скрипичные концерты, увертюры, квинтеты, сонаты, романсы, вокальные сочинения, фортепианные миниатюры, да ещё и играть их как тридцатишестилетний Прокофьев! Музыка, пронизанная Радостью бытия, новая, неслыханная, но НАСТОЯЩАЯ! В этом никто не мог усомниться, даже рьяные противники.
Рахманинов тоже был един в трёх лицах, и были у него во множестве лучшие произведения фортепианной и вокальной литературы века. Но столько программ для стольких составов, столько симфоний, столько опер не было и у него. Увы, скорее всего по той причине, что должен был играть, играть и играть. Прокофьев умудрился поставить свой пианизм на службу своей музыке, а потом оставил его и сочинял, сочинял, сочинял, каждую минуту отдавая сочинению.
Случилось и так, что Прокофьев приехал в тот единственный момент, в отличие от всех последующих десятилетий двадцатого века, когда музыка ещё не стала бесправной униженной изгнанницей. Ещё живы были слушатели, традиции, уровень держался для последующего десятка лет неслыханный, ещё не били наотмашь по великим операм, как это сделали с Шостаковичем, не сажали и не стреляли в затылок. Можно было даже допустить, что некоторые жили за границей! Да з-з-за это лет через восемь-десять укокошили бы без суда и следствия. Сошлось всё каким-то чудесным образом. Тут никак не обойтись, чтобы не сказать: не зря ведь созрело в это время столько музыкальных гениев, да и всех других, – таков намечался у России путь, но большевики в своём варварском меньшинстве подоспели и на корню всё уничтожили.
С момента приобретения автомобиля начинается новая – автомобильная эра в жизни семьи. В дневнике каждый день по тому или иному поводу появляются сообщения о достигнутой скорости, средней скорости и т. д. Упоминаются автомобили Де Фалья и Момпоу, – у них Ehrhardt. Башкиров тренирует Прокофьева каждый день. Они вместе с Линой совершают всё более и более дальние поездки. Сначала одни, потом с друзьями. Всё это прекрасно, Прокофьев счастлив, и омрачаются поездки на машине только семейными сценами из-за нелюбви Лины к Башкирову. Не всегда Лина была не права. В записи от 10 мая 1927 года читаем:
«‹…› В моё отсутствие несколько раз был у Пташки Б. Н., лебезил, завтракал и в результате попросил двести франков, но с тем, чтобы Пташка мне не говорила. Пташка ответила: „Вы напрасно просите, чтобы я не говорила: деньги Серёжины, – почему же я буду ими распоряжаться, не сказав ему?“ И в самом деле, приёмчик так себе».
В первые же дни возобновили посещение церкви и занятия «Christian Science». В Монте-Карло шли репетиции балета «Стальной скок» с Дягилевым, который тоже реагировал на поездку Прокофьева в Россию: он давно мечтает туда поехать. На что Прокофьев ответил ему, что в России больше всего боятся, как бы Дягилев не переманил оттуда всех танцовщиков и танцовщиц. Поэтому если он даст письменное обещание не делать этого, его примут с распростёртыми объятиями.
7 июня в Париже состоялась премьера балета «Стальной скок» в Дягилевской постановке. Либретто принадлежало Прокофьеву и Якулову. От Лины мы знаем, что балет состоял из двух частей, показывавших современную жизнь в России, на сцене появлялись мешочники, комиссары, ораторы, матросы, девушки – работницы, рабочие, фабрика. Всё это было крайне рискованно, и Лина опасалась (Прокофьев тоже), что в зале могут вспыхнуть протесты, но всё обошлось, балет потом с ещё большим успехом прошёл в Лондоне и возвратился в Париж. Прокофьев присутствовал на репетициях, а Дягилев работал вот уж в самом деле день и ночь. Не обедал, не брился и к премьере не успел соответствующим образом одеться. Пташка была тронута и просила позволения поцеловать его, на что он с удовольствием согласился. На спектакли приходили Пикассо, Стравинский, Жан Кокто, Равель, Руссель, Соге, Орик, Пуленк, Вилла-Лобос, – этот список можно продолжать до бесконечности.
Правые русские газеты ругали спектакль. Но не Прокофьева. У Прокофьева кратко записано: «Mme Sert о постановке». Жаль, что мы не узнали её мнения.
Во время встречи со Святославом Прокофьевым в июне 2006 года в Париже он показал мне присланные из Америки съёмки этого балета, только что поставленного одним из американских университетов. Вот где, не уходя в дальние дали от замысла авторов, не наворачивая собственных сомнительных идей, с удовольствием оттанцевали «Большевистский» балет, как называл «Стальной скок» заказавший его в незапамятные времена Дягилев: легко, профессионально, весело, остроумно, красочно, ПОНЯТНО! – ну просто заглядишься и заслушаешься. Публика приняла представление с восторгом, овации не смолкали, и одной из замечательных сторон была полная естественность всего зрелища.
Автомобильная эра вступала в свой апогей. Лина рассказывает: не проходило и дня, чтобы Сергей Сергеевич не принёс из автомобильного магазина какую-нибудь новую, соблазнительную деталь. Лина, бедняжка, не сразу сдала экзамен на водительские права, но потом водить научилась и уже не была обречена на роль пассажира, при случае садилась за руль.
Катали друзей. Кусевицкий пришёл в такой восторг, так хвалил автомобиль, природу, Прокофьева, его музыку, так ругал всех остальных, называя Прокофьева ПЕРВЫМ среди всех, что даже рекомендовал своего портного.
На дачу в Сент-Пале-сюр-Мер, близ Ройяна (она называлась «Маяки», les Phares, что по звучанию походило на Лифарь, так что шутили, что живут в Лифаре), ехали с Пташкой, Святославом и мисс Олмстед из «Christian Science». Ну и, конечно же, горы нот и бумаг. Проехали за день 224 км, попали в смерч, шёл дождь, устали. Прокофьев замечает, что «Святослав вёл себя как взрослый». Но всё искупила дача, у самого моря, огромная, чистая, с изящной простой мебелью. Большой сад. Легли спать без постельного белья, так как его забыли в Париже.
Прокофьев, как всегда, без устали работал, а в перерывах они с Пташкой объездили все уголки этих очаровательных французских окрестностей.
Святослав без страха входил босой в море, но потом садился и выходил с промокшими штанами. Так было несколько раз. Но вот уже разгар лета, середина июля, а вода ледяная. Бедный Святослав со слезами кричал: «Довольно!!»
Работала и Лина. За время пребывания в России она запустила свои папки и теперь вся ушла в изучение рецензий, их надо было разобрать, рассортировать, выбросить ненужные, а потом распределить по страницам и наклеить «художественно».
В конце июля Сергей Сергеевич и Лина отправились в Бордо встречать родителей, прибывавших из Америки. Они оказались на пристани в самую рань и вскоре увидели на палубе Мэмэ и дедушку Хуана – Ави. Но пришлось ждать ещё полтора часа, прежде чем их выпустили. Avi выглядел плохо, он уже стал много болеть.
Но в дорогу! И Сергей Сергеевич помчался. Он нашёл скорость, с которой они ехали – примерно 54 км в час – прекрасной, – и к трём часам, не без лёгких приключений, прибыли домой. Водитель заснул как убитый.
В труде и размышлениях шла работа Прокофьева над «Игроком». Всё было обдумано им во время сочинения музыки, но оставалось выписать миллионы нот. Оркестровал спиритический сеанс. «Масса убухано хорошей музыки на сюжет, за который я теперь ни за что бы не взялся. И за „Игрока“ не взялся бы. На днях Пташка читала „Игрока“, с которым не была знакома, а я перелистывал его. Год его написания совпадает с годом открытия Christian Science, и подумать, что в тот момент, когда в Америке создавалось величайшее учение, наш русский гений метался между шалой женщиной и игорным столом, и затем стремительно строчил роман о том и о другом!»
Напряжённая работа над «Игроком» день за днём шла до 29 февраля уже следующего, 1928 года. И закончив сочинение, Прокофьев написал:
29 февраля (1928)
«Кончил оркестровку „Игрока“, а следовательно, вообще оперу, так как оставшийся кончик клавира не в счёт: кончается опера с окончанием партитуры. Хороший день для окончания большой вещи: 29 февраля случается лишь раз в четыре года!»
В Ройяне всё было подчинено работе, и не только над «Игроком». Делал клавирные переложения, «Огненного ангела», правил партитуру. «Хочется написать светлую симфонию. Вообще планов масса».
Лина металась между Святославом и родителями. Avi мучили приступы грудной жабы. Ольга Владиславовна отвергла Christian science. На океане бушевала буря, волны вздымались у самого сада.
Всё же с появлением родителей освободились руки, и появилась возможность вместе с друзьями совершать дальние автомобильные поездки. Байонна, Биарриц – роскошный курорт, – Прокофьев не преминул заметить, что во время премьеры «Стального скока» в Париже Луначарский пребывал именно там, – очаровательный Сен-Жан де Люс. Возвращались домой, где Мэмэ встречала Сергея Сергеевича и Лину со Святославом и маленькой дочкой Боровского, Наташей – родители получили детей в отличном состоянии. И снова вихрь дел налетел на композитора. Утром «Игрок», днём клавирное переложение и корректура Симфонии.
Купались, подправляли мелочи в автомобиле, совершенствовались в Christian Science, изучали шахматные партии.
Сентябрь. Погода какая-то невыразительная. Ни жарко ни холодно. Опять «Игрок» до одурения, затем прогулка в автомобиле, и Пташка правила. Вечером Christian Science и дневник.
Прокофьеву прекрасно работалось в Ройяне, гладко, легко. Как-то после отъезда друзей Ольга Владиславовна сказала: «Отчего бы вам не остаться здесь месяц-два, если нет специальных дел в Париже, а в Рояйне можно найти квартиру очень дёшево», Прокофьев имел неосторожность поддержать это мнение. Пташка разрыдалась: она никак не думала, не ожидала, что всё кончится жизнью в провинциальном городке. Сквозь слёзы выкрикивала эти несуразности и испортила вечер. Так что партию Алёхин-Капабланка, которую собирались изучать вместе, Прокофьев просматривал в одиночестве. Через день-два снова зашёл разговор о квартире в Ройяне, и Пташка так рассердилась, что решили эту ночь спать в разных комнатах, «чтобы не мешать друг другу». Но посреди ночи Пташка, сославшись на то, что кто-то ходит за окнами, и она даже слышала звук велосипедного звонка, в целях безопасности вернулась на супружеское ложе, а Сергей Сергеевич для пущей надёжности запер дверь на ключ.
На другой день уже расстраивались вместе: Алёхин проиграл Капабланке вторую партию после того, как первые шесть «держался с ним на равной ноге».
Установилась замечательная тёплая погода, и Прокофьев уговорил хозяина немного продлить срок. Вечером сидели вдвоём с Линой у океана и наблюдали, как солнце погружается в него огненным шаром.
Пройдёт ещё много времени, прежде чем Прокофьевы, наконец, снимут квартиру на улице Аюи, которая и станет их последней и окончательной квартирой до отъезда в СССР в 1936 году. Лина с удовольствием описывала эту квартиру: немеблированную, пятикомнатную, с холлом-передней. Впервые сами обставляли своё жильё, – Лина признаётся, что переезжать каждый год больше было бы невмоготу. С увлечением покупали и заказывали мебель. Обставляя кабинет Сергея Сергеевича, тщательно выбирали не только стол, но и кресла «для обдумывания».
Уже в России на просьбы рассказать о своём французском детстве Святослав Прокофьев вспоминал: «В Париже родители часто переезжали с квартиры на квартиру, но в последние годы постоянно жили в одной – на улице Valentin Hauy, 5. Несколько лет тому назад Олег побывал там и говорил, что в детстве квартира казалась ему очень большой, гораздо больше, чем на самом деле. Я тоже запомнил её просторной. Пока мы жили во Франции, родители всё время одёргивали нас: „Говорите по-русски!“ Мы не слушались. Когда переехали в Москву, указание изменилось: „Говорите по-французски!“ Между собой родители общались по-русски. В маме не было русской крови, но язык она знала хорошо, прекрасно говорила и на других языках – без акцента. Отец тоже хорошо знал языки, писал на них письма, но лёгкий акцент во французском языке у него был. Он увлекался Christian Science, по воскресеньям в общине проводили лекции, семинары, и он обычно брал меня с собой. У мамы до последних дней её жизни хранились еженедельные издания этого учения».
На новоселье Наталья Гончарова подарила панно со стилизованным изображением Лины в магнолиях. Петров-Водкин сделал натюрморт, составленный самим Сергеем Сергеевичем: на столе, покрытом синей суконной скатертью, лежит стекло, а на нём стакан воды и в нём три астры; справа – большое розовое яблоко и ещё половинка, лежит ещё один цветок. Акварель Бенуа с изображением Версаля, гравюры Остроумовой-Лебедевой, южные французские пейзажи Шухаева. Появилось тогда и много пластинок. По словам Лины, Сергей Сергеевич очень любил слушать Второй и Третий концерты Рахманинова в исполнении автора, любил и часто слушал музыку Дебюсси, – по нескольку раз «Послеполуденный отдых фавна», а «Пелеаса и Мелизанду» причислял к высотам мировой музыки. В этой квартире Сергей Сергеевич, как впоследствии на Чкаловской в Москве, проводил шахматные турниры и партии в бридж. Люди искусства, музыканты, художники были постоянными гостями семьи. А в день новоселья Прокофьевы приняли сто человек!
Но мы сильно забежали вперёд. До улицы Аюи ещё придётся поскитаться. В октябре перебираются на старую квартиру, avenue Fremiet – хозяин даёт ещё два месяца.
Приехали Щербачёвы[35], Прокофьев на них накинулся, почему не пишет Асафьев. Оказалось, после разрыва с Англией в России начались репрессии (ещё не по полной), Асафьева не тронули, но проявили нешуточный интерес к лицам, переписывающимся с заграницей. Асафьев в панике, и этим объясняется его молчание. Открытка от него пришла в ноябре, он молчал с июля, боясь политических преследований за переписку. Из России продолжали поступать Прокофьеву самые соблазнительные предложения от Цейтлина, от Персимфанса. Но Прокофьев принял твёрдое решение: несмотря на большие гонорары отказаться. Выбо был сделан исключительно в пользу сочинения. Оно шло хорошо, легко, лилось рекой, и пришлось бы всё прекратить и начать готовиться к концертам, что совершенно выбило бы его из колеи.
Популярность Прокофьева была очень велика, его узнавали, его рисовали, о нём повсюду говорили. Характерно, что когда он всё-таки решил вопреки постулатам Christian Science посетить Кострицкого, царского зубного врача, тот сказал: «Вы очень молоды для такой популярности, которую вы имеете.» Нечто похожее и на вечере у Прюньера[36], где было много знаменитостей. Кто-то заметил Прокофьеву: «О, как вы потолстели», на что сосед его немедленно реагировал: «Это потому, что он надут славой». Со всех сторон плыли ангажементы. «В эту зиму я бегу от концертных ангажементов, тогда они приходят сами с повышенными окладами».
Два солидных предложения: турне от Кусевицкого будущей осенью в Америку, и от Держановского в нынешнем году, в декабре, в Россию.
Впрочем, далеко не всем предложениям суждено было осуществиться. Наивность большого художника не позволяла Прокофьеву угадать в маленьких российских «неурядицах» его турне 1927 года угрозу будущих катастроф. И в самом деле, до них было ещё далеко. В то же время мне кажется, что решение переехать в Россию пустило робкие пока ещё ростки во время турне 1927 года. Однако проследим за новостями из России в 1928 году и судьбой предложения Держановского.
Закончен «Игрок», предполагавшийся к постановке. Из России – расплывчатые телеграммы и молчание Асафьева. С другой стороны, письмо от Мясковского: невероятные похвалы «Огненному ангелу», а «Стальной скок» успеха не имел. Прокофьеву это больно, – на западе, – в Париже, в Лондоне – «Стальной скок» имеет оглушительный успех.
Держановский пишет, что пока нет денег.
Асафьев, что отношение к музыке Прокофьева у ленинградцев хорошее.
От Держановского телеграммы нет.
Дни проходят в томительном ожидании, – наконец, выясняется, что телеграмма есть: «ввиду неполучения валюты поездку придётся отложить на февраль или март».
Знаменательная цитата: «Хотя теперешняя поездка в Россию связана с кучей хлопот, но лишь после отказа я понял, как меня туда тянуло и как, в сущности, я уже настроился ехать. ‹…› И в самом деле, какого чёрта я здесь, а не там, где меня ждут и где мне самому гораздо интереснее?» (выделено автором)
Двадцать первого октября Лине минуло тридцать лет. Вечером Пташка в сопровождении мужа отправилась на концертное исполнение «Снегурочки». Она мечтала спеть эту партию. Исполнение, по мнению Прокофьева, было среднее, и лучше всех, разумеется, Кошиц. В антракте вспыльчивая и строптивая Пташка при людях заявила ему, что он ничего не понимает в пении. Прокофьев рассердился и больше с ней в тот вечер не разговаривал. Конечно, на другой же день помирились. Прокофьев считает, что Christian Science помогает быстро забывать семейные ссоры. Впрочем, он признаётся, что Пташка была на редкость отходчива.
Как-то заехали в гости Захаровы, – друзья юности. После обеда Пташка пела гостям романсы Римского-Корсакова в первый раз и, видимо, понравилась им. «Особое удивление вызвали мои романсы: никак не могли понять, как это такую сложность можно петь с такою свободой».
В ноябре получили, наконец, окончательную телеграмму из Лондона, подтверждающую выступления Прокофьева с Пташкой на Радио в Лондоне, Пташка начала волноваться тотчас. И Прокофьев сетовал, что уже за две недели до отъезда в доме наэлектризованное настроение. Дальше, увы, сплошные разочарования:
2 декабря. Франция.
«Сегодняшний день и вчерашний ушли на сборы в Англию. ‹…› Пташка эти дни недурно пела, голос её заметно усилился и умения прибавилось, но душат английские слова со сдавленными гласными и трещащими согласными».
4 декабря. Лондон.
«Пташка хрипит, если так, то завтра петь нельзя; настроение поэтому тяжёлое».
5 декабря. Лондон.
«Настроение среднее из-за Пташкиной хрипоты. Рояль мне не привезли, путают, я наконец, ору в телефон, что не могу же упражняться на столе ‹…› Рояль привозят около шести. Пташка поёт, но хрипит, я повторяю 2-ю Сонату. Пташке как будто лучше, но всё равно нет надежды достигнуть хорошего: в лучшем случае посредственно, в худшем провал. Я советую не рисковать. Пташка соглашается. Но всё же, пока я одеваюсь, уныло повторяет: „Я помню, мы вдвоём“, в какой-то надежде.‹…› Дома Пташка ждёт меня с нетерпением. Она расстроена, но благодаря Christian Science держит себя молодцом».
Конечно, всё основное время Прокофьева было раз и навсегда отдано музыке. Идеи били фонтаном, и тем более напряжённым был труд. Между супругами случались и размолвки, Лине хотелось больше внимания к себе, к своей работе. Но все ссоры кончались одинаково: «С Пташкой последние дни ссорюсь, но сегодня она первая подошла помириться. Она иногда невыносима при ссорах, но её достоинство то, что почти всегда первая мирится.»
27 февраля 1928 года Святославу исполнилось четыре года. Днём у Святослава были гости, и, как это обычно бывает, к детям присоединились и взрослые. Перебывала пропасть народа, звучала русская, французская, английская и итальянская речь. Сын Марины Цветаевой Мур называл Святослава «Святотат», – огромный сильный мальчик на год младше. Пили чай, потом ели холодное мясо. Было приятно и очень весело.
Как-то поехали все втроём к Кусевицким, – Прокофьев, Пташка и Святослав. Прокофьев – размяться, Лина с сыном погостить по приглашению жены Кусевицкого, которая очень их любила. Приехали, встретили там Стравинского с детьми. Было много разговоров со Стравинским о музыке и о чисто музыкальных разногласиях между композиторами, вызывавших у Сергея Сергеевича болезненную реакцию: использование музыки Чайковского, Рахманинова или Дебюсси ранило Прокофьева, как и многие взгляды Игоря Фёдоровича, которые он, при его блестящем и парадоксальном уме, мгновенно выстраивал по сколь угодно новому образцу. Впрочем, шашлык изумительный и вино замечательное. А Святослав спрашивает: «Мама, а что такое Стравинский?». Пташка рассказала об этом ему самому, он был страшно доволен и сразу начал объяснять Святославу: «Стравинский – это вот я; вот, посмотри…» и так далее…
Пташка уже была беременна.
В сентябре 1928 года приезжает Асафьев. Разговоры о музыке, Прокофьев пытается приобщить друга к Christian Science, тот много рассказывает о России, высказывает суждения о композиторах. Музыкальное общение с ним – источник живой воды для Прокофьева, – их музыкальные взгляды близки, Асафьев умён и проницателен, между ними царит полное доверие. Его очень любит и Лина, любит и хорошо знает его и Ольга Владиславовна, которая на время путешествий взяла к себе Святослава. Для Сергея и Лины особым удовольствием и радостью было показывать Асафьеву красивейшие места Швейцарии и Франции. И хотя Лине надо бы уже беречься, они бесстрашно совершали восхождения и спуски. Прокофьев беспокоится: не следовало бы Пташке лезть.
Вскоре приезжает из Женевы Ламм. И вновь начинается путешествие: Лина, Прокофьев, Асафьев, Ламм.
Несмотря на то, что зимой Лина ждала второго ребёнка, она всё же рискнула отправиться в это путешествие, во время которого четвёрка участников побывали и в Лозанне, и в Монтрё, в Берне, Фрейбурге, Цюрихе, спускались в сказочные по красоте долины, поднимались к глетчерам Роны, ночевали высоко в горах, в домике для странников, им подобных.
19 сентября 1928 года
«‹…› В два отправился в Анемас[37] за Ламмом и затем в Chamonix с Пташкой, Асафьевым и Ламмом. Из Chamonix поднялись по подвесному фуникулёру в Planpraz, который мне понравился ещё с Кусевицким. Сильное ощущение при подъёме: у меня закладывает уши, но я не волнуюсь (CS); Асафьев и Ламм волнуются. Наверху надо было ещё немного подняться до отеля. Пташка отяжелела и еле дошла.»
В самоотверженности Пташке никак не откажешь.
28 сентября 1928 года.
«Моросит дождь. Поднимаемся на Сен-Готар. Облака несутся со всех сторон, под нами и над нами. Тут же манёвры швейцарской кавалерии и артиллерии. Едем по склону узкой долины, по которой шёл Суворов. Впечатление суровости и величия. Автомобиль ползёт медленно. Наверху туман вдруг рассеивается и мы видим туманное озеро и отель. Спускаемся в тумане, как в молоке. Трудные повороты. Асафьев по растительности определяет соответствие широте в России. Вдруг среди тумана появляется зелёная долина – Ariolo. Завтракаем, пьём итальянское вино, которое я очень люблю, Пташка изъясняется по-итальянски. Под вечер Лугано и отель с балконом прямо на озеро. Особенно доволен Асафьев, вспоминает, как он был здесь пятнадцать лет назад, но не узнаёт многого – так расширилось Лугано.»
Прокофьев всё время нервничает из-за перегрузок для Лины, но она, хоть кряхтит и охает, очень счастлива. В восторженном состоянии пребывают и гости, – им гостеприимство Сергея Сергеевича и Пташки – дар судьбы.
Уезжает Асафьев, но друзья расстаются, как думает Прокофьев, ненадолго, так как в конце года планирует приезд в Россию.
В Париже наскоро снимают очередную квартиру (Пташке уже самое время иметь свой угол!) А вскоре к ней заходит приятельница с мужем акушером. Осмотрев Пташку, он сообщает, что до родов ей остаётся месяц. Мальчик или девочка? – спросили родители. – А вы кого хотите? – Девочку. – Тогда я уверен, что девочка. – Доктор вынул записную книжку и записал там «мальчик», пояснив, что если получится девочка, он, мол, так и предсказал. Ну а если мальчик, он покажет свою книжку, в которой так и записал.
Приготовили уже и маленькие костюмчики для девочки.
Появился Мейерхольд, который через десять дней собирался ехать в Россию, чтобы ставить там «Игрока». Ходили с ним и Зинаидой Райх в театр смотреть бродвейский спектакль с сыщиками, стрельбой, полуголыми девицами, всё как полагается.
10 ноября Прокофьев сел сочинять балет «Блудный сын». Дягилев ждал этого балета, и когда Прокофьев, очень быстро написавший большую его часть, захотел сразу показать её Дягилеву, тот страшно удивился и не поверил. Сказал, что, должно быть, вышло плохо. И в тот же день приехал слушать. Днём Прокофьев кое-что подчищал, учился играть балет на рояле, а вечером пришли Дягилев, Мейерхольд и Боровские. «Дягилев был сегодня очень интересен, молод и оживлён.
– Когда? – спросил он сразу у Пташки.
– Du jour au lendemain, – ответила она, и прибавила: – Какой у вас, однако, глаз, Сергей Павлович!
– Ещё бы, – сказал он, у меня тридцать женщин на руках вот уже двадцать лет подряд!»
Уединившись с Дягилевым, Прокофьев сыграл ему куски балета, Дягилев нашёл музыку прекрасной и уехал довольный. Но, засыпая, Прокофьев всё искал новую тему для апофеоза, ясную, чистую, и думал, что для иллюстрации евангельского рассказа она должна прийти свыше. Она и пришла. Ночью он встал и записал несколько тактов.
Ждали родов в любую минуту. На встречу с Маяковским у Самойленко Прокофьев, видимо, отправился без Лины. Он уже знал его по Берлину. Маяковский мало изменился, «такой же огромный детина, только поглубже легли складки на лице по сравнению с тем, когда он был „красивый, двадцатидвухлетний“». Прокофьев уговорил Маяковского прочесть стихи, что он сделал «бесподобно и громогласно». Прокофьев рассказывает, что Маяковского привела с собой «красивая и развязная девица». Это Татьяна Яковлева.
«На прощание я расцеловался с Маяковским. Он на всех произвёл впечатление, хотя в нём есть какая-то напряжённость и тяжесть. Татьяна никому не понравилась, кроме Дукельского».
В ночь на 13 декабря у Пташки начались боли, но она не хотела будить Сергея Сергеевича. Утром поехали в клинику, там была приготовлена комната, в которой четыре года назад появился на свет Святослав, но к завтраку супруги вернулись обратно, – время ещё не наступило. Но вечером пришлось вновь отправляться в клинику. Прокофьев призвал на помощь Миссис Гетти, которая вела Пташку и собрался было уйти домой, но Лине захотелось, чтобы он остался. Его поместили в комнату этажом ниже. Ночью, услышав стоны Пташки, Прокофьев присоединился к её работе.
В пять часов утра радостное восклицание: garçon! Ну вот, а ждали девочку. Отец, однако, ничуть не огорчился. «Роды прошли отлично, ребёнок был крепкий, весил 3 кг 620 г. Пташка тоже была настроена хорошо. Я пошёл звонить о происшедшем бабушке».
Счастливый отец ранним утром заглянул в открытое кафе, посмотрел на редких посетителей, потом пошёл домой, рассказал всё в подробностях Мэмэ, заявил, что не хочет спать, тут же заснул, а затем вернулся в клинику. К это времени дитя похорошело (появившись на свет, оно напомнило Сергею Сергеевичу Мишу Эльмана), и Сергей Сергеевич признаётся, что относится к нему с большей нежностью, чем когда-то к новорождённому Святославу. Теперь Прокофьев привёл его смотреть Нового, «заводного» братца, которого ему купили к Рождеству. Святослав сказал, что лучше бы сестрицу, но папа ему ответил, что сестрицы очень дорогие. Самое интересное, однако, произошло, когда Святослав увидел его, завизжал и потом говорил «Крошка дорогая, братик мой».
Лина прекрасно выглядит и страшно радуется каждому приходу Сергея Сергеевича. Он бывает у неё дважды в день, по два – два с половиной часа, но ей кажется, что мало.
Насчёт имени были расхождения. «Аскольд» – предлагал Прокофьев. Но доктор сказал, что имя не канонизировано. Прокофьев решил уступить Аскольда, и 17 декабря в мэрии младенец был записан под именем Олег-Сергей, т. е. не то Олег Сергеевич, не то Олег и Сергей: «во Франции часто дают по нескольку имён, а Лине, которой ничего не говорит имя Олег, хотелось назвать сына Серёжкой (но два Сергея Сергеевича в семье создаст в дальнейшем ужасную путаницу), так и вышел Олег, но с какой-то надеждой для Пташки на Сергея».
Под самый Новый Год Пташка с Олегом вернулись домой. Сразу началась суета: младенца надо было взвесить до и после кормления, чтобы узнать, сколько он съел, Святослав пребывал в состоянии неконтролируемого экстаза от братика, Мэмэ на радостях всё перепутала.
Работа с Дягилевым кипела. Он считал балет «Блудный сын» чуть ли не высшим достижением Прокофьева, сделал очень дельные замечания, оба остались довольны друг другом. Тут и Пташке радость перепала. Дягилев полюбовался Олегом, поиграл с ним и похвалил обоих, его и Святослава. Уж не тогда ли он назвал Лину маршалом?… Лина Ивановна через многие годы рассказывала о своём дружеском общении с ним:
«На одной из самых первых репетиций (рассказ 1980-х годов) Дягилев подошёл ко мне и спросил о моём впечатлении от освещения, согласна ли я с тем, что в нём должен присутствовать оттенок „голубой ветчины“. Это я знала – голубой ветчина становится, если она не очень свежая, она приобретает серо-голубой цвет и, оказывается, в освещении существует такое понятие, такое официальное название цвета: голубая ветчина. Он обратился ко мне, потому что заметил, что мои замечания были спонтанными и уместными. Конечно, никому и в голову бы не пришло сказать, что она „вылезает“, потому что это было смешно, у него было вокруг столько советчиков, что он совершенно не нуждался в моём мнении. Может быть, он обращался со мной как с ребёнком, а устами младенца, как известно…
О, он всегда был очень внимателен ко мне. Я помню, что когда у меня родился второй сын, он подошёл ко мне и, улыбаясь, сказал: „Женщина с ребёнком – это Генерал, а с двумя детьми – Маршал“. Он смеялся и, разумеется, был доволен, что оба были мальчиками.»
Глава седьмая Предотъездные годы (1929–1933)
Как скажет внук Лины Ивановны Сергей Олегович Прокофьев, здоровье Авии было отменным, благодаря чему ей удавалось с блеском справляться с ролью матери двух сыновей, жены, советчицы, друга Сергея Сергеевича, с собственными занятиями пением, – уж не будем говорить о бесчисленных, чуть ли не каждодневных приёмах, после концертов или по поводу концертов, бывать на которых было её обязательством перед мужем, счастливо совпадавшим с её пристрастиями. Но после родов прошло слишком мало времени, и бессонные ночи совсем не соответствовали размеренному образу жизни, в котором нуждалась бы мать новорождённого. 13 января Лина впервые вышла погулять с мужем. Всё ещё была слаба и нервна. Но отношения между супругами были самые нежные, дружеские, любовные, и Прокофьев не перестаёт говорить об этом. Хотя, конечно, обычные для семейной жизни размолвки случались время от времени, но по самым пустяковым поводам и быстро забывались. Прокофьев пишет, что настроение у него очень хорошее.
Объём его деятельности не вмещается в наши представления, – у него не было праздных минут. Вдруг оказывается, что он успел сбегать и на доклад Марины Цветаевой о Брюсове, и, хотя он был очень интересным, но Остроумова-Лебедева во время сеансов рассказывала более жуткие и яркие картины из его жизни. И сочинял, сочинял. Заканчивал балет «Блудный сын». Радовался детям. В случае любых, иногда и тяжёлых, неурядиц с коллегами искал и всегда находил ответ и утешение в Christian Science.
Подрастал Олег. Впрочем, дома его так не называли. Хотя от русских Лина постоянно слышала комплименты этому имени, ей оно не очень нравилось, поэтому с лёгкой руки Святослава Олег назывался «братиком». Святослав по-прежнему испытывал к нему нежность и в знак любви и чтобы доставить Олегу удовольствие, дал ему однажды пососать свой грязный палец – так охарактеризовал этот поступок отец.
Со Святославом он ходил в дальние прогулки по Булонскому Лесу. Сын изображал паровоз, шлёпал по грязи, пел «чижика», но когда однажды отец оказался на одной тропинке, а он на другой, философски заметил: «Ты сюда, а я сюда, у каждого своя дорога».
К началу 1929 года относятся некоторые события, не имевшие до той поры места в жизни Сергея Сергеевича. Как-то поехали с Пташкой в русский ресторан есть блины после дневного концерта Софроницкого, с семьёй которого Прокофьевы очень дружили, а Елена Александровна была чуть ли не крестной матерью Олега.[38] Мийо представил Прокофьеву своего собеседника, – это был Аренс, советник советского посольства в Париже. До сих пор Прокофьев держался в стороне от него, боялся, что тот предложит играть – а такое событие не обойдут своим вниманием эмигрантские газеты. О слово «боялся» невольно спотыкаешься, – оно не подходит Прокофьеву, он ничего не боялся, шёл своим путём или, скорее, нёсся как стремительная комета. Однако ситуация затягивает, бывает, самых независимых людей. Сергей Сергеевич собирался в Россию, нуждался в паспорте (всегда этот паспорт!!!), он должен был быть вежливым. Аренс заговорил о том, что у них в посольстве скопились груды нот советских композиторов, и они совершенно не представляют себе, что с ними делать. Прокофьев не задумываясь ответил, что с удовольствием поможет, – считал это своей обязанностью перед московскими композиторами. Представленный Пташке, крайне обрадованный Аренс расшаркался, поцеловал ей ручку и записал адрес Прокофьева. Такой невинный первый шажок. Свидетель этого – Пташка – с самого начала разделяла все тревоги мужа, чего бы они ни касались: разногласий со Стравинским или российских горестей.
В конце февраля утром позвонил Софроницкий и передал просьбу Аренса прийти помочь разобрать ноты. Прокофьев обещал, что будет в половине третьего. Приехал. В самом деле, нот было несметное количество. Прокофьев отобрал Мясковского, Шостаковича, Мосолова, Шебалина, Дешевова. Выразил удивление, что нет сочинений Попова. Очень довольный Аренс не преминул, однако, заявить, что пятого марта (!) посольство хотело бы увидеть в своих стенах Прокофьева, чтобы он сыграл что-нибудь у них на приёме.
«Обязанность выступить в полпредстве злила. Ночью просыпался. Противно, если пропечатают в эмигрантских газетах и подымут ругань. Но надо выбирать или Россию, или эмиграцию. Ясно, что из двух – Россию». Прокофьев тяжело переживал необходимость такого выбора, несколько раз записывал, насколько она его раздражает. «Злит, что надо играть в полпредстве».
5 марта в половине пятого за Прокофьевым в огромном посольском автомобиле, который, однако, изрядно скрипел, заехал Софроницкий, и музыканты отправились услаждать уши посольских гостей. В посольстве Прокофьев встретил Русселя и Согэ, Эренбурга, Маяковского и генерала-адьютанта графа Игнатьева: оторопевшему Прокофьеву Аренс пояснил, что это теперь наш человек. Играли с Софроницким на двух роялях прокофьевские обработки вальсов Шуберта, потом Прокофьев поиграл немного сам. В зале было довольно тихо, но из соседнего доносился гул. Был большой успех, вопрос о паспорте решился сам собой.
Дома Прокофьев, не ожидавший почти ничего из того, что увидел, рассказывал Пташке о приёме с французскими и немецкими вельможами, графом Игнатьевым в роскошных анфиладах русского посольства, сохранившего золотые короны на стенах. Пташка слушала с большим интересом и даже пожалела, что не пошла.
Оскорбления в адрес Прокофьева после его выступления в посольстве посыпались градом. Особенно обидело «Возрождение», назвав композитора резиновой куклой. Пташка очень расстроилась. На помощь, как всегда было призвано «Christian science», оно и помогло пережить неприятности.
Вовсю шла работа над балетом. Оформление Дягилев поручил Руо. Дягилев настолько любил Пташку, что она часто присутствовала и на репетициях, и во время обсуждения постановки. Прокофьев даже попросил его не смущать её своими поцелуями.
Дягилев считал «Блудного сына» едва ли не лучшим сочинением Прокофьева. Он не был одинок, таково было всеобщее мнение. Играя балет Стравинскому, Прокофьев думал, что тот отделается вежливыми похвалами, но Стравинский искусно уклонился от того, чтобы высказать своё мнение. Пташка очень огорчилась. Прокофьев приводит её слова: «Напрасно ты ему играл: он нарочно хотел послушать балет, чтобы иметь право критиковать его».
Художников разделяли музыкальные взгляды. Стравинский шёл своим путем, презирал тех, кто выходил перед всем миром и вопил во всю мочь: «О, я такой великий человек, такой великий художник!» Романтизм для него и существовал и не существовал одновременно, – и всё же «Меня больше всего интересует конструкция» – это его слова. Заполнить конструкцию. Наблюдать за её заполнением. Прокофьев же в своём «Дневнике» рассказывает, что, работая над «Блудным сыном», ночью встал и записал те четыре такта, которые, наконец, удовлетворили его. Чисто музыкальные идеи, и мелодические, и гармонические, и ритмические, – били фонтаном. Он был предельно честен в творчестве и в своих критических мыслях искал утешения в Крисчен Сайенс. Со своей честностью и бескопромиссностью он был многим неудобен. Неудобнее всего был его сверкающий солнечный дар. Дягилев не скрывал от Сергея Сергеевича нелицеприятные, иной раз, суждения Игоря Фёдоровича о его музыке, и в «Дневнике» Прокофьев цитирует их. «Дневник» ждёт внимательного читателя, который, если захочет, разберётся в хитросплетениях музыкантской жизни.
Но огорчения поглощались творчеством и семейным счастьем. Святослава подстригли, – и это ему не идёт, – огорчались родители. Олег удивительно много смеётся. Премьеры сочинений ждали композитора в мае. А с 25 марта по 7 апреля Сергей Сергеевич и Лина отправились на автомобиле в Монте-Карло.
Пташка была счастлива. Выехали вдвоём и поехали на юг, по напрвалению к Лиону. Там переночевали в великолепном отеле, потом по течению Роны вниз, к Экс-ан-Прованс, дальше к Средиземноморскому побережью, а в четыре часа уже в Монте-Карло. Зашли в игорный зал, но и сами играть не хотели, и сложилось такое впечатление, что находившиеся там игроки тоже особого рвения играть не проявляли. Оставили записку Дягилеву в отеле. Пташке очень понравилось в Монте-Карло, и вместо трёх дней супруги пробыли там неделю, – Дягилев тоже не отпускал их. Погода всё время стояла чудесная. Дягилев, Лифарь, Кохно, Руо, – «все они очень хорошо относились к Пташке и под конец даже целовали у неё руку (это дягилевские мальчики-то!)»
4 марта пустились с Пташкой в обратную дорогу. Отношения были совершенно идиллическими, споры возникали только о времени выезда: Лина не любит вставать рано – и выезжать приходилось в десять утра, – а Сергей не любит править в сумерках и останавливается в седьмом часу, Лина же хочет ехать дальше. На обратной дороге, интереснейшей, мимо живописного Грасса, Виши, хотели посмотреть знаменитый собор в Бурж, Пташка непременно стремилась обязательно доехать и до Орлеана, а Прокофьев сердился, что надо ехать в темноте. 7-го утром оставалось лишь 115 километров до Парижа по прекрасной дороге.
Наконец 7 марта вернулись домой! Дети в полном здравии и благополучии, Мэмэ расцвела, – тоже, наверное, отдохнула от ссор с Пташкой. Мэмэ – отличный человек, но что за характер! Обидчивый и независимый.
Всё чисто, а на столе куча писем. Из Москвы скорее неприятные известия. Держановского уволили. Мясковский пишет: «Вы собираетесь сюда? Зачем? Наши идеологи находят, что ваша музыка рабочим вредна или в лучшем случае чужда…» Не за горами РАПм. Но Прокофьев реагирует неожиданно. Он думает: «Может быть, как раз наоборот: мне надо поехать, чтобы заставить людей поверить в мою музыку…» Он как будто забыл, что люди-то как раз были в восторге от его музыки, и уж точно не понимает, что все перемены в отношении – следствие одной только идеологии. От Мейерхольда вскоре пришёл новый московский журнал, в котором была напечатана злобная статья о Прокофьеве, а заодно и Рославце. «В Прокофьеве видели гения, однако каждое его новое произведение приносит разочарование… атмосфера охлаждения… искусство мстит за ложь» и т. д. И снова Прокофьев думает: но ведь они же ещё не знают там «Игрока», «Огненного ангела», «Блудного сына». «Все эти произведения должны прийти на мою выручку».
Конечно, у нынешних людей возникает вопрос: как же он не видел, что пишут, что рисуют и прочее? Видел! Но была ещё жива литература, живопись, ещё не всё подвергли надругательству и уничтожению, на сцене ещё царили Мейерхольд, Эйзенштейн, Таиров, Маяковский. И его тянуло к ним.
Вечером с Пташкой ходили «на Маяковского», слушать, как он читал «Клопа», а Мейерхольд даже предлагал и музыку написать на эту пьесу. Пьеса произвела на Прокофьева странное впечатление, – некоторые остроты показались «просто невыносимыми»… какая пропасть отделяет Россию… Новый, невероятный мир, чуждый и непонятный Прокофьеву. Но Сергей Сергеевич снова себя утешает тем, что и у Островского ведь тоже был другой мир.
«Маяковский сквозь грубость был мягок», – придумывал разные игры, учил мерить на аршин дурака: в боковой карман кладут катушку, а кончик нитки продевают в петлю на отвороте пиджака. Приятель подходит и услужливо снимает вам ниточку. Нитка тянется, и он тянет всё больше, пока не догадается. После этого меряют вытянутый кусок, который тем длиннее, чем дольше приятель не догадался.
В воспоминаниях Лины в много раз упомянутом сборнике 1965 года как всегда розово-придуманное описание этой встречи, – никаких аршинов и дураков, а, мол, Сергей Сергеевич играл Маяковскому много музыки, и особенно понравилась Владимиру Владимировичу опера. (Какая?)
В конце апреля рано утром Прокофьев встал, поцеловал сонную Пташку и отправился в Брюссель, где должна была состояться в ближайшее время премьера «Игрока». О дне рождения Маэстро не было забыто, и к утреннему кофе его ждал на столе сладкий пирог.
Через три дня встречал Пташку уже в Брюсселе. Обрадовались друг другу, словно давно не виделись и проболтали до двух часов ночи. Оба очень любили обсуждать все события. На другой день прошли репетиции. В свободное время осматривали город. 29 апреля с большим успехом прошла премьера. Опера увидела сцену. 30 апреля возвращались в Париж.
На православную Пасху отправились на кулич и пасху к друзьям, Пайчадзе[39]: «всем цугом»: Пташка, Прокофьев, Святослав, Олег в коляске и замечательная няня-датчанка, по имени Эльза.
В преддверии двух премьер полным ходом шли репетиции. На дневную генеральную репетицию симфонии 17 мая пустили только Лину. Она была очень довольна исполнением и сказала, что играют уже существенно лучше, чем накануне. Вечером с большим успехом у публики прошла премьера Третьей симфонии. Дирижировал Пьер Монтё. Дягилеву очень понравилась симфония. Лина, как всегда, была осыпана комплиментами.
20 мая утром генеральная репетиция «Блудного сына». Генеральные репетиции – это всегда страшно; но, конечно, участие Дягилева или Руо, присутствие Кусевицкого и Стравинского, дирижирование при непорядке с сердцем, недовольство автора некоторыми непристойностями (по тем временам!) на сцене вносили особые штрихи в и без того нервную атмосферу. Если кто порадовал Прокофьева, то мадам Серт – Мисия, – присутствовавшая на репетиции и сумевшая, как обычно, облечь своё полное восхищение в приятную для автора форму.
Прокофьев же был глубоко возмущён неприличными деталями в постановке Баланчивадзе[40]. По этому поводу произошёл даже нелицеприятный разговор с Дягилевым, который не считал возможным, чтобы композитор вмешивался в хореографию. Яда добавил, как обычно, Игорь Фёдорович: он, мол, согласен с Прокофьевым в отношении не совсем пристойных деталей, но, может быть, вообще не следовало бы брать в качестве основы для балета сюжет из Евангелия (балет-то уже написан!)
После репетиции Пташка, Руо и Дягилев горячо спорили. Пташка сказала: «Не то плохо, что показали зад, а плохо то, что показали его не вовремя!»
Возвратились домой в плохом настроении, было обидно. Опираясь на своё любимое учение, Прокофьев думал о том, что защищать евангельскую притчу от неприличия злостью и обидой нельзя. Старался себя перестроить.
21 мая наступил день премьеры. Дягилев попросил Прокофьева подождать, пока он дойдёт до ложи, чтобы увидеть, как тот пройдёт к дирижёрскому пульту. Сергей Сергеевич послушался, его встретили аплодисментами. В первом ряду, чуть позади сидел Рахманинов.
Кончился балет под громкие аплодисменты. Первым вылетел кланяться Баланчивадзе. Но потом выходили все, композитор за ручку с художником Руо, артисты. Вызовов было очень много. Прокофьев не запомнил, сколько.
Артистическую заполнил парижский высший музыкальный свет. Позднее мелькнул Дягилев, поцеловал Пташку, поздравил Прокофьева и сказал: «Надо бы посидеть, но лучше в другой раз, сейчас мы все устали». Кусевицкий: «Это гениальная вещь; какие два удара – симфония и это!» На лестнице Сергей Сепгеевич встретил Рахманинова, подошёл к нему, взял под руку и спросил, как ему понравилось. Он ответил ласково: «Очень многое, особенно начало второй картины, и самый конец». Через два-три дня Прокофьеву рассказали в издательстве, что заходил Рахманинов и купил экземпляр «Блудного сына».
Затем поехали с Пташкой к Кусевицким, где наскоро собрали ужин. Кусевицкий повторял: «Это гениальная вещь».
26 мая 1929 г. Длинное письмо от Держановского[41] Заведующий репертуарной частью Большого театра Гусман хочет поставить «Стальной скок» и пригласить Прокофьева в репертуарную комиссию. Для этого надо проводить в Москве три месяца осенью и три месяца зимой. Сергей Сергеевич считает, что три месяца – это совершенно невозможно, но по месяцу кажется ему заманчивым. Главное, гарантия свободного передвижения.
31 мая.
«Мейерхольд пишет, что в России не так уж хорошо (если я поеду, то втянут в писание политической музыки)… Приехали Боровские… Вечером были с ними в кинематографе на русском фильме „Рязанские бабы“. Много приятного и родного, особенно волнующееся поле ржи. Ехать – не ехать в Россию?»[42]
16 июня.
«У Самойленок встретился с Таировым.»
26 июня.
«Был у Аренса. Паспорта готовы и продлены. Говорили о моей осенней поездке в Россию и о том, чтобы меня не задержали с обратным выездом. Аренс сказал, что советским гражданам, деятельность которых протекает за границей и едущим в СССР в отпуск, иногда сразу даётся право на обратный выезд. Из-за „Стального скока“ Прокофьева можно приравнять к таковым. Аренс ещё раз подтвердил своё желание поддержать поездку Мясковского за границу.»
В самом конце мая пришло странное, на взгляд Прокофьева, письмо от Спака, где он сообщал, что постановка «Игрока» откладывается на осень из-за болезни Полины. Прокофьев удивляется: столько труда, большой успех, прекрасная пресса… День, однако, был посвящён обсуждению дачных проблем, так как в этот раз ими озаботились довольно поздно. Сняли наконец у настоящих графов настоящий старинный замок «Ля Флешер», расположенный на вершине холма близ озера Бурже по соседству с местечком Кюлоз.
Только что, весной 2006 года, граф прислал Святославу любительские съёмки замка «Ля Флешер». Снова на ум приходят римляне со своим «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Съёмки сделаны товарищем детских игр Святослава, сыном весьма родовитых владельцев замка. В детстве разница в пять лет (в пользу графа) казалась огромной, но теперь все сравнялись в возрасте, хозяин пригласил Святослава в замок и снял его визит. Взору представляется его серая каменная громада с зубчатыми стенами, с грозными старинными башнями среди гор, скал, кустарников, лесов, полей, лугов, рощ, – всего зелёного, что во Франции почему-то ещё зеленее и гуще. В замке необъятной величины терраса, которая называется террасой Стравинского. Граф водит Святослава по замку. В стеклянной витрине выставлены фотографиии, где все так знакомы, так молоды, дети теперь стали взрослыми, иных уж нет. Стены комнат старые и толстые, не в обхват. Лестницы, соединяющие этажи, не какие-нибудь там витые узенькие, а широкие, с высоченными ступеньками, а в зале на ковре стоит рояль! Игрывали на нём и Прокофьев, и Стравинский. Рояль расстроен, однако звучит благородно, звук красивый, поющий, он сам играет. Мебель старинная поизносилась, но определённо музейного толка. Здесь молодая Лина извела всех огромных тараканов. Теперь понятно, что в таком замке они и могли быть только огромными. Стрельчатые окна, высоченные деревянные многопудовые двери, – всё в гармонии с этими стенами, и поражающей воображение природой старой Франции.
Июль начался под флагом сборов. Каждый переезд Прокофьевых на дачу всегда сопровождался съездом с квартиры. Это означало необходимость каждый раз укладывать всё имущество, заодно подвергая его тщательной разборке. Это требовало огромного труда. Что-то оставалось в Париже, а что-то ехало на дачу.
Святослав и Олег со всем их детским имуществом, любимая няня Эльза по фамилии Бах (Прокофьевы очень любили и ценили её, а Сергей Сергеевич всем представлял её как внучку Баха, ноты, партитуры, клавиры. Прокофьев лаконично пишет: «Ввиду накопления вещей, книг и детей, количество чемоданов, ящиков и сундуков вырастает геометрически». Всё это на плечах Пташки. Сергей Сергеевич хотел, чтобы она весело и споро принялась за дело, но Лина пала духом, не скрывала своего настроения и была подавлена. Впрочем не настолько, чтобы в конце-концов не приступить к делу. Пять наиболее тяжёлых ящиков отвезли к Гаво, два такси всякого хлама – к Пташкиной учительнице пения, а десятка полтора чемоданов Астров повёз на дачу в поезде, плюс ко всему до верха утрамбовали вещами машину.[43].
Итак, 5 июля состоялся выезд: Братику на заднем сиденье Ballot была устроена постель, рядом сидела Эльза со Святославом на коленях. Остальные места были доверху заложены смками и свёртками. Прокофьев за рулём, Пташка – рядом.
В первый день сделали 250 км, так как выехали поздно, остановились ночевать в Авалоне. Сыновья оказались прекрасными путешественниками, и на другой день к вечеру все «торжественно въехали в ворота замка, куда уже прибыл Астров с вещами, потеряв кухарку, тоже датчанку, опоздавшую к поезду.»
Феодальный замок, о котором я только что писала, отвечал всем представлениям о старинных замках: каменная винтовая лестница, огромная терраса, бесчисленные комнаты, так что сначала были затруднения в их распределении, старинная мебель, кресла с графскими коронами, кровати с балдахинами и вековая пыль.
Пташка никак не приходила в хорошее настроение: кухарка, было нашедшаяся, ушла в какое-то более весёлое место, но самое страшное – огромные тараканы, расплодившиеся в угрожающем количестве. Понятно, что у Лины не было покоя, пока она не вытравила их полностью. Она не спала по ночам и, по словам Прокофьева, не умела спокойно проходить мимо всех этих мелочей (!).
Слава Прокофьева докатилась уже и до этих мест, – Лина пишет, что они часто встречались с друзьями – французами, среди которых был Шалон, порекомендаваший замок, хороший музыкант, немало скрасивший жизнь семьи, помогавший Прокофьеву в черновой работе и возивший всех на изумительные пикники. Один был особенно романтический: спускались в большой грот, уходящий вглубь наподобие улитки. Внизу было темно и холодно; искали низенькое отверстие, по которому на животе можно переползти в целую систему других гротов, длиной в полкилометра.
Неподалёку жили Стравинский, Нина Кошиц, знаменитая испанская танцовщица Архентина, с которой познакомил Прокофьевых Шалон. Лина, конечно, сразу её полюбила.
Накануне получения ужасного известия обедали со Стравинским в превосходном ресторане, указанном Шалоном.
«На другой день (двадцать первого августа) приехал Сувчинский[44] в очень хорошем настроении я отправился встречать его, но первые его слова – о смерти Дягилева. Я воскликнул: „Нет!?“, – но по существу не сразу воспринял, настолько жив и живуч образ Дягилева. Пока Сувчинский рассказывал: „Третьего дня…от фурункула… в Венеции“, – до меня постепенно доходила сущность. От фурункула – он всегда боялся их. Когда, по моему возвращению из России, мы назначили свидание, он манкировал, потому что у него был фурункул (я удивился тому)».
Пташка также потрясена. Не могла поверить, что в то время как накануне много говорили о нём со Стравинским, он уже был мёртв. Для неё он значил бесконечно много.
С уходом великой личности безвозвратно меняется пейзаж. И с этим уже ничего нельзя поделать.
Сувчинский много говорил с Пташкой о пении; у него сильный тенор и он сейчас в полосе увлечения пением. Он нашёл, что Пташка прекрасно понимает его, и у них много обших идей.
Вскоре после отъезда Сувчинских приехала на несколько дней Линина учительница пения, Телли. И Линино дурное настроение постепенно стало проходить. Отношения снова сделались необыкновенно нежными. Она начала заниматься, дела её пошли успешно. Несколько раз Лина выступала перед гостями, голос подчинялся ей, очень всем понравилась. А под занавес своего пребывания во Флешере Прокофьевы устроили большой приём для всех соседей. Приехали даже и сами Флешеры, – как оказалось, не только графы, но и маркизы. Прокофьев играл, Пташка с большим успехом пела. И этим не кончились её выступления. В последние дни она несколько раз пела для соседей и приобрела поклонниц и друзей. Её настроение резко изменилось в лучшую сторону. Всю жизнь ей хотелось петь, и когда это удавалось, она была счастлива.
Осенью всей семьёй возвращались в Париж. Что-то не ладилось с колесом. На ночь машину поставили в гараж, но когда утром тронулись в путь, снова появились неполадки. Уже недалеко от Парижа машину резко занесло вбок, раздался страшный удар… Машина перевернулась. Сергей Сергеевич потерял сознание, Лина чуть не осталась без глаза, получив страшные удары в лицо, Олега спасла Эльза, которая во время аварии прижала его к себе, Святослава выбросило через открытое окно машины на обочину, но он, хоть и плакал во всю, остался цел и невредим. Оказалось, что на полном ходу машина потеряла колесо (в гараже винт не завернули до конца), машину вынесло на встречную полосу, – французские водители не могли поверить, что машина шла в Париж, а не в обратном направлении. Потерпевших окружила толпа сочувствующих: пассажиров и вещи буквально разобрали по разным машинам и довезли до Парижа, машину оставили на месте аварии. Несколько дней пришлось провести в постели. У Сергея Сергеевича было лёгкое сотрясение мозга, ушибы рук.
Быстро распространившиеся слухи о безнадёжном состоянии здоровья семьи оказались преувеличенными, и в конце октября Прокофьев отправился ненадолго в Россию, куда его очень нежно провожали Святослав с Пташкой. Прокофьев пишет, что отъезд был не такой весёлый, как прошлый, так как он ехал один.
В Берлине купил игрушки для детей. С границы послал домой открытку. Она передо мной:
29 октября 1929, 6 с половиной ч.в.
«Дорогая Пташка,
приехали в Столпцы, последняя польская станция перед советской границей. Утром из Варшавы послал тебе письмо, а Мясковскому телеграмму, что завтра в 10.50 утра буду в Москве. День сегодня прошёл медленно: поезд плёлся, а я и мой сосед – приятный немец, едущий в Россию на четыре месяца – изучать её – дремали в купэ. Уже всюду у дам замелькали котиковые шубы: значит приближаемся к России. Целую нежно.
С.»
В Москве встречали Мясковский, Держановские, Мейерхольд, Оборин, Ламм. Разговоры, конечно, вертелись вокруг катастрофы, так как пришло известие, что Прокофьев убит.
Отель был забронирован в Столешниковом переулке, Мейерхольд приглашал Прокофьева остановиться у него, но Прокофьеву это показалось неудобным.
На этот раз не так всё ладилось. Хотя и играли в восемь рук и встречи были многочисленными, но «утром ходил по Москве, смотрел на толпу, чувствовал свой отрыв.» Зашёл в Персимфанс, был в гостях у Мясковского, играл и показывал ему новые сочинения, потом обедал у Мейерхольда. Узнал, что идёт какая-то «чистка». Вечером с Мясковским и Олешей у себя в гостинице. Отъезд в Ленинград.
Асафьев уже поджидал его в Детском Селе, но Прокофьев отправился сначала в «Европейскую», потом пошёл гулять. «Расхаживал и думал, что будто никому нет дела», но, поправлял себя, он же сам всё затеял. В Ленинграде у Дранишникова сложная обстановка. Интриги. Все друг друга боятся.
Асафьев болен, не выходит из дома. Оживился в разговоре о музыке.
Видел и слушал Попова.
Потом снова Москва, письма от Пташки, Большой театр, Мейерхольд. На сцене Большого театра идёт приём в партию, речи в «высоко-вульгарном» стиле. Посетил Литвиновых в их новой квартире. Мейерхольд неуютно чувствует себя и опасается чистки. Снова побывал в родном Мариинском театре в Ленинграде, оттуда в Большой в Москву. Записали часть оперы на Радио. Генеральная репетиция не во всём удовлетворила Прокофьева. Вечером большое собрание у Мейерхольда (15 ноября): Мясковский, Оборин, Пастернак, Маяковский, Петров-Водкин, Олеша, Пшибышевский, Керженцев, Литвинова, Агранов, ещё кто-то из генералов. Прокофьев снова заводит разговор о Шурике. Он понемногу играл, насколько позволяли ушибленные руки. «Баня», прочитанная Маяковским, не понравилась. На спектакле «Трёх апельсинов» пришлось сидеть на приставных стульях. Старческий смех Принца вызвал досаду, но Козловский – личность неприкосновенная, любимец москвичей. Снова немыслимый круговорот Москвы, демонстрация(!), за которой наблюдал из окна – сколько красного! – концерты, встречи, деловые, дружеские, родственные. У Мейерхольда ждут письма от Пташки, – всюду не поспеть. Но набранная в конце поездки скорость только нарастает.
19 ноября в 6.40 поезд отходит, Прокофьев машет толпе провожающих. До апреля…
«Жаль расставаться с СССР. Цель поездки достигнута: ясно и определённо укрепился».
На вокзале в Париже встречала Пташка. «С ней исключительно нежные отношения». Братику уже одиннадцать месяцев. Ему повесили между дверьми качели, и он без устали на них качается.
Прокофьев сразу же составляет подробный детальный план на оставшийся перед отъездом в Америку месяц, с перечислением всего, что надо сыграть и сделать за это время. Его творческие возможности неисчерпаемы, поддержка, всепонимающий друг всегда рядом.
Лина не была похожа на Веру николаевну Бунину или Анну Григорьевну Достоевскую. Она не растворилась в муже, она была достаточно самостоятельна в суждениях, в поведении, отличалась известной строптивостью, но преданность Прокофьеву и его музыке была безгранична.
Отличной прелюдией перед гастролями в Америке стал состоявшийся в Париже первый фестиваль, посвященный одному современному композитору – Прокофьеву, прошедший с огромным успехом, который Сергей Сергеевич – единый в трёх лицах – композитор, пианист, дирижёр – сравнивал с московским и ленинградским в 1927 году.
В канун Рождества 1929 года погрузились на пароход «Беренгария», семиэтажный колосс, который прозвали «музыкальной шкатулкой», так как на борту судна оказались одновременно Прокофьев, Рахманинов, Эльман и другие знаменитости из музыкального мира.
Первый день качка, на второй Пташка и Прокофьев привыкают, на третий – море успокаивается. Лина рассказывает об этих первых днях по-другому. Она заявляет, что в отличие от Прокофьева не боялась качки и на зависть ему прогуливалась по палубе с Рахманиновым, её давним другом. Но так или иначе во время плавания Рахманинов ежедневно приглашал к себе Прокофьевых, они вместе раскладывали пасьянсы, Лина вспоминает, что Рахманинов очень интересовался поездкой Прокофьева в Россию, буквально засыпал его вопросами.
1 января 1930 года прибыли в Нью-Йорк. В номере, том же, что и четыре года назад, поджидал «Стейнвей». Новый Год провели в прогулке по Бродвею, заполоненном толпами гуляющих. «Всё это свистело в свистульки, пищало в пищалки, хлопало в хлопушки – невероятный Вавилон. Своеобразный и очень большой эффект».
Одновременно с триумфальным турне Прокофьева по Америке, когда он получил полное признание публики и прессы, выходя на сцену с крупнейшими оркестрами Соединённых Штатов, состоялись и его камерные концерты, в которых принимала участие Лина.
Она сердилась из-за того, что в Нью-Йорке Прокофьев выступал с Кошиц, а не с ней. Увы. Концерт был запланирован импресарио, а Кошиц была знаменита и великолепно пела. Пташка упрекала Прокофьева в том, что ей не делается реклама, но он считал, что как только она покажет себя и начнёт, как он выразился, «петь направо и налево», реклама придёт к ней сама.
Как замечал и сам Сергей Сергеевич, она легко справлялась с хандрой. И самым эффективным средством были успехи на вокальном поприще. Она ходила заниматься к Любошицу. Любошиц – Нью-йоркский аккомпаниатор, очень опытный музыкант, выступавший со всеми певцами и певицами. Он рассыпался в похвалах Пташке, и от её дурного расположения духа не оставалось и следа. Так как Любошиц был вхож во все музыкальные дома Нью-Йорка, его мнение имело значение: он всюду обо всём рассказывал.
В середине января Пташка пела песни Де Фалья директору мадридской филармонии Арбосу, который с успехом гастролировал по Америке и жил в одном отеле с Прокофьевыми в Нью-Йорке.[45].
Пташка хотела спеть ему не только чтобы посоветоваться с ним как с испанцем, знавшим эту музыку, но и чтобы показаться ему, попасть в поле его зрения. Арбос отнёсся к её просьбе ответственно и очень подробно прошёл с ней все песни.
И вот она снова готовится принять участие в сольном концерте Прокофьева. И снова приходится признать, что сцена ей не дается. От волнения в голосе чуть ли не каждый раз появляются хрипы. Так случилось и на этот раз. Настроение сразу упало.
21 января 1930 года Прокофьев пишет: «Повторяю программу реситаля, а также 2-й Концерт к Бостону. Пташка тоже готовится к первому выступлению, поэтому у неё нервы и хрипота, и дома настроение так себе.»
Дальше – хуже. Бостон. Прокофьевы приехали на две ночи, чтобы порепетировать перед концертом в женском университете под Бостоном. «Пташка хрипит, нервничает, но не ссорится. Я вчера треснул себе палец о сундук, и он побаливает».
23 января этот концерт состоялся. За Сергеем Сергеевичем и Линой прислали автомобиль и повезли в Уэллсли колледж, в полутора часах от Бостона. В университете учатся две тысячи девушек, и каждый год им устраивают восемь серьёзных концертов. Действительно, зал заполнен девушками, которые ждут выступлений Прокофьева и Лины. Но у Прокофьева болит палец, и он не может делать эффектные глиссандо, у Лины нет голоса. Программа очень сложная. Успех весьма сдержанный. Каждый исполняет один бис.
На другой день в Филадельфии совсем беда с Пташкой. Видимо, накануне она форсировала голос и в результате совсем осипла. Прокофьев уговорил её, что лучше он сыграет десять Мимолётностей. Бедная Лина осталась дома и расплакалась.
Концерт прошёл с большим успехом. Пташка, хоть и расстроенная донельзя, посидела вечером вместе с мужем в номере у Смоленса[46].
Удивительно, что Прокофьев не падал духом. Но ведь гостям, дома Лина прекрасно пела. Была надежда, что она преодолеет свой сценический страх. Прокофьев продолжал заниматься с ней.
По дороге в Калифорнию под Орлеаном вышли на станцию, где сидели индианки в пёстрых покрывалах и вели свою нехитрую тоговлю. Лина пишет, что Сергею Сергеевичу захотелось купить там что-нибудь детям. Выбрали коврик с примитивно нарисованными на нём коровами. Этот коврик долгие годы лежал между кроватями мальчиков и оказался в известной мере роковым.
Какие только встречи ни происходили у Прокофьевых в Америке! 13 февраля после утренней репетиции с Родзинским[47], за Линой и Сергеем Сергеевичем заехала жена Нельсона в превосходном Роллс-Ройсе, принадлежавшем Глории Свенсон и повезла к ней завтракать.
«Нельсон – очень милый человек с синими глазами, американский архитектор, работающий в Париже и женатый на француженке. Он случайно был в LA, когда Глория увидела его проект (я видел, очень остроумный) особняка на крыше небоскрёба; а так как это было как раз нужно для её картины, то сразу вцепилась в него. Нельсон – артист и возмущается той низкопробной музыкой, которая сопровождает картины. Поэтому он выдвинул меня. А так как постановку финансирует банкир Кеннеди (очень приятный, спокойный, совсем ещё молодой человек), который одобряет мою музыку, то в результате приглашён к завтраку. Ехали мы довольно долго: Глория живёт в кинематографическом городке, где она крутит свою фильму. Сама она так красива и так знаменита, что не знаешь, как до неё дотронуться. Я и держался в стороне, предоставив Пташке разговаривать с нею.»
Концерты, занятия, – всё это как всегда в физическом и моральном напряжении, поэтому предложение Лины отправиться к миссис Гарвин оказалось очень удачным. Миссис Гарвин – Линина подруга, которая в своё время нашла няню Святославу, а теперь говорит, что если что-то, не дай Бог, случится, она возьмёт детей к себе. Миссис Гарвин жила в одном из самых живописных калифорнийских городков, – Санта Барбара – и ехать до него надо было три часа вдоль океана. Миссис Гарвин повезла Сергея Сергеевича и Лину на прекрасном автомобиле, погода стояла чудная, виды – прекрасные, и Прокофьев был очень доволен, что может целый день отдыхать в этом благословенном краю.
Лина задержалась там на несколько дней, а Прокофьева уже труба звала на новые артистические подвиги. Она вернулась на автомобиле и, как можно предположить, не в лучшем состоянии духа. Как выразился Прокофьев, «в средних настроениях». Причина всё та же: фатально, – перед каждым концертом она оказывалась не в голосе. «Концерт тут же, в зале отеля. Народу не очень много, но пускали только членов Pro Musica и немногих приглашённых. Я играл довольно равнодушно. У Пташки была недурна интерпретативная часть, но голоса она дать не могла».
После концерта ужин, тут же в отеле Балтимор. Родзинский вовсю ухаживал за Линой.
Отзывы на следующий день вышли почтительно – неодобритель-ная. Пташка рыдала, так как и её задели. Прокофьев рассматривал критику как реальность, которая существовала, влияла на что-то, но всерьёз не воспринимал.
Пташка снова уехала в Санта Барбара. Там она очень удачно пела в частном концерте, и это подняло её настроение. Потом она самостоятельно совершила путешествие в Чикаго и появилась уже после концерта Прокофьева, который вдруг имел особенный успех как дирижёр. Он отправил жену в Детройт, где предстоял концерт, чтобы она успела отдохнуть.
Лина приехала туда накануне и поселилась в отеле на двадцать четвёртом этаже, – оттуда была видно Канаду. Утром приехал Прокофьев. Так как концерт был камерный, день прошёл в репетициях со всеми участниками, и самому надо было позаниматься. Вечером состоялся концерт, прошёл живо – гораздо живее, чем в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке. Пташка на этот раз была в ударе, имела успех, а «Еврейскую увертюру» бисировали. После ужина среди очень хорошо настроенной публики отбыли в Нью-Йорк.
В Нью-Йорке произошло памятное для Лины событие. В город приехал кумир американцев Тосканини. Так как прошлой весной он с большим успехом сыграл «Классическую» симфонию Прокофьева (до неё он вообще не играл русской музыки), Прокофьев решил пойти пожать ему руку и получил приглашение прийти на репетицию.
«Это было чрезвычайно интересно. Тосканини горячился, терял палочку, кричал оркестру „vergogna“[48] – но дело не в этом. Дело в том, как безоглядно отдаёт он себя той вещи, которой дирижирует, ‹…› Тосканини забывает всё и вся и с головой уходит в исполняемую вещь. И как он знает партитуру! В общем – полезная для меня репетиция, т. е. для моего дирижёрства: 1)лучше учить партитуры; 2) больше сливаться с вещью и музыкантами.»
Об этой же репетиции сохранился рассказ Лины:
«Единственным произведением Прокофьева, которое исполнял Тосканини, была „Классическая“ симфония. Мы только один раз были на концерте Тосканини с Нью-Йоркским Филармоническим оркестром, потому что наше расписание никогда не совпадало с графиком его концертных турне. Мы должны были оставить Нью-Йорк накануне концерта, на котором Тосканини дирижировал „Классической“ симфонией. Поэтому менеджер Сергея получил от Тосканини разрешение присутствовать нам на репетиции. Обычно он не позволял кому бы то ни было присутствовать на репетиции. Условия полученного нами разрешения заключались в том, чтобы нас не было ни слышно – ни видно в зале. Мы сели где-то далеко сзади, и я думаю, что Тосканини и не подозревал о нашем присутствии. Сначала он дирижировал, кажется, какой-то симфонией Моцарта, а потом перешёл к „Классической“ симфонии. Он проявлял большую дотошность, и музыканты иногда даже обижались. Это были великолепные музыканты, а он говорил так: „Что это такое? Вы музыканты? Вы играете, как собаки!“ Я помню, что в какой-то момент он присел на ступеньки, ведущие на сцену, положил голову на руки и сказал: „Как мне быть? Вы не делаете музыку“. Он заставил их играть каждого по отдельности. Нам с самого начала показалось, что он достигал совершенства. Теперешние люди представить себе не могут, как высоки были его требования.
После репетиции мы обменялись рукопожатиями, но он очень устал. Сергей был под большим впечатлением, и я помню его слова: „Вот это действительно работа. Если сочинение отрепетировано таким образом, композитор может быть доволен“».
В марте отправились в Гавану. Для Лины Куба была связана с детскими воспоминаниями, она любила тропический климат, в марте – мягкий; море, пальмы доставляли ей наслаждение. По вечерам гуляли без пальто и шляп. Воздух был тёплый и слегка душный. Через пальмы просвечивала луна, эти прогулки были очень приятны, хотя Прокофьев, в отличие от Лины, «северный человек» уставал от влажного воздуха. Кстати говоря, на границе с Кубой произошло некоторое недоразумение с двумя фамилиями Лины, «Прокофьев» в паспорте и «Любера» в ангажементе. Недоразумение уладили, хотя пришлось поспорить, и для разрешения недоразумения очень пригодился Линин испанский язык. В дальнейшем Лина больше любила выступать под фамилией мужа.
В Гаване состоялись два концерта. Хотя Прокофьев сообщает, что среди слушателей были любители современной музыки, образовавшие даже свой кружок, и знакомые с музыкой Прокофьева, в целом аудитория ещё не была вполне готова воспринимать её. Зал был новый, на 2800 мест, первый концерт давал Прокофьев, и публика, привыкшая к традиционной музыке, в антракте говорила, что «этот человек сумасшедший», рассказывает Лина. Прокофьев пишет так: «На первом концерте много народу, вежливо-любезного; после некоторых вещей попроще – успех. Но всё же целый концерт из моих сочинений – пилюля слишком тяжёлая для начинающей публики Гаваны. Это особенно чувствовалось при исполнении „Вещей в себе“. Поэтому на втором концерте гораздо меньше народу (четверть зала), но программа легче, да и присутствие Пташки представляло развлечение. Пела она более удачно, чем в предыдущих концертах, имела хороший успех и букет красных цветов, – но всё же могла бы спеть лучше».
На один из концертов, – рассказывала Лина, – пришёл Федерико Гарсиа Лорка, простой, естественный, живой. Лорка с друзьями навестил Прокофьевых в их отеле «Ведадо». Лина переводила им по их просьбе биографию мужа, вскоре опубликованную. Лорка уже знал некоторые сочинения Прокофьева, и Лина пишет, что его особенно интересовала авторская интерпретация.
Свозили гостей и на фабрику сигар «Партагас». И Сергей Сергеевич, и Лина восхищались скоростью и ловкостью фабричных работниц, которые в мгновение ока скручивали сигары. Машинный метод не был ещё освоен.
Вернувшись в Нью-Йорк, нашли стопку писем.
В Москве, видимо, остались без денег, поручения Прокофьева оказались невыполненными.
На носу концерты в Чикаго с участием Лины.
23 марта. Чикаго. Концерт проходил в маленьком зале довольно аристократического клуба, где собрались сто – двести человек, среди них Карпентеры, миссис Рокфеллер-Мак Кормик, бывший консул Волков и мадам Больм, с которыми вспоминали первые годы Прокофьева в Америке десять лет назад. Концерт прошёл без особого подъёма.
Надо помнить о чрезвычайной строгости и честности Прокофьева. Похвалу из его уст можно было услышать крайне редко, и тогда это означало очень много. Поэтому если он писал, что Пташка пела недурно, это скорее надо воспринимать как одобрение.
24 марта. Чикаго. Запись из «Дневника» Прокофьева.
«Завтракали с Рахманиновыми: он с женой, я с Пташкой. Вчера он изумил нас вниманием, позвонив нам по телефону. За завтраком Рахманинов был в отличном настроениии, даже посмеивался над Метнером, рассказывая эпизоды из его американской поездки. ‹…› Рахманинов заявил, что придёт на концерт специально, чтобы послушать Пташку. Пташка всячески умоляла его не приходить и не смущать её, но Рахманинов ответил, что раз он на свои кровные купил билет, то должен его использовать. Поддразнивая Пташку, он вынимает билет и показывает ей.
Концерт в Orchestra Hall, слушателей человек тысяча, но большой зал выглядит пустовато. Зато приём удивительно равномерно-горячий. Лина поёт совсем неплохо и имеет успех. Концерт проходит оживлённо. Лина видит в партере Рахманинова, он сидит, внимательно уставившись. На половине концерта уходит, так как в десять вечера у него поезд в Детройт.
После концерта едем в два места, несмотря на бурю. С нами Больмы, Анисфельды, Волковы… У Брустеров чудный дом, полный современной живописи лучших художников. Замечательная коллекция!»
28 марта возвращались в Европу. Прокофьев уже опаздывал на собственный фестиваль в Брюсселе, посылал с борта судна телеграммы, а в Париже возникли разногласия с Пташкой. Она жаловалась, что очень устала и хочет ехать в Le Cannet[49] к детям, в то время как Сергей Сергеевич настаивал на том, что надо хотя бы посмотреть квартиру, которую сняли, начать ремонт, а потом ехать. Сам же в тот же день прибыл в Брюссель, где заснул как убитый, ничего не зная о завтрашнем концерте. Выяснилось, что Ансерме позаботился обо всём.
В Париже затевался, хоть и не так быстро, как хотелось, ремонт квартиры. Святослав осуществил первый выход в свет. Прокофьев, играя свой Третий концерт и дирижируя, заметил в четвёртом ряду Святослава. Пташка в первый раз привела его на концерт отца. Родители очень боялись, что при виде Прокофьева Святослав закричит: «Папа!». Но он был уже большой мальчик и вёл себя как следует.
Из России шли неутешительные вести: в газетах писали о жестоких антирелигиозных гонениях в стране большевиков, но особенно сильное впечатление произвело на Прокофьева письмо от Мясковского, в котором тот прямо советовал не приезжать из-за серьёзных перемен в музыкальном мире. Всё захватили в свои руки пролетарские музыканты (РАПм).[50]
Мейерхольд молчал. Страшная новость: самоубийство Маяковского. Прокофьев считал, что причиной могут быть творческие и политические конфликты, а не женщина, как писали газеты. Неужели из-за Татьяны Яковлевой? – ужасался Прокофьев. Асафьев через Боровского передал, что категорически не советует ехать. Эта встреча с Боровским прояснила до конца то, о чём писал Мясковский. Прокофьев оценил храбрость Мясковского, осмелившегося написать об этом, в отличие от Асафьева, решившегося только на словах передать своё мнение. Мейерхольд рассказывал, что «пролетарские музыканты» не только сражались против «Стального скока» в Большом театре, но устроили травлю Прокофьева в стенах Московской консерватории.
Где-то там, в далёкой России уже назревали изменения в судьбе Прокофьева, но пока ещё шла праздничная, радостная, трудовая жизнь в Париже, с разъездами, концертами, новыми сочинениями. Летом снимали дачу. Там частыми гостями Прокофьевых были Мейерхольд с Зинаидой Райх, Серж Лифарь.
Купили маленький киноаппарат и решили провести первую съёмку. Сюжет придумала Зинаида Николаевна. Лина называет фильм «Похищение ребёнка»: у неё похищает ребёнка (в роли ребёнка Олег) разбойник Мейерхольд и прячет его в подземелье, – для этого в саду нашли живописный спуск в колодец. Начинается погоня. Но тут Пташка вдруг просыпается – ей всё приснилось. Мейерхольд привязывал к ветке верёвку и колебал её на первом плане, перед самым аппаратом, чтобы создать эффект ветра. Олег и в самом деле стал побаиваться злодея – Мейерхольда.
Но произошло непоправимое! Зинаида в нетерпении, не дождавшись мужчин, включила проектор, требовавший другого напряжения, и фильм погиб, сгорел. Как рассердился Прокофьев! Называл её «Зинка», не хотел прощаться с Мейерхольдами перед их отъездом, но потом хоть и холодно и формально, отдавая себе отчёт в несерьёзности повода, всё же простились.
Вскоре сняли и другой фильм, при участии Набоковых, пригласивших погостить Сергея и Лину. В этом фильме трудность состояла в том, что персонажей было три, а на сцене находились два, потому что третий должен был производить съёмку и крутить аппарат. Придумали такой выход: «Пташка задумчиво сидит у обрыва, прогуливается Набоков и начинает к ней приставать; Пташка вырывается, бежит мне жаловаться; я беру палку и направляюсь к Набокову, поднимаю руку, но… это оказывается мой добрый приятель, садимся рядом, начинаем хлопать друг друга по коленке и обниматься.»
Закончив, обнаружили, что из всех окон на актёров смотрели зрители.
В декабре в Брюсселе состоялись непростые встречи со Стравинским, его музыкой, разговоры о композиторах, парадоксальные, противоречивые. Но это было на другой день, а сначала был концерт.
Сергей Сергеевич и Лина репетировали в маленьком зале, так как в большом зале Ансерме репетировал «Симфонию Псалмов» Стравинского. Пока Пташка пела упражнения, Прокофьев пошёл слушать симфонию и оказался первым её слушателем, опередив даже самого автора. Стравинский приехал только вечером и неожиданно появился в антракте концерта Прокофьева и Лины. Стравинский был мил и, рассказывает Прокофьев, говорил Пташке комплименты: «Какая хорошенькая! Признайтесь – подмазались?» Но своим присутствием он совершенно смутил Лину. Сознание того, что Стравинский в зале, не прибавило ей храбрости…
На Рождество все дарили друг другу подарки. Пташка – братику, Святослав – Эльзе, Эльза – Астрову, – словом, все всем. Под Новый год устроили ёлку, на которую собрались дети и взрослые. Сергей Сергевич запускал летние фильмы, которые пользовались большим успехом, чем профессиональные, взятые напрокат. Промчался 1931 год.
Последние годы жизни в Париже были по-прежнему насыщены музыкальными событиями.
В Берлине впервые был исполнен Пятый концерт Прокофьева с оркестром Берлинской филармонии под управлением Фуртвенглера. Прозвучали сюита из «Игрока», Симфониетта, «Гадкий утёнок». Супруги посетили также Амстердам, Будапешт, Бухарест, Варшаву, Вену, Лондон, Прагу, Брюссель. Выступления сопровождались огромным успехом. В Америке Стоковский дирижировал симфониями Прокофьева.
17 мая 1932 года прошла первая оркестровая репетиция «Гадкого Утёнка». Прокофьев переложил фортепианную партию для малого оркестра. Лина пробовала первый раз петь с оркестром, страшно волновалась, но вступала вовремя, что не всегда удавалось певицам сделать даже в сопровождении рояля. 19 мая 1932 года Прокофьев назвал Днём Пташки.
«Сначала генеральная репетиция, где она пела „Утёнка“ (голос звучал недурно, хотя могло бы быть лучше). ‹…› Вечером концерт. Пташка волновалась и от волнения теряла голос. В зале много знакомых, много интересного народу и много снобов. К снобам я отношусь враждебно: они часто культурны, обладают вкусом, понимают, но из искусства стараются сделать моду, как для платьев. Декретируется, например, что сегодня превосходно то-то; это „то-то“ лансируется, возносится и через два года выходит из моды. Дягилев считался со снобами. Но замечательно, что то, что он делал для снобизма, увяло; а то, что он делал для искусства, осталось жить. Пташка отлично выглядела с эстрады (особенно по окончании, когда ей поднесли белые лилии – с белым платьем)…»
Оркестром управлял Дезормьер.
После концерта Прокофьевых пригласили в один из самых снобских домов Парижа, где культивируется музыка. Пташка заметила, что во время исполнения Набоковы всё время хихикали, и когда они к ней разлетелись, она их «отшила».
Когда приехал Афиногенов[51], очень понравившийся и Прокофьеву, и Лине, они восприняли его, милого, чистого и весёлого, как противоположность всему снобскому, с которым так часто сталкивались. Прокофьев толковал «снобизм» уже на новый лад, приписывая это явление «гнилому Западу», то есть уже был знаком с известной терминологией. Слушал, как Афиногенов критиковал выступления Цветаевой и Бальмонта в свете «перелицовки» всей России.
Лине довелось петь и по радио, на вечере с русской программой, в которой было много сочинений Прокофьева. Она пела вполне хорошо, хотя радио тех времен, конечно, искажало голос. В её репертуаре были сочинения Мясковского, Шебалина и других современных русских композиторов. Прокофьев остался доволен.
В это время в Париже и завязалась дружба Лины с Афиногеновым, оставшимся верным ей в самых тяжёлых обстоятельствах её жизни. Приехала из СССР и его жена, американка, коммунистка, гораздо более резкая в воззрениях, чем он (как это всё изменится, и как трагически сложится судьба семьи, столь блистательной в тот момент!).
Сергей Сергеевич решил пригласить их в поездку в Гавр, предупредив, что это будет экзаменом драматурга на его ум. Он выдал Афиногенову план поездки и далее с удовлетвореним наблюдал, как тот ему следует. Всё же в один момент Афиногенов выбрал не кратчайший путь, так что, по-видимому, оценку пришлось снизить. Кроме того, из-за Пташки выехали позже, чем надо (постоянная претензия к ней со стороны Сергея Сергеевича); по его собственной вине в Руане приехали не к тому вокзалу; отели оказались переполненными, поэтому легли в два. Встали рано, обратный путь проделали на пароходе, по Сене; гость наслаждался красотой её берегов, поездка вышла очень приятной.
«Афиногенов сказал, что хотел бы написать со мной оперу. Это встречается с моими желаниями: пора сделать советскую вещь. К тому же, кажется, у Афиногенова есть знание сцены.
Я сказал:
– Но непременно конструктивного, а не разрушительного характера.
Воскресла мысль сделать не оперу, а пьесу с ритмованной декламацией, сопровождаемой музыкой, как я это задумывал ещё в 1924 году.»
Таков Прокофьев. Художник Радости бытия, – может быть, самый редкий, если не сказать уникальный тип творца. Далёкий от политики, уверенный, что ему удастся и дальше уворачиваться от угрозы её вмешательства, уставший от нормальных интриг и скепсиса Европы, увлечённый новыми вихрями, бушующими в родной стране, закрутившими в своих порывах талантливейших людей России. Последователь Christian science, разумный человек, он не мог поверить, что эта родная страна походя поломает им хребты и уничтожит в своих застенках.
Драматург предлагал как основу свою лучшую, по его словам, пьесу «Страх».
Прокофьевы ощущали разницу мировоззрения Афиногеновых и огромного количества своих парижских друзей, которых пригласили на чай в качестве ответного жеста на многочисленные приглашения. Собрались человек шестьдесят, а то и больше, – среди них Артур Рубинштейн, Пуленк, Согэ, Мийо, Онеггер, Дезормьер, Ферру, дамы и господа из высшего света. Приём устраивала, конечно, Пташка. Прокофьев назвал это собрание в собственном доме «буржуазным», Афиногенов подарил ему пьесу «Страх», а Прокофьев – фотографию. И то, и другое с трогательными надписями.
В конце года Прокофьев отправлялся в Москву.
Глава восьмая Окончательный переезд в СССР в 1936 году
1932 год. В ноябре по пути в Москву Прокофьев проходит таможню. Досмотр благожелательный, но женские вещи изымают. На вокзале Афиногенов в кожаном пальто. Радость встречи. Держановский: «Музыка войдёт в колею, когда Прокофьев, Мясковский и Шебалин войдут в партию и поведут».
Шурик на свободе: бодрый и полный оптимизма.
Пребывание в СССР носит помпезный характер. Союз композиторов устраивает приём в честь Прокофьева. Голованов, Нежданова, Мейерхольды окружают его усиленным вниманием. ВОКС советуется, кого приглашать из-за границы. «Жалко уезжать», – признаётся Сергей Сергеевич.
В Париже встречает Лина, отношения очень нежные. Через несколько дней Прокофьев уже в Америке.
Он пишет Пташке с борта судна. В письме от 21 декабря 1932 года рассказывает:
«Пребывание моё в санатории заканчивается, так как завтра прибываем в Нью-Йорк. Жил я действительно как в санатории: ел, спал по 12 часов, гулял, немного читал, даже не играл ни в шахматы, ни в бридж и вообще умудрился ни с одним человеком не познакомиться… Зато вновь готов к бою. Каюта моя оказалась приятной, спокойной, немного холодноватой. Часто вспоминал тебя: ты, наверное, сразу определила бы, что тут лучше и что тут хуже, чем на Ile de France, но зато проявила бы нерешительность за обедом, при выборе menu, которое здесь обширное; изысканное, многие вещи очень вкусные, другие вкусны лишь по названию; вероятно нашла бы, что публика скучная… Вообрази, я так рано ложился спать, что не знаю даже, танцевали ли вообще на пароходе! Вчера впрочем был традиционный парадный вечер, пел хор из третьего класса (поедет на гастроли в Америку), таким образом пронесло, и ко мне не приставали».
26 декабря 1932 года Прокофьев пишет Лине, что уже гуляет по Нью-Йорку, который, как всегда, производит на него сильное впечатление, особенно ночью, со своими невообразимыми громадами домов, залитый светом. В Нью-Йорке много друзей, приходит Дукельский, который «рассыпался нежными чувствами по твоему поводу, говорил, что никогда не забудет твоего милого письма в то время, как я держал себя истинным зверем». Днём пошёл слушать Рахманинова: он играл свой Третий концерт, имел огромный успех. «Я заходил в артистическую, жал руку Рахманинову, он справлялся о тебе, а Mme Рахманинова о Святославе».
В каждом письме Сергей Сергеевич делится с Линой всеми подробностями прожитого дня. Он не устаёт писать ей, в нём живёт настоятельная потребность рассказать ей обо всём: о репетициях, исполнениях, дирижёрах, оркестрах, номере, в котором он живёт, всех визитах, и кто что сказал об очень важном и не таком уж важном и преходящем, о природе, настроении, передвижениях, новых сочинениях, которые он услышал, фильмах, которые увидел ещё на пароходе, одежде спутников, и так далее и тому подобное.
Наступает Новый 1933 год, и 1 января 1933 года он пишет:
«С Новым годом, Мильнк![52]
Вчера послали тебе коллективное night letter, которое ты должна получить в утро Нового Года.
Концерт прошёл очень здорово, оркестр аккомпанировал много лучше, чем в других городах. Сидя в артистической, вспомнил тебя и высчитывал, что 9.30 P.M. это значит по-парижски 2-30 А. М., то есть ты уже встретила Новый Год и, вероятно, возвращаешься домой. Интересно, где ты встречала и весело ли. Концерт имел большой и единодушный успех у публики и у критики; последняя вся хорошая без исключения. Кусевицкий объяснил, что он потому не мог поставить другую мою вещь на программу, что это первый раз программа передавалась по радио, и нельзя было запугивать новых слушателей. Зато я получил большой advertisement[53], так как радио писало о предстоящей передаче целую неделю во всех газетах Америки: „the famous Russian composer“[54] и т. д.»
Прокофьев делится с Пташкой, как тотчас по возвращении в гостиницу раздались звонки из разных концов Америки, – звонила из Филадельфии мадам Стоковская: она не пошла на концерт мужа, а «вместо этого слушала нас по радио и была в восторге от Пятого концерта. Справлялась о тебе и жалела, что ты не приехала… А в общем жизнь в Бруклайне тихая и помещичья, и я очень доволен ею после осенних русско-парижских сутолок». Все письма заканчиваются нежными словами.
8 января 1933 года Сергей Сергеевич сообщает, что «кончилась нью-йоркская пачка бостонских концертов: 5, 6, 7 января. Играли мы здорово, и оркестр был слажен с фортепиано как часовой механизм. Но принимали холоднее, чем в Бостоне – такая уж здесь публика!»
Сергея Сергеевича захватывает вид, открывающийся из окна его номера на углу 59-й улицы и 6-й авеню, особенно красивый в вечернем свете и утром, когда «город выползает из тумана…» Он собирается сделать фотографии и думает, что они будут готовы к следующему его письму. Скучает: «От тебя сначала долго не было писем, а затем пришло твоё № 1, жду следующего.»
Все друзья и знакомые постоянно спрашивают о Лине, передают ей приветы, и Прокофьев перечисляет их. В этом же письме он спрашивает жену, можно ли ему будет в феврале на обратном пути, если он окажется близко от Ниццы, «захватить бебку»[55]. «Крепко и нежно обнимаю тебя и целую, жду твоего следующего письма с ближайшим пароходом. Bravo Святославу за 1-е место в школе. Твой С.»
13 января 1933 года:
«Дорогая девочка! Очень рад был твоим двум письмам, от 3 и 6 января, но жаль, что ты в мерихлюндии и грустно, что не могу, как ты хотела бы, телеграфировать „выезжай с ‘Бременом’“. Да и придёт „Бремен“ как раз в день моего отъезда в Чикаго… Будь умницей и воскресни в твоём настроении. Я чувствую себя хорошо, но очень занят – день расписан по часам… С».
В письме от 18 января Прокофьев рассказывает о прошедшем 16 января в Бостоне камерном концерте, перечисляет все сочинения, которые были исполнены на нём.
«Сейчас идут репетиции с Бруно Вальтером – „Игрок“ и 3-й концерт. Вальтер понимает „Игрока“ несколько по-своему: менее порывисто, более медленно, мягче; но он так хорошо знает партитуру, вкладывает столько любви в исполнение, что я решил ему не мешать. Зато он извлекает из партитуры такие замечательные звучности, каких я ни в Варшаве, ни в СССР не слыхал… В воскресенье поездка к Клейну… у него отличный автомобиль, дом хотя не шикарный, но по-американски удобный… С ними живут родители миссис Клейн. Много говорили о тебе. Миссис Клейн будет тебе писать… Завтра[56] приходит „Мавритания“, а затем Bremen, жду от тебя писем. Как ты решила с winter sport? Если ничего не вышло, и я выеду с Conte di Savoia, то, может быть, ты приедешь в Ниццу навстречу и мы проведём несколько дней на юге?… Крепко обнимаю тебя и целую, Святослава тоже. Очень надеюсь, что настроение твоё и здоровье наладились. Целую ещё раз. С.»
В самом конце этого двухдневного письма следует характерная для Прокофьева – «профессора транспортных наук» – приписка:
«Если решишь поехать в Ниццу (9-го-10-го), то лучше всего возьми wagon-lit[57] второго класса, это удобнее, чем couchette[58] первого класса, но надо задержать за неделю. Тогда билеты второго класса можно взять aller – retour[59]».
20 января.
«Дорогая милньк,
Вчера отправил тебе длинное письмо via „Paris“, а сегодня выяснил, что завтра вечером идёт Bremen. Так как за это время прошли два мои концерта с Вальтером (вчера вечером и сегодня днём), то пишу тебе несколько строк и посылаю критики… Играли мы хорошо и успех был большой, особенно вчера вечером после 3-го Концерта». Дальше Прокофьев рассказывает, как старался обеспечить билетами всех просивших, в том числе очень высоких лиц. Среди них и Мэмэ, которой Прокофьев посылает два места на воскресенье в «Метрополитен».
Следующее письмо от 25 января:
«Милньк и дорогая,
Последнее выступление с Бруно Вальтером было 22-го в Mtrpltan[60] и передавалось по радио. Передача, говорят, была отличная: будто бы звучало лучше, чем в зале. В антракте по радио говорил Downes обо мне, говорят, очень интересно и благожелательно. Я же поспешил домой, где вещи были уже уложены, переоделся и отправился на вокзал – в Чикаго. В вагоне было приятно передохнуть 21 час между Нью-Йоркской и Чикагской сценами…»
Описывается встреча на вокзале, фотографирование и сразу на репетицию, – Стоковский ждёт, в программе Пятый Концерт в исполнении автора и оркестра под управлением Стоковского, а потом «Шут», и дирижирует Прокофьев. Стоковский чрезвычайно расхваливает Пятый Концерт и находит его более совершенным, чем Третий.
«Летом в Чикаго открывается большая международная выставка. Стоковский – председатель музыкальной секции и хочет, чтобы я приехал дирижировать… в эту поездку я имел крайне почётные выступления, но чтобы отложить что-нибудь, должен был приехать один; если же он пригласит меня на выставку, то я хочу приехать с женой… Я спрашивал Стоковского, интересует ли его поехать дирижировать в ССР, он ответил, что очень, но не раньше как через год, после того как он кончит с выставкой. Он довольно много играл советской музыки: последнюю симфонию Шостаковича, Двенадцатую Мясковского, которого обожает… Крепко целую тебя, млньк. Получил твоё от 13 января. Теперь скоро увидимся, это предпоследнее письмо, будет ещё одно с „Europa“… Поцелуй Святослава, целую тебя нежно ещё раз. Вдруг(?) к получению этого письма ты будешь уже иметь мою телеграмму о выезде.
Твой С.»
Закончились гастроли, и вот последнее письмо из Нью-Йорка от 30 января 1933 года:
«Моя милньк,
Это письмо перед самым моим приездом, поэтому несколько строк вкратце. Чикагские концерты закончились очень хорошо, пожалуй, самым большим успехом в U.S. После Игрока, которым я дирижировал сам, вызвали четыре раза и столько же после Пятого Концерта… Вернувшись в Нью-Йорк, нашёл твоё от 19-го и был рад узнать, что твой winter sport налаживается, да ещё в интересной комбинации. Может теперь выгорит и Америка – уже совсем в неожиданной комбинации! Стоковский говорил, что приглашение Прокофьева на выставку – дело решённое в художественном отношении; он также не отказался от давней идеи устроить конкурс американских пианистов и чтобы обязательным произведением был Третий концерт; Астров спрашивает, отдавать ли в починку русскую машинку. „Скажи, чтоб отдал, если они могут произвести починку скоро, а то по возвращении она мне понадобится“. Приехав из Чикаго в Нью-Йорк, я отправился с Вальтерами, Лоттой Леман и её мужем в Бруклин, где Вальтер исполнял Игрока, а Лотта пела. Её недавно обложили критики, что у неё напряжение в голосе – и надо было видеть, в каком она была волнении, даже удивительно для такой большой певицы. Но пела замечательно… Остаюсь с приятным чувством, что американский сезон закончился очень благополучно, что меня в этот раз приняли гораздо более всерьёз, чем раньше.
Нежно целую тебя, хотя вероятно в воздух, потому что если ты в Швейцарии, то может я ещё обгоню это письмо. Телеграмму о выезде пошлю на издательство, как ты пишешь.
Твой С.»
* * *
14 апреля 1933 года Прокофьев снова в Москве. Его с распростёртыми объятиями встречают Афиногенов, Мясковский, Держановский, Атовмян, Шебалин. Лине сразу летит телеграмма на улицу Hauy:
16 апреля 1933 года.
«Москва приветлива как никогда. Сегодня вечером поеду в Ленинград. Вернусь в Москву Отель Националь 23 апреля тчк Отъезд в Тифлис седьмого или восьмого мая желательно чтобы ты уехала из Парижа второго или третьего мая тчк Вторая компания предлагает музыку к фильму. Целую Прокофьев»[61]
Москва вызывает самые тёплые чувства, но Сергей Сергевич не теряет объективного критического взгляда на происходящее в жизни и искусстве. Узнаёт, что в связи с паспортным контролем Шурик уже на Урале. Пьесу «Вступление» в театре Мейерхольда находит наивной и пропагандистского толка.
23 апреля Сергей Сергеевич идёт в Большой театр на генеральную репетицию «Евгения Онегина». Его суждения, как обычно, ёмкие, точные, умные.
«Сама музыка поразительно сохраняет свежесть. ‹…› В зале вся артистическая Москва, есть красивые лица. Вообще, когда приезжаешь в СССР, первое впечатление серости, но под этой серостью постепенно начинаешь рассматривать интересные и одухотворённые лица».
Прокофьев наносит много визитов, знакомится с молодыми композиторами; знаки уважения, восхищения, поклонения сыплются на него отовсюду.
1 мая он наблюдает парад на Красной площади, потом демонстрацию. Зрелище для него новое, необычное. Много красного. Вечером идёт играть в шахматы с Гольденвейзером.
Получает предложения подумать о музыке для масс. Прокофьеву оно кажется вполне положительным.
Следующим этапом пребывания в СССР было уже совместное путешествие с Пташкой: Владикавказ, Баку, Тифлис, Батум, Военно-Грузинская дорога. Путешествие вышло тяжёлым. Сильное впечатление произвело Дарьяльское ущелье. В Осетии Лина собирает в платочек родную землю для Фатьмы Ханум.[62]. Армения, Севан. Многое внове для Прокофьева, включая полный беспорядок на железных дорогах, орущее в вагонах радио, езду на автомобилях без правил, всеобщую необязательность, отсутствие валюты, из-за которой невозможны самые полезные для общества проекты, в том числе и его собственные. По-прежнему самым тщательным образом «коллекционирует» красоты природы.
По возвращении в Москву: Собинов, его юбилей, потом концерт лауреатов Всесоюзного конкурса, оказавшийся очень интересным, – Прокофьев обнаруживает таланты. В зале правительство; шепчут, что и сам Сталин. Прокофьев не смотрит в сторону ложи, но отважная Пташка по окончании антракта все же решилась взглянуть на ложу и встретилась глазами со Сталиным, когда он входил туда. «Взгляд его был настолько волевой, что она сейчас же отвернулась».
Генеральная репетиция у Таирова. «Свадьба Кречинского» у Мейерхольда.
Ленинград. Встречи с Тыняновым, который очень понравился Прокофьевым. Съёмки «Поручика Киже». Снимают Прокофьева, устраивают пробу Пташке. Ей очень хочется сняться.
Белая ночь: «светло-голубая Нева, силуэт крепости, обрамлённой розовым, так как солнце село сзади. Возвращаемся в час ночи; звонок от Белгоскино: проба Пташки завтра утром».
На другой день Сергей Сергеевич и Лина спешат к десяти, он страшно сердится, потому что, как известно, не выносит опозданий, а оно приближается уже к двадцати минутам. Но волнение его напрасно. Гримёр опаздывает на целый час. Лина поёт, Прокофьев аккомпанирует. Файнциммер[63] почти ничего не показывает, поэтому съёмки продолжаются долго, до часа дня. И это только утро. Впереди прогулка, посещение Демчинского[64] с чемоданчиком подарков, а вечером «Золото Рейна» в Мариинском театре.
Бешеный темп сохраняется до самого отъезда.
Надо проверить звуковую часть вчерашней пробы с Пташкой. Недурно, но не превосходно. Появляется Асафьев, он в полном восторге от своего балета «Пламя Парижа», который по его мнению превосходит балеты Стравинского. Прокофьев считает это типичным проявлением мании величия.
Вечером «Маскарад» – старая постановка Мейерхольда.
Достаточно перечисления произошедшего в последние дни в Москве перед отъездом, чтобы представить себе насыщенность буквально каждой минуты: визит к Кончаловскому, серьёзные шахматные состязания с Гольденвейзером, обед у Афиногенова, у Таирова, ужин у Юрьева. Пташка опаздывает, Прокофьев сердится. Смолич о постановке «Игрока» в филиале Большого, Кубацкий[65] о постановке «Шута» в балетной школе. Генеральная репетиция «Пламени Парижа». Сборы! Заминка на таможне. Пропустили. Уехали. Уфф!
«Восьмого июня – Париж. Дети в отличном состоянии. Много писем.»
Это последняя запись в «Дневнике». Расставаясь с «Дневником» Прокофьева как читатель, утешаюсь только одним: его можно перечитывать всю жизнь.
Лето всегда было любимым временем года в семье. Уходила городская суета, оставалась работа, природа, дети, встречи с друзьями, иной раз большими знаменитостями. Как это было, например, в 1932 году в Сибуре, родном городе Равеля, поблизости от Пиренеев и океана.
Там Сергей Сергеевич научился плавать и нырять, чем гордился необычайно. Лина плавала отлично и заплывала невесть куда. Организовали весёлые курсы плавания, где все взрослые назывались «тритонами», а дети – «утятами». Чаще всего жили на берегу моря, большей частью Средиземного. Святославу очень запомнилось местечко под названием Сент-Максим. Выше в горах в доме жил Жак Садуль, а эту виллу, чуть пониже, он сдавал семье Прокофьевых. Она была как бы распластана по голому склону горы, а перед самым домом росла роскошная зонтичная сосна, отсюда и название «Вилла зонтичных сосен».
«В 1929 году мы виделись с Равелем в Сен Жан де Люс, где жили летом, – рассказывала Лина Ивановна в поздние годы жизни. – Мы обменялись приветствиями и сказали друг другу несколько слов, поговорили о доме, который мы снимали. Он был очень сдержанным, и мы не часто встречались с ним, разве что на концертах и приёмах.
Существует ошибочное мнение, что Сергей предпочитал музыку Равеля музыке Дебюсси. Жак Феврие однажды сказал мне об этом в присутствии Анри Соге. Вовсе нет. Он ставил Дебюсси гораздо выше, чем Равеля, сочинения Дебюсси всегда производили на него огромное впечатление. В юности он встретился с ним однажды в доме у Кусевицкого в Москве (1910). У него была запись „Послеполуденного отдыха фавна“, которую он слушал снова и снова, – очень любил эту музыку. Конечно, Прокофьев восхищался и Равелем, в особенности его оркестровкой – „Вальса“ или „Болеро“. Как композитора он предпочитал Дебюсси. Но когда Равель умер в 1937 году, Прокофьев написал статью, где очень высоко оценил его творчество, и эта статья была опубликована и в Советском Союзе, и в других странах».
По соседству жили и Василий Иванович Шухаев с женой. Шухаев часто ездил на этюды. Он написал и портреты Сергея Сергеевича и Лины. Прокофьев и Шухаев вернулись в СССР одновременно, и в 1936 году Шухаева и его жену арестовали. Позже они жили в Грузии, а летом снимали дачу на Николиной Горе.
В Сен Жан де Люс проводили лето Шаляпин, Чаплин, Миша Эльман, Жак Тибо. По вечерам Шаляпин с Чаплином устраивали мимические представления. Веселились и восхищались, когда Шаляпин изображал богатую аристократку за утренним туалетом, она причёсывалась и прихорашивалась перед зеркалом, потом принималась за шитьё. Многие годы спустя Лина и Сергей Сергеевич вспоминали эти сцены и отдавали предпочтение Шаляпину перед Чаплином. Хотя Прокофьев боготворил его, но дачные «выступления» Чарли Чаплина напоминали его роли в кино, в то время как Шаляпин импровизировал. Эльман и Тибо играли Баха, Сергей Сергеевич – свою музыку. Дети очень любили очаровательный дом на холме, тоже над Средиземным морем, купались до изнеможения, совершали, как всегда, дальние пешие и автомобильные прогулки. Святослав помнит, как ходил утром на соседний хутор за молоком, а также случившееся наводнение, которое отрезало дом от шоссе.
Ездили к Стравинским, а иной раз Лина и гостила там с детьми.
Летом 1933 года Сергей Сергеевич работал над сочинениями, о которых договорился во время поездки в СССР. В Ленинграде произошла встреча Прокофьева с Юрием Тыняновым, и появилась мысль написать музыку к кинофильму «Поручик Киже» по его повести. Композитора вдохновила также идея написать музыку к спектаклю А. Таирова «Египетские ночи», где блистала Алиса Коонен. Прокофьева связывала с Таировым глубокая внутренняя привязанность.
Дальнейшая трагическая судьба Таирова и Коонен была тяжёлым и жестоким ударом по русскому театральному искусству. Прославленный Камерный театр с бранью и оскорблениями закрыли за «эстетство и формализм».
Из выутюженных советскими редакторами воспоминаний Лины, тем не менее, мы узнаём о не обозначенных хронологически, но, по-видимому, относящихся к ранним тридцатым годам посещениях Прокофьевым советского посольства в Париже. Мы помним по «Дневнику», как это начиналось, как Прокофьев не хотел там играть, и Лина туда не пошла. Но сейчас всё как-то изменилось:
«Мы часто бывали в советском посольстве». И называются имена людей прокоммунистического толка – Луи Арагон, Эльза Триоле. Завязывалась дружба и с артистами МХАТа. Лина рассказывает, как подружилась с Константином Сергеевичем Станиславским, она однажды возвращалась с ним из Парижа в Москву, разговорам не было конца, а потом уже в Москве дружба продолжилась, и Лина часто навещала его во время болезни.
В письмах, настроении, прекращении дневниковых записей, во всей деятельности и жизни Прокофьевых ощущается приближающееся решение вернуться в Россию.
Переезд Прокофьева в СССР до сих пор вызывает немало пересудов и толков. Среди них много недоброжелательных и безответственных, в лучшем случае – поверхностных. Досужие домыслы так же далеки от самых элементарных знаний творчества Прокофьева и его человеческой сущности, как и от сложности подобной проблемы в её общечеловеческом осмыслении.
Ответ разбросан на страницах «Дневника» Прокофьева.
Он состоит из многих составляющих, но думаю, что мало кому можно так довериться как свидетелю всей жизни родителей – их сыну Святославу Прокофьеву:
– Идея возвращения в СССР принадлежала, конечно, ему. Как истинно русский человек, он скучал по России. Приезжая в Советский Союз с концертами, имевшими огромный успех, он встречался со многими старыми друзьями, ну, а старые друзья – это не новые друзья. Я не думаю, что причиной возвращения был только триумф концертов в СССР. Незадолго до этого он получил прекрасные предложения из США. Об этом рассказывала мама, она потом о них вспоминала. И вот здесь, я думаю, велика именно её роль: ведь она поддержала отца, когда он с ней советовался, и решилась ехать с ним в незнакомую ей страну, оставив в Париже одинокую старую мать. Мамино слово было решающим, и если бы она побоялась совершить этот шаг, мы остались бы за границей. Он сам колебался до последнего момента.
Жалел ли отец, что вернулся? Мне трудно судить, так как он оставил нас в феврале 1941 года, когда мне едва исполнилось 17 лет. Потом мы встречались редко. Так, я видел его несколько раз до эвакуации, а потом уже только после Победы. Целая война пролегла между нами!
– Вы упомянули Ольгу Владиславовну. Как сложилась её дальнейшая судьба?
– Ольга Владиславовна всё время была при Хуане. Он был очень тяжело болен и слеп. Она ухаживала за ним до самой смерти, никогда его не оставляла. Он умер в 1935 году. А в 1936 году мы уехали. Она прислала телеграмму: «Ваше молчание меня тревожит». Мы её получили в дни ареста мамы. Вы представляете? И я смалодушничал, не ответил. Это была последняя весточка от неё. Бедная, она, наверное, скопила последние гроши на эту телеграмму.
И вот я не уверен, узнала ли мама, где она похоронена, – пусть даже в общей могиле, но на каком кладбище? Может быть, мама и знала, но мне никогда не говорила.
Мэмэ была совершенно самоотверженная. Она так преданно возилась с Хуаном, да и с нами, – ей не хватало только двух шалопаев. Она была энергичная. Дама высокого уровня. Дочь статского советника. У меня есть несколько её писем, по ним можно судить.
Про последние годы Ольги Владиславовны я, к сожалению, очень мало что знаю. Она жила очень скромно. Какие-то деньги папины, мне кажется, ей пересылали, через русское музыкальное издательство. Мамин знакомый её посетил и привёз даже фотографию. Это был или самый конец войны или первый год после войны. Контактов уже больше не было. Вскоре она умерла…
– Ольга Владиславовна, наверное, была против отъезда?
– Ну, конечно. Ведь она осталась совершенно одна, да тут ещё и война.
– Но у нее тоже был сильный характер?
– Конечно. Это приводило к тому, что они с мамой часто ссорились, по-южному, с шумом, криком, с бурными примирениями. Они любили друг друга, но ругались часто. Вы, наверное, наблюдали это в Испании.
Читая второй том «Дневника» (первый посвящён жизни Прокофьева до отъезда из России), часто и неожиданно встречаешь упоминания о России, чаще, чем можно было бы ожидать. Эти упоминания эмоционально наполненны, хоть Прокофьев совершенно не страдал излишней чувствительностью, – ему юмор не позволял. Но одно хотелось бы ещё много раз напомнить, даже не боясь повторений. С ранних лет Прокофьев объявил себя чуждым какой бы то ни было политике. Недаром в одной из записей он говорит, что его герой – это Архимед, с его знаменитой фразой, обращённой к легионеру, который наступил на его чертежи на песке: «Не трогай моих кругов». Творчество главенствовало над всем, руководило им, на фоне борьбы несчастной русской эмиграции против большевиков.
Всегда важнее всего были для него «его круги», и чтобы никто не мешал ему чертить их. Как оказалось, Рахманинову мешали. Однажды на одном из концертов случился такой разговор:
«Рахманинов играл Концерт Листа. На этот раз Рахманинов играл превосходно (…)После концерта я очень мирно и любезно разговаривал с Рахманиновым. У него, по обыкновению, усталый вид и он ждёт не дождётся, когда кончится сезон. Я сказал: „Сергей Васильевич, пора бы за 4-ю Симфонию приниматься“. Он согласился, но сказал, что летом не придётся – надо готовить новую программу, будущей зимой – тоже, надо зарабатывать деньги, а вот через год он засядет».
В этой записи затронута одна из основных причин, потянувших Прокофьева в Россию. Ещё очень далеко до принятия этого решения. Но выясняется, что раньше чем через два года сам Рахманинов(!) не сможет засесть за сочинение Четвёртой симфонии, годы уходят на то, чтобы пианистическими заработками обеспечить жизнь свою и семьи, в то время как хочется только одного: сочинять. Известно, как Рахманинов страдал от недостатка времени для сочинения и часто признавался в этом.
Россия обещала, сулила все условия для творчества: мол, только пишите, приезжайте и сочиняйте, а мы всё вам обеспечим. Не могло быть и речи о переносе или отмене постановок опер или балетов в лучших театрах страны, с лучшими дирижёрами, вы только пишите. Пишите. Это уж потом оказалось, что писать надо было как велено, строго «для народа», по указующим директивам коммунистической партии.
Обращают на себя внимание записи совсем юного Прокофьева в Америке. Несмотря на многочисленные, проходившие с огромным успехом концерты и завязывающиеся в музыкальных и театральных кругах отношения, в сентябре 1918 года, в Нью-Йорке Прокофьев пишет: «а сам знаменитый композитор сидит с тремя чужими долларами в кармане…»
Каждый день приносил новые знакомства, Прокофьев входил в круг Больма, Дягилева, крупнейших композиторов, дирижёров и издателей Америки: появляются Капабланка, Артур Рубинштейн, Ларионов. Музыкальный авторитет Прокофьева растёт с каждым днём, молодого композитора всюду приглашают, его общества ищут, он преисполнен самых радужных надежд. В это же время он пишет: «Что делается в Петрограде – ужас. Лучше не думать – не поможешь». Эти горестные чувства были знакомы многим великим русским людям, покинувшим свою страну после Октябрьской революции. Прокофьев, вросший корнями в российские города и веси, познавший, как и они, успех в России, горячее признание своих поисков в искусстве, своего композиторского, пианистического и дирижёрского дара, в первые годы жизни в Америке не отдавался тоске по утраченному.
В ноябре 1918 года в Нью-Йорке он говорил: «Но моё творчество ведь вне времени и пространства».
Это мироощущение делало его счастливее других изгнанников; осознание силы своего гения вне зависимости от ужасов происходящего на родине сравнительно легко выносило его на самый высокий уровень творческих исканий; отгородившись, он дышал свободно, перед ним расстилался весь мир, и он завоёвывал его энергично, с удовольствием, с восторгом. Однако внимательный читатель «Дневника» чуть ли не в каждой записи почувствует присутствие России. Там друзья Борис Верин, Асафьев, Сувчинский, Мясковский, десятки других. «Одна надежда, – пишет Прокофьев 21 октября 1919 года, – что их, близких к искусству, хранит рука Луначарского. Неизвестно также, какая судьба постигла мою квартиру на 1-й Роте. Перед моим отъездом Сувчинский послал верного человека, своего управляющего. Домашний скарб мне абсолютно не жалко и даже премированный рояль не очень жаль. Но в письменном столе остались письма за несколько лет и толстая тетрадка дневника – один из последних годов, не помню какой. Вот эту тетрадку мне было бы очень жалко потерять»[66]
Прокофьеву приходилось переживать в Америке и разочарования. Это касалось всевозможных отсрочек постановки оперы «Любовь к трём апельсинам», и многого другого, о чём Прокофьев пишет в своей «итоговой» записи от 5 января 1919 года:
«Оглянувшись на результат моей четырёхмесячной американской деятельности, с её концертами, успехами, длинными критиками, я неожиданно в итоге нашёл большой круглый ноль: опера висит в воздухе, Адамс бездействует и концертных приглашений нет. Стоило ехать в Америку!
В сущности, конечно, стоило, ибо ужасные разбои в России, голод в Петрограде, озлобленная чернь и полная бесперспективность для композитора и пианиста – в тысячу раз хуже здешних маленьких неудач.»
Уже в этих словах слышится намёк на возможность возвратиться, как только в России можно будет работать, – в России было бы хорошо, если бы не… Главное – иметь условия для творчества, пугает «полная бесперспективность для композитора и пианиста».
В Париже, куда Прокофьев переехал из Америки, мгновенно, с первых же встреч возникало творческое общение с приезжавшими из России крупнейшими художниками, их свежий взгляд покорял его, – я уже писала об этом: наметившееся сотрудничество с Мейерхольдом в постановке опер, родившееся в Америке желание писать музыку для кино, осуществившееся в знаменитых фильмах Эйзенштейна, замыслы писать музыку для Камерного театра Таирова, и ощущение полной понятности, понятости.
И тут выступает вершителем судьбы 1927 год в России, с его успехом, превзошедшим овации Европы и Америки. Его там понимают, он там нужен. «Какого чёрта я здесь делаю»… Складывается впечатление, что именно этот год стал последним и важнейшим толчком для принятия решения вернуться на родину, – настоящий триумф гениального композитора, понятого и принятого дома. Что вообще редко, а в России, как известно, особенно.
Он отчасти верил в благие намерения носителей социалистических идей, (см. письмо Лине от 11 августа 1935 года из Баку), – отрезвление пришло слишком поздно. Он хотел победить догматичность, жестокость и тупость новых правителей своей музыкой. У кормила культуры он видел Луначарского. Ему благоволил Литвинов, но, главное! – он получал какие-то неслыханные для запада блага для работы: это были не деньги, это было страстное желание исполнить каждую его ноту, партитуры выхватывали из-под пера, радио, крупнейшие театры страны, лучшие оркестры, – все жаждали Прокофьева, все рукоплескали ему. Он не должен будет, как Рахманинов, откладывать сочинение своей Четвёртой Симфонии из-за необходимости играть и зарабатывать, он получит возможность полностью и насовсем отдаться сочинению. Все недостатки нового строящегося общества – временные. И уж во всяком случае его-то политика не коснётся. А слушателей, «народ», который по словам партии, его не понимал, он победит музыкой.
Историю не судят. Объективно приезд Прокофьева в Россию привёл к развалу семьи, сиротству детей, аресту Лины, его вызванной внешними трагическими обстоятельствами болезни и ранней смерти под сентиментальным, но несколько общим, не направленным конкретно присмотром Миры Мендельсон, ну а в творческом отношении? Я сошлюсь на Святослава Рихтера, а он говорил, что всё, что написал Прокофьев где бы то ни было и когда бы то ни было, гениально. И все его кантаты, здравицы, социальные заказы, – всё было гениально. Ну, где-то, может быть, надо было убрать слова. Слова Рихтера о балетах Прокофьева запали мне в душу тоже навсегда: «Музыка там СЛИШКОМ хороша для балетной, настолько хороша, что мешает балету.» Однако силы Прокофьева были подточены, он писал меньше, чем мог бы.
Но и о личных особенностях Сергея Сергеевича – его наивности наряду с острым аналитическим умом, его необыкновенном благородстве – не следует забывать. В подтверждение этого сошлюсь на особенно точные и художественные высказывания М. Ростроповича и Н. Рождественской, матери дирижёра Г. Рождественского, замечательной певицы:
«(…)…он всегда был большим ребёнком ужасающей наивности, – пишет в своих воспоминаниях Мстислав Ростропович. – Когда Жданов в ЦК разразился гневной речью против композиторов (постановление 1948 года), Прокофьев был в зале. Стояла гробовая тишина. А он болтал с соседом, будущим дирижёром „Войны и мира“. Через два места от него к нему повернулся член Политбюро: „Слушайте, это вас касается“.
– Кто это? – спросил Прокофьев.
– Моё имя не имеет значения. Но знайте, что когда я вам делаю замечание, вы должны с этим считаться.
– Я никогда не обращаю внимания на замечания людей, которые не были мне представлены, – бросил Прокофьев с немозмутимым видом.
Когда его вдруг перестали играть, он ничего не понял. Он обратился в Союз композиторов и сказал им:
– Товарищи, скажите мне откровенно, что мне делать? Вы знаете мою безупречную композиторскую технику. Неужели я должен от неё отказаться и писать как самый плохой академический композитор? Говорите, моя судьба в ваших руках… В таких случаях его глаза блестели лучистым серым оттенком, который я любил.»
Наталья Петровна Рождественская:
«– Каким он был? Он был красавец. Красавец! В нём была высшая интеллигентность, утончённость, честность и бескомпромиссность во всём.
На этих высказываниях, помещённых в сборнике под редакцией Тараканова, можно остановиться в попытках объяснить причины решения Прокофьева вернуться на родину. Такому человеку нечего было делать в СССР ни в 1936 году, ни в последующие годы. Он находился в неразрешимом противоречии с режимом. Даже когда хотел в него поверить.»
За Лину Ивановну кратко и гладко написали:
«В Москве летом 1935 года мы жили всей семьёй в гостинице „Националь“, а затем отправились в Поленово, в дом отдыха Большого театра близ Тарусы. Нас встретили очень любезно, поселили в „свежевыбеленном“ домике, и на террасе с прекрасным видом на Оку С. С. устроил себе кабинет. Домик находился далеко от основного корпуса, и поэтому здесь царила полная тишина.»
Лина Ивановна «пишет», что полюбила протяжные песни колхозниц, возвращающихся с полей, а также русскую природу. Напоминает фильм «Кубанские казаки».
Сергей Сергеевич работал над «Ромео и Джульеттой». Лина Ивановна перечисляет отдыхающих знаменитостей – мы прочитаем о них в письмах Сергея Сергеевича, но потом сообщает некоторые важные детали: в сентябре Сергей Сергеевич вновь едет во Францию, так как у него там запланированы концерты, а по дороге посетит Варшаву, Вену и Базель. Он взял с собой в Париж сыновей, чтобы они не пропускали учебного года. Для детей это была поездка, врезавшаяся в их память на всю жизнь.
Лина Ивановна осталась в Москве на некоторое время, так как у неё должен был состояться концерт на радио. Потом она тоже возвратилась в Париж, чтобы заняться немыслимым количеством дел, связанных с переездом в Москву.
Спрашиваю Святослава Сергеевича о жизни в Поленове.
– Вам в 1936 году было 12 лет. Вы помните маму в первое время в России?
– Ну, конечно. Но скорее как прилагательное к отцу. Всё зависело от его решений, отъездов, возвращений. Всё было очень хорошо, конечно. Продолжали на руках носить. Решали жилищную проблему, подыскивали квартиру. Отец категорически отказался от 3-ей Миусской, в этом доме, где, как вы говорите, музыка звучала. Именно, наверное, поэтому. Это, знаете, такая советская манера: композиторы – вместе, авиаконструкторы – вместе, рабочие – вместе. Ему это не нравилось. Он такой индивидуалист всё-таки был. Даже на манер Горького предлагали особняк.(По-моему, особняк предлагали в 1935 году, когда Чкаловская ещё не была готова). Они с мамой всё смотрели, выбирали и остановились всё-таки на доме на Чкаловской, который ещё не был готов. Это было в 1935 году. Поэтому-то мы и вернулись на зиму, и учебный год продолжали в Париже…
Если сначала. Первый приезд семьи в 1935 году. Но жилья ещё не было. Не жить же в гостинице… Жили тогда в «Национале». Уехали назад в Париж, причём у папы, я как сейчас помню, был концерт в Базеле, мы там остановились, ночевали одну ночь у знакомых, папа сыграл свой концерт, и потом мы вернулись в Париж. А мама почему-то осталась в России. Она приехала чуть позже. Так что мы ехали втроём с отцом и братом. Трое мужчин!
Сохранились письма отца этого времени. На каждой станции ходили смотреть на паровоз.
– А почему мама осталась?
– Я не помню. То ли она должна была, кажется, петь по радио. То ли где-то отдыхала. Может быть, ей достали путёвку… особенно если там море было, то это уже всё. Она обожала море. Плавала очень хорошо, в отличие от папы. Лето без моря себе не представляла. Летом либо Крым, либо Кавказский берег.
Когда мы жили во Франции, мы тоже летом обязательно ехали к морю.
– Я хотела Вас спросить, хотя подозреваю ответ и сама, почему же папа перестал вести дневник.
– Ну как почему…
– Из-за переезда?
– Ну конечно… Всё же что-то стало доходить до него… Кругом всех арестовывали…
– И больше он никогда не продолжал делать записи?
– Нет. Да и то, видите, 33-й год как-то немножко оторвался от других. Немножко отдельно и уже не такой живой, как прежние.
– Маме нравилось в России?
– Ну в общем да. Это был период, когда все относились к ним хорошо, с любопытством, они часто вечером куда-то ходили, прежде всего, на концерты, в этот период они даже посещали приёмы в посольствах, американском, английском.
Мама жила в России с удовольствием. Публика была очень интересная: певцы, танцоры, балерины, режиссёры. Мама любила общество и была постоянно в центре внимания. На приёмах она в особенности выделялась своим знанием языков. Она ведь в совершенстве знала шесть языков, и с одним говорила по-немецки, с другим – по-французски и т. д.
До войны всё было хорошо, и потом уход отца как раз совпал с началом войны. Роман-то раньше начался. Сначала это был типичный курортный роман, но Мендельсон сумела его продлить. Жена, дети, – это у них не считается, ведь она же была хищница…
– А в следующий раз они приехали уже в 1936 году. В начале июня. Даже было чем-то похоже. Оба раза жили в «Национале». Прямо из наших окон был виден Кремль. Вокруг были жилые кварталы. Старые такие. Где-то у нас даже есть фотография из окна, сделанная отцом.
Летом 1935 и 1936 года папа жил в Поленове, в доме отдыха Большого Театра. Там по заказу Большого Театра папа писал «Ромео и Джульетту».
Дом отдыха размещался в бывшем имении художника Поленова, Борок, на берегу Оки, – на роскошных русских просторах, которые папе очень нравились, там он написал «Ромео и Джульетту», ему дали для работы такую избушку, бывшую баньку, выбеленную, на отлёте, она до сих пор называется «домик Прокофьева», и мы все поехали туда. Это за Серпуховым немножко южнее. Грязь, машина шла юзом. Мне было очень страшно. Потом подъезжали к Оке и там кричали: «Дядя Никифор! Лодку давай!» На лодке переправлялись через Оку с бородатым мужиком Никифором. Папа жил в избушке, а мы – в корпусе.
А директором был сын Поленова. У меня есть такое подозрение, что они подарили государству это имение, и в благодарность сына назначили директором. Я дружил с внуком Поленова, он потом стал морским офицером. Я приезжал туда в 70-е годы, вспоминал счастливое детство.
Папа приехал в Поленово впервые в июле 1935 года, и так как до нашего приезда оставалось ещё много времени, он писал маме письма.
В отличие от Лины Ивановны, остро воспринимавшей окружающую жизнь и атмосферу, Сергей Сергеевич был полностью углублён в творчество, погрузился в сочинение, как всегда мечтал. Ему казалось, что теперь всё соединилось для воплощения этой мечты.
В воспоминаниях об отце Олег Сергеевич пишет: «Чем больше вглядываешься, тем яснее, что он весь на фоне своей музыки, монолитно с ней, гигант с ней. И отделить его от неё можно только для того, чтобы их снова соединить».
Действительность существовала для него только как возможность полностью без помех предаться сочинению музыки. Советская власть создавала такие возможности для своих деятелей искусства. Оркестры и театры работали на дотации. Для писателей, композиторов, художников существовали привилегированные условия в виде Домов творчества, санаториев и т. д. Таким путём, используя их зависимость, власть приводила их к послушанию. Но музыкантов – так как в музыке ровно ничего не понимала – в последнюю очередь. Прокофьев, всемирная знаменитость, вернувшийся на свою социалистическую родину, гордость чиновников и властей, писал одно сочинение за другим. Как выяснилось, не без осложнений.
В 1938 году даже выпустили супругов в турне по США, – в последний раз. Оставив детей заложниками.
* * *
Передо мной письма Сергея Сергеевича Лине Ивановне, из тех, которые сохранились! Как сказал Святослав Сергеевич, они написаны в период с 13 июля по 16 декабря 1935 года. Частью из Поленова, частью из турне по Испании и северной Африке. По ним можно восстановить картину жизни семьи в этот поворотный момент. Прокофьев заботится о семье, жене и детях, он предусмотрителен в каждой мелочи, он владеет ситуацией и следит за каждым шагом Лины Ивановны, описывает даже тип автомобиля для переезда в Поленово. Удивляет, как быстро он проник во все детали советского санаторного дела. Будто и не было в прошлом замков и вилл на океане или Средиземном море. Единственное свидетельство того, что воспоминания сохранились, это описание удивления, когда, нырнув в Оке, он почувствовал вкус пресной воды. Рассказать обо всём Лине со всеми подробностями – по-прежнему очень сильная потребность, жизнь кипит в его письмах, его интересует всё, и он встречает полное понимание жены. Её жизнь, как в зеркале, отражается в письмах мужа: дети, концерты, удачи и неудачи в профессиональной жизни, записи на радио, – всё.
Интересны для нас и мелькающие в письмах Сергея Сергеевича наряду с критикой комплименты в адрес революционных преобразований в СССР, касаются они нефтяных разработок или оркестров. Участие в конкурсе песен, объявленное газетой «Правда» – свидетельство искренних стараний Прокофьева влиться в новую жизнь.
Эти бесценные документы предоставлены мне Святославом Сергеевичем Прокофьевым из личного архива семьи. Письма публикуются в сокращении.[67].
Поленово, 13 июля 1935 года
«Дрг Пташка,
Извини, пожалуйста, что долго не писал: здесь дни бегут так равномерно, что не замечаешь, сколько их проскочило. Получил твою телеграмму и письма от 29 июня и 7 июля. Хотел бы тебе посоветовать относительно волнующих тебя решений, но как? Носовую операцию ты, мне кажется, сама должна решить где делать: в Париже или Москве. Единственная поправка: я думаю, в августе в Москве специалисты будут. Это ведь не Париж, где в августе город пустеет(…) Что касается Поленова, то это, конечно, замечательный уголок. Баню вычистили, выбелили, отмеблировали, балкон застеклили[68] Для работы условия идеальные: тишина и спокойствие абсолютные, а если хочется общества, то в трёхстах шагах можно найти толпы. Но есть и „но“, которое ты ощутишь острее, чем я. Во-первых, кормят совсем не так хорошо, как я думал, то есть ровно ничего общего с тем, как нас угощали тогда, что впрочем и не мудрено, так как никаких „превосходных продуктов“ не хватит, чтобы накормить всю эту ораву… (следует детальное описание меню всех четырёх трапез.) Как всюду в России, мало зелени и овощей. Зато продаётся много лесной земляники … и мне приносят из деревни по литру очень хорошего молока. Во-вторых, та всеобщая гувернантка, которую так хвалили, не приехала в этом году; детей много, но общего управления над ними нет. Я говорил с Поленовыми: бабушка по-прежнему готова заботиться о наших сыновьях, наблюдать за ними, гулять и заниматься с ними по-русски, а во время отъездов мы сможем сдать их ей на хранение. Сентябрь или во всяком случае 1-ю половину его я хочу провести здесь. Поленовская же бабушка может взять их на октябрь, если мы не найдём чего-либо лучшего. (сноска: некоторые семьи приехали сюда со своими нянями, большей частью простыми женщинами.) Аккомпаниаторов здесь живёт два и кажется они склонны заниматься с тобой в августе. Слышать тебя никто не будет: баня в стороне и прохожих мимо неё почти нет – изредка крестьяне из соседней деревни. Время я провожу так: встаю в 7.30… и иду купаться в Оку… (подробное описание дня: купание, чай, теннис или волейбол, с десяти до двух – работа, обед, послеобеденный сон. В половине пятого снова теннис или волейбол, а потом полтора часа занятий. Ужин. Шахматы или дописывание неоконченного днём, гуляние, костёр). Как-то на лугу мы устроили игру в горелки, но наши балетные так бегают, что у меня потом два дня болели ноги. Из людей знакомых или известных здесь: Мутных[69], вдова и дочь Собинова, Месерер с женой – кинематографической артисткой, Лепешинская, Шостакович, бас Рейзен… Мои занятия идут успешным темпом, и я скоро расчитываю закончить Второй акт; притом в Третьем и Четвёртом тоже порядочно сделано. Марш для спартакиады написал, также серию пьес для детей…
(несколько приписок: „Очень интересный был твой перелёт с заездом в Амстердам; жаль, что детишки не увидели тебя выходящей из аэроплана.“ „Лето пока прохладное, перепадают дожди. На днях я должен был прервать купание и попросил второе одеяло“. „Сейчас я говорил с Малиновской о наших колебаниях, привозить ли детей. Она очень хвалила Поленовых и советовала привозить; говорила, есть шанс, что общая гувернантка всё-таки будет. Крепко тебя целую, поцелуй Мэмэ и детей; тронут был письмом Святослава, на днях напишу ему. Как жаль, что все нужные тебе люди разъехались из Парижа! Надеюсь, что ты теперь чувствуешь себя крепче“).
Твой С.»
Поленово, 27 июля 1935 года
«Дрг Пташка
Твоё письмо от 21-го и телеграмму о Чикаго и о том, что приедете раньше [получил]. Ты просишь ответить телеграфно на главнейшие пункты, но это трудно. Во-первых, каким путём вам ехать? Достать билет на пароход на советскую валюту едва ли теперь мне удастся, хотя я и попробую, когда буду в Москве по пути из Поленова в Баку. Если не удастся, то в денежном отношении оба способа стоят приблизительно одинаково, значит выбирать ты должна сама: морем интереснее, по железной дороге скорее. Если жарко, приятней ехать морем; если холодно, то по железной дороге. За Святослава придётся платить полный билет…» Дальше следуют инструкции, кому позвонить в Ленинграде (Сергей Сергеевич предупредит), чтобы забронировали комнату в «Европейской» и на утро билет в Москву. Обсуждается и другой вариант приезда, тоже с предварительным разговором. «В Радиокомитете я оставлю тебе чек. Если твой багаж пойдёт на Московскую таможню, то с тобой съездит тот же Дарский Макс Александрович, что и в прошлый раз. Он сейчас отдыхает здесь, но с 12 августа будет в Большом театре на службе. По приезде в Москву тебе прежде всего надо пойти в дирекцию Большого Театра (на площади Свердлова, над метро) и получить путёвку в Поленово (Илья Григорьевич Биндлер, тел. 3.36.72, будет в Москве с 10 августа; или может уже вернётся Юровский) и сразу же сговорится о том, когда у них пойдёт в Поленово машина; настаивай, чтоб легковая, а не автобус или грузовик. Об этом полезно поговорить с Кузьминовым Андреем Петровичем, – это тот, который ездил с нами в Поленово. Я постараюсь удержать для вас баню, хотя трудность в том, что здесь всё битком, в некоторых комнатах по три человека, и трудно, чтобы отдельный домик простоял пустым. С 15 августа начнётся разъезд, а с 20-го останется совсем мало народу. По приезде в Поленово сразу наладь отношения с Софьей Степановной (это та, которая ездила с нами); ты ей очень понравилась, и от неё зависит много повседневных удобств. Вегетарианский стол получить легко. Надо об этом накануне заявить местному доктору. Молоко (очень хорошее). Мне носит Маруся Афанасьева, она уборщица из дома № 2, и я её уже предупредил; кроме молока, у неё есть творог и яйца. Аккомпаниатор, вероятно, к 15 августа уже уедет. Я вернусь с Кавказа 22-23-го, если не поеду в Сухуми, и дней на 5 поздней если попаду, тогда я смогу тебе аккомпанировать… Детей обратно в Париж я могу отвезти, в Базель крюк небольшой… Как случилось, что у тебя отмена с операцией в носу? Очень неприятно, что ты всё не наберёшься сил и не отдохнёшь; Поленово в этом отношении хорошее место, хотя погода всё время дождливая, но теннис, volley-ball и купание продолжаются. Сечас масса грибов. Я здоров и много работаю, не пропустил ни одного дня, в Ромео и Джульетте я на III акте, марш для спартакиады сдал, клавир скрипичного концерта кончил, послал альбом из 10 пьес для детей… Крепко целую тебя, Мэмэ и детей. Очень обидно, что дети приедут в моё отсутствие, и я не увижу их первых впечатлений от СССР. Как смешно, что bebin беззубый.»
Баку, 11 августа 1935 года
«Дрг Пташка,
Не удивись, что штемпель Москва: это письмо везёт Сетанс.(…) Первые два концерта прошли хорошо, а затем начались всякие перестановки из-за болезни Жоржеско, который не сможет приехать.» Описываются неурядицы со сроками, необходимость задержаться в Баку, «огромном душном городе, в котором пахнет нефтью. Приехавшие западные артисты были помещены в „ужасный отель с клопами“, они уже улетели в Москву».
«Я пробовал купаться, но у моря какой-то странный запах; мне объяснили, что от водорослей, но я думаю, просто нефть. Был я на нефтяных фонтанах и на бурении в поисках нефти. Какое это колоссальное предприятие! Отсюда она по двум трубам течёт через весь Кавказ в Батум и сливается на пароходы для экспорта. И когда подумаешь, что раньше всё это текло в карманы разных Нобелей и Мыташевых(?), то понимаешь, какое благо революция!
Днём я оркеструю, номер у меня приличный, с чистой ванной и hot water. Но всё же я тысячу раз предпочёл бы быть в Поленове. Как ты устроилась? Отдохнула ли? Дети не изводят? Надеюсь, что ангина сошла на нет. Как проводишь время? Какие письма? Пошли мне 17 телеграмку в Тифлис…
Крепко целую тебя. Поцелуй детей. Шармируют ли они окружающих? Начала ли ты петь? А как Месереры? Мутных? Привет им, также моим „дочкам“.
С.»Paris, 2 ноября 1935 года
«Дрг Пташка,
Очень был рад твоему телефону, но слышимость была плохая и рано разъединили – через 6 минут; я следил по купленному в Базеле секундомеру (для минутажа пьес). Ехали мы с детьми так: до Негорел опоздали на 3 часа, и поезд из Столпцев нас не дождался, оставив, однако, спальный вагон, с которым мы приехали в Варшаву в 6 ч. утра, и сейчас же выехали в Вену, куда прибыли вечером. Ночевали в отельчике, утром ходили по Вене (было тепло, но дикий ветер), взяли швейцарскую визу и в 1 ч. дня выехали дальше. Через горы ехали в темноте и в Базель прибыли в 6.50 утра. На этот раз спального не брали, так как были одни в купэ. Дети спали отлично (как и в другие ночи), а меня всё время будили: zoll, pass, fahrkarte etc – дети ничего этого не слышали. Таким образом в Базель приехали в день концерта, и я вскоре ушёл на репетицию. Там встретил Handschin'a и тщетно намекал, что в день концерта дети мне мешают: он ничего не хотел понимать. Но когда я вернулся домой и обдумывал, как бы мне отдохнуть, вдруг явилась m-me Handsch и увела их к себе, а когда увидела их и они ей очень понравились, то оставила их ночевать и даже купала. Концерт прошёл хорошо и имел неожиданно большой (для очень консервативного города) успех… Утром Mme Handsch привела детей с подарками и с déjeuner в коробке? А в 6 ч. вечера мы были уже в Праге. Встретил нас Mitata, так как Мэмэ за пять дней до нашего приезда упала, входя в автобус, и лежала. Сейчас ей лучше, но всё же она двигается медленно и на улицу не выходит. К тому же f.de men.[70] одновременно объявила о своей беременности и сократила часы посещения… От квартиры я совсем отвык и первое время с любопытством её рассматривал; теперь вспомнил – и снова как дома… Звонила Марвик и предложила взять детей на всё воскресенье. На этот раз пусть пойдут, так как у нас не налажено, но в будущем я помню, что ты не очень любишь это. Из твоих поручений я уже купил гомеопатию, но с другими предметами, ввиду неподвижности Мэмэ, к кому обратиться?… Святослав на другой день после приезда пошёл в школу, где директриса встретила его объятиями; он взял мне rendez-vous у директора на 5-е. Bebin поедет к Рубакиной 4-го на тех же условиях. Я поговорю с Таней, чтобы Святослав, вместо латыни, учил русский или немецкий.»
В приписке Сергей Сергеевич добавляет, что вскоре отправляется в турне по Испании: Мадрид, Барселона, Сан-Себастьян, ещё какой-то город и потом – Лиссабон, Португалия. Первое солидное исполнение концерта пройдёт в Мадриде. Обещает присылать все свои адреса (что аккуратнейшим образом и выполнит).
«Очень интересуюсь, как у тебя всё – аккомпаниатор, занятия. Про твои ангажементы и про пропуск во все театры я тут рассказываю. … С детьми ехать было приятно, они не шалили и ко всему относились с интересом, но под конец чуть-чуть утомили. Крепко и нежно обнимаю тебя и целую.
Серёжа.»Париж, 6 ноября 1935 года
«Дрг Пташка,
Три утра подряд поджидал твоего телефона – и вдруг, как раз когда надо многое сказать, такое плохое и короткое соединение! … Посоветоваться надо было по вопросам документов и квартиры, приездов, отъезда – в феврале? Просит Пташку не огорчаться из-за материальных потерь, связанных с требованиями хозяина оплатить отопление – „не стоит того“. Директор школы Святослава был мил, уговаривал отдать и Bebin à n'importe quelles conditions[71], так как у него в 9-м классе всего один мальчик. Пока Bebin ходит к Рубак, а если сюда, то можно ли его отпускать со Святославом? (Он должен будет ждать утром полчаса и вечером три четверти часа, так как Святослав начинает раньше и кончает позже). Про latin директор сказал, что этот год он пусть всё-таки учит, это хорошая гимнастика, а если немецкий, то можно начать с будущего года. Мэмэ немного лучше, но всё же она ходит потихоньку… Дети хорошо, Bebin немного бледненький, отметки у Святослава довольно хорошие, пропущенный месяц он скоро догонит. Количество учеников в его школе сильно уменьшилось. Его приятель (помнишь, его отец – директор автомобильной фабрики) остался на второй год.
Ну, миньк, крепко-крепко Вас в обе щёчки… Надеюсь, что аккомпаниатор и голос наладились и всё пройдёт блестяще. Я уеду вероятно 16-го; список адресов, куда мне писать или телеграфировать, пришлю. Жду твоих телефонов 9-го и 14-го (10-го не звони, я могу отсутствовать). Крепко обнимаю ещё раз,
С.»Париж, 14 ноября 1935 года
«Дрг Миньк,
Несколько раз перечитывал твоё № 2, от 8 ноября, такое ласковое и содержательное. Сегодня ждал твоего телефона, но видно опять не дали… (Сергей Сергеевич подробно сообщает и заодно советуется с Линой Ивановной о дальнейшей стратегии поведения с парижской квартирой, о тяжбе, затеянной Лифарём)… зимою между Парижем и Москвой 3 часа разницы, поэтому ты едва ли сможешь звонить детям „около 12“, как ты пишешь. Если в воскресенье, то лучше между 9 и 9.30 утра по-парижски, то есть 12–12.30 по-московски… 7-го в Полпредстве был большой приём от 5 до 7, тьма народу, говорят, всего прошло до 1000 человек. Третьего дня я обедал у Потёмкиных, к удивлению встретил там Билибина, который получил советский паспорт и поедет в СССР как только будут деньги на переезд. Про Мэмэ Потёмкин сказал, что ей надо сначала подать заявление здесь, а потом поддержать мне в Москве, но при данных обстоятельствах он не видит, чтобы встретились какие-либо затруднения. Я послал письмо Булганину, которое Потёмкин перешлёт с собственной припиской, но оно попадёт в Москву лишь к 25 ноября. 8-го я говорил в Радио (беседа с Moreux перед микрофоном – у них очень шикарное помещение на 1, Bd Hausmann) немного волновались оба, но вышло недурно… Первое исполнение Концерта произойдёт в Мадриде с Арбосом 1 декабря. Мой адрес до 1 декабря…(то есть письмо должно быть там не позднее 1 декабря). Если захочешь телеграфировать, то 22 ноября – San Sebastian, Hotel Londres…» (и так далее, перечисление всех последующих адресов с точностью до часа пребывания…) «Об африканских адресах сообщу дополнительно. Из Мадрида мы первого декабря после концерта едем в Танжер и оттуда в Марокко. Последний концерт 19 декабря в Тунисе и 21 декабря я рассчитываю быть в Париже. Мэмэ лучше, она теперь довольно свободно ходит по квартире. Она на днях тебе напишет. Святослав о друзьях вспоминает мало, он занимается русским у сына Боровского, очень симпатичного юноши.
Крепко и нежно, мильнк, тебя обнимаю. О твоих предстоящих выступлениях рассказываю всем подробно. Турандота между Форе и Фалья по-моему хорошо… Будь бодрой и здоровой.
С.»Paris, 15 ноября 1935 года
«Моя Миньк,
Сегодня хорошо было слышно по телефону, но досадно, что ты не в лучшей форме и всякие мелочи донимают! …Есть проект, чтобы ты пела „Утёнка“ тоже с оркестром; трудность в том, что это потребует лишнюю репетицию для оркестра. Ce qui est très couteux. … Целую тебя, миньк, будь бодренькой и в форме! Я уезжаю в хорошем настроении, так как в Париже скорее замотался из-за тьмы дел, а тут приятная поездка на юг, и, после первой эмоции выступления в Мадриде (большой город, 1-е исполнение Debussy, сонатина), можно будет читать, исправлять работу Ламма, смотреть новые края. А затем и до приятной встречи в Москве!
С.»
Madrid, 19 ноября 1935 года
«Моя Миньк,
Итак – я в твоём родном городе Мадриде. Открыл телефонную книжку и нашёл 9 Codina: один – medico, другой – representante, третий – de Codina и так далее. Llubera – никого. Город мне нравится, есть интересные постройки, народу на улицах много, но никто никуда не торопится – пойти скоро очень трудно. Концерт прошёл хорошо и сыграли мы Debussy совсем недурно. Обедали у Arbos, у них очень интересная квартира испанского стиля. Сам Arbos постарел, но его очень треплют, так как у оркестра дефициты, государство отняло субсидию, они еле выбиваются, и он с завистью слушал о преимуществах в СССР… Mme Arbos вспоминала тебя и жалела, что ты не приехала, говорила, что ты – charmante…
21-го буду вспоминать тебя, а 22-го ждать телеграммы. Крепко целую и обнимаю тебя. Сейчас едем в Барселону… Сетанс шлёт привет, он приятный попутчик.
Твой С.»
Valladolid, 23 ноября 1935
«Дрг Миньк,
После Мадрида (откуда я послал тебе письмо), Барселоны и Сан Себастиана, едем теперь в Vigo, порт на Атлантическом океане над Португалией. … Городок симпатичный. Можно встретить старуху верхом на осле или старика, до подбородка закутанного в плащ, а рядом в саду молодёжь играет в футбол или девицы идут с permanente на голове… В S. Sebastian получил твою телеграмму, ждал ее с нетерпением, но почему же только assez bien? Недостаточно хорошо себя чувствовала, или не доучила с аккомпаниатором, или окружение раздражало, или ты просто придираешься к себе? С интересом буду ждать телеграммы в Лиссабоне и письма с подробностями. Кто слышал в Радио и что говорили? …Зашедший в артистическую здешний дирижёр сказал, что твой аккомпаниатор (в Биаррице и Альберти) собирался на концерт, но, узнав, что ты в нём не принимаешь участия, решил остаться дома. Кланяется тебе Segovia. Он должен был ехать в СССР, но у него заболела жена, и он остался. В Барселоне я опять смотрел в телефонной книжке Llubera, но таких нет. Есть довольно много Llobera, Llovera и Lloveras.
Крепко тебя, моя миньк, целую и очень надеюсь, что последующие выступления дадут тебе больше удовлетворения, чем по-видимому дало первое. Пиши, может быть, лучше не на Париж, а прямо по данным мною адресам, но с надписьмю на конверте: „воздушной почтой через Париж“, так как ведь и из Парижа есть воздушная линия в северную Африку. Обнимаю минькую.
С.»
28 ноября Сергей Сергеевич отправил Лине Ивановне открытку из Лиссабона. Он сообщает, что после Виго проехал по всей Португалии и по приезде в Лиссабон попал в объятия Боровского, у которого тоже был там концерт. Боровский, «счастливый встречей с Сергеем», приписал на этой открытке нежный привет. Прокофьев ждёт телеграмму.
На открытке стоит адрес: «Москва 9, Отель „Националь“. Лине Ивановне Прокофьевой». Поезд покатился по новой колее.
Касабланка, 6 декабря 1935 года
«Дргая Миньк,
Твоё письмо от 27 ноября еле меня здесь захватило. Так давно не имел от тебя новостей и беспокоился, думал, что тут дело в 23-м: или оно отложилось или не удалось. Так оно и есть, но обидно, что второй вариант! Тем более обидно, что ты имела возможность показать в Москве певческую технику, гораздо более высокую, чем у тамошних певиц. И я представляю себе, как это должно было отразиться на твоём настроении! Что касается Радио, то это удивительные люди: с одной стороны, и милые, а с другой нелепые. Например: с Гусманом ещё в начале октября я договорился, что он приглашает на апрель Сетанса играть мой новый концерт. А когда Сетанс написал Гусману об этом, тот ответил, что теперь уже, к сожалению, поздно, надо отложить до следующего сезона. Я рассердился и послал Гусману проторцию (sic!), не знаю, чем дело кончится. Африка очень интересна… (Описание Феса, Рабата, Марракеша)… В Мадриде исполнение скрипичного концерта прошло парадно… (Оркестр, Арбос, Сетанс, сам – дирижёр и композитор – всё привело к шумному успеху). После концерта был приём у Арбоса. Мадам Арбос „несколько раз вспомнила о тебе, очень хвалила и говорила, чтобы в другой раз я без тебя не приезжал…“ Очень тронут, что Станиславский так хорошо к тебе относится. Была ли ты в его театрах на его кресле? Кстати в Париже перед моим отъездом ко мне заходил его сын, и мы довольно долго беседовали.
Ну, дорогая моя, сейчас 1 час ночи, а поезд уходит в 7 ч.у. – Разбудят в 6: побегу сейчас на почту, – если опустить до 2 ч.н., то завтра с аэропланом полетит в Париж. Ещё раз ужасно жалко, что не удалось 23-го, но не надо падать духом, всё дело тут в здоровье, надо его приводить в порядок.
Нежно целую тебя, Миньк,
Твой С.»
Hotel «Transatlantique»
Casablanca
Между 7 и 16 ноября
«Моя Миньк,
Последний раз писал тебе 6-го, ночью, после концерта. На другой день мы отправились на юг, в Marrakech, это уже совсем пустыня, но город в пальмах, точно оазис, и чудный отель с садом из апельсины, grape-fruit, etc. Председатель музыкального общества показывал нам город… В общем я как-то уже вошёл в тон каждодневных концертов и переездов, иногда только, проснувшись ночью, не могу сразу сообразить, в каком городе. Успеваю заниматься партитурой Ромео, но дело замедляется тем, что Ламм очень неважно наработал; не лучше Держановского, и на приведение в порядок его работы требуется втрое больше времени, чем я предполагал. А что конкурс Правды, на который я послал мои песни, кончился чем-нибудь?
Здесь масса кожаных товаров, я купил тебе сумочку, в самой гуще арабского городка… Ещё раз очень мне огорчительно, что у тебя не оказалось удачным выступление 23-го, но я надеюсь, ты оправилась: надо будет отыграться! Нежно целую тебя, жду твоих вестей в Оране. Сетанс благодарит за приветы и шлёт тебе свой.
A bientot maintenant.
C.»Алжир, 16 декабря 1935 года
«Дрогая Миньк,
Получил от тебя письма в Оране и здесь и сверх того телеграмму в Оране. Ты пишешь, что кроме того послала письмо в Мадрид и Casa, – в Касабланке я получил, а в Мадриде нет* (сноска: * хотя другие письма мне из Мадрида дослали в Марокко), только телеграмму. Очень здорово с квартирой, наконец-то, и очень интересно, как протекал твой разговор в Моссовете! А что ж, ты приняла приглашение медиков спеть у них? Я бы на твоём месте принял: в Москве вообще с давних пор существует традиция не отказывать студентам. Приятно, что Мутных был так мил с тобою, я ему послал открытку из Лиссабона, а узнав от тебя о его любезностях, послал отсюда вторую. „Трудный период“ (13 концертов в 13 дней) кончился благополучно и теперь три дня перерыва в Алжире, которыми пользуюсь, чтобы подогнать Ромео и Джульетту, а также сделать корректуру детских пьес, которую прислали из Парижа… (Сергей Сергеевич описывает свой дальнейший маршрут). Выеду из Парижа, как только справлюсь, и буду в Москве числа 29-го, о чём дополнительно протелеграфирую. Позвони мне 23: от 12 до 1 ч. по-московски… От Мэмэ последнее письмо от 2 декабря, ей в общем лучше, но всё же на улицу ещё не выходит… занимается наклеиванием рецензий. От Святослава было два письма, от Bebin одно, уморительное.
Я купил им каждому часы на руку – в Марокко, дешёвые, без пошлины, по 15 франков. Пожалуйста, достань меховую мою шапку от Мясковского и позаботься, чтобы Радио ко дню моего приезда прислало мне рояль, Steinway, что в последний раз. Надо настаивать, а то, если они скажут, что когда приеду, тогда и пришлют, то это значит, рояль будет через пять дней после моего приезда. Если увидишь, что ничего с ними не выходит, то надо постараться получить через Юровского из Большого Театра, так как рояль нужен мне для заканчивания оркестровки Ромео и Джульетты…
Ну, миньк, теперь уже скоро увидимся; вообще уже и в мыслях я расстаюсь с африканскими впечатлениями и больше думаю о поездке в Москву, хотя Тунис со старым Карфагеном и переезд через Средиземное море мимо Сицилии обещают быть интересными. Нежно целую тебя и надеюсь, что дурное настроение покинуло тебя. Где мы будем встречать Новый Год?
С.»
31 января 1936 года
Бельгия
«Дорогая Миньк,
По дороге из Польши послал тебе открытку. В Варшаве к поезду подходил Лабунский, с которым мы установили программу моих выступлений в Польше на обратном пути. Он справлялся про тебя. Вебер[72] просил передать тебе, что с удовольствием тебя встретит, поедешь ли ты с поездом или с авионом. В Страсбурге был относительно свободный день, который я использовал, чтобы привести партии Египетских ночей в порядок к Брюсселю, а свои пальцы к вечернему концерту. Приехал Сетанс, и концерт состоялся в том же зале Консерватории. Публика была внимательная, и мы играли хорошо. Приятно было, что большой успех имело Andante из нового скрипичного концерта. Все справлялись о тебе и вспоминали о твоём выступлении…
Мысли мои часто в Москве. Как квартира? Отдохнула ли ты теперь, когда тебя никто не раздражает?
Крепко обнимаю тебя и целую, жду вестей в Брюсселе или Париже.
Твой С.»
* * *
В апреле 1936 года Прокофьев со всей семьёй переселился в Москву.
Хлопоты о получении новой квартиры в основном легли на плечи Лины Ивановны. В своих воспоминаниях она замечает, что им не пришлось жить в таких условиях, чтобы за стеной были слышны звуки рояля.
«В России строили дом для Союза композиторов, Сергей колебался, говорил „Я не знаю“. Конечно, он не хотел, чтобы его слышали композиторы. Когда дом был уже готов, мы не захотели переезжать туда, потому что въехавшие туда композиторы жаловались и говорили, что это ужасно, всё было слышно, что делает тот-то и тот-то, а домработницы (в то время было ещё возможно иметь служанку) обсуждали, что ели и с кем встречались их хозяева. Мы решили, что никогда не поедем в такой дом.»
Лина Ивановна никогда не жаловалась на перипетии квартирной борьбы, напротив, энергично справлялась с трудностями.
В доме на улице Чкалова поселились в дальнейшем Д. Ф. Ойстрах, Г. Г. Нейгауз, Кукрыниксы, выдающийся авиационный конструктор генерал В. М. Мясищев, женатый на моей тёте – близкой подруге Лины Ивановны – Елене Александровне Мясищевой-Спендиаровой, Самуил Яковлевич Маршак, – словом, виднейшие деятели культуры, искусства и науки.
Лина Ивановна рассказывала:
«Все хотели попасть в этот дом, который был современным и стоял в хорошем месте. Конечно, прежде всего, все те, у кого были основания для приоритета, давили на все кнопки, стучали во все двери, чтобы получить там квартиру. Даже вначале иностранные инженеры, которые помогли строить большие ГЭС, стремились жить там. Но они там долго не жили, переехали в другие республики.
Мы получили наконец квартиру на Чкаловской. Две большие комнаты были для детей, одну занимал кабинет Сергея Сергеевича, стену которого мы изолировали, так как она была общей с ванной комнатой соседа, и одну – спальня.
Жизнь была непривычной. Никогда не было гарантии, что в магазинах окажется всё необходимое. Так как мы входили в число тех, кто имел право на особое обслуживание, к нам приходил мальчик с корзиной и принимал заказ. Было трудно найти домработницу. Я не могла работать над своим пением, так как дети были в школьном возрасте, и у меня не было помощи.
Когда дети приехали, они пошли учиться. Говорили по-русски с трудом.
В 1938 году во время последних гастролей Сергея Сергеевича по Америке мы получили сообщение от оставшейся на это время с детьми подруги, что школа закрылась, и она старается определить детей в хорошую русскую школу.»
«В нашей жизни я не ощутил резких перемен, – рассказывает Святослав Прокофьев. – Правда, на месяц я попал в школу, где класс состоял человек из пятидесяти. В моей французской школе в Париже нас было пятнадцать. Затем я полтора года проучился в московской английской школе, точнее, англо-американской. Существовали такие школы для детей советских граждан, работавших за рубежом. Все учебники, даже алгебра, были написаны на английском языке, по-английски велось и преподавание. Русский же язык был на положении иностранного. Эта школа находилась на бывшей 3-й Мещанской улице. Мы с Олегом плохо по-русски говорили, особенно Олег. Он ужасно всё коверкал: особенно „Р“ и „Л.“. Отчасти, – может быть, ради нас родители говорили дома по-русски. Состав учеников в этой специальной школе был очень приятный. Все в одинаковом положении. Жили за границей, потом переехали сюда. С одним из учеников я и до сих пор дружу, ездил к нему в Израиль. Но в 1937 году всех родителей посадили и школы закрыли. Я, как и другие, продолжал учиться в обычной школе.»
О школе рассказывает в своих «Воспоминаниях» и Олег Сергеевич: «Мой интерес к домашней библиотеке, к музыке отца в то время был также несомненно связан и с равнодушием, даже нелюбовью к моей неизбежной школьной жизни. Ведь в этой самой школе меня ещё прозывали не иначе, чем „сын композитора“ („Эй, сын композитора! Поди сюда…“) Эта нелепая и неуклюжая кличка напоминала мне, что я сын человека странного, необычного рода занятий, может быть даже и не очень серьёзного рода. Кроме снисходительной насмешки я различал ещё и другое, дескать, „не наше“, что-то иностранное. Помнится, эта сторона в ещё большей степени утрировалась нашей домашней работницей, крестьянской девушкой из Смоленской области, Фросей, коверкавшей это слово и со смехом (и усилием) выговаривавшей, в конце концов, торжественно и по слогам: „кам-пан-зи-тор“, с подчёркнутым ударением на каждом из них.
В какой степени и насколько глубоко чувствовал это отношение мой отец к себе, как к человеку, приехавшему из Западной Европы и оторванному от советской действительности, мне судить невозможно, тем более, что при мне он на эти темы не разговаривал. Школьную кличку я целиком принимал на себя, с отцом никак не связывал и на эту тему делиться стеснялся, как будто мне самому было отчасти за отца стыдно, что он не такой как все.»
Однажды кому-то из школьников пришло в голову по случаю очередного революционного праздника пригласить в школу для участия в концерте «отца Прокофьева». Олег волновался, но отец, к его удивлению, легко согласился. Играть на ужасном инструменте, для этой шумной аудитории, ничего не понимающей в музыке, а тем более в музыке Прокофьева, – было сильным переживанием для Олега. Он просто-напросто беспокоился, как бы чего-нибудь не случилось.
Одноклассники веселились во время игры Сергея Сергеевича, показывали язык, тыкали пальцами, Олег чувствовал себя ужасно. Но на этом страдания не кончились. Закончив играть, отец поклонившись, сделал на прощание ручкой, чем вызвал самый бурный взрыв радости…
«(…) Воспоминания о жизни во Франции, всего лишь несколько лет тому назад покинутой, казались уже совсем далёкими. Я приспосабливался к новой жизни, наверное не хуже и не лучше, чем любой другой ребёнок моего возраста, хотя, даже и тогда я отчётливо ощущал разницу, глубокое отличие двух миров.»
«Святослав и Олег любили музыку и понимали произведения отца, – рассказывала Лина Ивановна. – Святослав любил классическую музыку, а Олег пошёл дальше и с интересом слушал Штокгаузена.
Сергей не хотел, чтобы они занимались музыкой, а я думала, что лучше бы они были хорошими оркестрантами, чем бухгалтерами.»
Лина Ивановна часто возвращается к своему стремлению вырастить детей достойными своего отца и в то же время самостоятельными личностями.
Родители приобщали мальчиков к своим семейным традициям, вовлечённости в искусство, театр, литературу, шахматы, любовь к природе, – всему, чем жили сами.
Ежедневные репетиции, РАБОТА над созданием или исполнением, постановкой, партитурой, клавиром, сольной игрой или игрой в ансамбле – надо быть свидетелем такого образа жизни, чтобы понять насколько труд, кропотливый, изматывающий, напряжённый, поглощает всё время и силы, и в то же время несёт радость.
Святослав и Олег с детства жили в доме, атмосфера которого была насыщена этим трудом и пронизана музыкой, тайнами искусства.
Олег Сергеевич Прокофьев в своих воспоминаниях об отце ярко описывает детские впечатления, пережитые и сохранившиеся с времён младенчества:
«(…) В самом деле, разве первые мои воспоминания не слиты с музыкой (…) Не кажется ли самым ранним, устоявшимся, прочным моим воспоминанием засыпание в постели, ранним вечером, под отдалённое звучание фортепиано. Я – в замкнутом полумраке, без ног от избеганного длинного дня, вне сил притяжения кроме подушки, а вдали – за стеной, или ещё за длинным коридором большой парижской квартиры, оттуда, из-за пределов моего полумрака, забредающие звуки, таинственная, успокаивающая, полная странной, но близкой жизни музыка. Наверное, почти с момента моего рождения, через многие сны и игры незримо населяет она фон моего существования.
(…) Более серьёзное, сознательное отношение к отцовской музыке начнёт появляться у меня гораздо позднее, когда из хотя и очень важной, но всё же лишь части семейного быта она перерастёт во что-то другое, более высокое и в большей мере себе адекватное. Это произошло через много лет, а впрочем едва ли десять, но в ту пору для меня немалый срок (…)
В Москве, во время войны, оставаясь одни в пустой квартире, мой брат и я начинали играть пластинки из небольшой коллекции, собранной нашим отцом. И, среди них, в первую очередь, те несколько старых бесценных и хрупких дисков на 78 оборотов, которые он записал в Париже, в 1935 году. Со своим слегка приглушённым, будто звучащим из другой комнаты звуком, они были самым живым и почти буквальным напоминанием о его игре в нашей квартире, в Париже. Конечно, я теперь слушал всё это иначе, впервые открывая музыку как искусство. Мне было всё-таки тринадцать лет, и я уже понимал, что моя жизнь неотделима от искусства.»
«Сергея Сергеевича мы старались никогда не беспокоить, – говорит Лина Ивановна. – Он никогда не обращал внимание на шум. К тому же всегда был прекрасно изолирован. Дети ходили на цыпочках, и мы всегда вешали тяжёлую занавеску на дверь его кабинета. Но я обожала слушать, как зарождается новое сочинение, как идёт процесс сочинения.
Когда он работал, никто не переступал порог нашего дома. Он не переносил этого. Поэтому если мне надо было повидать кого-нибудь из друзей или подруг, то я или сама шла к ним, или они приходили вечером, когда он уже не работал.
Он часто играл мне свою музыку. Первым сочинением, которое я услышала, были „Сказки старой бабушки“. Он включал их в программы своих концертов.
Я слушала все его сочинения. Когда он заканчивал какое-нибудь из них, он всегда звал меня и предлагал послушать.»
Святослав Сергеевич рассказывает:
– Тут по радио как-то передавали Де Фалья, Шесть народных песен. И я очень чётко вспомнил, как их пела мама, и когда проходил мимо магазина пластинок, зашёл, хотелось их просто купить. Я помню, как мама готовилась к концертам, папа ей аккомпанировал, делал замечания. Конечно, мама пела не только испанские песни, ещё арию Параши из «Сорочинской ярмарки» Мусоргского, папины романсы на стихи Ахматовой.
К сожалению, как только родился Олег, мама почти перестала петь. За исключением того, что по приезде в Москву несколько раз выступала по радио, – говорили даже, что где-то должна была сохраниться запись, но её не нашли. Ну и потом, когда она была в лагере, она там тоже пела в местной самодеятельности. Как вы знаете, органы поощряли самодеятельность, они очень любили, чтобы такая деятельность была. Мама даже просила меня, чтобы я присылал ей ноты.
В 1936 году Сергей Сергеевич познакомил Лину Ивановну с Натальей Ильиничной Сац, женщиной кипучей энергии, обуреваемой тысячей самых смелых замыслов. Интересно, что многие из них осуществились, в частности такой грандиозный, как открытие Детского Музыкального Театра. Дочь репрессированного композитора Ильи Саца, автора музыки к знаменитому и любимому детьми и взрослыми спектаклю по Морису Метерлинку «Синяя птица», она, невзирая на то, что была дочерью «врага народа», с поразительным умением и упорством, нажимая на все кнопки неповоротливого большевистского механизма, добивалась всего, чего хотела. Её самоощущение тоже немало ей помогало. Помню, как, подавая руку для поцелуя, она томным басом произнесла: «Эту руку целовал Рахманинов». По её инициативе Сергей Сергеевич стал на собственный текст писать симфоническую сказку для детей «Петя и волк», и на второе её представление в Доме Пионеров – текст читала сама Наталия Сац – родители взяли мальчиков – Святослава и Олега. Мальчики пришли в совершенно невероятный восторг: не говоря о том, что им страшно понравилась сказка, они никогда в жизни не видели ещё подобной по масштабу детской аудитории. Тысячи детей. Этот день запомнился обоим на всю жизнь. Олег пишет о своём восхищении этим произведением и что с того момента его водили на все исполнения «Пети и волка».
Слава Богу, это впечатление полностью затмило неудачное по мнению Олена выступление Прокофьева в школе.
Вскоре, однако, всё круто переменилось. Если первый приезд Прокофьева по времени был удачным (1927 год), то в 1936 году Сталин начал свою иезуитскую и беспощадную борьбу с «прослойкой» (так называлась творческая интеллигенция). Сначала «Сумбур вместо музыки» – пушечный выстрел по Шостаковичу, а далее – со всеми остановками. Создание Всесоюзного Комитета по делам искусств во главе с П. М. Керженцевым – это начало компании борьбы с формализмом. Перестройка всей культуры происходит, как принято, под лозунгом борьбы с вражескими происками, – раньше врагом был троцкизм, теперь – формализм и натурализм. Назначенный Сталиным председателем Комитета по делам искусств (учреждения не подвластного никому, кроме лично Сталина) Керженцев начал настоящий погром.
С самого начала были обозначены основные фигуры для этого этапа расправы. Прежде всего, Всеволод Мейерхольд. Было введено понятие «мейерхольдовщины» как непримиримо уничижительное для любого недуболомного проявления в искусстве. В его случае конкретно запрещаемое искусство воплотилось в его создателе и привело к физическому уничтожению. «Ликвидировать театр Мейерхольда, как чуждый советскому искусству». Мейерхольда сначала долго бранили, оскорбляли, подвергали всяческому издевательству, трепали его имя в газетах и на своих сборищах, потом закрыли театр. Для Прокофьева фактически отменялась постановка оперы «Семён Котко», которую ставил Всеволод Эмильевич. В 1939 году Мейерхольд был арестован, а 2 февраля 1940 года расстрелян.
Эйзенштейну, несмотря на цитируемое ниже Постановление ЦК ВКП(б) от апреля 1937 года, разрешили признать «ошибки». Постановление же было таким:
«1. Считать невозможным использовать С. Эйзенштейна на режиссёрской работе в кино.
2.‹…›предложить газетам прекратить замалчивание решения ЦК ВКП(б) о запрещении фильма „Бежин луг“ и по примеру „Правды“ осветить на их страницах порочность творческого метода С. Эйзенштейна».
Фильм Эйзенштейна «Бежин луг» был снят по сюжету легенды о Павлике Морозове, но то ли члены ЦК устали, то ли режиссёр чего-то недопонял в этом славном образе, только не угодил он начальству. В дальнейшем, как уже было сказано, Эйзенштейн не был ни казнён, ни уничтожен.
Шостакович вместе с Эйзенштейном тоже был назначен на исправление.
Либретто стали восприниматься как тексты партийных резолюций. На музыку особого внимания не обращали. Сергей Сергеевич полностью был промолот в этой мясорубке в двух своих сочинениях вскоре по приезде в любимую страну. Первым была «Ленинская кантата», написанная к двадцатилетию революции. Возвратившись в апреле 1936 года в Россию, он сразу представил кантату для симфонического оркестра, оркестра народных инструментов и хора. Её сенсационная особенность состояла в том, что в качестве текста были представлены цитаты из произведений Ленина. Прокофьев потрудился ещё и подчеркнуть, что он имел в виду: философы раньше лишь объясняли мир, а МЫ ЕГО ИЗМЕНИМ. Кое-какие цитаты подсократил, но и это оговорил. Ну, что тут поднялось! Скандал! Композитора затаскали по инстанциям, за него и против него сражались в высших государственных и партийных эшелонах власти. Предложили заменить Ленина на Безыменского, Кирсанова, Сельвинского, но Прокофьев только что приехал и ещё не был запуган, он категорически отказался от этого предложения. Тухачевский бросился ему на помощь. И даже Молотов как будто бы сказал, чтобы дали Прокофьеву возможность самому решать свои творческие проблемы. Однако не тут-то было. Прокофьев решил ещё добавить парочку цитат: из Сталина! Всё. Кантата была запрещена, а включение слов главного вождя сочтено преступным.
Обухом по голове. Но следующий удар был впереди и совпал с уничтожением Камерного Театра Таирова.
С детства и на протяжении всей жизни любимым произведением Прокофьева был «Евгений Онегин». В сотрудничестве с Таировым, предложившим ему в 1936 году участвовать в своём спектакле по этому произведению, и режиссёром Кржижановским была задумана как бы проекция его на сцене. Прокофьев хотел воплотить в музыке те сцены из пушкинского романа, которые не вошли в оперу Чайковского: посещение Татьяны дома Онегина, сон Татьяны, прогулки Онегина.
Осень 1936 года. Таиров оказывается в числе художников – формалистов, иными словами врагов народа. Вообще вся идея невыносимо раздражает Комитет по делам искусств и партийные инстанции: зачем какой-то новый «Евгений Онегин», когда всем известный и проверенный уже есть?! Что это за Татьяна «русскою душою» в исполнении Алисы Коонен? Опять же постановщик – снова поляк! И это всё собираются осуществить к столетию со дня смерти великого русского поэта! Запретительство проводят с известной осторожностью, созывают комиссию из пушкиноведов (Прокофьев и Кржижановский туда не входят), – Вересаев и Бонди высказываются положительно. Но механизм уничтожения уже заработал на полную мощность.
3 декабря 1936 года Прокофьев получает письмо на бланке театра: ему сообщают, что Всероссийский комитет по делам искусств получил категорические инструкции, согласно которым пьеса «Евгений Онегин» запрещается к постановке в Московском национальном камерном театре. В связи с этим театр просит его прервать работу над партитурой для этого спектакля. Контракт от 25 мая текущего года, согласно которому партитура являлась собственностью камерного театра, аннулирован и недействителен.
Изъята партитура. В письме, однако, не упомянуты репетиционные клавиры. Актёры театра передали ноты, использовавшиеся во время репетиций, Павлу Александровичу Ламму, опытнейшему специалисту в области оперной оркестровки. Он восстановил партитуру по авторским ремаркам, проставленным Прокофьевым в фортепианных партиях, и зазвучали, ожили снова дивные звуки, но уже гораздо позже, и в других сочинениях композитора: балете «Золушке», операх «Война и мир» и «Обручение в монастыре» («Дуэнья»). Знаменитые колокола из неосуществившейся оперы не звонили – куда там звонить в колокола, когда снесён храм Христа-Спасителя… Что касается оригинальной музыки Прокофьевского «Евгения Онегина», то и она прозвучала, сначала в прошлом – двадцатом веке – (об этом в 15 Главе), а в 2005 году Берлинское Радио выпустило диск с записью оригинальной музыки «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы» Прокофьева (в аннотации к этому диску впервые приведено письмо Прокофьеву с указанием прекратить работать над партитурой).
Запрет «Евгения Онегина» ускорил конец лучшего, быть может, театра России. Камерный театр Таирова был третьим направлением в истории российского театра (Мейерхольд, Станиславский, Таиров). Уникальный театр исчез. Осталось здание. Теперь там театр им. Пушкина, но над ним, как говорят, и по сей день тяготеет проклятие Алисы Коонен.
Глава девятая Кисловодск – Москва. Курортный роман. Уход
Стоило Сергею Сергеевичу отлучиться в другой город, как немедленно летели от него письма Пташке, – переезд никак не отразился на семейных традициях. Иногда, правда, кажется, что письма как-то почти неуловимо потускнели. За исключением описаний природы повеяло буднями. Впрочем, нет оснований ждать особой праздничности настроения в обществе, где расстреливают, к примеру, бухгалтера Радио, а выступление на собрании в Союзе композиторов может оказать существенное влияние на творческую деятельность, о чём Прокофьев рассказывает Лине Ивановне.
13 апреля 1937 года он пишет из Ленинграда:
«Дорогая Пташка,
Сегодня утром ввалился Афиногенов и передал твоё письмо, которому я был очень рад. Приложение – мало интересное, но жаль, что не приложила заметку из „Правды“, где говорится, что моё выступление в Союзе композиторов интересное, хотя и спорное. (Афиногенов сообщил). Он считает, что это не плохо…» (Дальше, несчастный, пишет про мучивший его фурункул, с которым придётся всё же играть на концерте… В конце письма уточняет у Пташки личность расстрелянного бухгалтера, эта подробность выглядит буднично. Видимо, расстрелы бухгалтеров – дело обычное). «Крепко, Миленькая, обнимаю тебя, до 17-го! Поцелуй ребят.
Твой Серёжа»
На лето супруги разъехались: Сергей Сергеевич – в любимый с юности Кисловодск, Лина Ивановна – к морю. В этом тоже есть элемент советской жизни. Никогда раньше супругам и в голову не приходило разъезжаться на лето. Вместе снимали дома на океанском побережье, куда и отправлялись, как писал Сергей Сергеевич, «всем цугом». Но, может быть, в связи с нехваткой путёвок и курсовок в России уже была принята такая практика – раздельный отдых, послуживший мотивом не только для множества анекдотов, но и семейных раздоров. На курортах заводили романы, и появилось даже такое выражение: «курортный роман», то есть, краткий, недолговечный, на время отдыха в санатории.
Москва, 6 августа 1937 года
«Дорогая Пташка,
Получил твою телеграмму и рад, что ты хорошо долетела. Жаль, не прибавила, каков был перелёт, но если тошнило, то, конечно, об этом телеграфировать было неудобно. Я приезжал в город, потому что вчера у румынского посла был обед… (присутствовали английский, бельгийский, польский, финляндский послы с женами и больше никого). Уж не знаю почему меня пригласили в такую шикарную компанию. Тебе тоже было приглашение, и хозяин очень жалел, что тебя не было.
Дома всё благополучно. Степанида ворчит, но, кажется, досидит до твоего возвращения… Крепко целую, надеюсь, ты хорошо устроилась и у тебя отдельная комната.
С.»
Москва, 15 августа 1937 года
«Дорогая Пташка,
Получил твоё письмо, надеюсь, ты тем временем получила моё от 6 августа. Рад, что ты получила отдельную комнату, хотя по всему видно, не очень уютную. Конечно, вероятно, можно было устроиться лучше, но всё достигается опытом!
Я кончил партитуру и 17-го уеду в Кисловодск. С детьми остаётся Ника. Она перевезёт их 31-го и пробудет до твоего или моего возвращения. Степановна (en voila encore un numero!) тоже поклялась, что останется до моего возвращения или дольше. Я обещал ей премию в 50 рублей за эту любезность.
Дети в порядке, занимаются аккуратно, встают в 8, ложатся в 9 (Бэб) и в 10 (Святослав), у Бэбки один день болел живот и голова (он съел дыни и выпил молока), так прибежали обе докторессы в халатах и с трубками, чтобы брать слизь, говоря, что у него, вероятно, дифтерит. Словом, бедный Бебка целый день проскучал без других детей (запретили), а на другой день выздоровел.
От Харьковской Филармонии предложение продирижировать концерт из моих сочинений во 2-й половине октября. Я предложу им „Утёнка“ с тобой.
Крепко целую,
С.
Мой адрес в Кисловодске: Санатория „Десять лет Октября“».
Кисловодск 24 августа 1937 года
«Дорогая Пташка,
Получил твоё [письмо] от 16-18-20 августа и огорчился, что столь долгожданная поездка в Сочи не дала тебе нужного отдыха. У нас тут тоже на разных углах хрипит „культурное развлечение“, но видно не в той мере, как в Сочи! Я думаю, что хорошо будет, если ты приедешь в Кисловодск, кстати ходит удобный ночной поезд. В гостиницу „Интурист“ мы тебя устроим – это хороший отель типа московской „Москвы“; недостаток – слишком городской и кроме того не в парке, минутах в десяти ходьбы. Но ты должна за несколько дней телеграфировать мне точную дату приезда, чтобы я мог задержать комнату… мне очень хотелось бы, чтобы ты проехала в Сухум… (описываются возможности попасть туда)…
Санатория, в которой я живу, считается одной из лучших, но комнатки небольшие, хотя и отдельные. Кормят хорошо, легко, по-домашнему, service безукоризненный. Противно только, что как только переступаешь порог, перестаёшь быть человеком и превращаешься в „больного“ („покажите ‘больному’ его комнату“ и т. д.) А в столовой я слышал, как подавальщица говорила: „Салфетка 173 просит огурец“…
От Ники короткое извещение от 21-го, что там всё в порядке, только погода размокропогодилась! Я думаю, ход будет правильней, если ты напишешь ей простое и милое письмо без всяких ссылок на прошлые столкновения и выразишь твоё удовлетворение, что дети остались с нею. За Степановну я тоже более или менее спокоен, только если ты решишь приехать в Кисловодск, не пиши Нике, что твоё возвращение откладывается, а намекни об этом туманно.
Крепко целую тебя, буду ждать твоих известий и м.б. приезда!
Твоя Салфетка № 173»
(В приписке Сергей Сергеевич перечисляет среди знакомых Таировых, Держинскую, Сараджева, Цейтлина)[73]
Кисловодск, 11 сентября 1937 года
«Дорогая Пташка,
Твоё письмо из Лозовой доскочило довольно быстро. Я вполне понимаю твоё настроение: сначала кисель тебе не понравился, но ты уже приняла elan на Москву, а когда проснулась после Ростова и увидела впереди себя дождливую Москву с её скучными делами, тебя потянуло обратно.
В моей ответной телеграмме я не мог дать никаких точных сведений, так как погода была переменная, а бензин ещё не привезли. Сейчас погода будто устанавливается, то есть тепло и солнечно, и пришла первая цистерна бензина, но пока не для экскурсий, а для езды в пределах города. Надо подождать ещё дня два.
Жизнь моя течёт с обычной регулярностью, то есть встаю в 6 ч. 30, теннис, нарзанные ванны, уроки премудрости, переделка увертюры, изредка партия в шахматы. Ходил с компанией на гору Седло (4 с половиной часа ходу), но Эльбрус кутался в облака, и вид был испорчен…
Крепко тебя целую, мы очень мило провели с тобой время, жаль ещё раз, что с Тебердой возникло бензиновое препятствие, а то могла бы выйти очень приятная поездка.
Обними детей,
С.
Марки детям.»
На лето, как и во Франции, снимали дачи, и Лина Ивановна считала летние месяцы самыми счастливыми периодами жизни. Были и другие радости. К ним безусловно относился новый синий «Форд», полученный из Америки в 1938 году. Автомобиль – последняя модель – вызывал всеобщее восхищение, детишки на улицах с восторгом глазели на него, а Сергей Сергеевич вместе с женой ездил за город и показывал машину друзьям. Он поначалу водил машину сам, но потом, уверившись в том, что никто из водителей не соблюдает правил уличного движения, а, напротив, все как бы норовят устроить аварию и броситься под колёса, перестал управлять и передал руль шофёру.
Он не изменял своим излюбленным привычкам и продолжал долгие пешие прогулки на свежем воздухе.
В 1936 году в Москве состоялся третий шахматный турнир. Сергей Сергеевич ходил каждый день, чтобы смотреть на игру, и Лина Ивановна не отставала. Сражались в шахматы и дома у Прокофьевых, турниры проходили при большом стечении игроков, на многих досках, по всем правилам турнирной борьбы.
Красочно описывая невероятные по масштабу шахматные баталии в кабинете отца, на многих досках, Олег Сергеевич вспоминает:
«Когда мы поселились в Москве на Чкаловской улице, нашим соседом оказался молодой Давид Ойстрах, ставший опасным соперником по шахматам. В Центральном доме работников искусств в 1937 году между ними состоялся матч и блестящий в техническом отношении скрипач композитора обыграл.»
Ездили на Николину Гору, в Переделкино, в гости к А. Н. Афиногенову, с которым подружились ещё в Париже. Там Сергей Сергеевич и Лина Ивановна встречались с замечательными писателями, актёрами. Особенный восторг вызывал Борис Пастернак. Впоследствии, когда Лина Ивановна оказалась «на севере», Б. Л. Пастернак всякий раз при встрече со Святославом, с участием и сочувствием расспрашивал его о матери. Конечно, ничего не боялся. Сохранились отрывочные воспоминания Лины Ивановны о дружбе с верными ей Афиногеновыми, продолжавшейся до самой гибели Афиногенова во время бомбёжки Москвы в 1941 году.
В числе друзей, с которыми встречались домами, на частых приёмах в ВОКСе[74] или в Кремле – Д. Д. Шостакович, Г. С. Уланова, А. Н. Толстой, Г. Г. Нейгауз, К. Н. Игумнов, Н. П. Охлопков, Ю. А. Завадский, – всех не перечислишь.
Соединяя переписанные редакторами, приглаженные и, как нужно, сокращённые, воспоминания, опубликованные в сборнике шестидесятых годов, с архивными материалами, полученными при Лондонском Фонде, складывается хотя и не полная, но достаточно выразительная картина внешней стороны жизни знаменитой четы.
Лина Ивановна описывает один из вечеров, который они провели у близкого их друга П. П. Кончаловского. Пётр Петрович показывал свои яркие, мощные по колориту полотна, и, что, может быть, особенно согрело сердце Лины Кодина-Любера, пел испанские песни и арии; И. М. Москвин одну за другой изображал сцены из своего необъятного репертуара, Сергей Сергеевич играл. Дома Прокофьевы, как это повелось у них с давних лет, обсуждали этот удивительный вечер, вспоминая всё новые и новые подробности.
Они навещали Кончаловского и в «Буграх» около Малоярославца. В это же время у хлебосольного хозяина гостил В. В. Софроницкий со своей женой Еленой Александровной, дочерью Александра Скрябина. Природа, сирень, игра Софроницкого.
Многие художники, помимо Кончаловского, писали портреты Прокофьева: И. Э. Грабарь, Н. Э. Радлов. Соседи по дому на Чкаловской Кукрыниксы сделали остроумнейшую статуэтку Прокофьева. Лина Ивановна говорит, что Сергей Сергеевич ворчал: «Они уже сделали из меня обезьяну».
Упомянув Радлова как автора карикатур на мужа, Лина Ивановна рассказывает о разных эпизодах сотрудничества мужа с ним.
Во время обсуждения балета Сергей Сергеевич и Радлов вдруг решили, что конец балета должен быть счастливым, чтобы всё устроилось наилучшим образом. Потом, к счастью, передумали. То, что премьера балета прошла не в Москве или Ленинграде, как мечтал и в чём не сомневался Прокофьев, а в Чехословакии, в Брно, глубоко огорчило Прокофьева.
В 1940 году состоялась премьера «Ромео и Джульетты» и в Ленинграде. В городе было затемнение из-за войны с Финляндией. «Мы шли вдоль канала, – читаем у Лины Ивановны – и чуть не свалились в воду. Исполнение было прекрасным, и нам оно понравилось, хотя не всё. Постановщики позволяли себе слишком вольное обращение с этим балетом, переставляли эпизоды, выдвигали свои требования, надо было сделать много изменений, много работы. Сергей Сергеевич рассердился и не хотел идти на премьеру, не хотел над этим работать.
Сергей Сергеевич надеялся, что „Ромео и Джульетту“ покажут в Большом Театре. Мог ли он представить себе, что этот балет будет идти с Улановой, будет показан во всё мире…»
Дальше Лина Ивановна, обойдя описание реальной ситуации, всё же позволяет себе упомянуть имена Таирова и Мейерхольда и их несостоявшиеся постановки с музыкой Прокофьева. То ли дело сборник 1965 года! Там нет ни слова об аресте Мейерхольда и передаче уже готовой постановки в руки С. Бирман. Нет объяснений и почему музыка к «Евгению Онегину» никогда не исполнялась. «Пиковая дама» в постановке Таирова тоже «почему-то» не состоялась, музыка оттуда вошла в Восьмую сонату.
«С Таировым и Мейерхольдом говорили о возможности написать музыку к „Борису Годунову“, но из этого ничего не вышло. Сергей Сергеевич в своё время написал фрагменты музыки к „Евгению Онегину“, сосредоточившись на эпизодах, отсутствовавших в опере Чайковского. Эта театральная музыка никогда не исполнялась. Впоследствии он включил её часть в оперу „Война и мир“ – произведение, которое он начал писать в 1941 году. Я помню, что идея пришла ему в голову ещё во Франции, когда он прочитал книгу Толстого на английском языке. Он перечитывал русскую классику, чтобы улучшить свои знания английского языка. В 1935 году он познакомился с певицей Верой Духовской, и она посоветовала ему читать „Войну и мир“ по-английски.
В 1938-39 годах А. Я. Таиров рассказал Сергею Сергеевичу, что он намеревается поставить в своём театре комедию Шеридана „Дуэнья“, а в 1940 году состоялась премьера этой пьесы в Камерном театре. Сергею Сергеевичу очень понравилась пьеса, юмор, мелодии. Он захотел написать что-то похожее…»
* * *
В 1940 году Прокофьев написал «Дуэнью», был на нескольких репетициях в театре Станиславского и Немировича-Данченко, но вскоре грянула война, премьеру отложили. Опера была поставлена позже, в 1947, и называлась «Обручение в монастыре» («Дуэнья»).
Я прекрасно помню премьеру этой ослепительной оперы в театре Станиславского и Немировича-Данченко. Мы ходили слушать оперу с мамой, но мамы уже нет, и мне не у кого спросить, кто из семьи Прокофьева присутствовал на этой премьере. Спектакль прошёл с огромным успехом.
Имя Таирова было на устах присутствующих, произносились шёпотом какие-то туманные намёки, но мне настолько понравилась музыка, юмор, полная необычность этой оперы, что я не задавалась вопросом, почему на смену Таировскому театру пришёл театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Лина Ивановна рассказывает, что романсы Прокофьева, написанные на стихи Пушкина, были исполнены впервые 20 апреля 1937 года по Радио и Телевидению. Телевидение тогда было экспериментальным. Надо было красить губы в зелёный цвет, и это очень рассмешило Сергея Сергевича. Он смеялся, пока слёзы не потекли из глаз. Освещение было очень сильным и мешало Сергею Сергеевичу играть.
В ноябре – в Большом зале Московской консерватории состоялся симфонический концерт, и Лина Ивановна пела в этом концерте «Гадкого утёнка» в сопровождении оркестра.
Выступая в разных городах Советского Союза, доехали аж до Архангельска. Лине запомнились деревянные тротуары и красота реки Двина.
Осуществлялась желание Прокофьева работать для кино: Сергей Сергеевич был очень счастлив после разговора с Эйзенштейном, предложившим ему сочинить музыку для фильма «Александр Невский». Вернувшись со студии «Мосфильм», он с увлечением рассказывал об этом Лине Ивановне. Потом он написал кантату на тему из этого фильма, которая была исполнена в мае 1939 года в Москве.
В сборнике 1965 года Лина Ивановна в радужных тонах описывает дружбу Прокофьева с Эйзенштейном:
«… Пока шла подготовительная работа к картине, Сергей Сергеевич делал наброски музыки. Сергей Михайлович в то время (1938?) часто бывал у нас на улице Чкалова вместе с очаровательной Елизаветой Сергеевной Телешевой, режиссёром МХАТа, которая работала с актёрами в картине „Александр Невский“. После чашки чая демонстрировались новые пасьянсы, – они оба этим увлекались. Затем Сергей Сергеевич проигрывал то, что он написал. По этому поводу тут же завязывались оживлённые разговоры. (…)»
Справедливости ради стоило бы всё же прояснить обстановку работы над этим фильмом, Сталин не доверял Эйзенштейну, режиссёр был поставлен под жестокое наблюдение: у него был второй сценарист и второй директор по работе с актёрами (та самая очаровательная, как говорит Лина, Телешева), да и замечательный актёр Николай Черкасов как никак был членом Верховного Совета. Фильм был снят в 1938 году для устрашения немцев, но после советско-германского пакта немедленно изъят из обращения и снова пущен в прокат уже в 1941 году после нападения немцев на СССР.
«Между Прокофьевым и Эйзенштейном сложились непринуждённые товарищеские отношения, что с Сергеем Сергеевичем случалось довольно редко. Иногда Сергей Михайлович звал нас и к себе домой. Запомнился один обед у него на Потылихе. (…) С Эйзенштейном было легко и весело; как всегда „оба Сергея“ шутили и остроумно каламбурили не только по-русски, но и по-английски и по-французски.
После обеда Сергей Сергеевич сел за рояль и играл новые куски подряд, громко напевая, как бы отчеканивая вокальные партии. Тогда впервые прозвучали при слушателях „Вставайте, люди русские“, песня „Поле мёртвых“. Эту песню Сергей Сергеевич переложил для меня на более высокий регистр, и я исполняла её в концертах. У меня осталось яркое воспоминание об остроумии, эрудированности, тонких суждениях Эйзенштейна. Эти же качества пленяли и Сергея Сергеевича, который всегда много и оживлённо говорил со мной о них.
Помню, как Сергей Сергеевич обрадовался, когда я однажды, вернувшись из Крыма, рассказала ему о том, как группа мальчишек, играющих в войну, поднимаясь по склону холма, громко распевала „Вставайте, люди русские“ и затем пустилась „в атаку“.
Тогда же Сергей Сергеевич сделал кантату в семи частях из музыки „Александра Невского“. Он сам дирижировал её первым исполнением в Москве в мае 1939 года».
Из архива:
«Сергей Сергеевич работал в Москве очень интенсивно. Мы видели полный успех, и заслужили уважение во всём музыкальном мире. Я ещё помню то время, когда он сочинял „Семёна Котко“. Как только начались репетиции в театре Станиславского, новая опера полностью захватила воображение Сергея Сергеевича. Мы ходили на каждую репетицию, по утрам и после обеда. Он сидел в театре, наблюдал за певцами. Вдруг подпрыгивал, чтобы выяснить что-то с постановщицей Серафимой Бирман.
Бирман хотела выполнить все пожелания Прокофьева, но часто Прокофьев был слишком требовательным. „Котко“ была первая советская опера и казалось, что успешная. Но у певцов не было привычки к музыкальному языку Прокофьева, и поэтому вначале им было трудно. Вскоре они смогли исполнить эту оперу, и премьера состоялась 23 июня 1940 года. Сергей Сергеевич был доволен исполнением, декорации были сделаны Тышлером.
К сожалению, в наше время мало кто в Москве помнит мелодическую красоту этой музыки и этого исполнения. Ещё ждём этой постановки в Москве.
После „Ромео“ и „Котко“ Сергей Сергеевич главным образом посвятил свой талант и свои интересы театральной музыке.
В 1939–1940 годах у Сергея Сергеевича были планы написать новые оперы и балеты. В 1940 году он написал „Дуэнью“, в 1940–1944 „Золушку“, а в 1941 году начал работать над „Войной и миром“».
Но сохранились и другие свидетельства истинного настроения Лины Ивановны. Она отдавала себе отчёт в происходящем в СССР. Она знала, что надо бояться. В материалах Лондонского архива есть следующие расшифровки беседы с Линой Ивановной:
«…Он должен был бы быть более ответственным. Он говорил: если не понравится, можешь вернуться. И мама тоже может приехать.
Вы знаете, что говорить откровенно было нельзя. Постепенно становилось ясно, что это за дикий бесчеловечный режим. Я всегда думала, что мы можем уехать. Когда начались аресты в 1936 году, я хотела уехать. Я это чувствовала и нервничала. У него были его друзья, а у меня никого не было. В доме люди с нижнего этажа были арестованы. Прокофьева смутило, что они были объявлены предателями. Я была иностранкой, у меня были хорошие знакомые, но они боялись входить со мной в слишком дружеские отношения. Меня предупреждали, чтобы я не ходила в иностранные посольства. Шли чистки, все боялись арестов, у большинства людей были приготовлены маленькие чемоданчики. У меня не было причин бояться, совесть моя была чиста. Атмосфера была напряжённой. Один раз ночью в сильном стрессе я узнала, что одного знакомого человека взяли. Я сказала, что хочу вернуться обратно к маме. Сергей ответил: подожди, это временно, всё пройдёт. Можно было услышать, как хлопали двери, все чувства были наэлектризованы, накалены. Все звуки ловились как антеннами.
Сергей Сергеевич никогда не просил разрешения уехать – боялся, что ему откажут, и совсем отрезал себя от Европы.»
О чем думал сам Сергей Прокофьев, мы не знаем. После запрета Кантаты «К 20-летию Октября», «Евгения Онегина», «Пиковой дамы», после того как балет «Ромео и Джульетта» не был поставлен на больших сценах страны, – что он думал об этом? «Семён Котко», только что восхваляемый, был объявлен неудачей, а потом начали поносить и «Войну и мир» – что он думал? Конечно, находились утешители, – они ценили Прокофьева – ещё бы!!! – но указания из Комитета по делам искусств – важнее. Подобно многим другим, быстро перековался Самосуд. Сначала ведь Прокофьев его на дух не переносил, но потом привык и в своём безнадёжном положении обращался исключительно к его дирижёрской палочке.
Страдания, несправедливость, сразу же обнаружившаяся государственная ложь, безысходность не сближали супругов, – они оказались, может быть, на разных позициях, – Лина видела всё как есть, а Прокофьев был склонен рассматривать происходящее как временные трудности. Боялся признаться даже себе. Лина думала, что нужно бежать. Сергей искал утешения и объяснения.
– Все пишут, и сам Сергей Сергеевич подтверждает, и Вы говорите, что мама его поддержала в решении переехать в Россию. Она потом жалела об этом? – спросила я Святослава Сергеевича.
– Да, конечно. От отца я никогда не слышал ноток сожаления. А мама, особенно когда он ушёл, очень жалела. Она даже начала вспоминать, как за ней в Америке какой-то инженер ухаживал. «Была бы я в Америке…» – такие вот слова разочарования.
Эти горькие слова сожаления высказала Лина Ивановна после катастрофического вторжения в безоблачную двадцатилетнюю жизнь с Прокофьевым М. А. Мендельсон.
Блестящий период жизни Прокофьева в Москве, его встречи с самыми талантливыми и знаменитыми представителями всех сфер искусства, горячий приём, оказываемый не только ему – признанному российскому гению, но и его очаровательной жене, – приходился в то же самое время на самый (хоть все – «самые» – в каждом найдётся свой ужас) активный репрессивный период деятельности НКВД, – кругом шли аресты, НКВД заметало в свои застенки сотни людей. Слово «иностранный» приобрело уже свой однозначно отрицательный, подозрительный, враждебный оттенок. «Иностранка» Лина Ивановна не могла не раздражать бдительных стражей страны, где «так вольно дышит человек». Может быть, именно в этом и коренились истоки всех её последующих бед. Пусть она была его преданной женой и родила двух сыновей.
Но разве не стало бы лучше, если на месте светской дамы, царящей на приёмах в иностранных посольствах, оказалась бы «наша» девушка, комсомолка, на пороге вступления в партию? Чтобы у возвратившегося на родину гения русской музыки появилась подруга, которая объяснила бы ему что к чему в нашей лучшей из стран. Конечно, такие мысли приходят в голову.
Встреча, наверное, произошла случайно, но было бы наивным думать, что она осталась незамеченной.
1938 год
Несчастье пришло не сразу. К 1938 году относятся последние в жизни гастроли Прокофьева в Америке. Супругов выпустили вместе. Дукельский[75], которому во многих случаях не приходится особенно доверять в силу многих причин – достаточно читать «Дневник», изобилующий упоминаниями о нём, тем не менее, красочно описывает сцену, когда Лина, в мехах и драгоценностях, увидев его в артистической, бросилась ему на шею и страшно разрыдалась. Велико оказалось, может быть, даже неосознанное напряжение жизни в России. Здесь она была дома.
– Зимой 1938 года Сергей Сергеевич поехал в Штаты, я тоже ездила с ним, – говорит Лина Ивановна. – По дороге мы останавливались в Варшаве, Праге и Лондоне. Мы переплыли океан на французском корабле «Норманди». В Лондоне Сергей Сергеевич дирижировал исполнением «Пети и волка». Было много концертов, и он имел огромный успех. В Вашингтоне он играл отрывки из «Ромео и Джульетты», а я пела романсы, написанные им на стихи Пушкина.
***
В августе 1938 года Мира Мендельсон, двадцатичетырёхлетняя студентка переводческого отделения Литературного института, по обыкновению поехала с родителями отдыхать в Кисловодск.
Туда же приехали и Сергей Сергеевич с Линой Ивановной.
«Во время обеда в столовую санатория вошли миниатюрная женщина и высокий мужчина с необычной походкой и очень серьёзным выражением лица», – вспоминает Мира на страницах своего дневника…
Испытывая слабость к знаменитостям, Мира даже и в случае, когда ей впервые указали на Сергея Прокофьева и его «нарядные чемоданы», не забывает сказать, что указавшим был «сын академика А. Е. Ферсмана».
Этот день 26 августа положил начало разразившейся впоследствии драме в семье Прокофьевых. Сергей Прокофьев, безусловно принадлежал к великим мира сего, девушка затрепетала и записала: «Может быть именно строгое и сосредоточенное лицо Сергея Сергеевича явилось причиной мелькнувшей у меня на мгновение мысли: если полюбит такой человек, какой настоящей должна быть его любовь».
Источник, на который мы опираемся, начав описание «курортного романа» Прокофьева и Миры Мендельсон – это она сама, её дневник, недавно опубликованный в Трудах Государственного центрального Музея музыкальной культуры имени Глинки.
Хотя Прокофьев вошёл в столовую с женой, это нестеснило свободу в полёте фантазии. Жена, дети, – всё меркнет в сравнении с загоревшейся мечтой Миры Мендельсон о его любви.
Мира подробно рассказывает о том, как решилась заговорить с Сергеем Сергеевичем, как начались их встречи и прогулки. «Сила сильнее меня толкнула меня к нему обратиться с простым вопросом о его предстоящем концерте (…) Мы вышли из санатория, побродили по улицам и вскоре вернулись».
За месяц до знаменательной встречи, в июле 1938 года Лина получила из Теберды два письма. Прокофьев пишет ей по-прежнему со всей обстоятельностью, подробно, ласково. Снова мелькают всё ещё не привычные в его языке слова «корпус», «газик», «путёвка», «курсовка» и т. д. Письма свидетельствуют о продолжающихся близких, доверительных, ничем не омрачённых отношениях в семье Прокофьева.
Прошлое изменить нельзя. Всё уже случилось. Но если бы Лина Ивановна (по собственным её словам, «она и представить себе такого не могла!») не уехала столь беззаботно и доверчиво, история была бы другой.
Теберда, 16 июля 1938 года
«Дорогая Пташка,
Получил твою телеграмму, а за несколько часов до этого послал тебе мою… (Сергей Сергеевич подробно описывает дорогу, опоздание поезда на час в Невинномысской, семь часов ожидания, проливной дождь). По счастью, моя телеграмма подействовала, и за мной прислали газик, на котором[76] 105 километров довольно скверной, но очень красивой дороги… Дом отдыха здесь довольно новый, чистый, комната симпатичная, с балконом и видом, в тихом корпусе, что самое главное. Повар – поклонник артистов и захаживает справляться, чего угодно… (Сергей Сергеевич перечисляет именитых отдыхающих, снабжая их меткими характеристиками, а также сообщает, что дирекция уже обращалась с просьбами поиграть, что он сделает в пределах 15 минут). Теберда – красивое место, окружённое покрытыми лесом горами. Но, конечно, вся соль в экскурсиях. Мансурову, например, я почти не видел: она уходит в 6 часов утра на целый день в экскурсию, а на другой день отлёживается…[77] Думаю тряхнуть стариною и сесть на лошадь, так как многие экскурсии совершаются верхом… (Сергей Сергеевич рассказывает о концерте с участием музыкантов Самуила Фурера и Нины Отто, вечере Сергея Михалкова, танцах и шашлыке).
Жду с интересом от тебя письма, хотя, вероятно, это всё доползает очень долго. Как устроилась и не слишком ли жарко? Писала ли Радлову? Наслаждаешься ли морем? … Крепко и нежно целую тебя, жду писем и телеграмм.
Твой С.»
Теберда, 24 июля 1938 года
«Дорогая Пташка,
От тебя две телеграммы, но пока ни одного письма. Надеюсь, однако, что твоё пребывание наладилось. Если же невыносимо, то надо не задумываясь бросить путёвку, если только можно куда-нибудь переехать. Я тут поиграл на концертах при больших восторгах отдыхающих, – и дирекция написала в Кисловодск, прося принять тебя и меня недели на две в августе. Оттуда ответили, что постараются сделать это…» (Перспективы пробыть до августа на Кавказе, описание погоды, участие в теннисном и шахматном турнире – теннисном не особенно удачно, а шахматном – удачно, – верховая езда, и работа, работа, работа). «Крепко тебя целую, надеюсь, настроение у тебя хорошее, несмотря на всяческие неудобства. Здесь публика скорее приятная, хотя особенной дружбы ни с кем не установилось.
Жду письма.
Твой С».
Приписка: «Сведения для твоего переезда в Кисловодск: люкс из Сочи в Кисловодск ходит через день. Говорят, он не наполнен, и билеты достать не трудно. Директор Филармонии в Сочи – Грольман (тот самый, о котором рассказывал анекдоты кто-то у Дуловой – помнишь?) Siege у него в „Ривьере“, и меня он должен знать. Говорят, есть гидропланное сообщение Севастополь – Туапсе. Целую ещё раз.
С.»
Оказавшись в Кисловодске среди друзей, всегда в центре внимания, Лина, видимо, не обратила ни малейшего внимания на невзрачную девушку.
Письмо Прокофьева Лине из Кисловодска от 27 августа 1938 года.
«Получил твою телеграмму, огорчён, что тебе пришлось печься в вагоне, да ещё опоздать на три часа. А я вспомнил тебя в 1 час дня, представил себе, как ты вылезаешь на Курском вокзале и как тебя встречают Ника и дети. (…) Вот видишь! Святослав совсем не так кипел попасть на юг(?), и ты напрасно терзала себя и твоего бедного мужа!
На следующий день после твоего отъезда я сел за инструментовку виолончельного концерта, которая пошла так удачно, что я буквально просидел целый день и сделал очень много. Зато на следующий день болела голова и день пропал. Вечером был очередной бал, но танцевали 1½ пары и дело до того не клеилось, что кончили ¼ 11-го, а я играл в шахматы. Венгеровский (директор?) оставил меня в „нашей комнате“. Тут все спрашивают, куда ты девалась, и м.б. больна и не выходишь из комнаты. Кроме того, пристают, чтобы я поиграл»…
Да, Лина Ивановна в самом деле пробыла в Кисловодске недолго и вернулась в Москву к детям.
28 августа в 6 часов утра Мира Мендельсон и Сергей Сергеевич вышли на первую прогулку в горы. Мира читала ему стихи и, по её словам, Сергей Сергеевич жалел, что она пишет стихи не ему.
«Эпизод, – называет происшедшее Лина. – Он поехал в дом отдыха в Кисловодск на Кавказе (…) написал мне письмо, что познакомился там с кем-то, она повела его на длинную прогулку и читала ему скучные стихи.»
Приведу стихотворение Миры Мендельсон, которое она то ли небрежно забыла, то ли заботливо оставила среди страниц своего дневника.
ЛЮБОВЬ Всё приходит как-то сразу вот – И веселье и беда. Привела голубоглазого И сказала «навсегда». Сердце словом растревожила, Продолжала напрямик: «Не как гостя и прохожего, Ты как жизнь его прими». Это он, тобой не узнанный, Часто мимо проходил. Но невидимыми узами Он с тобою связан был. Оглянись, в мечтаньях прошлого Ты его отыщешь след, В ожидании хорошего, В повторяющихся «нет». Если место есть готовности Поле жизни с ним пройти, Сердце примет все неровности Предстоящего пути. И пошла я вверх по лестнице, Уводимая судьбой, Далеко ступени-месяцы Оставляя за собой. М.Вернувшись в Москву, Сергей Сергеевич ушёл в свои бесчисленные дела и едва не забыл про летние встречи. Он ведь и при самом знакомстве с Мирой обратил раздражённое внимание не на неё, а на подругу, с которой она появилась. Её и счёл поначалу Мирой Мендельсон. Спутал, у кого из девушек такие неприятные манеры. Но это Мира прояснила и поставила на своё место. А сейчас тем более не пустила начавшееся знакомство на самотёк.
Она пишет:
«Приехав в Москву в первых числах сентября, я начала посещать занятия в Литературном институте при Союзе советских писателей, на третьем курсе которого я училась. Об этом институте вспоминаю с нежным и хорошим чувством, там умели прививать истинную любовь к знаниям, к литературе, там между студентами была настоящая дружба и не казённые, искренние товарищеские отношения с преподавателями.
Прошло недели две. Я отправила Сергею Сергеевичу стихотворение Роберта Бернса „Мэри“, которое перевела, и переписала его красным карандашом. (Рассказывает, как проф. М. Морозов хвалил её стихотворные переводы). Дня через два Сергей Сергеевич позвонил мне. С тех пор он начал звонить время от времени.»
Не думаю, чтобы ему легко дался первый звонок. Но это был уже шаг.
Мира Мендельсон на 24 года моложе. Она посылает ему перевод «Мэри». Он ей – билеты на исполнение виолончельного концерта, после концерта – прогулка на Воробьёвы Горы. Он рассказывает о себе. Она описывает даже первый поцелуй. Совершенно в стиле советских фильмов.
Он неопытен не только в отношениях с дамами, он попал в другую страну, – совсем не ту, из которой уехал, и в которую думал, что возвращается. Могла ли найтись в дебрях новой выморочной действительности лучшая проводница для него, чем комсомолка, готовящаяся вступить в члены партии, дочь преуспевающего профессора в области экономики (каким образом уцелел?), студентка обожаемого ею Литературного института, атмосферой которого восхищается в те самые годы, когда там гноят и уже сгноили лучших из лучших, да ещё поэтесса, да ещё из квазиинтеллигентной, любящей посещать концерты и театры семьи, взлелеявшая мечту попасть на самый верх советского общества к самым-самым знаменитым и прославиться там как поэтесса, и, о счастье, увидевшая, что мечта с помощью нехитрых хрестоматийных (да ещё в новом советском стиле, «ррромантических») женских уловок может превратиться в реальность? И как же угодна властям! Какая безупречная анкета (бедная Лина в дальнейшем напишет, что комсомол помогал Мире), как подходит во всех отношениях, идеальная кандидатура, чтобы разрушить брак предмета гордости советского искусства с иностранкой. И Мира тихим своим голосом, домашняя, в халатике, свернувшись в клубочек в уголке дивана, всё объясняла и объясняла растерявшемуся композитору, как и почему что происходит. Успокаивала, уговаривала, сглаживала, утешала.
Лина Ивановна почти никогда не говорила ни о своём пребывании «на севере», ни о Мире Александровне Мендельсон. Но была в этом умолчании разница. К лагерю не хотела возвращаться как к эпизоду пребывания в аду, который то ли был, то ли не был (не хотела трогать). Но связанное с Мирой Мендельсон болело. Болело всегда, и хотя как человек приверженный к христианской науке «Christian Science» и вообще незлобивый, по всему складу характера склонный всем и всё прощать, Миру Александровну она не простила. Говорить о ней и происшедшем крахе своей семьи хоть с какой-то долей уравновешенности не могла. Да и кто мог бы… Страдала до конца жизни.
Должно быть, именно потому, что никогда об этом не говорила, в тех случаях, когда обстоятельства её вынуждали, она срывалась, у неё не было в арсенале привычных гладких формулировок, отказывали сдерживающие центры, она была прямодушна, резка, смотрела в корень, не накидывала никакого флёра на случившееся. В отличие от прекраснодушных речей Миры Александровны, невинно выражавшей удивление по поводу неуживчивого характера Лины Ивановны, в расшифрованных плёнках Лины Ивановны из Архива Прокофьева при Лондонском фонде мы читаем то разрозненные фразы, оторванные друг от друга большими промежутками времени, то вразумительно изложенные эпизоды. Названия улиц и опер иностранному расшифровщику незнакомы, есть несообразности. Это Линины попытки написать историю своей жизни.
«Когда он вернулся, он открыл для себя новое поколение, с которым мог хорошо общаться. Видимо, тогда он и познакомился с Мендельсон. О любви с первого взгляда не было и речи. Он подумал: молодая женщина из литературного института. Такая хорошая возможность для моих будущих либретто. Он знал русскую классику, но не современную литературу. Но её цель была совсем другой: поймать его на крючок. Как интересно завлечь его, – подумала она».
Мира Александровна приписывает себе обращение композитора к сюжету «Дуэньи».
… В этом же году[78] появился ещё один сюжет. Как-то мне позвонила Татьяна Озерская, бывшая соученица по Литературному институту (…) с предложением перевести очень занятную, по её словам, комедию Шеридана. В комедии было много стихотворного текста, который должна была перевести я. Прозу же брала на себя Озерская. Это была «Дуэнья» Шеридана. С трудом мы раздобыли на дом «Дуэнью». Эта пьеса стоила того, чтобы её перевести. Необычайная острота, живость, сатира, свежесть, лирика. Помню, Сергей Сергеевич сидел на диване, а я ходила по комнате, пересказывая ему содержание «Дуэньи». Первое время он слушал рассеянно, но я видела, что постепенно его внимание концентрируется. Когда я кончила, он сказал: «Да ведь это – шампанское! Из этого может выйти комическая опера в стиле Моцарта, Россини». Сергей Сергеевич ещё больше утвердился в этой мысли, когда прочитал комедию. Т. к. книгу надо было вернуть в библиотеку, он привёз мне пишущую машинку с латинским шрифтом и я перепечатала для него «Дуэнью». (…)
Далее следует довольно запутанный рассказ о переводе Мендельсон «Дуэньи». Откуда ни возьмись возникает вдруг поэт Вл. Александрович Луговской (она ещё девочка, но возникающие в её рассказе фигуры – всегда «государственного масштаба»), в содружестве с которым она переводит «Дуэнью» Шеридана. Они-де показали свой перевод Берсеневу (театр Ленинского Комсомола), он, видимо, предложил подработать версию, но потом, по словам Миры Мендельсон, перевод был принят и с авторами его заключили договор. Она сетует, что договор был ни к чему не обязывающий, и пьеса осталась лежать без движения. И тут вдруг Мира Александровна сообщает:
«Вскоре в Камерном театре появился „Обманутый обманщик“ – так назывался новый перевод „Дуэньи“. Быть может, потому и не была поставлена пьеса в нашем переводе – вряд ли театр Ленинского Комсомола стал бы работать над той же пьесой одновременно с Камерным театром.»
Имени Таирова Мендельсон не называет. В качестве автора предложения Прокофьеву, о чём свидетельствует Лина Ивановна, он тоже не упоминается, и это, конечно, неудивительно, режиссёр в опале. Прокофьеву «Дуэнью» открыла Мира Александровна. Её притязания на роль либреттистки Прокофьева вызывали глубокое возмущение у Лины Ивановны.
Позднее, уже в Париже (70-е годы) Лина Ивановна говорит:
«Мендельсон не была музыкантом, хотя кто-то из её друзей говорил, что она слушала курс музыковедения. Но я сомневаюсь. Я возмущена, что он выбрал её для своего либретто. Всё это случилось, когда она кончала Литературный институт. У неё не было опубликовано ни книг, ни статей, только стихи для советских военных маршей. И уж тем более никакого опыта в либретто. Есть ДВА стиха в оригинальной партитуре „Дуэньи“. Как автора её называют под двумя фамилиями, но у неё нет на это права. Во всяком случае официального. Она сама стала так подписываться. Власти разрешали ей так поступать, хотя знали, что она не имеет на это права. Сожительства недостаточно для того, чтобы пользоваться чьим-то именем и фамилией. Она старалась всячески убрать меня с дороги. Хотя эта фамилия была моей с 1923 года. Мы никогда не расходились и не разводились. У меня оставался тот же паспорт. К моему удивлению, когда я приехала в Европу, меня называли первой женой Прокофьева.
Она была прискорбно патриотична и не нашла ему ни одной темы. С её версиями из „Я сын трудового народа“ Катаева – для „Семёна Котко“ – он не соглашался. У него были свои версии о выходцах из рабочего класса. Она работала над несколькими местами по роману „Война и мир“, но он их изменил, она так и не закончила либретто. Когда я его спросила, почему он называет её соавтором, он ответил: „Если это когда-нибудь будут исполнять, она может получить авторские права“. Он был добрым.»
Официально Мира Мендельсон являлась автором нескольких текстов из оперы «Обручение в монастыре», текстов нескольких массовых песен Сергея Прокофьева, а также принимала участие в написании либретто для опер «Война и мир» и «Повесть о настоящем человеке». Правда, сыновья утверждают, что Сергей Сергеевич всегда писал либретто сам, а Мира Александровна даже ленилась перепечатывать, но в нотах значится так. Святослав Сергеевич неоднократно замечал, что «у неё ведь совершенно не было слуха!»
24 декабря 2000 года в беседе с Суги Соренсеном[79] Святослав Сергеевич касается сомнительных заслуг Миры Мендельсон как либреттисткито вся:
– Я должен сказать, что Прокофьев всегда сам писал либретто для своих опер. Это позволяло ему объединять литературный материал большого объёма с музыкальным языком и прочими компонентами оперы. Так что участие Миры Медельсон, у которой не было никакого опыта в написании либретто, имело вспомогательный или даже просто секретарский характер. Посещая отца в его последние годы, я был свидетелем, как много раз – не раз и не два – ему приходилось уговаривать Миру перепечатать отмеченные им отрывки из «Войны и мира» Льва Толстого. Она не очень охотно делала даже это.
Видимо, один и тот же вечер в Доме литераторов в 1939 году описывает и Лина Ивановна, и Мира Александровна.
Лина Ивановна:
«В клубе учёных были уроки танцев, и Сергей на них записался.
Мы продолжали ходить в дом писателей. У нас был большой стол с Дживилеговыми[80] и однажды, когда мы ужинали, я увидела молодую женщину с молодым мужчиной за столом для двоих. Вдруг этот мальчик подошёл и спросил, может ли его спутница познакомиться с Прокофьевым. Сергей Сергеевич смутился, но пригласил её танцевать. Она не была красавицей. Сергей Сергеевич танцевал плохо и сам стеснялся этого. Он так и не научился танцевать.
В Европе и Америке женщины гонялись за деньгами, а в России – за знаменитостями. Видимо, Сергей Сергеевич был получше, чем студентик, с которым она сидела. Она выглядела как хищная птица. Я не знала, были ли они уже знакомы. Возможно, они танцевали уже на уроках танцев».
Мира Александровна:
«Как-то мы поехали в Богородск перед концертом Сергея Сергеевича в клубе Советских Писателей (sic!), куда он пригласил и меня. Ходили по снежным дорожкам. Казалось странным, что через несколько часов мы встретимся в совсем другой обстановке. Я поехала в Клуб с очень давним знакомым, сыном старых друзей моих родителей и с его двоюродным братом. Сначала была музыка Сергея Сергеевича, а потом ужин и танцы. Я сидела за одним столиком с Матусовским, Алигер, Долматовским, Симоновым, с которым училась в одном институте. Сергей Сергеевич несколько раз подходил и приглашал меня танцевать. Миша Матусовский заметил – „какой успех сегодня у Миры“. Симонов откликнулся – „а откуда ты знаешь, что только сегодня?“»
1939 год.
В 1939 году Сергей Сергеевич начал выезжать по воскресеньям на Николину Гору. Иногда с Мясковским.
В июне посетил дом родителей Миры.
Тогда же начались разговоры о предстоящем лете. Прокофьев собирался в Кисловодск на июль и август. Приглашал Миру провести там же летние месяцы. В своих «признаниях» Мира касается, наконец, существования Лина Ивановна, правда, не упоминая о сыновьях.
«Я не знала, были ли у С. С. с Л. И. разговоры обо мне, но как выяснилось позже она ещё ничего не знала о происходящем. Видимо, С. С. не находил нужным делиться с ней своими переживаниями. Такие отношения казались мне странными. У Л. И. развилась склонность к упрёкам „не за что-то, не почему-то“, а по бесконечному набору причин. Всё ей казалось „плохо“, и это постепенно отдаляло С. С. Каждый зажил самостоятельной жизнью. В совместной жизни, такие упрёки со стороны Л. И. казались мне совершенно непонятными – С. С. удивительно мягок и заботлив изо дня в день, из минуты в минуту».
Между тем письма Сергея Сергеевича к Лине Ивановне и этого времени совершенно не свидетельствуют о каком бы то ни было отдалении. Напротив, он по-прежнему очень добр, внимателен и, как обычно, делится с Линой Ивановной всем происходящим. (см. ниже письмо из Кисловодска, от 10 июля 1939 г.). Видимо, Сергей Сергеевич, жертва, по выражению Лины Ивановны, «ужасной страсти», тем не менее, не помышлял ещё ни о каких решительных шагах в своей семейной жизни. Он расспрашивает о новостях с квартирой, просит не забыть «привязать приёмники у обоих граммофонов, а то, помнишь, у старого сломался, когда ехал из Парижа».
Поглощённый творческими планами (писать, оркестровать, исправлять и пр.) Прокофьев уезжал в Кисловодск в начале июля. Студентка Мендельсон готовилась к сдаче экзамена по русской литературе. 14 июля она получила письмо от Прокофьева с описанием его путешествия и прибытия в Кисловодск.
Письмо от 10 июля 1939 года написано из Кисловодска и жене и, как всегда, оно полно интересных подробностей и местных новостей.
Кисловодск, 10 июля 1939 года. 9 ч.в.
«Дорогая Птшк,
Путешествие моё началось, как ты сама знаешь, не особенно комфортабельно. Собственно говоря, пассажиры были приятные – военные и студенты, но скамья жёсткая и короткая и трещали все вокруг до поздней ночи. Электричество жарило в лоб всю ночь, а когда в 4 ч. я начал, наконец, засыпать, взошло солнце, а так как занавески не было совсем, жарило косыми лучами прямо в глаза, ещё хуже, чем лампа. В 6 я встал и пошёл к проводнику мягкого, чтобы не проворонить место в Харькове. Место я действительно получил в 10 ч. утра и спал целый день на верхней полке, даже несмотря на то, что на нижней было два младенца, оравших не смолкая. В Кисловодск приехал в 11.30 дня после двух ночей пути и с наслаждением сел в ванну. Комнату дали небольшую, меньше, чем в Теберде, но приятную, в главном корпусе. Много знакомых профессорских физиономий – по прошлому году и по Теберде. Твоя знакомая армянка-докторесса за соседним столом с сыном, а муж в Железноводске. За моим столом пожилая чета Жуковских, она – кузина Рахманинова и Зилоти и забросала меня вопросами о них. Когда при встрече я хотел представиться, сказала: „Не трудитесь, Ваш портрет висит у меня над роялем“. Ещё в санатории Нейгауз, Доливо, Кнушевицкий. Венгеровский любезен. Старшая сестра та же (чёрненькая). Заходил в „Х лет Октября“, Бирман не видел, но видел Ойстраха, Лизу Гилельс, Охлопкова. Завтра пойду играть в теннис с Ойстрахом…
Погода нежаркая, облачная, несколько раз накрапывал дождь.
С нетерпением буду ждать от тебя телеграммы.
Крепко целую тебя, пиши.
Серёжа
Приписки: Сегодня уже немного пооркестровал.
Сейчас понесу письмо на вокзал, чтобы завтра уже летело.»
Вскоре Прокофьев пишет письмо Мире Мендельсон, зовёт её приехать в Кисловодск, даёт ей (как делает всегда!) точные практические советы, как поскорее добраться до места, и описывает своё времяпрепровождение:
Кисловодск, 18 июля 1939 года
«(….) Содержание моих часов? Воспоминания, ожидания; много работы. До 6 часов не покидаю Горьковской территории, прерывая скрип души, то сосновой ванной, то обедом или просто ста шагами под колоннадой. Ни разу не был на „Храме воздуха“, ни даже у „Красных камней“, ни в нижнем парке, за исключением быстрого пересечения кусочка от Нарзанной Галереи до „Десятилетия“[81], где от 6 до 8 играю в теннис или в шахматы с Ойстрахом, или в театр с Бирман. Не танцевал. (…)»
Серафима Бирман ставила в Театре имени Станиславского оперу Прокофева «Семён Котко». Мейерхольд был арестован за неделю до окончания клавира оперы, и Прокофьев остался один со своей оперой, сообща разработанной в деталях, без крепкой руки замечательного режиссёра, – мы узнаём от Олега Прокофьева, что если бы опера осталась в руках Мейерхольда, то не было бы той мороки и мучений, которые предстояли теперь Прокофьеву и которые разделяла с ним Лина Ивановна.
В письме жене от 19 июля Прокофьев делится с ней своими впечатлениями о зверском убийстве Зинаиды Райх, полагая, что она по всей видимости погибла от рук бандитов. Там же в связи с постоянной заботой о профессиональной карьере Лины Ивановны характеризует «смену кадров», так же типичную для этих лет.
Кисловодск, 19 июля 1939 года
«(…) Какой ужас с Зинаидой! Ты ещё неясно написала: „ошарашили работницу, а затем нанесли ей 12 ударов ножом“. Кому, ей? Но Бирман уже знала от кого-то приехавшего из Москвы, и когда я пошёл к ней, сомнения рассеялись. Бедный В. Э.! А Зинаида – какая всё-таки трагико-романтическая судьба, начиная с Есенина.(…)
Я рад, что у тебе налаживается с Крейтнером. При его помощи и при помощи людей из Союза композиторов дело должно наладиться и с Радио.
Так тут всё время: порядочные люди сменяются подлецами. Подлецы вылетают в трубу, а вонь от них всё же остаётся.
Во всяком случае важно, что это выяснилось, и важно, что ты сама занялась этим: так дело пойдёт естественней. Когда хлопочет муж – всегда недоверие. (…)»
Далее в письме Сергей Сергеевич описывает своё времяпрепровождение в санатории, во многом уже знакомое. Он великолепно разбирался в сути многих жизненных ситуаций, связанных со всеми понятными и нужными для человека установлениями: железными дорогами, путешествиями, расписаниями, сочинением, исполнением, профессией, игрой в шахматы, а также полной и быстро пришедшей компетентностью в новых советских реалиях, будь то прописка, домоуправление, доверенности, путёвки и так далее. В его описаниях обстановки и жизни, отправляемых по двум адресам, угадывается доверие к обеим собеседницам. Письмо Лине Ивановне более подробное.
Чары юной и настойчивой романтической комсомолки, конечно, имеют над ним власть, но его отношение к жене не претерпевает каких-либо заметных изменений, он по-прежнему заботится о ней, даёт советы и подробно рассказывает, что поделывает в санатории. С ней он делится продвижениями в своей работе, которая всегда была жизненно важна Лине Ивановне.
Увы, Лина Ивановна не догадывается о той осаде, которой подвергается её муж. Впоследствии, как и себя самоё, она будет называть его «неопытным».
Сергей Сергеевич за вкрадчивой тишиной не угадывает, как тверда Мендельсон в своём решении оторвать его от семьи, какие жестокие страдания выпадут на долю жены, детей и его собственную.
Он продолжает:
«(…) Я веду жизнь довольно однообразную, но продуктивную. Почти до 6 ч.в. никуда не ухожу из санатория. Занимаюсь, прерывая занятия то душем, то обедом, то cent pas вокруг колоннады. Оркестровку всей оперы я распределил так, чтобы кончить всё в Кисловодске. Таким образом на каждый день у меня есть урок. Пока иду впереди расписания. К 6 ч.в. отправляюсь в „Десятилетие“ играть в теннис с Ойстрахом и Талановым, потом или работаю с Бирман или играю с Ойстрахом в шахматы. Ни разу не был ещё на „Храме воздуха“ и ни разу не танцевал. Один вечер в нашем санатории устроили танцы, но это было снотворно до одури. Бирман договор подписала.
(…) От детей письмо получил; похоже, что Бебке кто-то помогает. Но в общем приятно за них.
(…) „Штурм“ ползёт что-то не очень бодро. Целую.
С.»
В письме от 18 июля 1939 года Сергей Сергеевич уговаривает Миру приехать в Кисловодск раньше. Он кончает так: «Не танцевал. Читаю муравьёв. Ругаю Вас. Даже небо с тоски сегодня заплакало. Bon voyage! Gavotto». Мира не ехала. Родители не хотели, чтобы она ехала без них. Для Миры июль месяц, как она признаётся на страницах своего дневника, стал вопросом гордости: что она будет чувствовать после этих радостных дней, когда Сергей Сергеевич снова вернётся в свои обычные условия, в свою семью. Она колебалась. Прокофьев рассердился, не писал больше, а когда Мира всё же приехала с мамой и папой, грозился, что уедет в Теберду. Первым его увидела мама Миры. Он был весь в белом. Мира побежала к нему навстречу, они взялись за руки и быстро ушли за ворота санатория. Только он собрался в Теберду, как она и подоспела вместе с родителями, отбросив гордость, и курортный роман стал набирать обороты.
Забывая о существовании жены и детей, в свойственном ей приподнятом стиле Мира Александровна, описывает свой приезд в Кисловодск. Теперь она всецело завладевает временем Прокофьева. С 6–7 часов утра они совершают утренние прогулки. Потом Прокофьев работает в обществе тихонько пристроившейся неподалёку Миры, занимающейся литературным творчеством или чтением. Обед, послеобеденный отдых, – всё вместе, всё вдвоём.
Впоследствии мы читаем у Лины Ивановны, что сестра-хозяйка санатория сделала Мире замечание и не разрешила ей присутствовать в комнате Прокофьева в послеобеденное время. Об этом она рассказала Лине Ивановне.
Чай. После чая Сергей Сергеевич снова работал. Оркестровал, как мы знаем, оперу «Семён Котко».
Он по-прежнему часто пишет Лине Ивановне:
Кисловодск, 28 июля 1939 года
«Дорогая Пташка,
Получил твоё письмо от 26-го, а перед тем от 23-го. Какая тоска с квартирами! То же самое, что было, когда мы пол-лета ждали нашу на Земляном. Хорошо хоть с Гаспрой вышло: есть хоть сознание, что имеется место, куда можно уехать с удовольствием. Ты спрашиваешь, ждать ли тебе квартиры à l'infinit[82] или плюнуть? Конечно, многое зависит от твоего морального и физического состояния, но гробить себя не за чем. В одном из предыдущих писем ты писала: „в конце концов мы не на улице“, и я вполне с тобой согласен. Во всяком случае если Майоров опять занят, и ты, не дождавшись, уедешь, то ce n'est pas moi qui vais te reprocher,[83] ты уж и так геройски отсидела месяц…»
Дальше следуют советы, как заказывать билеты в Крым, размышления по поводу дачи, рассказы о больших продвижениях в работе и блестящем музыкальном и артистическом обществе в Кисловодске, – Гиацинтова, Берсенев, Давыдова, Максакова, Завадский, Нейгауз, Кнушевицкий, Шпиллер… весь цвет.
Кисловодск, 1 августа 1939 года
«Дорогая Пташка,
У нас тут прекратился сахар: дают только к кофе, а чай – с мёдом и компоты все кислые. Говорят, Крым тоже без сахара, так что захвати с собой…
О твоей путёвке: кажется, есть новое правило, что если „больной“ опаздывает больше, чем на 6 дней, его путёвка аннулируется. Едва ли это применяется к Кисловодску, но всё же лучше известить Гаспру о твоем опоздании и предупредить их о дне приезда.
Я продолжаю оркестровать вовсю и сегодня отправляю 6-ю бандероль. Без малого готово пол-оперы.
Очень беспокоюсь, что ты так засиделась. Москва должна быть отвратительна. Хотя надо сказать и Кисловодск пока не очень блещет: всё дожди.
Эйзенштейну я отказал[84], узбекской филармонии тоже. Не поспеть всё сделать…
Крепко тебя целую, живу довольно тихо. Третьего дня собрался с Охлопковыми на танцульку, но они надули, что очень похоже на них.
Твой С».
В самых последних письмах, которые приходят теперь чуть пореже, остаются по-прежнему описания всех дел и связанных с ними переживаний, ужас перед грянувшей в Европе войной, но Прокофьев сильно отвлечён.
Всё лето он проводит в санаториях в обществе Миры. Она хочет этого и добивается своего.
Он ещё весь во власти прежней системы семейных отношений, пишет о детях, беспокоится о Мэмэ, но возвращение в Москву всё оттягивается и оттягивается.
Лина Ивановна отдыхает у моря одна.
Кисловодск, 10 августа 1939 года
«Дорогая Пташка,
Получил от тебя телеграмму, что 4-го летишь в Крым и только 8-го, что ты прилетела. Я уже беспокоился и утешал себя тем, что отъезд твой мог отложиться или же телеграмма о багополучном прибытии завязла… С заёмом тут была целая чехарда: все профессора подписывались по телеграфу, а кто не подписывался, тот посылал телеграмму: на сколько подписываться и когда? Мне тоже прислали из Союза композиторов, но я уже телеграфировал им, прося подписать на 3000, как в прошлом году… Эйзенштейн прислал 2-е длинное письмо и телеграмму, упрашивая снова согласиться на фильм, но я, подумав, всё-таки отказался, пообещав, однако, делать с ним парад при открытии Дворца Советов, что он тоже предлагает…
(…) (В Кисловодск приехал доктор Фельдман, – который по просьбе Прокофьева в своё время отдал Лине первую же горящую путёвку. Оркестровка подвигается. „Приехал Керженцев. Противно. И какое он вообще имеет отношение к учёным, разве что только душил искусство!“…)[85]
Крепко целую тебя и жду письма. Надеюсь, ты во всю наслаждаешься морем, только не перекупайся. Хорошо ли тебя устроили с комнатой?
С.»
Кисловодск, 20 августа 1939 года
«Дорогая Пташка,
Получил твоё № 1 из Гаспры и телеграмму о Майорове. Ну что ж поделаешь! Жаль, что в такое нерентабельное дело тебе пришлось ухлопать столько усилий и напрасного сидения в городе. …
Здесь жизнь течёт по-прежнему. Дожди почти каждый день, что на пользу работе: я на днях кончу четыре акта, останется 5-й. Путёвка у меня до 29-го, дальше не ясно. Всей оперы я к тому дню не кончу, а продлений в этом году как-то не дают, хотя собственно говоря могли бы, так как я принял участие в концерте…
Я тут несколько дней страдал немного животом, это здесь случается с многими, Говорят, нарзан заражён бактериями, и его можно пить только из бутылок… Вообще же меня осмотрел доктор и нашёл, что организм в хорошем виде. „Ещё долго будет пахать“ – сказал он.(выделено автором).
От детей – № 4 от 11 августа, оба очень занятных. Воображаю, как Bebin учится танцевать!
Жду от тебя писем. Продлят ли тебе путёвку на те дни, что ты опоздала? Или ты поедешь в Москву к открытию школы? Крепко обнимаю.
Твой С.»
В опубликованном в 2004 году дневнике Мира Мендельсон рассказывает о совместных походах в горы, поездках в Железноводск. 26 августа, в годовщину первой встречи, отправились в Адыл Су. Мира Александровна не забывает сообщить об учёных званиях спутников, описывает подъём в альпинистский лагерь, откуда совершались восхождения на Эльбрус.
«Узкие горные пути, острые каменистые отвесные спуски. Сергей Сергеевич шёл хорошо. Меня как будто несла волна чувства. Мне казалось, что здесь чувство приняло в себя что-то новое, что-то от чистоты горных вод, от суровости гор и удивительной тишины».
Отъезд всё же приближался. Мира возвращалась с родителями в Москву, Сергей Сергеевич в тот же день отправлялся на две недели в Сочи.
7 сентября 1939 года Сергей Сергеевич пишет Лине Ивановне из Сочи:
«Дорогая Пташка,
Вчера приехал сюда в Сочи, чтобы перед Москвой немного погреться после кисловодских дождей и холодов. Обещали мне устроить комнату, но ввалился на гастроли Московский Малый театр и занял всё, что возможно. Говорят, комната будет сегодня или завтра. (….)
Я ужасно взволнован войной, которая разразилась так стремительно (…) Разрушение польских городов – я так ясно вижу их перед собою, и Краков, и Варшаву, и Познань. Воображаю, что творится в Париже! Надеюсь, Мэмэ ещё на даче. Интересно, закрылось ли издательство и где рукопись моего виолончельного концерта. (…)
Получил вчера твою телеграмму и телеграфировал сегодня тебе. В Москву аэропланы не летают или летают неважные. (…) то есть приеду в Москву 14-го. А ты?
(…) Знакомых пока немного: Фишман, Михоэлс (ехал со мною из Кисловодска), Охлопков, Каменский (ленинградский пианист). (…)
Я дооркестровываю последние страницы V акта и рассчитываю кроме того соркестровать две добавочные вариации для „Ромео“.
(…) Крепко тебя целую. Надеюсь, ты отдохнула и поправилась. Письмами во всяком случае ты себя не утомляешь: последнее было от 20-го.
Серёжа»
«Читала ли новый закон о воинской повинности?. Это выходит, что Святославу отбывать её через 2 года. Как-то неожиданно рано! Хотя многие говорят, что лучше отбывать её между средней и высшей школой, чем после университета, когда человек уже сформировался. Срок – 2 года для красноармейца и 3 для командного состава, но т. к. командный состав формируется из окончивших среднюю школу, то, вероятно, для Святослава это будет 3. Конечно, во время военной службы он здорово окрепнет, но всё-таки как-то неожиданно!
Целую.
С.»
Решительно невозможно заподозрить в этих письмах никакого коварства или обмана. Очевидно, что Прокофьев, даже если и увлечён, ни о каком разрыве не помышляет. Он слегка пеняет Лине Ивановне на её молчание, – сам-то он пишет чаще. Война. Польские города. Рукопись виолончельного концерта. Работа. Срочная оркестровка. О воинской повинности. Странно читать о том, что знаменитому отцу и в голову не приходит мчаться хлопотать об освобождении Святослава от воинской службы, как это было принято у «особенно равных» большевиков. Вместе с тем он со свойственной ему дотошностью проник во все тонкости правил призыва, и видно, что обеспокоен. Но отлынивать не считает возможным.
Кончились летние месяцы, для Прокофьева насыщенные работой, для Миры – внешне романтической, а по существу упорной борьбой с целью завоевания, для Лины – хлопотами о новой квартире, заботами о детях и купанием в море.
Шёл к концу 1939 год. Мира Александровна заполняет оставшиеся месяцы занятиями в институте, встречами, как она выражается, «с приятельницами». Готовится к экзаменам.
Идут сталинские чистки.
У Сергея Сергеевича в декабре должна состояться в Ленинграде премьера его балета «Ромео и Джульетта», хотя изначально планировалась в московском Большом Театре. Препоны ставятся ему на каждом шагу. Он отправляется в Ленинград. Премьера состоится там позже, в январе.
Мира Мендельсон пишет, что с осени 1939 года Лина Ивановна знала об их отношениях. Будто бы Сергей Сергеевич сказал Лине Ивановне серьёзно обо всём. Мира сетует на тяжёлые сцены, которые происходили в доме Прокофьева, «трудные разговоры». Она пишет, что постоянно видела Лину Ивановну в театрах и на концертах, потому что Сегей Сергеевич хотел, чтобы она, Мира, слушала его музыку. «С одной стороны, Лина Ивановна убеждала Сергея Сергеевича в том, что это чувство – блажь, с другой, требовала прекращения наших отношений. Как это всё было тяжело!»
Хаотическое описание этих событий мы находим и у смертельно раненной происходящим, свалившимся как снег на голову горем Лины Ивановны. Но, как мы знаем и от Сергея Олеговича Прокофьева, и от журналиста Харви Закса, Лина не любила писать, а на эту тему и говорить. То, что мы можем прочесть по расшифрованным плёнкам, наговоренным ею, как помнится Святославу Сергеевичу, некоей старой интеллигентной женщине в Париже, это не повествование, а болезненные вскрики, вырывавшиеся у только что любимой Пташки, а теперь оскорблённой жены и матери.
Однако здравый смысл и свобода мысли ей не отказывают. Получается смешение чисто женских переживаний с наблюдениями и житейскими обобщениями, касающимися реалий жизни в СССР.
Сороковой год, по-видимому, становится поворотным во взаимоотношениях Миры Мендельсон и Сергея Прокофьева. Она вплотную начинает заниматься поисками либретто для новой оперы Прокофьева. Он доверяет ей как литератору, и это, конечно, более всего свидетельствует о силе его увлечения. Сам – блестящий автор блестящих либретто и искрящихся выдумкой и остроумием рассказов, он, конечно, в конце-концов делает всё сам, но «работа идёт». Самоуверенность и социальная заострённость мышления юного автора обескураживает. Цитирую по её записям: «Н. Волков обратил внимание Сергея Сергевича на „Бесприданницу“ Островского. Это одна из моих любимых пьес, но я не почувствовала её как оперный сюжет. Гораздо больше материала даёт по-моему „Гроза“ – „тёмное царство“, с одной стороны, Волга и Катерина – с другой.»
«Весной 1940 года коллектив Ленинградского театра имени Кирова приехал в Москву, и я с папой была в Большом театре на „Ромео и Джульетте“», – пишет Мира Александровна в своих воспоминаниях. Далее Мендельсон рассуждает об особенностях этого балета, а Лина Ивановна, как кажется, именно об этой премьере рассказывает:
«Мы были на премьере, и в том же ряду сидела девушка со своим отцом. Он[86] её сначала не увидел. Но во время антракта он заметил её. Я попросила его, чтобы он нас познакомил. Он странно себя повёл, кое-как представил нас друг другу, когда мы уже выходили. Шёл дождь. Я предложила Сергею отвезти её домой в машине, предложила ему пригласить её домой на чай. Он страшно разозлился. После эпизода в театре и после вечеринки, на которую я пригласила его друзей-музыкантов, он был зол, надут, боялся, что она устроит сцену. Я говорила: „почему ты должен встречаться с ней на уличных углах? Пригласи её на чай“. Но она не пришла ни разу. Она меня боялась.
Он поехал на поезд в Ленинград, он знал, какие места она забронировала. Пытка.
У меня было предчувствие, что что-то случится, я страдала. Это было не только моя гордость. Сергей сказал Мясковскому, что он видит, как я страдаю, и не может этого выдержать. Мясковский сказал, что в таких ситуациях всегда кто-то страдает. Он тоже страдал.
Мальчики никогда не задавали вопросов. Святослав всегда утешал меня.
С самого начала, как это случилось, я страшно мучилась и практически ничего не могла делать, я сидела дома, у меня была ужасная депрессия, я не переносила взглядов сочувствия.
Письма Сергея Сергеевича – это доказательство того, как он любил меня. И вдруг такая перемена в его поведении! Я думаю, что в его случае – это был вопрос возраста (седина в бороду, бес в ребро), а для неё – амбиции. Я была так ранена, так потрясена тем, что происходит: Как это возможно?! Можно сравнить с ампутацией. Моя жизнь была так переплетена с его жизнью, с его музыкой, с его карьерой, с нашими детьми. Я не могла себе представить такого. Когда у тебя семья, и ты близка к его работе с того дня, когда он сказал, что назовёт Линетт Виолетту… Я думаю, что её молодость привлекла его. А она… Если бы он не был тем, кем он был, разве она на него посмотрела бы?
У неё и до него были приключения. ‹…›.
Её отец был против, он хотел со мной познакомиться.
Моя главная ошибка: я должна была понять и узнать, что с ним происходит. Но он ходил по клубам и на уроки танцев. Вне моей сферы. Я привыкла к шахматным турнирам, к другому.
Он был не особенно здоровым, ему было пятьдесят в 41 году, интрига началась до этого. Я была последней, кто узнал об этом. Я была сражена. Это было как болезнь.
Она всегда была нахмуренная. У неё был нервный тик. Я даже жалела её. Однажды она пришла в ресторан Союза композиторов. Кто-то сидел за столом один. Она спросила, занято ли место. Ответ был: „Нет, но есть ведь и другие места“. Люди ею не интересовались».
«Лето 1940 года проходило у меня в ожидании приездов Сергея Сергеевича с дачи и его телеграмм оттуда», – пишет Мира Мендельсон и приводит пять телеграмм Прокофьева, в которых он сообщает о погоде и работе.
В начале сентября Прокофьев переехал в город. При описании встреч с ним Мира Александровна, как кажется, в первый и последний раз всё же «замечает» не полную идилличность картины. Она пишет:
«Вероятно, у каждого из нас троих была своя правда. Сергей Сергеевич говорил мне, что у него созрело решение, чтобы мы были вместе, но ему хотелось увериться в силе и длительности моего чувства, и с другой стороны он стремился, чтобы всё это прошло наиболее безболезненно для Лины Ивановны (…)»
Конечно, Сергею Сергеевичу, человеку глубоко, по-старинному порядочному, трудно было решиться уйти от детей и Лины Ивановны, хоть, по словам Миры, он жаловался, что личная жизнь его уже давно – «пустыня». (…)
В декабре Лина Ивановна уехала в Гагры. И когда она вернулась, всё накалилось до крайности. По словам Миры Александровны, «оставаться дольше на Чкаловской Сергей Сергеевич не мог».
* * *
Лина Ивановна чутко улавливает витавшие в воздухе трагедию и фарс предвоенного времени.
Мы читаем у неё:
«Конечно, я беспокоилась, но никогда не могла себе представить ничего такого: многие говорили мне, чтобы я была осторожна. Слухи начали распространяться примерно в 1940 году. В воздухе трагедия, безумие, танцы и предвестие Гибели Богов. Вакханалия. Водопьянов хотел бросить свою жену, но Сталин не разрешил. Это было как эпидемия. Раз вечером мы говорили об этом с Сергеем, и он вёл себя странно. Я осуждала разводы. В России было так: если у вас любовная история длится неделю, то потом эта женщина сразу становится женой. Нравы как будто складывались более строгими, а во время эвакуации жена и дети – в одну сторону, а муж с любовницей – в другую. Атмосфера как Содом и Гоморра.
Он стал приходить домой поздно. Домработница говорила: „Вы знаете, барин ведёт себя странно, я вам советую следить за ним. Когда вас нет, ему звонят женщины. Барин – хозяин“».
Когда она не могла связаться с ним по телефону, потому что подходила я, она оставляла записку в почтовом ящике.
Обычно (как у нас было заведено) он говорил мне, куда он идёт и когда вернётся. Дома всегда был приготовлен для него ужин. Его любимые пельмени.
Когда мужчина чувствует вину, он приносит жене подарки. Он пришёл однажды с огромной коробкой грейпфрутов. У меня была невралгия, я болела, он жалел меня и так проявил внимание.
Обычно я всегда ждала его возвращения, а он вдруг днём стал интересоваться собраниями.
Она была комсомолкой и готовилась к вступлению в партию. Он писал статьи, она их редактировала. Я не знала, что делать.
С самого начала их знакомства поводом было либретто. Если она старалась отбить его от ужасной иностранки, её должны были остановить. Она писала ужасные бездарные стихи, ей было 23 года. А у него был животик. Он умер не дожив до 62 лет. Они её ему подсунули.
Она собиралась делать себе карьеру благодаря либретто. А он писал сам. Она выбрала для либретто «Повесть о настоящем человеке».
Для меня с детьми это было кораблекрушение в этой стране. Не было ни одного настоящего друга, который бы сказал ему что-то.
Он был очень инфантильным, вёл себя как ребёнок, потому что так же, как я, был совершенно неопытным. Он был таким ребёнком, у него была ужасная проблема страсти в тот момент. Он был неумелый, неуклюжий.
Ходил с ней в театр. У неё была странная походка: она не сгибала колен.
Она всё больше и больше нервничала. Наверное, хотела, чтобы он порвал со мной скорее. Он всё время на меня смотрел.
Я была совершенно уничтожена. Её никто не осудил, никто ничего ей не сказал, как говорили другим.
Он продолжал появляться с ней в обществе, и простые люди его очень критиковали. У нас был шофёр, который любил нас обоих, он не хотел верить и сказал, что Сергей Сергеевич никогда не пользовался машиной с кем-то другим.
Сестра Мясковского, очаровательная и милая со мной, другую приняла совершенно так же.
Она добилась своего: сделала из него советского гражданина. С того дня, как он по её настоянию вступил в Союз композиторов, он изменился, он деградировал. Он противился, говорил, что у него нет времени, но она настояла. По мере того, как он втягивался в эту жизнь, он стал меняться: поведение и вкусы. По утрам он стал поздно одеваться, поздно ходил в халате. «Отстаньте, наплевать» – таким стало его поведение в повседневной жизни: «всё равно». Он распустился морально и физически. Таков был довоенный период. Мясковский советовал ему писать патриотические песни и давать деньги на испанское правое республиканское дело.
Она была испорченным человеком.
Его здоровье ухудшалось, он не был очень здоровым.
Раз он оставался дома десять дней. Она пригрозила, что повесится. Боялась его потерять, потому что видела, что он сомневается.
Десять дней она не выходила из дома. Добивалась своего всеми правдами и неправдами.
Через десять дней он сказал мне: «Пожалуйста, помоги мне избавиться от неё.» Он не хотел этого соблазна.
Семейную историю, которой я посвятила столько страниц, Святослав Сергеевич изложил Суги Соренсену в нескольких строках:
– Я не очень люблю говорить об этом, но факты таковы: в 1938 году отец проводил лето один в Кисловодске, и у него случился «курортный роман», который, конечно, вызвал раздоры между родителями. Двадцатипятилетняя Мира Мендельсон угрожала покончить с собой. Отец был полностью растерян и в конце концов в начале 1941 года ушёл. О разводе с Линой и женитьбе на Мире не было и речи.
Глава десятая Война
Сергей Сергеевич расставался с семьёй мучительно. Лина Ивановна несколько раз возвращается к рассказу об этом, как обычно, перебивая себя комментариями на другие темы. Мира Александровна, конечно, молчит или говорит гладко и красиво. Что касается Сергея Сергеевича, то в интервью с парижским адвокатом Лины Ивановны – господином Шмидтом (в мае 2005 года) – проскользнуло упоминание о письме Прокофьева к жене, где он пишет о своих мучениях и угрызениях совести. Но письма этого у нас нет. Лина Ивановна и Господин Шмидт спасли его от продажи с аукциона Кристи, но дальнейшая его судьба нам неизвестна.[87]
Обстановка становилась всё более напряжённой, попытки выяснения отношений приводили, как это всегда бывает, к ссорам, слезам, обострениюдушевных мук.
Лина Ивановна:
«Когда Сергей Сергеевич пришёл к нам в последний раз на ужин, он случайно встретился внизу со знакомым водопроводчиком, и тот сказал: „Вы пришли навестить свою семью? Вы хороший отец“. Он покраснел. Я, конечно, не подговаривала водопроводчика, чтобы он это сказал.
Когда Сергей Сергеевич прощался со Святославом, тот, увидев чемодан, спросил: „Куда ты идёшь?“ Я в этот момент лежала на кровати, у меня было нервное расстройство. Доктор об этом знал. Сергей позвонил с вокзала узнать, что со мной. Доктор ответил, что нервный шок, невралгия и неизвестно, что будет дальше. На вопрос Сергея, должен ли он вернуться. Врач ответил: „Это ваше дело. Сами решайте.“ Сергей Сергеевич сказал Святославу, что чья-то жизнь от этого зависит. Он, может быть, хотел сказать, что она покончит с собой, если он не уйдёт к ней. Святослав спросил: „С мамой может что-то случиться?“ И отец ему ответил тогда: „Нет, мама не будет выделывать такие грязные трюки“.»
В ноябре 2004 года в своей Парижской квартире Святослав Сергеевич Прокофьев рассказывал мне об этом трагическом эпизоде, и мы с ним не думали тогда, что в лондонском архиве среди не разобранных документов найдутся и заметки Лины Ивановны, которым я следую. Рассказ Святослава Прокофьева во многом совпадает с картинами, нарисованными его мамой.
Святослав Сергеевич:
– Ну, в сороковом, я думаю, он уже погряз, увлёкся, и обычно трудно скрыть такие перемены в личной жизни. Она уже занимала его мысли. Тем более, что он ей всё рассказывал, какие у них были с мамой разногласия, отводил душу.
А ушёл он на границе 40-го и 41-го, то ли в декабре, то ли в начале января. Ну, я видел, как мама плакала, и осмелился, когда он в очередной раз пришёл домой где-то в десять, довольно нахально войти к нему и спросить: «Что ты так поздно?» Ну, потом не выдержал и расплакался. Он меня тихонько выставил. Во всяком случае, когда он собрался уходить, у него был чемоданчик такой или сумка маленькая, он пошёл прощаться к маме в спальню, и я подглядел, он стоял на коленях – она лежала в слезах – видимо, он уже предупредил её, что сегодня уходит. Он был на коленях у изголовья кровати, и голова его лежала у неё на подушке. Тем не менее он ушёл. Я пошёл провожать его до входной двери, он поцеловал меня на прощание и сказал мне такие слова:
«Когда-нибудь ты меня поймёшь».
И был таков.
Я вот до сих пор ломаю голову над тем, какой ОН смысл вложил.
Мама говорила, что это возраст такой опасный для мужчин, и, может быть, я пойму в своё время, когда сам до этого возраста доживу. Мама очень страдала.
– Он ушёл жить к Мире Александровне?
– Нет, там было немножко сложнее. Я, может быть, ошибаюсь, но это было так (в этот раз или в другой?): он остановился в гостинице, потому что в Ленинграде у него был концерт или премьера. В общем благовидный повод, чтобы уехать в Ленинград.
И я не знаю, то ли она с ним поехала, то ли своим ходом, но они там встретились. А вот когда он поселился у Мендельсонов, я точно не скажу, но он там поселился. Хороши родители, которые их покрывали…
До войны они сняли дачу в Кратове, и там узнали, что 22 июня началась война. Недолго они там прожили. Но временно таким образом решался их жилищный вопрос.
А потом… потом эвакуация. Он с ней уехал. Предлагал маме поехать с ними, но она воскликнула:
– Ха, чтобы я с ней в одном вагоне была?! В качестве кого ты мне предлагаешь, чтобы я ехала?!
Но это действительно несколько странно. Жизнь-то надо спасать, но не такой же ценой. Отказалась наотрез.
Лина Ивановна по поводу отъезда в эвакуацию:
«Они договорились сесть на один поезд, который увёз бы их на Кавказ в эвакуацию. Она приехала из Ленинграда. Я старалась тогда не упасть в обморок.
Человек расплачивается за то, что делает неправильно. Я уверена, что она за это расплатилась.
Во время эвакуации было очень много таких разлук. Дьявольские штучки. Прекрасный предлог для любовных авантюр. Он сказал: „А что мне делать с ней?“
Сергей спросил меня, можем ли мы остаться вместе, но в свободных отношениях.
Но я не хотела быть на втором месте. Она, наверное, всё время пилила бы его. Поэтому я осталась с детьми в Москве. Меня спросили, хочу ли я эвакуироваться вместе с семьями композиторов и актёров и ехать очень далеко. За место мне пришлось бы бороться и доказывать своё превосходство. Я никогда бы не согласилась.»
Об этом периоде жизни Лины Ивановны Святослав Сергеевич говорит:
«Уход отца оставался для мамы тяжелейшей травмой до самой ее смерти (а умерла она 3 января 1989 года на девяносто втором году жизни). Мама не любила вслух предаваться воспоминаниям об их совместной жизни, только изредка вдруг вспоминала какие-то эпизоды.
Домой отец зашёл ещё раза два, это было до войны. Зашёл, как водится, на детей посмотреть, взять что-то из нужных ему вещей. Мама очень волновалась и готовилась к этим встречам, внешне тогда всё выглядело чуть ли не так, как прежде, но ни к чему не привело – он не вернулся. (…)
Вряд ли уход к другой женщине был обусловлен желанием оставить „иностранную семью“, чтобы отделить себя от своего „эмигрантского“ прошлого, как это иногда пишут. Ведь он долгое время – до 1948 года – не оформлял новый брак и формально оставался связанным с „иностранной семьёй“».
Как я уже говорила, воспоминания Лины Ивановны, напечатанные в сборнике 1965 года, без всяких объяснений обрываются перед войной. А дальше? На вопрос, что же происходило дальше, Святослав Сергеевич отвечает:
«Отец переехал в квартиру Мендельсонов в Камергерском переулке, где Мира жила со своим отцом, профессором политэкономии, Абрамом Соломоновичем Мендельсоном, и матерью. Они занимали две комнаты из трёх. В третьей жили соседи. Потом отец получил однокомнатную квартиру на развилке бывшего Можайского шоссе и Большой Дорогомиловской улицы. С большим трудом им удалось уговорить соседей переехать в ту квартиру, и они таким образом смогли занять все три комнаты».
Софья Леонидовна, жена Олега Прокофьева, свидетельствует: «Они жили с Сергеем Сергеевичем в Камергерском переулке, квартирка была очень скромная. Кухня без окон выходила в гостиную, и туда шёл чад от готовки. Сергей Сергеевич был достоин жить по-другому, но то ли он боялся, то ли это его не интересовало. Квартирка была скорее убогая.»
Мира Александровна была совершенно равнодушна к уюту, материальным благам, не корыстолюбива. Манила её слава.
– Мама осталась в Москве с двумя детьми, – продолжает Святослав Сергеевич. – Правда, всё было не так уж безнадёжно тяжело. Она получала карточки на папино имя, как будто папа оставался. Они ведь не нужны были папе, потому что осенью он уехал. Сперва – на Кавказ, в Нальчик, а потом уже дальше, их отправили в Алма-Ату, в Среднюю Азию.
Для того времени мы питались более или менее по-человечески.
Мама пошла работать и благодаря этому получала рабочие карточки: они были первой категории или второй. Различия состояли в количестве муки или сахара, где чего побольше. Ну и отец, конечно, помогал, присылал деньги.
Мама делала переводы для Информбюро, агентства новостей. Печатала на машинке, зарабатывала.
– Всю войну она работала?
– По-моему, не всю. Но в начале, в 1941 и 1942 году работала. В 1943 тоже. Разрешалось работать на дому. Трудно установить точно, когда она перестала. Когда нужно было, ей давали много переводов.
Она продолжала дружить с теми из своих друзей, которые остались. Например, Елена Александровна (моя «тётя Ляля»), о которой я уже говорила. Владимира Михайловича ведь взяли очень рано, в самом начале войны, или даже до войны.[88]
Установили дежурства на крышах, мама дежурила. Как все. Потом добавили дежурства в подъездах, чтобы только своих пропускать. Были времена, я помню, в подъезде телефон стоял, и всех проверяли.
Лина Ивановна рассказывает:
«Во время войны я жила с детьми одна в квартире. Немцы приблизились вплотную. Каждый вечер были воздушные тревоги, бомбоубежище находилось в подвале, но туда никто не спускался, потому что оно не было под землёй. Все ходили на Курскую, станция была очень глубоко. Люди брали с собой маленькие матрацы и еду. Дети не хотели идти без меня. Они говорили: „Давай умрём вместе, и тогда я шла с ними“.
У всех оставшихся в Москве была обязанность носить на крышу песок и вёдра с водой, чтобы тушить зажигательные бомбы. Надо было в перчатках или щипцами бросать их в ящик с песком. Детей научили делать это. Некоторые тревоги быстро заканчивались.
Небо было очень красивым.
Я видела, как бомбы падали на другие крыши.
Наш дом был очень близко от центра.
Однажды я должна была копать траншею, но Святослав настоял, что пойдёт это делать вместо меня.
Как-то во время бомбёжки я собрала все ценные вещи и решила умереть прямо там, дома, но не идти в холодное бомбоубежище. Про тех, кто остался в Москве, распускали слухи, что они хотят перейти на сторону немцев.
У меня ещё оставалась машина. Пришли военные, чтобы забрать её у меня, чтобы она, как они объяснили, не попала в руки немцев. А мне до этого предлагали деньги за машину. Я им сказала: „Дайте мне сначала квитанцию“. Я позвонила в штаб. Но они ответили, что машина нужна им длястраны. „Мы её починим“ – и забрали машину. Рояль тоже – для какого-то клуба.
Нас бомбили. У меня ещё была старая домработница, которая советовала мне сделать запасы. И у меня был полный шкаф всего. Дети привыкли к сахару, но пришлось сократить до одного кусочка в день.»
– Она справлялась со всем сама? Или была всё же какая-то помощь? – спросила я Святослава.
– Домработница Фрося не оставляла нас, продолжала помогать и жила у нас и во время войны. Её мобилизовали на трудфронт, на Метрострой, но она всё равно приходила. Папа всё время присылал деньги. Атовмян помог с карточками.[89] Душка был. Его не поймёшь. Он, конечно, был большой дипломат. На словах ругал Миру, но на самом деле он, наверное… Он был председателем Музфонда, от него всё зависело, от одеял до картошки, включая отрезы на платье… Если бы не его расположение, то вполне могли нам не давать ничего. Это ведь всё полагалось папе. Но Атовмян всё же музыкант был, что-то для папы переписывал, что-то сам писал…
Дым. Всю ночь в Москве жгли бумаги, которые не хотели оставить, – продолжала Лина Ивановна. – Шли слухи, что немцы уже на подступах. Я сказала Святославу: «Пойдём, нам надо достать что-нибудь съедобное». Мы прошлись по Покровке и нашли варенье из розовых лепестков, которое можно было класть в чай, и сушёные грибы. Покупали любую пищу. Магазины были пустые, но можно было купить бублики, сушки, сухое печение, баранки, иногда солёные. Их продавали на верёвочке, и мы вешали их на шею. У нас были талоны от Союза композиторов, по которым можно было получать американское масло. В большинстве гостиниц на эти талоны давали обед или ужин.
Потом магазины закрылись. Многие уехали из Москвы. К вечеру всё пустело. Тишина. Пошли слухи, что немцы не продвигаются, на дороги положили противотанковые шипы, но это было опасно и для тех, кто уезжал. Не было газет, только радио. Люди уезжали за город, чтобы накопать мешок картошки. Им нужны были в обмен ботинки. Они отдавали бриллианты за мешок муки. Крестьяне были очень умелые. По радио передавали сведения о позициях, у меня была карта с флажками, и я их передвигала. Никто не знал, почему немцы отказались от идеи войти в Москву. А в Ленинграде люди превращались в ледяные статуи.
Когда прошла опасность, что придут немцы, мы обнаружили, что многие люди остались, и снова начались концерты. Я ходила на репетиции. Монотонный голос Левитана прерывал их сообщениями о воздушной тревоге. Вой сирен возвещал о бомбардировках.
Про один из эпизодов военного времени мы читаем в воспоминаниях Святослава Прокофьева. Действие происходит уже в 1942 году. Ненадолго приехавший из эвакуации Сергей Сергеевич Прокофьев остановился в гостинице «Националь». В канун 1943 года скончался его друг и сотрудник, много с ним работавший, Николай Эрнестович Радлов. Святослав пришёл на панихиду, которая происходила в Выставочном зале МОСХ и увидел, что среди присутствующих отца нет. Он позвонил матери, и Лина Ивановна посоветовала сыну позвонить Сергею Сергеевичу. Святослав позвонил. «Отец пришёл, он стоял у гроба растерянный, отчуждённый. Я не решился к нему подойти».
– Старые друзья не бросили на произвол судьбы Лину Ивановну с детьми, – рассказывает Святослав Сергеевич. – Держановский пригласил нас к себе на дачу. Это было летом 1941 года, когда все ещё верили, что война скоро закончится, и всё станет по-старому, как в доброе мирное время.
Я помню, Держановский говорил: «Вот немцы займут Москву, тогда мы, дворяне, поднимем голову».
– Он пригласил к себе на дачу Вас, Олега и маму?
– Да, но в основном маму, конечно. Вечно ворчал, такой недовольный. Обиженный судьбой.
– Он был раньше издателем?
– Да, в двадцатые годы он был издателем музыкального журнала, такой передовой журнал был, «Музыка» – есть переписка у папы с ним. Лето 1941 года мы провели у него. Больше не жили на дачах во время войны. Оставались в Москве. Я кончил институт в 49-м году, значит я в 43-м поступил. Никаких дач. Потому что были то лесозаготовки, то когда освободили Ленинград, я добровольно попал в группу, которая занималась Павловском. Описывали, что сохранилось, что разрушено. Обмеры делали для будущих реставраторов. Это был 45-й год.
– А мама?
– Мама? Очевидно, всё-таки тоже в городе оставалась. Я даже не помню. Во время войны приходилось нелегко. Мама работала для карточек. Настроение царило тяжёлое. Известно, что немцы были под Москвой. Я помню, как сейчас, 16 октября, когда прямо перед окнами на Покровке шло массовое бегство, – все бежали из Москвы. Как бывает демонстрация, но когда она ещё не построена. Прямо поток шёл. Это бежали. Чисто по-русски. Не зная куда – но вон из Москвы. Остатки в магазинах, – всё было сметено.
– Мама была подвержена панике.
– Да нет. Она считала, что её не тронут, что немцы культурные люди. Страха не испытывала.
– Вы продолжали ходить в школу?
– Я кончил школу в 1941 году, как раз, когда он ушёл. Так что я пытался найти работу либо поступить в институт, чтобы карточку получать. Меня освободили от службы в армии из-за плохого зрения. Был такой эпизод даже. Я пошёл в музыкальную школу, а там было свободное место только на флейту, и я пошёл учиться на флейте. Это было недолго, но карточку я получал. Все институты были закрыты, открылся только станкоинструментальный. Я туда поступил, к тому же мне сказали, что первый курс примерно одинаковый во всех вузах. И мне посоветовали, чтобы я поступил, а когда решу, куда действительно хочу, то смогу сразу пойти на второй курс. Я так и сделал. Но учились мы мало. Нас сразу отправили на лесозаготовки, там я заболел дизентерией, так что меня отправили обратно, освободили. Посоветоваться было не с кем. Мне нравилось возиться с какими-то электрическими штучками, соединять, разъединять, пробки, моторчики и пр. И я сдуру пошёл в энергетический институт. Но быстро понял, что это далеко от моих поделок. Там была масса теории, и я ушёл. И тут я начал рисовать, и какой – то мамин знакомый, архитектор спросил: «А не хотите ли вы в архитектурный?» Ну, я и поступил. Тогда было легче туда поступить. Меня прямо в середине года туда взяли переводом из энергетического (я представил свои рисунки).
– Мама была довольна?
– Скорее довольна. Хотя бы потому, что, наконец, я куда-то пристроился, перестал метаться. Кончил Московский Архитектурный институт в 1949 году. Очень рад, что учился в этом институте, так как получил там фундаментальные знания по истории искусства. В 1947 году встретил свою жену, будущего врача, и, сделав ей предложение в письме, – чувство было романтическим, – в том же году женился.
– А Олег?
– Олег учился заочно или в школе для взрослых. Ему было лет 15–16. Он кончил школу. Тоже начал рисовать. Но в художественную школу по представленным им рисункам его не приняли. И он поступил в педагогический институт, на графический, что ли, факультет.
Лина Ивановна продолжала дружить с Афиногеновыми, но обстоятельства сложились трагически. Привожу её рассказ.
«Мы с давних пор, ещё с Парижа, очень дружили с Афиногеновым, известным драматургом. Его жена – Дженни-Джейн – Женя – Евгения Бернардовна, наивная американка, раньше была замужем за Бовингтоном, последователем Дункан, – он тоже был танцовщиком.
Они были настоящими друзьями. Афиногенов пользовался огромным успехом, но за пьесу „Ложь“ подвергся осуждению и попал к Сталину в опалу. Сталин лично писал ему по поводу его пьесы. Некоторые предупреждали, что с ними не надо общаться.
Они очень заботились обо мне. Афиногенов сказал: „Я должен помочь вам выехать из Москвы. Может быть, я смогу взять вас с собой“ (Афиногенова с женой отправляли в Америку от Информбюро).
Потом произошёл страшный взрыв, на ЦК была сброшена бомба, она попала в гараж, где стояла его машина. Он был убит на месте.[90].
Женя была убеждённой коммунисткой, она ходила на приёмы в посольства, и говорили, что она – работник НКВД и что она сообщит любую вещь „контра“. Я была в полной растерянности. Никогда не могла понять, как что бы то ни было можно смешивать с политикой. Она была полностью предана коммунистам. Жизнь её началась с того момента, когда она прочитала Ленина».
Ряды друзей между тем редели. Верность сохраняли немногие. Лина Ивановна тяжело переживала эти изменения.
В молодости Сергей Сергеевич учил Лину не огорчаться из-за разочарований в людях, а просто перекладывать их на другую полку. Сейчас все эти полки оказались заняты.
После войны
В январе 1945 года состоялось последнее публичное выступление Сергея Прокофьева в качестве дирижёра. Он дирижировал только что оконченной Пятой Симфонией. В день концерта шёл праздничный салют в честь очередной победы, одержанной над немецкой армией. Залпы гремели, когда Сергей Сергеевич встал за дирижёрский пульт. Прокофьев в торжественной позе неподвижно переждал салют позади дирижёрского пульта, и когда залпы отгремели, взмахнул палочкой и начал дирижировать. Симфония имела оглушительный успех.
В 1945 году кончилась война. 9 мая 1945 года в СССР праздновали День победы.
Дети учились. Лина Ивановна горевала, продолжала брать переводы, встречалась с друзьями, советскими и иностранными. Сергей Сергеевич без устали работал, уже много болел, жил в основном на даче.
Ещё с 1940 года Прокофьевы снимали часть дачи на Николиной Горе в знаменитом для всех Никологорцев доме художника Кравченко. Дачу сдавала его вдова. В эти и последующие времена на Николиной Горе жили очень многие друзья Прокофьевых, и мужа и жены. Но Лина Ивановна и Сергей Сергеевич почти не бывали там, за детьми присматривал студент-медик Михаил Кирсанов. По словам Святослава, родители не хотели, чтобы их личная драма происходила на глазах детей.
Сергей Сергеевич купил дачу у знаменитой певицы Валерии Владимировны Барсовой на Николиной Горе в 1946 году. Он поселился там уже с Мирой Мендельсон, которая в своём дневнике непременно упоминала всех знаменитостей, посещавших дом Прокофьева. В особенности ей импонировал А. А. Фадеев, – в нём всё сошлось, – положение, красота, стать, обаяние и всемогущество. Хотя роль его в жизни Прокофьева была странной (он помогал Сергею Сергеевичу и С. Я. Маршаку сочинять ораторию «На страже мира»), Мира была в восторге от этой деятельности. Дневник, пусть и в одностороннем освещении, отражает ход событий в жизни Прокофьева, оставаясь саморазоблачительным. Поражает в дневнике количество писем Кабалевского, ставших совершенно двусмысленными в период постановления 1948 года.
Об этом периоде жизни Лины Ивановны сохранились её отдельные, скудные и разрозненные воспоминания:
«Прокофьев возвратился[91] довольно поздно. Перед этим Олег заболел ветрянкой. Его положили в больницу. И потом, уже после войны, он болел разными инфекционными заболеваниями и лежал в больницах. Я заболела тифом, с высокой температурой. Тоже находилась в больнице. Сергей прислал телеграмму.
Когда они приехали из эвакуации, им не хотелось, чтобы дети их навещали. Им было стыдно. Сергей Сергеевич был в плохом состоянии, чувствовал себя несчастным. Видел детей только когда приходил к нам.»
Святослав Сергеевич рассказывает, что процедура посещения отца в это время была довольно сложной. Мальчики звонили по телефону. Отец обещал «иметь в виду» их визит. Через некоторое время день назначался, и тогда Олег и Святослав приезжали, не вместе, а по отдельности, чтобы не утомлять отца, как распоряжалась Мира Александровна.
«Когда Сергей вернулся из эвакуации, – читаем в воспоминаниях Лины Ивановны, – Святослав заболел и кашлял кровью. Я обратилась к специалисту. Ему нужно было питание. Я делала разные смеси, размачивала яичную скорлупу в лимонном соке, желток, немного водки, мёд – это традиционное средство должно было помочь. Сергей пришёл и принёс ему шоколад. Я совещалась с лучшими специалистами. Видимо, в этом возрасте бывают слабые лёгкие. Святослава послали в хороший туберкулёзный санаторий.
Я вела очень скучную и неинтересную жизнь, но продолжала ходить на приёмы вопреки советам Сергея. Ездила к друзьям в Ленинград, ходила в музеи, на концерты.»
Святослав Сергеевич рассказывает, что по окончании войны, потеряв надежду на возвращение мужа, Лина Ивановна решила вернуться во Францию. Перед ней был пример её приятельницы Аннет, француженки, имевшей французское гражданство, жены известного архитектора И. З. Вайнштейна, – соседей Прокофьевых по дому на Чкаловской. Трудно поверить, но сразу после войны кому-то удавалось выехать. Надо было пройти все необходимые этапы формальностей, и дальше вопрос решался на самом высоком уровне. Аннет выпустили, она уехала. Лина Ивановна тоже собрала все необходимые документы, но получила отказ.
Справиться со всем случившимся Лине Ивановне помогал её счастливый характер, о котором единодушно говорили и говорят все, её дети, внуки, друзья, все, кто её знал.
Как рассказывает Святослав Сергеевич, она обладала способностью отбрасывать от себя всё тяжёлое: «У неё был жизнерадостный, счастливый характер, который, я думаю, и позволил ей выдержать годы заключения в лагере и дожить до глубокой старости».
Глава одиннадцатая 1948 год
В 1948 году, меньше чем за два месяца, на семью Сергея и Лины Прокофьевых обрушились одно за другим три события, круто изменившие их жизнь.
15 января 1948 года был официально оформлен брак Сергея Сергеевича Прокофьева с Мирой Александровной Мендельсон.
10 февраля 1948 года грянуло постановление Политбюро ЦК ВКП(б), заклеймившее Прокофьева и Шостаковича как формалистов, врагов народа, наносящих вред своей музыкой. Были упомянуты в этом постановлении и другие, «домашние» композиторы, но цель состояла в том, чтобы проучить и погубить именно этих всемирно известных корифеев русской музыки.
20 февраля 1948 года была арестована по обвинению в шпионаже и приговорена к двадцати годам лагерей строгого режима Лина Ивановна Прокофьева.
Слишком быстро, одна за другой, произошли три катастрофы, чтобы не задуматься над совпадением. У Святослава Прокофьева читаем:
«Связь между этими событиями я до сих пор мучительно пытаюсь осознать: постановление ЦК ВКП(б), женитьба на М. А. Мендельсон и арест мамы», – эти размышления не оставляют Святослава Сергеевича долгие годы.
Развод и брак по-советски
15 января 1948 года в дневниках Миры Александровны Мендельсон появляется следующая запись:
«1948 год.
15 января.
Развод с Л. И. оформлен. Ходили в ЗАГС на Петровку, получили брачное свидетельство. Сколько сложного, трудного было связано с этим. К сожалению, Серёжа не совсем хорошо себя чувствует, ему надо бы полежать – он задёргивал на даче занавески, палка сорвалась и ударила его по голове.»
Первая фраза этой записи – неправда. Развод не был оформлен. Близкие люди знали, что 15 января 1948 года произошло грубое, редкое даже для советского правосудия, нарушение закона.
Заговорить об этом открыто стало возможным только через несколько лет после смерти Сталина в 1953 году. И тогда только открылись юридически невероятные обстоятельства получения брачного свидетельства, о котором как о чём-то само собой разумеющемся рассказывает Мира Мендельсон.
В том-то и дело, что Прокофьев и Лина Ивановна не развелись, и она оставалась его законной женой. Поставленный органами нашего гибкого советского правосудия в ложное положение, Сергей Сергеевич женился во второй раз, будучи женатым.
Сергей Сергеевич Прокофьев и Каролина Кодина заключили брак на юге Германии, в Баварии, в городе Эттале 8 октября 1923 года, о чём гласит соответствующий документ, приведенный в четвёртой главе этой книги.
В девятой главе «Курортный роман» описывалась история взаимоотношений Сергея Прокофьева с Мирой Мендельсон, она началась в 1938 году и закончилась крахом семьи композитора, покинувшего первую жену и детей перед войной, в начале 1941 года.
Сергей Сергеевич долгие годы был не в состоянии совершить последний шаг и официально связать свою жизнь с Мирой Александровной. Наконец, преодолев тяжёлые сомнения и горестные переживания, он пошёл на то, чтобы расторгнуть свой брак с Линой Ивановной и жениться на М. А. Мендельсон.
Привыкший за первые сорок пять лет своей жизни в правовом обществе, он, конечно, и не помышлял о том, чтобы жениться вопреки законам.
Прокофьев хотел сделать всё как положено: сначала развестись с Линой Ивановной и после этого заключить официальный брак с Мирой Александровной. С ходатайством о разводе он начал обращаться в судебные инстанции.
Сюрприз, которого он по всей видимости вовсе и не желал, поджидал его именно в этот момент:
«Когда отец решил оформить свой новый брак, – говорит Святослав Прокофьев, – в суде ему, к его огромному удивлению, сказали, что разводиться вовсе не нужно: брак, заключённый в октябре 1923 года в Эттале (Германия), сочли теперь недействительным, так как он не был зарегестрирован в советском консульстве. Мама, въехавшая в СССР как жена Прокофьева, в какой-то таинственный момент вдруг перестала ею быть. Отец, будучи уверенным в законности его брака с матерью, обратился в вышестоящую судебную инстанцию, но там ему сказали то же самое. Так он смог расписаться с новой женой без развода».
Такое нарушение закона могло произойти только по прямому указанию НКВД или высших партийных органов.
Шофёр Прокофьева, а точнее, отца Миры Александровны, Табернакулов, рассказывал, что в 1948 году совершенно неожиданно и единственный раз в жизни возил Сергея Сергеевича в НКВД на Лубянку. Эта поездка остаётся загадочной, но, вероятнее всего, она связана или с арестом Лины Ивановны, или с поощрением брака с Мирой Александровной.
«То ли он сам поехал, то ли его вызвали. Наверное, вызвали, наступали ждановские времена, по радио гоняли только „Вставайте, люди русские“, – говорит Святослав Сергеевич. Может быть, предупреждали про маму. Что папа мог сделать? Его почти перестали исполнять.»
С момента заключения брака Сергея Прокофьева с Мирой Мендельсон в юридической практике даже появился термин «Казус Прокофьева». В самом деле, при наличии законной жены, законно въехавшей на территорию страны вместе с мужем и детьми и поселившейся там, прожившей в СССР к моменту заключения брака с Мендельсон уже 12 лет, Прокофьеву даже не просто разрешили, а, возможно, подтолкнули его без проволочек жениться на Мире Александровне Мендельсон.
Она ведёт дневник изо дня в день, записывая все подробности своего быта, но ни разу не упоминает о последовавшем через месяц аресте Лины Ивановны. Рассказывая о жизни Сергея Сергеевича, своей, изредка с неприязнью касаясь влияния Лины Ивановны на детей, Мира Александровна как будто бы и не знает, что Лина Ивановна – в тюрьме, что её по абсурдному обвинению в шпионаже приговорили к 20 годам лагерей строгого режима. Это ведь даже не событие за сценой, оно – НА сцене. Сказывается крепкая закваска настоящего советского человека: не знать того, что не положено.
В предисловии к публикации дневника М. А. Мендельсон составитель М. Рахманова, в частности, пишет:
«… в тексте ни одним словом не упоминается об аресте Лины Ивановны в 1948 году и о реакции Прокофьева на это событие. (…) С чисто человеческой точки зрения весьма малоприятны претензии, выражаемые мемуаристкой по поводу тех или иных поступков Лины Ивановны и сыновей Сергея Сергеевича. (…) Если учесть, что мемуаристка была всего на какой-то десяток лет старше сыновей Сергея Сергеевича, то, казалось бы, она могла лучше понимать их. Думается, в этом сказалось опять-таки глубоко „советское“ воспитание Миры Александровны, с одной стороны, а с другой – сознательные или бессознательные, нужные или ненужные попытки самооправдания».
В записи от 15 января 1948 года, приведённой в начале этой главы, Мира Александровна говорит о том «сложном и трудном», что предшествовало оформлению её официального статуса «жены». Она, видимо, имела в виду не только обычные перипетии, сопутствующие уходу мужа от детей и семьи, но и некоторую антипатию (может быть, ревность?) к сыновьям Сергея Сергеевича и Лины Ивановны, и сам факт их существования, и свои претензии к ним. Этот мотив звучит на страницах дневника Мендельсон и возникает снова и снова по разным поводам. Мира Александровна, кажется, хоть по-своему и старалась, но переломить себя и скрыть своё раздражение не могла, – в дневниковых записях она подробно рассказывает и об этой стороне новой семейной жизни.
Нет – нет, да мелькнёт на страницах и «неприятная» Лина Ивановна, тогда ещё на свободе, и находящиеся под её влиянием сыновья. Мире Александровне не нравится, как она воспитывала – «лепила» детей. Есть совсем уж странные попытки отрицать ту благоговейную любовь, которую сызмальства питали к отцу сыновья.
29 сентября 1947 года
«Утром приехал Олег. Он теперь иногда приезжает на дачу. Особенно, когда надо о чём-то попросить Серёжу. (…) Обед я постаралась приготовить повкусней – блины с закусками, дыня, кофе, а вечером на ужин пирог с капустой, чтобы побаловать Олега. (…)
Перед отъездом отдала Олегу брюки, купленные ему в подарок в лимитном магазине. Они оказались абсолютно впору, и Серёжа посоветовал оставить их „для выходов“, а на занятия носить другие. Сейчас у Серёжи с Олегом довольно тяжёлые разговоры по поводу развода с Л. И. Серёжа решил, что нельзя откладывать этот вопрос, но все переговоры на эту тему с Л. И. безуспешны. В прошлый раз во время нашего пребывания в Москве Олег пришёл к нам, и Серёжа снова заговорил с ним о необходимости развода, настаивая на том, чобы Олег передал Л. И. письмо об этом, так как всё равно это неизбежно. Олег потерял выдержку. Заявил, что письма не передаст (хотя мы уверены, что это письмо уже у неё, но делается вид, что она ничего об этом не знает), Олег вскипел, заявил: „Всё равно ответ мамы ясен“. Серёже приходится вести переговоры через Олега, так как с Л. И. он уже несколько лет не встречается, не имеет абсолютно никаких отношений, не бывая на Чкаловской. За это время она лепила из детей всё, что хотела, и чувствуется, что они, несмотря на уже недетский возраст, действуют под её диктовку, делаясь милыми, когда что-нибудь нужно, и, имея довольно жёсткий вид и вовсе не ласковый тон, если Серёжа скажет не то, что им нравится. Пока это касается Олега. Святослав у нас не бывает. Мне почему-то кажется, что у них выработалось тщеславное отношение к имени Серёжи при полном непонимании его как человека. То, чем их пропитывали несколько лет, пустило корни. А как бы мне хотелось, чтобы из них вышли настоящие люди, чтобы они по-настоящему, бескорыстно привязались к Серёже. Впрочем, я их ещё недостаточно знаю для того, чтобы делать выводы, я ещё не вполне представляю себе их жизненные цели и интересы.»
Ещё одна запись из дневника:
18 октября 1947 года (стр. 75)
«(…) Вечером мы уезжали из Ленинграда. (…) Святослава же пришлось одеть буквально с головы до ног, так как Серёжа дал ему деньги на валенки и галоши, я купила тёплую кепку, бельё, куртку, жилет, носки, домашние туфли. Кроме того, купила ему много сладостей, что при его болезни важно. (…) Ганопольский очень любезно и быстро откликнулся на просьбу Серёжи и обеспечил Святослава путёвкой в Халилу.»
– … у меня обнаружили туберкулёз, я даже кровью кашлял, и папа приходил меня навещать несколько раз, – говорит Святослав Сергеевич. – Папа помог достать путёвку в туберкулёзный санаторий. И, слава Богу, у меня постепенно всё прошло.
К «сложному и трудному» Мира Александровна снова и снова возвращается в своих воспоминаниях. Она жалуется то на одного, то на другого сына.
В личном письме, датированном 23.12.2004, Святослав Сергеевич, после выхода в свет дневниковых записей Миры Александровны, пишет мне:
«М. А. изо всех сил пытается оклеветать маму, Олега и меня (и показать, какая она любящая, заботливая и объективная) в глазах С. С. и этим доказать, мол, какие мы все скверные люди, мстя за нашу естественную нелюбовь к ней. Она нас чернит в глазах отца, чтобы поссорить нас или хотя бы ослабить его любовь и заботу о нас. Мы для неё были опасными соперниками и любые средства были хороши.»
Последнюю фразу записи Мендельсон от 15-го января об упавшей на голову Прокофьева палке оставляю на совести автора воспоминаний.
В это время С. С. Прокофьев был уже тяжело болен гипертонией.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1948 ГОДА
Совещание деятелей советской музыки в обществе руководящих лиц партии и правительства состоялось в здании ЦК ВКП(б) в январе 1948 года, а 11 февраля было опубликовано ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) об опере «Великая дружба» В. Мурадели. Сталину, с семинарских времён питавшему симпатию к хоровой музыке, и время от времени посещавшему Большой Театр, по неизвестным причинам не понравилась опера Вано Мурадели «Великая дружба», которая ничем не выделялась в потоке верноподданического советского оперного производства, но была в данном случае использована как предлог для разгрома выдающихся оперных и симфонических композиторов.
«(…) Несмотря на предупреждения, вопреки тем указаниям, какие были даны Центральным Комитетом ВКП(б) в его решениях (…), в советской музыке не было произведено никакой перестройки. (…) Особенно плохо обстоит дело в области симфонического и оперного творчества. Речь идёт о композиторах, придерживающихся формалистического, антинародного направления. Это направление нашло своё наиболее полное выражение в произведениях таких композиторов, как тт. Д. Шостакович, С. Прокофьев, ‹…› А. Хачатурян, В. Шебалин, Г. Попов, Н. Мясковский и др., в творчестве которых особенно наглядно представлены формалистические извращения, антидемократические тенденции в музыке, чуждые советскому народу и его художественным вкусам. Характерными признаками такой музыки является отрицание основных принципов классической музыки, проповедь атональности, диссонанса и дисгармонии, (…) увлечение сумбурными, невропатическими сочетаниями, превращающими музыку в какофонию, в хаотическое нагромождение звуков. Эта музыка сильно отдаёт духом современной модернистской буржуазной музыки Европы и Америки, отображающей маразм буржуазной культуры, полное отрицание музыкального искусства, его тупик.»
Полный текст постановления доступен. Естественно, что оно заканчивается пунктами 1. Осудить… 2. Предложить ликвидировать недостатки 3. Призвать… и 4. Одобрить борьбу…
Само собой разумеется, что композиторы поскорее созвали свой Съезд, где никому было не лень клеймить позором Прокофьева и Шостаковича. Удивляет истовость иных членов союза, вовсе не обязанных делать это. Так уж воспитали: клеймили по «зову души».
Подобно тому как писателей после постановления в их адрес прекратили печатать, а друзья при виде их стали переходить на другую сторону улицы, чтобы быть подальше от врагов, так и композиторов перестали исполнять.
Сняли все оперы Прокофьева, хор преданных почитателей решений ЦК в унисон продолжал проклинать вредителя советского музыкального искусства, вся его камерная и симфоническая музыка была выброшена из концертных и радио программ.
В особенности покуражился над Прокофьевым Пленум Союза советских композиторов в декабре этого же года, на котором только что принятая всеми на ура опера «Повесть о настоящем человеке» была подвергнута такому уничтожающему разгрому, что на страницах стенограммы, казалось, застыли брызги слюны разъярённых коллег.
Русское музыкальное искусство ухнуло в бездну после этого постановления. Всех композиторов, считающих нужным служить народу, а «не замыкаться в тишине своих кабинетов», призвали и даже обязали сосредоточиться на песнях. И зазвучали одни только песни, в основном в хоровом исполнении, на колхозные и заводские темы. Авторов поощряли. Симфонические и камерные сочинения, не говоря о новых балетах и операх, как будто перестали существовать. Эта традиция, кажется, преобладает и по сей день. Разве что песни стали ужасающими, разница только в этом. «Прокофьев? „Александр Невский“? „Ромео и Джульетта“? Как же, как же…» Всё остальное, шесть симфоний, огромное богатство оперной, камерной, инструментальной, фортепианной, вокальной музыки известно лишь музыкантам, их истинная величайшая в истории искусства ценность осталась за семью замками. Люди не могут узнать музыку, если она запрещена к исполнению. В этом отношении судьба её особенно плачевна среди других родов искусства и литературы. Вне исполнения она не существует.
Сергей Сергеевич никогда не оправился от этого удара. Из его музыки «доступными» для советского народа партия сочла хор «Вставайте, люди русские», (стоит заметить, что С. Т. Рихтер повторял, что все сочинения Прокофьева – совершенно гениальные, включая «Кантату к двадцатилетию революции», не разрешённую к исполнению уже в 1937 году), а также предложили ему писать другие произведения, свободные от маразма угасающей западной культуры. Он и написал немало замечательной музыки: балет «Каменный цветок», ораторию «На страже мира». Прокофьев отличался тем, что плохой музыки вообще писать не мог. Его гений не был сломлен.
Сам Сергей Сергеевич Прокофьев ещё в молодые годы сказал: «Но моё творчество ведь вне времени и пространства» («Дневник», 30 ноября 1918 года, Нью-Йорк).
Может быть, в трудные времена его жизни некоторую помощь ему, как и Лине Ивановне, оказывало учение «Christian Science». Так считает его внук Сергей Олегович Прокофьев.
«– Я думаю, что для Сергея Сергеевича в советский период учение служило большим подспорьем. Он и сам обладал особой способностью все неприятные вещи от себя отстранять, а ведь именно такое отношение к жизни и составляет существенную сторону этого учения, – высказывает свою точку зрения Сергей Олегович Прокофьев. – В этом смысле я вижу принципиальное различие между творчеством Сергея Сергеевича и Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Все те ужасы, наблюдал вокруг себя Шостакович, он сразу переносил в свою музыку, обладающую такой трагической мрачностью и огромной силой воздействия. Прокофьев был человеком совершенно другого плана. Для него его творческая мастерская была как бы храмом и вступая в этот храм, начиная работать, он всё, что его беспокоило, огорчало или даже мучило в житейской сфере, в успехах и славе, в связи с политическими проблемами, – всё это он оставлял за порогом.
На мой взгляд, Сергей Сергеевич – это последний полностью душевно здоровый композитор в 20 веке. В самые мрачные периоды своей жизни, когда он был близок к отчаянию и не раз, думаю, жалел, что вернулся в Росию, что принял это решение, он продолжал писать чистую, светлую и жизнеутверждающую музыку. И не в угоду политической коньюнктуре, а в гораздо более высоком смысле, – в смысле призвания каждого большого художника – нести людям весть Духа, всегда побеждающего косность материи и несовершенство жизни и человека. Для него музыка была небесным искусством. И свою задачу он видел в том, чтобы нести её миру именно в такой просветляющей и возвышающей человека форме, как весть о внутренней силе и творческой радости, изначально присущими, по его мнению, каждому человеку».
Святослав Сергеевич Прокофьев рассказал мне, что у отца была записная книжка, куда он просил своих друзей записывать, что они думают о Солнце. Эта книжечка стояла у изголовья дивана Святослава, когда он лежал больной, а Прокофьев (уже после ухода из семьи) зашёл навестить его. Он увидел, как обложка этой книжки блеснула на солнце и сказал: «A ВЕДЬ ЭТО МОЯ!» Святославу было жалко, но, ничего не поделаешь: пришлось отдавать. В этой книжке кто-то написал: «Солнце – это вы!»
«И учение „Christian Science“, – продолжает Сергей Олегович, – очень этому помогало, потому что с точки зрения этой науки все человеческие проблемы – это иллюзия, которая должна побеждаться силой мысли. В самые тёмные и трудные времена главным спасением для Прокофьева было его творчество, и даже когда в конце жизни он серьёзно заболел, и врачи пытались ограничить его творческую деятельность, он с этим согласиться не мог и продолжал работать даже перед лицом приближающейся смерти. При этом он органически не мог писать плохой музыки. Даже „официальные заказы“, которые он время от времени должен был исполнять, как и все художники, живущие при тоталитарном режиме, он выполнял в музыкальном отношении блестяще.
Жизнь в Советской России съела немало лет жизни Сергея Сергеевича. Он, конечно, должен был прожить лет на десять больше. Все преследования и ограничения, начиная с ждановского постановления, все эти безобразия, длившиеся до самой его смерти, сделали гениального композитора ещё одной жертвой советского режима. В последние годы он жил в основном на даче, и я думаю, что боялся ареста. Пока Сталин не умер, готовились ведь новые аресты, чистки.»
С. С. Прокофьев в 1948 году уже потерял своё задуманное природой богатырское здоровье. Мучили его головные боли, начинались мозговые явления. Кто был рядом?
Из родных рядом верноподданная Мира. Свободомыслящая Лина через месяц после постановления оказывается в тюрьме. «Отчаянно перетрусившая Мира» (по отзыву О. П. Ламм, племянницы и приёмной дочери П. А. Ламма) хоть и сочувствует «Серёже», но в общем-то стремится к «худому миру» и от страха (вполне, впрочем, объяснимого) даже заставляет Прокофьева совершить противоестественный для него поступок и написать в высшие инстанции письмо с извинениями за свою плохую музыку и обещаниями писать теперь хорошую. Как настоящий советский человек, она не могла без пиетета относиться к постановлениям, принятым самыми – самыми…
Среди знаменитостей, не знаменитостей, коллег и разного рода знакомцев едва ли найдётся дюжина таких, кто столь непоколебимо, на протяжении долгой жизни решительно не принимал бы большевистских преступлений, как Лина Ивановна. Могут возразить, что западного человека труднее обмануть, ввести в заблуждение, чем наших соотечественников. Ничуть не бывало. Надо ли приводить в пример ДЕСЯТКИ имён деятелей западной культуры с мировым именем, которые снисходительно, чуть ли не с сочувствием и одобрением относились к происходящему в «великом Советском Союзе». Лина Ивановна, привязавшись к России за проведённые там годы жизни, тем не менее, видела всё как оно было и ни разу не погрешила против своей совести.
Никто не знает, принесла бы она Прокофьеву большее облегчение, чем вошедшая в его жизнь Мира Мендельсон, но духовно, даже просто в силу того, что прошла с ним долгий жизненный и творческий путь, сама была музыкантом, с замиранием сердца слушала, как сочиняет муж, обожала этот процесс, знала всё о его вкусах и пристрастиях в музыке и искусстве, изначально была ближе к его душевному строю и больше всего дорожила его композиторскими достижениями. Неприкосновенность и недосягаемость творчества Прокофьева были для неё, совершенно свободного человека, святыней, высшим законом. Но Сергей Сергеевич оказался с Мирой Александровной, а Лина – в тюрьме и в лагере. Из лагеря (Абезь) 31 октября 1949 года она писала сыну:
«Святославчик, дорогой мой мальчик!
Вчера, наконец, получила твоё письмо от 15 октября, оно так полно волнующих новостей, что я дрожала, читая каждую строчку. Как я хотела бы быть с вами и переживать все ваши события.
Папина болезнь меня очень огорчила, правда, я это почему-то предчувствовала, часто видела его во сне, слышала его голос и т. д. – должно быть, он тоже меня вспоминал. Крепко его обними от меня, дай Бог, чтобы он вовремя успел дооркестровать „Каменный цветок“ для Большого театра, но только не переутомился бы, чтобы не было ухудшения, ведь пережитое им не шутка.»
До своего освобождения в 1956 году Лина Ивановна не знала о регистрации брака Сергея Сергеевича с Мирой Александровной.
Из друзей… Если судить по дневниковым записям Мендельсон, то к ним причислял себя Д. Б. Кабалевский. Он засыпал Прокофьева длинными кокетливо-льстивыми письмами, откликаясь на все исполнения, премьеры, концерты, неутомимо выражал восхищение, потрясение, преданность творчеству гениального коллеги. Он неизменно бывал в письмах нежен и с Мирой Александровной, жеманничал, состязался с ней в успехах в изучении иностранных языков, проявлял интерес к её здоровью. Мира Александровна помещает эти письма в дневнике. Она с сочувствием относится к его речам: «Самым интересным и цельным было выступление Кабалевского. Он резко критиковал Дунаевского за отсутствие самокритики в его докладе, серьёзно анализировал творчество Шапорина и Шостаковича, подчеркнув сложность и противоречивость последнего…»[92] Вот ведь какой Фуше. Мира же преисполнена самых дружеских чувств и ни одного худого слова в его адрес не говорит, хоть он предал Прокофьева немедленно, с энтузиазмом. От переписки веет известной фальшью. Она преисполнена самых дружеских чувств и ни одного худого слова в его адрес не говорит, хоть он предал Прокофьева немедленно, с энтузиазмом. От переписки веет известной фальшью.
В журнале «Музыкальная жизнь» № 2 за 1991 год Святослав Сергеевич рассказывает о реакции Прокофьева на Постановление 1948 года: «Конечно, его потрясло двуличие некоторых людей, например, Д. Б. Кабалевского. Предали отца и другие – те, что прежде пели ему осанну, – они вдруг „поняли“, как сильно ошибались, и стали критиковать его с тем же рвением, с каким раньше восхваляли. Нужно ли говорить о том, что позднее эти люди в очередной раз переменили взгляды, и, приостановив травлю, опять стали восхищаться».
Б. В. Асафьев, друг юности со времён Санкт-Петербургской консерватории, прошедший рядом всю жизнь, навещавший чету Прокофьевых ещё в Париже, постоянный поклонник – соперник – соратник, как это часто бывает, казалось бы, не мог принять критики произведений своего кумира – Прокофьева. Но правда состоит и в том, что на рубеже 1947 и 1948 года к нему заезжал посоветоваться по поводу Постановления сам Андрей Александрович Жданов, о чём мы узнаём от мемуаристов, вызывающих полное доверие. Кто – то же, однако, вынужден был подкорректировать эти выверты для Ждановских пассажей. Как бы убоги или смешны в своей прямолинейности и примитивности ни были указания партийного светила эстетики, в тексте чувствуется рука профессионала. Музыка ведь такое дело: одно слово «не туда», и пиши пропало! С литературой или живописью скрыть своё невежество легче. Неужто Жданов знал, что такое атональная музыка или диссонансы с дисгармонией? Понятия не имел. Мемуаристы называют в числе советчиков и других музыкальных деятелей и композиторов. Кто только ни клеймил Прокофьева… Страх заставлял.
Асафьев, выдающийся музыкальный критик, интересовался музыкой Прокофьева с его первых шагов. Он составил «Список» самых ранних сочинений композитора, написанных им в детстве. В этом списке во всех подробностях, с указанием сюжетов и тональностей, учёный друг анализирует их как истоки гениального творчества будущего великого композитора. В своём «Дневнике» Сергей Сергеевич Прокофьев часто говорит о том, что никто не понял бы то или иное сочинение так хорошо, как Игорь Глебов (позднее ставший Асафьевым). Но учёный друг был и большим личным другом, многочисленные свидетельства чего мы находим и в «Дневнике» Прокофьева, и в рассказах Лины Ивановны.
В «Воспоминаниях» Лины Ивановны (1928 год, Париж) читаем:
«Однажды, доехав почти до швейцарской границы, мы свернули к городку Аннемас и в местечке Ветраз нашли хороший дом с парком, который сняли на лето и часть осени. Сюда к нам приехали находившиеся в командировке Б. В. Асафьев и П. А. Ламм. С ними мы совершили несколько автомобильных поездок, одна из которых длилась несколько дней».
Из письма Прокофьева Мясковскому от 2 октября 1928 года:
«Не сердитесь на меня за долгое молчание, но ко мне приехал Асафьев, которому я страшно обрадовался и с которым заболтался, впрочем, часто на тему о Вас, о Ваших последних симфониях, которые меня крайне интересуют. А затем мы немного попутешествовали по горам, сначала французским, а потом швейцарским, и даже перевалили через Сен-Готар, тоже вспоминая о Вас и жалея, что Вас не было с нами. Необходимо, чтобы Вы будущим летом выбрались проветриться за границу и чтобы этим проветриванием занялся я. Асафьев был исключительно милым попутчиком, жадно воспринимавшим красоты природы. Ламм тоже был мил, хотя и проявил массу легкомыслия, то сообщая неверный километраж, то призывая на непроезжие дороги».
Один за другим умерли почти все друзья, и жертвы, и соавторы Постановления ЦК ВКП(б), пожелавшего затоптать музыкальный цвет России.
Первым умер Б. В. Асафьев – через год после Совещания. Перед смертью вызвал священника, исповедывался, каялся, и Сергей Сергеевич Прокофьев простил его, в отличие от Н. Я. Мясковского, ни разу не навестившего больного.
В 1949 году произошёл острый кризис мозгового кровообращения у Сергея Сергеевича Прокофьева, сопровождавшийся долгим и сильнейшим носовым кровотечением.
5 марта 1953 года, в день объявления смерти Сталина, Сергей Сергеевич Прокофьев скончался. На его скромные похороны друзья и родные принесли из дома цветы в горшках, которые взяли со своих окон. Все цветы были у Сталина.
Роль Ждановского Постановления (прочие события – съезд, обсуждения и. т. д. – неизбежно следовали за любой партийной выходкой такого масштаба) во всей её полноте, чеканно выразила Ольга Павловна Ламм, прожившая свою жизнь в обществе Павла Александровича, близкого друга, помощника и музыкального секретаря Сергея Сергеевича Прокофьева, и семьи Николая Яковлевича Мясковского, самого любимого друга С. С. Прокофьева. Бескомпромиссность и сила её суждения – это не только следствие общения с лучшими представителями русской культуры или её душевная чистота, но ужас СМЕРТИ, унесшей одного за другим людей, бывших содержанием её жизни. Она пишет:
«1948 год стал годом гибели русской музыки в лице её лучших представителей, донесших до дней Советской власти огромную музыкальную культуру Руси, сумевших передать её традиции наиболее талантливым композиторам младшего, уже в советское время сформировавшегося поколения».
АРЕСТ. ГУЛАГ
Через месяц после ложного сообщения Миры Александровны о расторжении брака с Линой Ивановной и вступления в брак с Прокофьевым – и это была правда, и две недели спустя после Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) Лина Ивановна была арестована.
Это было следующее из трёх страшных событий в жизни семьи Сергея Сергеевича Прокофьева.
Лину Ивановну арестовали 20 февраля 1948 года. Арест, может быть, и не был полной неожиданностью для Лины Кодины-Прокофьевой. Она не слушалась предостережений друзей и недругов, продолжала ходить на приёмы в посольства, продолжала говорить там на всех шести языках, которыми владела, продолжала быть центром внимания. Со всех сторон ей советовали прекратить отношения с иностранцами. Для неё они не были «иностранцами», зато для советских властей именно она была «иностранкой», и её следовало бы убрать с дороги как ненужную подробность в новом удобном и понятном для властей браке Сергея Прокофьева. В отличие от Сергея Сергеевича, который прекратил свои встречи с подданными других стран, Лина Ивановна продолжала встречаться с соотечественниками.
– Но об аресте она не думала? – спрашиваю я Святослава Сергеевича.
– Может быть, даже что-то думала. Потому что ей казалось, что телефон прослушивается. В те времена это было не так совершенно, как в нынешние, и был слышен щелчок включения магнитофона. Потом у неё было ощущение, что за ней ходят. Но с таким ощущением жили все, – раз кругом арестовывали, значит может быть и за мной придут?
Тем более, мама понимала, что приёмы в западных посольствах не шли ей на пользу. На свою голову она подружилась со многими, они встречались и созванивались, какой-то француз и американец к нам приходили. Во время войны. Француз был военным. Очень милый человек, кстати. Это он навестил мать Лины в Париже и привёз сделанные им её фотографии, чем очень обрадовал маму. Американец был представитель московского отделения гуманитарной помощи. Он нам приносил какие-то невероятные ботинки. Мы даже у него были, на улице Веснина стоит такой особнячок.
– Так что мама не то что бы легла лицом к стенке и погрузилась в своё горе?
– Нет, это не в её характере. Она не давала горю проникнуть внутрь, она отталкивала.
Лина Ивановна жила под колпаком. Она сама рассказывает о времени, предшествовавшем аресту, и о самом аресте. Этот рассказ, в отличие от некоторых других, – последователен. Арест и лагеря не причиняли Лине Ивановне ту невыносимую боль, которую она испытала от разрушения своей семьи. В её воспоминаниях мы в разных вариациях не один раз читаем, что пребывание в лагере последовало сразу после разрыва с Прокофьевым, но она была настолько переполнена горем, что оно заслоняло новые страдания.
Перед арестом Лина Ивановна заметила за собой слежку:
«Я стала замечать, что за мной следят. Пошла к Жене Афиногеновой и почувствовала, что за мной идут. В квартиру позвонила лифтёрша и сказала, что какой-то молодой человек ждёт меня внизу и хочет со мной поговорить. Женя ответила лифтёрше: „Она останется ночевать“. Тогда он ушёл, и я смогла вернуться домой.
В другой раз я ждала автобуса. Он подошёл, а за мной стоял какой-то человек. Я вышла прежде, чем дверь закрылась, и убежала от него. В этом автобусе ехали два человека из французского посольства, которые сделали вид, что меня не знают.
Однажды я покупала билет в метро. На мне было светлое пальто и цветное платье. Я вошла в вагон, потом перешла из него в другой и быстро сняла пальто. Таким образом я отделалась от слежки».
Лина Ивановна об аресте:
«В тот день, когда меня взяли на Лубянку, я увидела во дворе мужчин, которые за мной следили. В это время я была простужена и сидела в основном дома.
Позвонил телефон, я подошла, и мне сказали: „Не можете ли вы выйти, чтобы получить пакет от друзей из Ленинграда?“ Я сказала, что не могу и в ответ предложила им зайти ко мне, – я жила совсем близко от метро. Они настаивали: „Нет, вы должны прийти сами“. Я сказала, что плохо себя чувствую, но вышла и взяла с собой мои ключи.
Они ко мне подъехали, к тому месту, где я должна была их встретить.
Какой-то человек подошёл ко мне и спросил: „Это она?“ Другие ответили утвердительно, меня затолкали в машину, и мы проехали мимо нашего дома. Тот, кто сидел рядом с шофёром, когда меня везли, был настоящим энкавэдэшником.
Я спрашивала: „Почему я в этой машине? Почему вы забрали у меня сумку и ключи?“ Они перебили: „К вам должен был кто-то прийти сегодня вечером?“ Я ответила: „Я не знаю. Кто-нибудь может забежать“. Я им сказала: „Это ошибка. Я должна была получить пакет.“ А они заявили: „Человек, которого вы должны были встретить, преступник.“ Я сказала: „Отпустите меня, я должна предупредить детей“.
Вся история с пакетом была подстроена. Это произошло в феврале. Накануне дня рождения Святослава.
Меня повезли прямо на Лубянку, в огромное серое здание в центре Москвы. Старая женщина меня раздела, отрезала все крючки, оторвала все пуговицы. Потом меня заставили идти под душ, сняли отпечатки пальцев и запихнули в бокс, где могли стоять только два человека. Я была заперта как в шкаф. Не было даже стула. Там меня оставили. Я слышала, как снова и снова звенел звонок, шли ещё люди, забирали много людей. Бросали им на пол матрацы. Мне дали кислый чёрный хлеб, немного воды и позже ужасный суп, как настоящему заключённому. Я была в состоянии шока, в ужасе. Стала звать кого-нибудь. Я должна сказать что-то детям. Мне ответили: „Им сообщат“.
Детям сказали, что они могут послать мне смену одежды. Никакой связи.
Я написала, что я хочу, чтобы они мне передали. Мне пришлось ждать всю ночь стоя. И всё время раздавались звонки. Лязг запирающихся дверей. Они забрали у меня часы, брошку, кольцо, запечатали всё в конверт, но никогда мне ничего не вернули.
Впоследствии я узнала, что они разгромили мою квартиру, и именно поэтому они и спрашивали, жду ли я кого-нибудь в тот вечер.
Святославу было тогда 24 года, а Олегу 19.
На допросы меня везли за город на грузовике. Стояли серые дни. Через щёлку я видела места недалеко от дома, я слышала лай собак, по утрам кудахтали куры. Меня допрашивали.»
Лина Ивановна Кодина-Прокофьева была осуждена по 58-й статье и приговорена к двадцати годам лагерей строгого режима в находящемся за полярным кругом посёлке Абезь близ Воркуты.
Рассказ об аресте матери Святослава Сергеевича, которому было в ту пору 24 года, в основных чертах не отличается от рассказа Лины Ивановны.
«Маму арестовали 20 февраля под вечер. Нам позвонили по телефону и сказали, что какие-то знакомые просили что-то передать ей. Соседи по дому видели, как она подошла к стоявшей у ворот машине и её буквально туда затолкнули. Она была в шубке, налегке, потому что предлагали только спуститься. Кто-то шёл мимо и рассказал, как её, с выражением изумления на лице, затолкали, как показывают теперь в кино, в машину и увезли.
К нам сразу же поднялись с обыском. Трясли всю ночь, и всё писали, писали…»
Святослав Сергеевич рассказывает, что особой грубости при обыске не проявляли. Разве что когда в дверь позвонил кто-то из его друзей, – он, конечно, ничего не знал. – перед его носом без объяснений захлопнули дверь, а Святослава молча оттолкнули.
– Кстати, всё забрали! – рассказывает мне Святослав Сергеевич в ноябре 2004 года. – Даже рояль. Я им говорю: «Это же не её, это отцовский рояль», а на меня как цыкнули! В копии протокола обыска, которую я сохранил, значилось «кольцо с камнем из жёлтого металла, даже „золото“ не было написано. Какие-то гроши ей впоследствии вернули по этой описи, ну совершенные гроши. Но представьте себе! Всё это забрали, а картины остались! Правда, посреди ночи явилась какая-то женщина, начальница, видимо. Они все вытянулись перед ней в струнку. Она ходила, рассматривала всё, что висело на стенах, потом – цоп! Сняла картину Натальи Гончаровой, букетик белых цветов в перламутровых тонах, – поднесла к свету и вдруг ушла, унося под мышкой эту картину. Конечно, эта картина нигде потом не значилась. А им и в голову не пришло, что картины – это ценность, и остальные все оставили.
Они перетащили все вещи в две комнаты и опечатали их, кое-что там оставалось. Были свалены в мешках все пластинки. Потом я печать нарушил, но они не обратили на это внимания. Я пробрался в комнату и стал заменять пластинки. Там у них не были записаны пластинки по произведениям. Было написано: 30 импортных пластинок, 20 – советских. Были и мамины пластинки: записи оперы „Мадам Баттерфляй“ и „Богема“ в исполнении артистов оперы Ла Скала.
Я успел подменить. На рынке купил – любые – лишь бы сохранить прокофьевские.
Потом, в конце лета они пришли забрать всё окончательно.
Мешок с пластинками волокли вниз по ступенькам, – все пластинки побились.
Очень много ценных документов, фотографий, писем, записных книжек мамы погибли тогда безвозвратно.
На следующий день мы поехали к папе на дачу рассказать ему, что маму арестовали. (Телефона на даче не было). Это был февраль, холодно, машины не останавливались, и мы с Олегом прошли от станции „Перхушково“ тринадцать километров пешком.
Мы позвонили, Мендельсон открыла, обалдела при виде нас, глаза у неё расширились, она молча захлопнула дверь и пошла за мужем.
– Захлопнула дверь?!
– Да, конечно. Закрыла. Ведь было холодно. Зима.
– Но не пригласила вас в дом?
– Нет, но она была в накинутом халате, там, наверное, бедлам был в доме. Мы не то, чтобы очень долго ждали. Но минут десять – пятнадцать. И тогда папа вышел. Он выслушал нас, потом сказал: „Подождите, мы пойдём – погуляем.“ Хотел без неё выслушать нас. Он оделся, вышел и мы какое-то время ходили по дороге, рассказывали всё, что случилось, про арест и обыск. Он задавал нам вопросы, очень коротко. Больше молчал. Видно было, что известие оглушило его.
– Он поразился?
– Он ничего не сказал, но выражение его лица переменилось. Опять-таки, может быть, он был готов к этому. Из-за поездки в органы. Таинственной. Но и вообще кругом шли аресты. Так что он не очень удивился. Знал, что она ходит по приёмам. Один коммунист сказал, что не надо этого делать. Мы же припёрлись из Перхушкова пешком, тринадцать километров, зимой, и ему так хотелось узнать все эти подробности – он же мог устроиться с нами в своём кабинете, в тепле, а мы пошли гулять, чтобы без свидетелей. Но потом, когда мы вернулись, нас всё же позвали в дом.»
Олег и Святослав не знали, что делать. Бросились к Шостаковичу, депутату Верховного Совета СССР. В ту пору очень многие обращались к нему за помощью, и Шостакович всегда старался сделать всё возможное. Увы, он не мог помочь им.
– Раз уж Молотов и Калинин ничего не смогли сделать для своих арестованных жён – руки по швам и ещё улыбались – то отец, или Шостакович, конечно, были совершенно бессильны. Лину Ивановну арестовали как иностранку. Пока был папа, она с ним ходила на приёмы, а потом стала ходить одна, у неё были там друзья, среди «врагов», и этого было достаточно, – поясняет Святослав.
Святослав рассказывал мне, что вскоре после ареста мамы он наивно обратился за помощью в юридическую консульацию, к адвокату. Ему помогли составить письмо с изложением всего произошедшего и просьбой о свидании и свелели прийти за ответом. Много раз ходил Святослав за ним, юрист только руками разводил: мол, нет ответа и всё тут.
После ареста Святослав и Олег искали маму прямо по-ахматовски – в справочном на Кузнецом мосту. Долгое время ничего не могли узнать. Пытались что-то передать, когда узнали, что она в Лефортово, но до суда у них ничего не принимали. Встречи тоже запрещались. Потом был суд, – не суд, а так называемая тройка: сидят три человека, перед ними проходят по очереди десятки людей, и они в считанные минуты решают судьбу каждого.
– Маму признали виновной в шпионаже и измене Родине и вынесли приговор – двадцать лет строгих лагерей.
Позже она не рассказывала о тюрьме, о допросах, но из отдельных, очень коротких упоминаний мы знали, что она прошла карцер, были и ночные допросы с ярким светом в лицо, многое другое. Отца во время этих допросов они называли «этот предатель», «этот белый эмигрант» и тому подобное.
Все эти страшные события осели в самой глубине души Лины Ивановны, – много лет спустя, перед смертью в почти бессознательном состоянии она боялась, страшилась санитаров в больнице, считала их переодетыми охранниками и надзирателями, не доверяла, старалась не подпустить к себе, считала, что её хотят убить. Кричала, что ни в чём не виновата.
Наконец, поиски сыновей привели к тому, что в справочной на Кузнецком мосту им сообщили и о приговоре и о месте нахождения мамы в лагере Абезь, недалеко от Воркуты.
Братья остались одни. Видели отца по очереди, он гулял с ними. Вместе им не разрешалось приезжать, чтобы, по словам Миры Александровны, не слишком беспокоить больного отца. Они заранее просили о встрече, потом за ними приезжала машина, и они ехали на Николину Гору.
Как складывалась их жизнь в отсутствие матери? Её не просто отняли у них – её посадили. Что ж мачеха? Как они жили-поживали?
22 мая 1949 года Мира Мендельсон пишет об Олеге:
«У Олега – снова путаница, причиняющая Серёже немало беспокойства: он решил уйти из своего института (художественный педагогический) заниматься живописью дома, беря уроки у Фалька, и поступить в другой вуз (…) И это после всех хлопот Серёжи и художника Ефанова, которые с большим трудом устроили его в художественный педагогический вуз!»
Мендельсон жалуется на Олега и ссылается на друзей, которые им говорили «о самоуверенности и апломбе Олега и о его незрелости». Твердит про злосчастный художественно-педагогический институт. «Олег держал экзамены в институт имени Сурикова, но получил по основным предметам двойки». И снова возникают Прокофьев и Ефанов всё с тем же худ-педаг. институтом.
«Критикуя оба института, Олег, к сожалению, видит корень зла не в себе самом, а в „направлении в живописи“, в методах преподавания. (…) Говорить с ним не так-то просто, он не способен выслушать чужое мнение, не выносит противоречий. А нервы у нас у всех никудышные».
В 1949 году Олегу – 21 год, Святославу – 25 лет, Мире – 35, Сергею Сергеевичу остаётся четыре года жизни, и он очень болен.
В те времена в художественных вузах царила строжайшая академическая дисциплина, безраздельно царствовал социалистический реализм, и любой шаг в сторону расценивался как политическое преступление. Удивительно, что совсем юный Олег прекрасно разобрался и в «направлении» и в «методах преподавания» и уверенно выбрал своим учителем Фалька, находившегося в оппозиции и поэтому в опале, владевшего импрессионистическим письмом, в то время как самое это слово было под запретом. Принципы свободы в творческом мышлении укоренились в Олеге с детства, возможно – под влиянием матери, а основные ценности Миры Александровны, «актуальность» и «оптимизм», которыми пестрят страницы дневника, не вызывали в Олеге никакого сочувствия. Он хотел заниматься живописью и добился успехов на этом поприще, как, впрочем, и в поэзии, о чём свидетельствуют теперь его картины, украшающие стены квартиры Святослава и Сергея Прокофьевых, а также выставки, которые проходили у него за рубежом, и несколько очень интересных поэтических сборников.
Уже о девятнадцатилетнем Олеге Лина Ивановна с гордостью писала: «Он только что окончил среднюю школу. В качестве дипломной работы он написал замечательное сочинение об искусстве».
А что ж Святослав? Та же ли «доброжелательность»? Читаем запись от 28 августа 1949 года.:
«Однажды я поднялась наверх, чтобы сменить им бельё. Около кресла, на котором лежали бумаги и книги, я увидела небольшой блокнот. Поднимая его, механически посмотрела и увидела записи, сделанные рукой Святослава.
Прочитав несколько записей (по-видимому, это был дневник Святослава), я тут же отложила блокнот, настолько мне стало тяжело. Открытая улыбка Святослава, мягкие интонации его голоса привлекали, но мне неожиданно открылась „оборотная сторона медали“.
Зачёркнуто: „Одна из записей говорит о том, что ‘старые (взрослые) люди, сиречь старики’“ не могут понять чувств молодёжи. Будто бы Святослав пробовал делиться с Серёжей своими переживаниями. Собравшись жениться, он и не думал советоваться с Серёжей или заранее сообщить о своём намерении. Он сказал об этом только в тот момент, когда понадобились деньги на поездку к невесте в Ленинград. Деньги дал ему Серёжа, „сиречь старик“, который, по его мнению, не в силах понять его чувства.
Одна запись была, по-видимому, связана с хлопотами Святослава об оставлении его на работе в Москве до окончания вуза. Очевидно для этого нужна была справка от врача (Святослав болел два года назад лёгкими)».
Мира Александровна неоднократно возвращается к тому, что Святослав не работал. Думаю, ей как никому другому было известно, что если в определённой графе анкеты поступающего на работу указывалось, что мать арестована, никто такого человека на работу не брал.
Святослав Сергеевич пишет: (из личного письма)
«… она бесконечно муссировала тот факт, что я после окончания Архитектурного института в 1949 году не мог устроиться на работу, по её мнению умышленно „паразитируя“. Она упорно дезинформировала отца, скрыв от него трагическую правду, зря растормошив его, мол, какой я бездельник и не объясняя истинного положения, что всё это происходит из-за подлого дискриминационного кагебешного, читай, коммунистического закона в приёмной анкете. А в анкете вопрос такой: „имеются ли у вас арестованные родственники“, что сразу таким, как я, закрывало приём на любую работу. Бедную маму арестовали в 1948 году. Однако мне в 1950 году всё же удалось, наконец, устроиться на неинтересную, но работу, и то по знакомству!»
Наговоры приносили плоды, Сергей Сергеевич видел реальность её глазами, огорчался, не понимал. 1 марта 1950 года он пишет Мире Александровне из больницы:
«(…) Атовмян находит, что играли очень здорово, особенно вторую и третью части. Святослав был с женою. Атовмян был поражён, так как не знал, что он женился. Я сказал, что больше можно поражаться, что Святослав почти год не может найти работы. Атовмян завтра пойдёт на 2-ю сонату (играет Гилельс), и, если встретит Святослава, то скажет ему пару словечек».
И тут мы прощаемся с Мирой Александровной и предоставляем слово Сергею Олеговичу Прокофьеву:
«В последние годы, когда начались проблемы со здоровьем, он хотел только заниматься музыкой. Ничего его больше не интересовало, – ни семья, ни дети. Он и вообще был отцом прохладным, но с возрастом это усилилось, и определённую роль, в этом, конечно, сыграла и Мира Александровна. Общению Сергея Сергеевича с детьми она не только не способствовала, но и препятствовала. Она ревновала его к прошлому, свидетельством которорого были его дети. Тут было и то, и другое. Может быть, он предчувствовал, что ему мало осталось жить».
Жизнь потеряла привычный блеск и накал, стала прозаичной, ушёл праздник, отдалили сыновей, Россия отвергла его музыку, восторжествовала медицина, но, увы, медицина какая-то фальшивая, вялая, не настоящая, не направленная определённо на вылечивание именно этой болезни этого человека, а так… Мира позвонила, Мира вызвала, пришла такая-то, очень хороший врач и милая женщина, задумалась, отвернулась, посмотрела в окно, повернулась, посоветовала, было бы хорошо оставаться на даче и т. д. Потом оба легли в больницу, последовала переписка, у меня болит живот, а у меня голова. Приходил папочка, болеет мамочка. Другой Прокофьев, другие письма. Он привязан к Мире Алнксандровне, но фейерверк гаснет. С ним остаётся только его гений.
Об этом изменившемся Прокофьеве говорит и Святослав Сергеевич, сделавший его последнюю фотографию в 1952 году:
«В последние годы жизни отец сохранил чувство юмора и трудоспособность, и всё же в его состоянии (а ведь он ещё был не старым человеком и должен был быть в расцвете сил) ощущалась какая-то угнетённость, затаившаяся горечь и переутомление, которые, по-моему, отражали пережитое.
В больнице врачи запретили Прокофьеву работать, даже записывать отрывки возникших музыкальных мыслей. И он, чтобы не забыть их, мучительно напрягался, что ему было явно вредно. Хорошо, если ему удавалось найти обрывок бумажки или коробку от лекарств, на которых он мог сделать короткую запись…
Я хорошо помню отца в пятидесятые годы, когда я посещал его на даче под Москвой. Он стал совершенно другим человеком, подавленным, с печальным взглядом. На его фотографии отчётливо видно, как он изменился: я снял его осенью 1952 года. Это был уже другой человек, с печальным и безнадёжным взглядом. Это его последняя фотография. Мне больно смотреть на неё».
Глава двенадцатая Тюрьма. Гулаг. Абезь
Лина Ивановна Прокофьева получила 58-ю статью (шпионаж) и была осуждена на двадцать лет лагеря строгого режима в находящемся за полярным кругом посёлке Абезь близ Воркуты.
В переводе с ненецкого языка Воркута – «Медвежье место». Район находится в зоне вечной мерзлоты, за 67 параллелью. Зима длится там восемь месяцев, с октября по май. Холодный период – 234 дня, температура опускается до минус 50 градусов по Цельсию, почти ежедневная пурга. Высота снежного покрова достигает двух метров. С конца мая до середины июля солнце не заходит, а с середины декабря до начала января не показывается. В короткое полярное лето людям нет спасения от полчищ кровососущих насекомых (гнус). Кругом бескрайняя топь, заболоченная приполярная тундра с кустарниками и мхами, деревьев нет.
Даже в наше время, пролетая вдоль Северного полярного круга над этими местами, не увидишь человеческого жилья. Ледяная, беспросветная, насквозь продуваемая сильными арктическими ветрами пустыня, не пригодна для жизни человека.
В находящемся поблизости, на реке Уса, заполярном посёлке Абезь организовали Северное управление лагерей железнодорожного строительства. Это была суперлагерная структура, включавшая семь лагерей. В Абези находился один из самых больших послевоенных лагерей политзаключённых (таких же, как Лина Прокофьева!), мужчин и женщин – более 30 000. Обычно их селили в разных крыльях бараков. В предыдущие годы заключённых использовали для строительства железной дороги на северо-восток: знаменитая «Мёртвая дорога», через Воркуту, на Мыс Каменный (Салехард – Игарка). Они проложили более 20 км пути для временного рабочего передвижения. К началу прибытия новых этапов в Абези оставалось 3900 заключённых, которых использовали на подготовительной и подсобной работе. Судьба остальных 26 000 остаётся неизвестной.
Зекам довелось класть шпалы лишь до поры до времени, потому что помимо обычной бесчеловечности, выдумка ЦК и СНК отличалась (тоже как обычно) бездарностью и полной некомпетентностью. Адская работа была лишена смысла. После смерти Сталина строительство прекратили, а всё построенное забросили.
В Абези среди многих тысяч погибших скончались арестованный в 1949 году один из самых значительных русских мыслителей первой половины 20 века Лев Карсавин (в 1952 году), в 1953 году замечательный искусствовед Н. Н. Пунин – муж А. А. Ахматовой. На допросах Н. Н Пунина заставили отказаться от всех его эстетических воззрений и сказать: «Искусство Сезанна, Ван Гога является выражением упаднического направления и оценивается советской общественностью как формалистическое. К формалистам относится и Пикассо, несмотря на его полезную общественную деятельность в пользу мира.» Лине Ивановне доводилось несколько раз встречаться в Абези с Даниилом Андреевым.
В Абези в ГУЛАГе зеки – поэты и прозаики, религиозные деятели, священники, актёры которые по 58-й статье – «за контрреволюционную деятельность», «за контрреволюционную троцкистскую деятельность», за участие в «контрреволюционных группировках», «социально опасные элементы», вредители, шпионы, террористы, – воспитывали и учили не зеков, а тех, кто их охранял – надзирателей, лагерное начальство, их детей.
Теперь обществу «Мемориал» удалось соорудить мемориальное кладбище, а в 1989 году был установлен памятный знак жертвам политических репрессий 1930–1950 годов – в поселке Абезь. Не приходится говорить о том, что погибших во много раз больше, чем могил, и нет возможности, несмотря на все старания, установить имена всех жертв и отпущенные им сроки жизни.
Так что Лину Ивановну везли по этапу Москва – Инта – Воркута не куда-нибудь, а в Абезь, строго режимный лагерь, где вопросам обеспечения государственной безопасности придавалось первостепенное значение.
Кого из заключённых могла знать Лина Ивановна, остаётся только гадать. Судьба руководствуется какими-то неведомыми нам законами. В Мадриде Наталья Новосильцов случайно встретилась с вдовой испанца, не только хорошо знавшего Лину Ивановну по совместному заключению в Абези, но и посвятившего ей несколько страниц в своём дневнике. Дневник представляет собой объёмистую рукопись, на сегодняшний день не расшифрованную до конца. Вдова Педро Сепеда была настолько любезна, что передала для этой книги ксерокопии нескольких страничек рукописи своего мужа, где он описывает два эпизода из своего общения с Линой Ивановной в Абези.
Когда в Испании началась Гражданская война, анархист из Малаги по имени Педро Сепеда, чтобы спасти жизнь своих детей, послал их в СССР под покровительство Долорес Ибаррури, прославившейся своей жестокостью по отношению к своим испанцам. Его сына – героя нашего рассказа – также звали Педро Сепеда. Во время Второй мировой войны Педро Сепеда служил в Красной Армии, плавал на подводной лодке в Чёрном море. По окончании войны Педро Сепеда захотел вернуться в Испанию, но, конечно, как и все, получил отказ. Выехать из СССР не разрешалось никому, за этим строго следила и сама Пассионария. И тогда на Рождество 1948 года Педро Сепеда решил бежать. Отчаянная попытка пересечь границу вместе со своим другом аргентинцем в дипломатической почте (в кофре) почти по недоразумению сорвалась, он был арестован, обвинён в шпионаже и попытке нелегального побега и приговорён к 25 годам концентрационного лагеря. Этим концентрационным лагерем оказался Абезь. Там он и встретился с Линой Ивановной, «женой известного композитора Сергея Прокофьева, чистокровной испанкой». Сепеда правдиво рассказывает о судьбе Сергея Прокофьева в СССР, о его взлёте, наградах, славе, а затем уничтожении Ждановым его музыки, аресте жены.
В лагере, как принято, поощрялась художественная самодеятельность. Сепеда, обладавший приятным тенором, пел в сценах из оперы Масканьи «Сельская честь». Лина Прокофьева руководила постановкой этих сцен.
Шла репетиция. Вступление. При закрытом занавесе Туридду восхваляет красоту Лолы в знаменитой Сицилиане. Потом должен подняться занавес, зазвучат колокола, зовущие верующих на мессу на главной площади в сицилийской деревушке, и… Карбонеро (прозвище Сепеды) снова забыл слова.
– Педро, ради Бога, или не пой или перестань ротозейничать, – вырвалось у Лины на прекрасном испанском языке. – Прав Давид, – добавила жена известного композитора, кивнув в сторону Рабиновича, крупнейшего советского музыковеда. – У тебя в голове ветер гуляет.
– Сейчас вспомню, – упорно отвечал Педро.
Другой эпизод заключается в том, что Карбонеро предпринял фантастическую попытку проникнуть на территорию женского лагеря на свидание с Верой Б., своей пассией. Но их предала из ревности её подруга. Педро был жестоко избит надзирателями и водворён в карцер. Когда его, избитого, вели туда, к нему приблизилась Лина Ивановна и шепнула ему по-испански:
– Успокойся. Я попрошу Амирана Михайловича, чтобы он тебя навестил.
И в самом деле, она исполнила своё обещание: через час Амиран Марчаладзе, доктор и друг Карбонеро, навестил его, дал советы по поводу сломанных рёбер (не двигаться) и «забыл» в карцере большой пакет. После его ухода заключённый обнаружил в нём шмат сала, кусок колбасы, печенье и папиросы.
Вместе с Л. И. в том же лагере отбывала срок писательница Евгения Александровна Таратута, известная своими книгами о Ленине. Летом 1989 года в подмосковном Доме творчества «Переделкино» она рассказала о своих встречах с Линой Ивановной Прокофьевой. По тем временам она была «подельницей» Лины Прокофьевой, тоже обвинена в шпионаже. Её арестовали позже, в 1951 году, по той же знаменитой 58-й статье (в России каждый знает эту страшную цифру) присудили к 15 годам лагерей усиленного режима и отправили по том же этапам: Инта – Воркута – Абезь.
В Инте заключённых сортировали и направляли на постоянное место поселения отбывать долгие сроки. Кого – куда. Евгению Александровну – в Абезь, где она и познакомилась с Линой Ивановной.
Жизнь в зоне вечной мерзлоты, когда к утру волосы примерзают к стене, а лопату не вонзили бы в окаменевшую от морозов землю и силачи – не говоря о писательницах, певицах, профессорах, окончивших Сорбонну, – выходит за пределы наших представлений. Сгребать снег этой лопатой в кадушку из-под селёдки (вёдер-то не было), которую невозможно было поднять не только в одиночку, но и с помощью других «шпионок» – такой вид труда изобрели для них в ГУЛАГе. Никакой определённой работы не было. Разве что тщательно убирать – разбирать каменеющую на глазах помойку: задача состояла в том, чтобы в помои не попал мусор. Бак с помоями предстояло везти на тачках далеко в лес, не в одиночку, тачку толкали сообща. По рассказу Евгении Александровны Лина Ивановна, толкая тачку вместе с другими женщинами, иной раз настолько увлекалась своим рассказом о Париже или о своих выступлениях, что начинала жестикулировать и отпускала поручни тачки, становившейся для других более тяжёлой. Женщины относились к ней с некоторой снисходительностью, называли «цветочек-одуванчик», разговоры на политические темы в её присутствии не вели, благо она была совершенно безучастна к политике.
Язык не поворачивается рассказывать, какие бесчеловечные допросы и пытки (все виды пыток во время допросов были описаны и регламентированы) остались позади, сколько издевательств и физических мук перенесли женщины, одни не уступали другим, физическое или нравственное унижение было настолько сильным, что заключённые не вспоминали об этом ни в лагере, ни потом, оказавшись на свободе. Якобы по состоянию здоровья иных направляли в в инвалидные лагеря.
Впрочем, причиной отправки в инвалидный лагерь было, конечно, и отсутствие намёков на сколько-нибудь полезную деятельность, не будем же мы говорить о сочувствии. Если бы была работа, то уж, конечно, преспокойно хоронили бы одну за другой или вместе. Сталинская экономика была в огромной степени построена на рабском труде заключённых, похороненных в общих могилах или не похороненных вовсе. Направление в инвалидный лагерь выходило, видимо, не из-за подорванного на допросах и следствии допросов, но и перенасыщения перенасыщения женщинами пенитенциарныз заведений.
В январе 2005 года Сергей Олегович рассказал мне:
«Авия мало и редко рассказывала мне о тех восьми годах, которые провела в тюрьме, а потом в лагере. Сначала она была в Лефортовской тюрьме, где её допрос проводил лично Рюмин, бывший правой рукой Берии и славившийся своей жестокостью и умением быстро „выжать“ из своей жертвы то, что надо. Её пытали отсутствием сна. Следователь сидел за столом напротив. На неё был направлен луч прожектора. Сзади тоже сидел некто, и в любой угодный им момент они переходили к перекрёстному допросу. Потом её уводили в камеру, но там наблюдали за ней через глазок и как только она задрёмывала, сразу же вызывали обратно. Они должны были выбить из неё признание в шпионаже, но пытками не удавалось сделать это. Тогда они пригрозили ей расправой с детьми, и она подписала все, что они хотели.
Вообще же она и там вела себя независимо и рассказывала мне: „Я им многое назло говорила“. Она даже позволяла себе насмешки в адрес следователя, чем приводила его в полную ярость. Держалась мужественно. Никакого страха. Испанский характер.»
В лагере допросов уже не было, зато начальник приводил с собой сынишку, который по указанию отца плевал в идущую мимо женщину – «зека».
После работы давали мороженую картошку, утром овсянку, одеты были соответственно: стёганые ватные штаны, огромные валенки, бушлаты.
Е. А. Таратута и Л. И. Прокофьева попали в наихудшие условия так называемых особых лагерей, где содержались все осуждённые за шпионаж, диверсии, троцкизм, меньшевики, эсеры и т. д. Набор, знакомый до боли. Среди осуждённых женщин в Абези больше всех оказалось уроженок Украины, России, Белоруссии, очень много из Литвы, Польши, Эстонии, немало немок. Были и иностранки. Е. А. Таратута рассказывает, как украинки выдёргивали откуда-то взятыми иглами (строжайше запрещалось!) нитки из старых кофт и всё свободное от перевозки помоев время посвящали вышиванию.
За годы жизни познакомившись с несколькими женщинами, в прошлом которых осталось заключение в сталинских лагерях, я хорошо знаю, насколько серьёзное значение придавали сталинские палачи самодеятельности. В силу состава заключённых иной раз поставленным им спектаклям могли бы позавидовать профессиональные театры. В основном же, конечно, все пели. Хором и сольно. Участникам лагерной самодеятельности даже выходило какое-то послабление. А некоторые святые по характеру женщины, вроде моей тёти Марины – дочери композитора А. А. Спендиарова (она преподавала пение Светлане Сталиной) – искренне увлекались, забывали обо всём и погружались в идею приобщения к искусству народа в лице как зеков, так и охраны.
Е. А. Таратута пишет, что в лагере была КВЧ (культурно-воспитательная часть) при библиотеке, где заключённые пели хором, а некоторые молодые женщины и соло. В репертуаре в основном были известные советские песни, «Каким ты был, таким остался», «Руки» из репертуара Клавдии Шульженко. Эти песни все знали наизусть, пели по памяти, под аккомпанемент балалайки. Лина Ивановна пела в хоре и горько жалела, что потеряла голос.
Об участии в самодеятельности и некоторые другие подробности рассказал Святослав Сергеевич: «-Кстати, о самодеятельности. Участвовал в ней и Давид Рабинович („Додик Рабинович“), он играл на баяне. Разумеется, шпион.[93]
Какой-то немец из гэдээровских там тоже был. Как-то раз, когда они проходили мимо, или их вели (чужие – не из их лагеря), мама вдруг слышит, как её окликают, но как?!
„Три апельсина! Три апельсина!“ Чтобы не называть фамилию.
Кстати, о немцах. Там был немец, который работал врачом (из заключённых), он принимал больных и из уважения к папе взял к себе маму медицинской сестрой. Всё же это было лучше, облегчало жизнь. Там же у них были мужские работы, уборка лагеря, тяжести таскала. Вообще же о лагере говорила очень мало. Я её не расспрашивал.»
Этот врач по фамилии Зоммер, Эрик Зоммер сейчас живёт, по словам Сергея Олеговича в Мюнхене. В 1984 году Лина Ивановна пригласила его на премьеру оперы Прокофьева «Огненный ангел», в Бонне.
Их встреча в лагере оказалась в определённой мере спасительной. Эрик Зоммер прекрасно знал музыку Прокофьева, Лина Ивановна говорила по-немецки, они разговорились, и так произошло их знакомство. Положение Авии в это время было катастрофическим. Шёл четвёртый год её лагерной жизни. В течение месяцев она должна была чистить замёрзшую и твёрдую как камень картошку тупыми ножами. Нормы были огромными, так как картошка предназначалась и для окрестных мужских лагерей. Авия дошла до предела истощения. И тогда ей на помощь пришёл Эрик. Он заявил, что ему, не знающему русского языка, необходима переводчица для общения с пациентами в лагерной больнице. Начальство нехотя согласилось. Это, возможно, спасло ей жизнь. Но спасительный период в лагерной больнице длился недолго, так как Зоммер вскоре был амнистирован и вернулся в Германию. Лина Ивановна всегда помнила о нём и, вернувшись на запад, предприняла все усилия, чтобы разыскать его. Ей это удалось.
Евгения Александровна свидетельствует:
«Всё случившееся с ней она переживала очень тяжело, у неё были мучительные перепады настроений, но она не верила по-настоящему в то, что с ней происходило, не верила, что это надолго и в свой двадцатилетний срок не верила совсем. О тюрьме никогда не говорила, и, может быть, лишь однажды упомянула о том, что допросы были очень тяжёлыми.»
Евгения Александровна не помнила точно момент, когда она познакомилась с Линой Ивановной, но это и не так важно и не мешает ей дать нам удивительно красочный, яркий образ Лины Ивановны, – я узнаю её в каждом слове.
Она рассказывает, что Лина Ивановна страдала, может быть, больше других. Испанка, родившаяся в Мадриде, привыкшая к тёплому морю в Европе, а потом и в России, она была не в силах переносить страшные морозы. Да и условия её жизни на воле разительно отличались от представлений о комфорте других заключённых. Блестящая жизнь, прожитая в Париже, да и в России рядом с Прокофьевым, настолько контрастировала с лагерем усиленного режима Абезь, что это не вмещалось в сознание. Она как будто попала в ад. Но не сосредоточивалась на этом. С ней было легко общаться. Евгения Александровна пишет, что Лина Ивановна была очень радушна, общительна, доброжелательна ко всем. Никто не чувствовал её превосходства, потому что она сама его не ощущала.
Сыновья присылали ей посылки, и она всегда щедро делилась со всеми женщинами присланными продуктами, оставшимися в посылке после того, как в ней покопалось лагерное начальство. «Разрешалось посылать посылки, – элементарные – масло, сахар, письма со временем разрешили писать, и она отвечала, сохранились её письма оттуда, – конечно, ни слова о лагере, а так, типа воспоминаний», – рассказывал мне Святослав Сергеевич.
Писать письма разрешалось раз в год, они были под строжайшей цензурой, но получать можно было сколько угодно. Лина Ивановна не часто получала письма, но вряд ли в этом были виноваты мальчики, поскольку письма отнюдь не всегда доставлялись адресатам. Некоторые из заключённых допускались к тому, чтобы убирать квартиры охранников, и там находили выброшенными пачки писем.
«В условиях лагеря она постоянно была настроена на добро и красоту, любила и умела общаться с людьми. Нередко, страдая от одиночества, она стояла где-нибудь между бараками (хождение из барака в барак не поощрялись) или шла туда, где можно было общаться – в индивидуальную кухню, где разрешалось вскипятить присланный из дому чай, в библиотеку – чтобы с кем-нибудь поговорить. Особенно хотелось ей поговорить по-французски. Очень любила вспоминать Париж, свои путешествия с Сергеем Сергеевичем…»
Я узнала Лину Ивановну и в рассказе Е. А. Таратута о том интересе, который вызывал у неё разноцветный шерстяной платочек, торчавший из кармана серого бушлата заключённой Таратута. Лина Ивановна часто им восхищалась. Недаром она сохранилась в моём первом воспоминании как разноцветное явление на тусклом фоне.
Вспоминается рассказ Софьи Прокофьевой о первом посещении квартиры на Чкаловской некоторое время спустя после ареста Лины Ивановны.
«Я бывала у неё на квартире на Чкаловской ещё до того, как её поменял на свою поменьше Куприянов – один из Кукрыниксов. Я помню, как Олег однажды привёл меня в эту квартиру, пустую, откуда вывезено было всё, – ковры, инструмент, мебель, и она была усыпана чёрными длинными перчатками, я помню, я их нашла и забрала их себе с разрешения Олега. Я даже сшила себе под них жёлтое платье, и на меня смотрела с удивлением Майя Плисецкая, перчатки произвели ошеломляющее впечатление даже на Плисецкую. Это 48–49 годы. Потом в эту квартиру уже въехал Куприянов. Что ещё меня поразило в этой квартире – огромное количество искусственных цветов, великолепные пармские фиалки. Поскольку жену Святослава Надю это не интересовало, я взяла их себе. Как-то, помню, я была в тоненькой кофточке, длинной юбке и с этими фиалками, и Нейгауз сказал: „Самая элегантная женщина“».
Она искала и находила в окружающей обстановке всё сколько-нибудь красивое, она всё время вспоминала, мечтала. Её окружала особая атмосфера.
«Она любила делать комплименты, видела в женщинах, давно утративших женственность, остатки ушедшей красоты, и всегда говорила об этом вслух. Или воображала: „Вот давайте представим себе, что мы с Вами в театре и сейчас поднимется занавес.“ (…)
Она была ещё хороша. О зеркале в лагере речи быть не могло, но она взбивала свои тёмные волосы перед оконным стеклом.»
Густые вьющиеся волосы с лёгкой проседью Лина Ивановна сохранила не только до последних дней, когда я видела её (в 1974 году ей было уже 77 лет!), но, как рассказывают очевидцы, до самой смерти в 1989 году.
Пребывание в ГУЛАГе Лины Ивановны сократилось только по одной причине: 5 марта 1953 году умер Сталин. Упоминаю его имя только по суровой необходимости. Прекрасно помню этот день, всеобщий ужас и растерянность, но прекрасно помню и другое: моя мама была убита другим известием: умер Сергей Сергеевич Прокофьев. Суждено было умереть ему в один день с палачом. Помню, мама сказала тогда: «Посмотрим лет через двадцать, кого будут поминать в этот день.» Оказалась права.
Прошла весна, а летом, во время одного из рейсов с помоями, прибежала женщина и сказала, что в Аргентине состоялся концерт памяти Сергея Прокофьева. Лина Ивановна заплакала и, не сказав ни слова, пошла прочь. Таков рассказ Е. А. Таратута.
Сергей Олегович Прокофьев донёс до нас рассказ Лины Ивановны, будто незадолго до смерти Сергей Сергеевич явился ей во сне весь в белом. Она поняла, что он умер.
– Авия рассказывала мне, что в лагере она перенесла смерть Сергея Сергеевича. У неё был сон. Сергей Сергеевич явился ей одетый во всё белое (ведь она, по крайней мере, со стороны отца происходит из простой испанской семьи, там были живы ещё поверья, суеверия), и когда Сергей Сергеевич явился ей во сне в белом, она сразу поняла, что он умер. Это Авия мне сама рассказывала.
И две недели спустя одна из её солагерниц рассказала, что когда мыла пол у коменданта, то услышала по радио слова о том, что «в связи с тем, что две недели тому назад умер Сергей Сергеевич Прокофьев…», и побежала тогда сообщить ей об этом.
В 1954 году Л. И. написала заявление Генеральному прокурору СССР. Если бы в этой главе оказалось только одно это заявление, то и его было бы достаточно, чтобы дать полное представление о происходившем и чтобы волосы на голове зашевелились. Лина Ивановнаа умудрилась сохранить его текст. Вот он (текст написан от руки, орфографию и пунктуацию сохраняю):
Генеральному Прокурору СССР
От заключённой Прокофьевой Лины Ивановны
1897 г. рождения, по постановлению Особого Совещания
объявленного 1-ч1-48 г отбывающей наказание по
ст. 58, 1а, на срок 20 лет И.Т.Л. с конфискацией
Адрес: Коми АССР, Интинский Р-н, посёлок Абезь
П.я. 388/16 б
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я была арестована на улице, в Москве, 20 февраля 1948 г. 9½ месяцев меня продержали в Лефортовской тюрьме; Следствие длилось 3½ месяца, остальные 6 месяцев меня не вызывали на допрос.
В ходе следствия в основном выявились следующие обвинения:
1. попытка к бегству заграницу.
2. кража секретного документа из Информбюро.
3. передача письма Инж.(енера) Шестопала его жене Сусанне.
4. Кроме того, мне ставили в вину знакомства с Норис Чипманом и Фредериком Рейнгардтом, оба секретари пос.(ольства) США, и Анны Холдкрафт, сотрудницы прессбюро английского посольства, называя эти знакомства «преступными связями».
Эти обвинения я целиком отвергаю. Всё это фальсификация, создание следователей Зубова, Маликова, Белова и завершившего эту работу Рюмина. Начальник следственного отдела Кулишев.
Постараюсь объяснить обстоятельства, благодаря которым я оказалась в заключении, фактически пожизненном, мне ведь 56 лет, и здоровье моё очень подорвано.
1. попытка к бегству заграницу:
Я иностранка, родилась в Мадриде. Приехав в СССР в 1936 г. с моим мужем, композитором Сергеем Прокофьевым, приняла Советское гражданство. В 1946 году оффициально (sic) хлопотала о разрешении выехать в Париж, повидаться с больной старой матерью, которая там проживает. На следствии это человеческое желание было превращено в «попытку бегства заграницу». Ведь в Москве оставались мои сыновья и муж. Между тем когда в 1937 и 1938 гг. мы были с мужем заграницей, там считали, что мы ведём советскую пропаганду.
2. кража секретного документа. В 1944-45 * г. по рекомендации писателя Афиногенова я работала с перерывами, в Совинформбюро переводчицей – на дому. В общей канцелярии, дальше которой я доступа не имела, мне давали макулатуру (бумагу, где одна сторона была чистая, другая использованная). На следствии мне предъявили фотографию какого-то длинного документа, напечатанного типографическим способом, и обвинили меня в том, что я этот документ «украла», в то время как я этого документа никогда не видала. Я только помню, что однажды в макулатуре был лист, на котором было напечатано несколько строк на машинке, точного содержания которых я не помню, и была-ли это выдержка из этого документа, я не знаю. Ни о какой краже документа здесь не может быть и речи.
3. Письмо Инж. Шестопала, адресованное его жене, моей знакомой Сусанне Рот(з)енберг, я действительно передала Фанни Чипман, уезжавшей заграницу в 1940 г. Предварительно это письмо я прочла сама, оно носила характер чисто-бытовой и ничего подозрительного в нём не было. Сам же Шестопал на очной ставке со мной сказал, что в письме имелись сведения о заводе в Горьком, а также то, что мы с его женой собирали «шпионские сведения» – ничего конкретного, ни одного факта, в чём состояли эти сведения им не было приведено. Но внешний вид Шестопала и его поведение, достаточно красноречиво показывали, каким путём от него добились таких ложных показаний – это был совершенно измученный, доведённый до крайности человек.
4. С Фанни Чипман, женой Нориса Чипмана, (секретарь посольства США), племянницей известного французского скульптора, Антуан Бурделя, я познакомилась в Париже много лет назад, до её замужества. С Фредерик Рейнгардт (сек. пос. США) познакомилась у Чипманов в 1939 году. Изредка встречала его на оффициальных приёмах, когда он бывал в Москве. Перед отъездом Рейнгардта в Париж я передала ему подарки для моей приятельницы Фанни Чипман. (Встреча, передача подарков и наша прогулка на автомобиле была названа «преступной связью»). С Анной Холдкрафт, (сотрудницей пресс-бюро английского пос.) у меня были сугубо приятельские отношения, и назвать это знакомство «преступной связью» никак нельзя.
В чём я виновата? В основном только в том, что ставши советской гражданкой я не прекратила своих иностранных знакомств, которые и явились причиной моего несчастья. С этими знакомыми я встречалась преимущественно на приёмах, куда я попадала благодаря мировому музыкальному имени моего мужа, Сергея Прокофьфева, кроме того я жила за границей до 1936 года, где и была со многими знакома. Но никогда я не использовала иностранных знакомств во вред Советскому Государству, – это были только личные бытовые отношения, в которых ничего преступного не было.
Сообщаю о себе краткие автобиографические данные:
Родилась в Испании, г. Мадрид в 1897 г. в семье испанского артиста. Мои родители в связи со своей профессией много путешествовали, поэтому среднее и высшее (незаконченное) образование получила за границей. Владею шестью языками. Училась пению во Франции и в Италии, где и выступала как певица в опере, концертах и Радио, так же в других странах. С 1936 г. я нахожусь в СССР, приняла Советское гражданство, жена Советского композитора Сергея Прокофьева с 1922 г. и мать его двух сыновей. Участвовала в его концертах по Европе и Америке, и выступала в Советских Посольствах. В СССР выступала в Московской филармонии, Харьковской, Архангельской. Вследствие нервного заболевания оставила сцену. Во время войны брала переводы статей на английский и французский язык для Совинформбюро. Я была поглощена своей семьёй, творчеством мужа и профессией.
Следствие моё велось методами недопустимыми (в Советском Государстве). Показания искажались до неузнаваемости, и это называлось перекладыванием «моей белиберды» на юридический язык. Мне говорили: будьте умницей, подписывайте – мы знаем, что Вы не шпионка, но так надо. Меня запугивали тем, что судьба моих детей будет погублена. Следователь Зубов плевал на меня, толкал ногами. В течение трёх с половиной месяцев (период следствия) мне не давали спать ни ночью ни днём, я дошла почти до психической болезни. Два раза по пять суток я сидела в карцере, вернее «стояла», ноги у меня отекли как брёвна. В сильный мороз меня водили из карцера на допрос через двор, без верхней одежды. Ночью, на допросах, из кабинетов следователей в Лефортовской тюрьме доносились дикие крики. Когда мне становилось очень не по себе, меня следователеь Маликов «утешал»: «Ничего. Вы ещё сильнее закричите, когда получите резиновой палкой по ж…!» Весьма часто меня угощали отборным матом. Полковник Кулишев назвал моего мужа «белым эмигрантом», имеющим капиталы за границей, что я его покрывала, и буду строго за это наказана. В конце следствия я пыталась протестовать, хотела всё изложить на бумаге, но мне в этом было отказано.
После смерти вождя стали делать послабления, возникло название «Потьма», об этом рассказывает Святослав Сергеевич:
– Мы с братом ездили к маме, потому что в последние годы стало легче, и даже появилась возможность выбрать по желанию другой лагерь. Она была в Инте, там зима жуткая и вечная эта темнота – Абезь. Полгода вообще нет солнца. Это, говорят, очень подавляет. Предлагали на выбор другие места, и мама согласилась. Её перевели в Мордву – Потьма. Она этого хотела, говорила, что там уже наша широта. В средней полосе нормальная природа, деревья, цветочки. И года за два до освобождения она дала нам знать в письме, что можно приехать повидать её.
И вот мы поехали, в Мордовскую ССР, в Потьму. Я помню, сначала железная дорога шла куда-то на юг, потом надо было сделать пересадку, перпендикулярно к этой железнодорожной магистрали, на другую ветку, около часа мы ехали, и кругом всё лагеря, лагеря, лагеря. Какой-то кошмар. Мы приехали поздно вечером, но нас всё-таки приняли и разрешили переночевать в административном помещении, так что мы с Олегом спали на столах. А утром нас уже повели в домик для свиданий, и мы в нём жили три дня. Рядом был магазинчик, питались, гуляли по зоне. Там было очень много эстонцев. Туда же половину Эстонии арестовали. Одной художнице – дали сарай для работы, и мы туда к ней ходили. Даже было какое-то ощущение свободы. Тем не менее это была зона, с колючей проволокой и всем что положено.
К этому времени мы не видели маму уже шесть лет. Это было в 1954 году.
– Как вы её нашли?
– Вы знаете, ничего. Она изменилась. Не то, чтобы очень худая, но всё-таки другая. Конечно, у неё был подъём от нашего приезда. Кроме того, в воздухе пахло освобождением. Уже некоторых освободили по непонятной очерёдности.
Правда, ещё раньше к ней ездил Олег. Совсем мальчишкой. На север, в Абезь. Он боялся, что его арестуют. Это была тяжёлая поездка. Говорил, что это было ужасно, что его чуть не арестовали, думали, что он – шпион. Он был одет не так, как заключённые, его заметили. Тогда ещё не было комнаты для свиданий. Он повидался и вернулся.
По амнистии 27 марта 1953 года были освобождены все осуждённые на срок до пяти лет. Заключённых стало вдвое меньше. Лагерей осталось «всего» около семидесяти. Осуждённые на более продолжительные сроки должны были ждать решения своей участи. Срок наказания Лины Ивановны сократился до восьми лет вместо двадцати.
Система ГУЛАГа просуществовала до 1960 года.
Лина Ивановна была реабилитирована за отсутствием состава преступления в 1956 году, о чём и сказано в типовой, общей для всех справке (форма № 30), которую прилагаю.
ФОТОГРАФИЯ СПРАВКИ.
Расшифровка справки.
Слева: герб СССР. Под ним: Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР
15 июня 1956 г
№ 4н-07415/56
Москва, ул. Воровского, д. 13
Справа. В верхнем правом углу: Форма № 30 (мелким шрифтом)
В центра большими буквами:
СПРАВКА
Дело по обвинению ПРОКОФЬЕВОЙ Лины Ивановны пересмотрено Военной Коллегией Верховного суда СССР 13 июня 1956 года.
Постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 16 октября 1948 года в отношении ПРОКОФЬЕВОЙ Л. Т. отменено и дело за отсутствием состава преступления прекращено.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СУДЕБНОГО СОСТАВА ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ
Подпись (П. Лихачёв)
Печать
Приложение к главе
С помощью Виталия Шенталинского мне и Д. Н. Чуковскому удалось связаться с проживающим в Сыктывкаре А. А. Поповым, пролившим некоторый свет на дело Лины Ивановны с помощью общества «Мемориал».
Сведения присланы из Абези председателем тамошнего «Мемориала» В. В. Ложкиным, – пишет в письме, адресованном мне и Д. Н. Чуковскому А. А. Попов.
«Мне известно, что она была певица и первая жена композитора Сергея Прокофьева. От брака с ним имела двух сыновей. Свой срок в Абези отбывала при Минлаге. Умерла в Англии в 1991 году…
Если по Вашим данным она находилась в Абези 8 лет, а этапирована в Дубровлаг 5 января 1956 года, следовательно, у нас сидела с 1949 года.
Жду новых любых сообщений о Лине Ивановне и других узниках Абезьского лагеря. В. Ложкин».
Из ответа Воркутинского архива МВД Республики Коми от 16.02.98 г, № 12/172.
«… Гражданка Прокофьева Лина Ивановна, 1898 г.р., уроженка г. Мадрид (Испания), осуждена особым совещанием при МГБ СССР 16 октября 1948 года по статье 58-1а УК РСФСР на 20 лет л/cв.
Начало срока с 20 февраля 1948 года.
Этапирована в Дубровлаг 5 января 1956 года вместе с личным делом.
Завю архивом УИН МВД РК
И. С. Скопич»
В следующем письме А. А. Попов сообщает текст ответа, полученный им из Воркуты:
«Согласно Вашему заявлению сообщаем: гр. Прокофьева Лина Ивановна, 1898 г.р., движение по лагпунктам:
4-ое лаготделение 10.08.1949 по 2.10.1949 г.,
6-ое лаготделение 3.10. 1949 по 4.01.1956 г.
и 5 января 1956 года этапирована в Дубровлаг».
Глава тринадцатая После лагеря. 1956–1974. Отъезд из СССР
30 июня 1956 года сыновья, Святослав и Олег, получили телеграмму: «Выезжаю сегодня вечером восемь тридцать целую Мама».
В назначенный час они ждали Лину Ивановну на вокзале.
Встречу описывает Софья Прокофьева:
«Начну с того, что очень хорошо помню раннее серое тусклое утро в день её приезда, в 1956 году. Насколько я помню, Святослав и Олег поехали встречать её на вокзал, а мы с Надей ждали её на Чкаловской, в той крошечной квартирке, которую дали сыновьям вместо большой в том же доме. Мы очень волновались.
И вот вошла женщина невысокого роста, очень плохо одетая, очень бледная, и с этого момента начались знакомство и дружба, которая продолжалась многие годы, и потом уже перед смертью Лина Ивановна звонила мне из Бонна. Вернее, не она сама мне звонила, она передала, что хочет со мной поговорить, Серёжа дал мне её телефон, и у нас был с ней долгий-долгий последний разговор, очень нежный. Но это уже много лет спустя.
А тогда она вошла ужасно одетая, очень плохо выглядела, и мы с Надей решили, что прежде всего ей надо одеться. В магазинах тогда ничего не было, и мы повезли её по комиссионным. Она нигде ничего не купила.
Через два дня это была элегантнейшая женщина. Не знаю, как это ей удалось, но она была одета красивее, чем можно себе представить, и выглядела совершенно очаровательно. Как она это сделала, я не знаю. У неё уже появились какие-то драгоценности, тогда ещё не очень дорогие, но одета она была – сама элегантность.
Она с большой нежностью относилась к маленькому Серёже и, как обычно, считала, что мы воспитываем его совершенно неправильно, изнеживаем и балуем, но очень его любила.
Сыновья привезли её домой, а потом на дачу в Поваровку, где Святослав снимал дачу.»
Многое изменилось за прошедшие восемь лет.
– У нас была четырёхкомнатная квартира, – рассказывает Святослав Сергеевич. – После маминого ареста две комнаты опечатали и оставили две – одну Олегу, другую – мне. Потом Куприянову из Кукрыниксов понадобилась квартира, и в результате многочисленных мощных комбинаций они получили нашу номер 14, а нам сначала предлагали Песчаную, но мы не захотели туда переезжать, а потом Куприянов тоже в результате каких-то комбинаций при участии многих семей предложил нам свою двухкомнатную в этом же доме, и мы согласились. Как раз по комнате, Олегу и мне.
Переезжали туда в 1950 году втроём: Святослав, его жена Надя (Надежда Ивановна) и Олег. Именно в эту квартиру в 1956 году и привезли с вокзала Лину Ивановну.
В 1956 году Лину Ивановну поджидали уже два внука, два Сергея. У Олега Сергеевича и Софьи Леонидовны Фейнберг в январе 1954 года родился Сергей Олегович Прокофьев. У Святослава Сергеевича и Надежды Ивановны в мае 1954 года родился ещё один Сергей Прокофьев, Сергей Святославович.
Святослав Сергеевич рассказывает, что после восьми лет в лагере мама не очень сильно переменилась. Но в ней появилась неуверенность, растерянность, удивление, что можно куда-то пойти, потом постепенно она пришла в себя. Ей всё же было уже 60 лет. Больше всего изменилось выражение глаз, взгляд. Это наблюдение относилось и к папе в последние годы его жизни, а теперь и к маме. Понадобилось некоторое время, чтобы она снова почувствовала себя привычно на московских улицах, на свободе. Сохранялись какие-то из лагерных привычек, она продолжала рассовывать что-то по мешочкам, но постепенно это проходило. Из лагерных вещей она берегла альбом с фотографиями детей, который сама склеила в лагере.
Ей предстояло много серьёзных дел, связанных с реабилитацией, с восстановлением своих прав. Бюрократические процедуры требовали времени, сил и энергии. И хотя никакие опасности уже не грозили, но всё равно это было малоприятно.
Прежде всего Лина Ивановна в сопровождении Святослава Сергеевича отправилась в прокуратуру на улице Воровского, в дом № 13, чтобы получить там справку о своей невиновности, приведённую выше. Выстояли длиннейшую очередь. Потом чиновник, к которому она обратилась за этой справкой, попросил кого-то из подчинённых разыскать дело Лины Ивановны Прокофьевой и уточнил: «Ну из тех, сфабрикованных».
«Паспорт-то ей выдали, но там была указана Потьма, а не Москва, и надо было всюду доказывать, что ты не верблюд. А со справкой о реабилитации можно было уже получать разные документы. Ей посоветовали как можно быстрее потерять лагерный паспорт, и тогда она получила московский.»
Следующей задачей было восстановление себя в правах жены Сергея Сергеевича Прокофьева.
Святослав – мне:
– Краснолицая женщина вправляла нам мозги, но видно было, что ей очень неловко, так как все права были на маминой стороне. Развода-то не было. Ну и что ж, что там сказали, что брак недействителен, потому что он не был перерегистрирован, а глупость в чём? Её же ВПУСТИЛИ в СССР как жену, им дали квартиру на Чкаловской. Разве дали бы квартиру мужчине с любовницей? Им дали как мужу и жене. И она – мать двух сыновей Прокофьева. И вдруг в 1948 году говорят: «Вы не жена.» И этот таинственный вызов в КГБ, о котором рассказывал шофёр. То ли папе пригрозили, то ли объяснили, что брак недействителен. Мира Александровна ведь нажимала, писала письма, он же честно хотел развестись, наивно обратился в суд, а ему сказали: «Не надо разводиться. Ваш брак недействителен».
Лина Ивановна подала иск, и все должны были отправиться в суд. Там женщина – прокурор в какой-то момент закричала: «Перестаньте трепать имя Прокофьева!» Тем не менее иск Лины Ивановны был удовлетворён, и в 1957 году её юридические права как жены Прокофьева были восстановлены. Она даже получила свидетельство о браке с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым, а затем и персональную пенсию.
«Когда мама вернулась, она первое время жила с нами на даче в Поваровке, – мы там снимали дачу, – рассказывает Святослав Сергеевич. – Серёже было два года. Потом и в Москве продолжала жить с нами около двух лет».
Сергей Олегович тоже упоминает в своём рассказе, что по возвращении Авия жила в крохотной двухкомнатной квартирке, где жили ещё Святослав с Надей, и родился уже Серёжа, и даже Олег вначале там жил, но потом женился на Софье Леонидовне Фейнберг и уехал оттуда.
Олег получил однокомнатную квартиру на первом этаже в очередном (четвёртом или пятом!) доме композиторов на Проспекте Мира и уехал туда.
Самые чёрные «коммунальные» годы переживали в дальнейшем в своих двух комнатках на Чкаловской Святослав Сергеевич, Надежда Ивановна, их сын Сергей, женившийся на Ирине, и две их дочери. Надежда Ивановна рассказывает, что это был уже ад – шесть человек… В какой-то момент она не выдержала и отправилась в Большой Театр, увешанный афишами балетов и опер Прокофьева, прошла в обитый красным бархатом кабинет к какому-то чиновнику и попросила его включить семью в строящийся кооператив Большого Театра. Он выслушал её и отправил пониже, к некоей тётке (их никак нельзя больше обозначить, бесполых, злобных, с вечным перманентом, упоённых властью над артистами), и тётка сказала: «Так чего же Вы от нас-то хотите? Он же у нас не работает!». Бедная Надежда Ивановна аж задохнулась… «Как не работает?! А это всё что такое?!» – показывая на развешанные кругом афиши. Не надо думать, что тётка усовестилась или чиновник смягчился, но И. Архипова с З. Соткилавой, узнав о бедственных жилищных условиях семьи сына Прокофьева, помогли тотчас.
Лина Ивановна с самого начала была страшно недовольна, что ей мешали спать, и активно хлопотала о собственной квартире. Ей предлагали много вариантов, например, в Марьиной Роще – районе с дурной славой, – потом на Кутузовском проспекте, и она согласилась на однокомнатную квартирку, очень маленькую.
У неё был адвокат, который старался, чтобы ей возместили всё, что она потеряла.
«По акту должны были возвратить все реквизированные вещи, – говорит Святослав Сергеевич. – Пример про кольцо я уже приводил. Но они вообще называли золото жёлтым металлом, драгоценные камни просто камнями, и стоимость оказывалась совершенно другого порядка. Оценивали как галантерейные изделия. Мама с огромным огорчением получила какую-то совершенно незначительную сумму. А вещей – никаких.
Вещи поступали в магазин: некоторые его знали и там задёшево покупали очень ценные вещи. Но это, кажется, в своём кругу, для своих, для органов».
Восстановленная в правах, оставив позади счастье и несчастья, Лина Ивановна вступила в новый период своей жизни в СССР, вместе с тем решительно поставив себе цель вернуться на запад. В шестидесятые годы так называемой «Оттепели» всем стало как будто бы легче дышать. Из лагерей возвращались уцелевшие зеки, начинали понемногу (очень ограниченно) дозированно печатать лучших русских поэтов, уже можно было говорить о Пастернаке и Цветаевой, Ахматовой и Мандельштаме. Когда вышел в Библиотеке Поэта первый сборник Мандельштама, это стало событием, в реальность которого трудно было поверить. «Новый мир» Твардовского, Солженицын, «Один день Ивана Денисовича». И всё же «оттепель» шла на угрюмом фоне жизни «поруганного», как определил его Мандельштам, народа, со смещёнными ценностями, нищего и в то же время не желавшего мириться с тем, что большая часть жизни ушла на служение коммунистическим идолам, к ногам которых бросили все нравственные и этические завоевания столетий, заодно с теми ростками небывалых успехов во всех областях, которыми была отмечена история России в начале двадцатого века. И по сей день невозможно объять ни умом ни сердцем всё содеянное режимом.
Храбрая Лина Ивановна видела всё окружающее незамутнённым взором человека, сорок лет прожившего в условиях нормального общества со всеми его достоинствами и пороками, существовавшего без посягательств на ВСЁ, с бесцеремонным вторжением в святая святых жизни каждого человека. Она в самом деле прошла через огонь, воду и медные трубы. Ей было неуютно в обществе, оскорбившем её гениального мужа, её самоё, она хотела домой.
Вместе с тем жизнь в Москве складывалась своеобразная «в русском смысле» и во многом весьма притягательная для Лины Ивановны, с широтой её кругозора и интеллектуальными запросами. Лина Ивановна очень хорошо чувствовала себя в семье Олега, который в пору её приезда был уже несколько лет женат на Соне Фейнберг (я с детства знала её только под этим именем). Жили и живём в одном доме всю жизнь, мы – во втором подъезде, а Фейнберги – в четвёртом. Впоследствии уже под фамилией Прокофьева она блестяще проявила себя и как поэтесса, и как художница, и как знаменитая детская писательница Софья Прокофьева. В этом доме царила настоящая интеллигентность, помноженная на многочисленные художественные таланты отца, дяди, матери, мачехи, на стенах были развешены картины отца, а в кабинете стоял рояль, на котором, шумно дыша и уносясь в бездны вдохновения играл дядя – пианист, композитор, профессор Московской консерватории. В атмосферу этой семьи, раз и навсегда установившуюся здесь, не смущаемую никакими ураганами, налетавшими извне, попал Олег Сергеевич Прокофьев, тоже, как мы знаем, не обделённый дарованиями. В январе 1954 года родился Серёжа – несмотря на разницу в возрасте, один из самых дорогих мне друзей, теперь Сергей Олегович, – маститый профессор, знаменитый антропософ.
Лина Ивановна любила свою невестку, упоминала её хоть и беспорядочно, но всегда с уважением и симпатией, и ценила этот особый мир. Она часто бывала у Сони, привязалась к Серёже, и любовь к этой семье не ослабела и после 1961 года, когда родители Серёжи разошлись. Олег Сергеевич женился на англичанке, искусствоведе Камилле Грей, написавшей блестящую книгу о русском авангардном искусстве начала 20 века, а Софья Леонидовна вышла замуж за свою первую любовь Виктора Белого.
Так и получилось, что, приходя в дом внука, Лина Ивановна не забывала и живших по соседству друзей, – Тихона Николаевича Хренникова с женой Кларой Арнольдовной из квартиры этажом выше, и нас с мамой, из второго подъезда.
В течение всего времени, которое отделяло Лину Ивановну от освобождения из ГУЛАГа в 1956 году и до 1974 года, когда она покинула СССР, то есть целых восемнадцать лет, «главным начальником композиторов» и вершителем музыкальных судеб бессменно был Тихон Николаевич Хренников; в поле его зрения находилась, конечно, и вдова Сергея Прокофьева.
Сергей Олегович Прокофьев сызмальства был очевидцем встреч Авии с Тихоном Николаевичем в течение всего периода жизни Лины Ивановны в Москве после того, как её выпустили из лагерей. Мне было интересно, что он думает об этом:
– В четвёртом подъезде нашего дома твоя семья жила в квартире 48, а семья Т. Н. Хренникова – этажом выше, в квартире 50. Я и по твоим рассказам, и по рассказам твоей мамы, и самой Лины Ивановны знаю, как часто и Соня, и Авия, и, бывало, маленький ты, поднимались в эту квартиру, чтобы по-хорошему, по-добрососедски поговорить о том о сём, обсудить всё непредосудительное, «неопасное», о чём так интересно было поговорить и с Линой Ивановной, и с Тихоном Николаевичем. Многое в жизни складывается из устойчивых впечатлений детства или юности. Мне казалось, что Т. Н. Хренников относился к Лине Ивановне очень хорошо. Может быть, это страусова политика думать таким образом? Я ведь сама читала те обличительные речи Хренникова, которые он произносил в адрес Прокофьева после печально известного постановления 1948 года. При том достоверно известно, что Прокофьева он боготворил. Может быть, менее известно, что в 1937 или 1938 году были арестованы два брата Тихона Николаевича, и он уже пожизненно был «на крючке КГБ». Всё же вопрос об их отношениях остаётся для меня открытым. Конечно, в те времена ничто нельзя было рассматривать однозначно, а ты был мальчиком – когда Авия уехала, тебе было всего 20 лет, и тебя занимало совсем другое. Но какое впечатление от этих отношений осталось у тебя? Мне кажется очень интересным то, что рассказала об этом твоя мама:
«Лина Ивановна часто заходила к Хренниковым, они её очень любили, у неё случались стычки с Кларой Арнольдовной, потому что Лина Ивановна была невероятно правдива и отвечала возражениями на любую коньюнктурную реплику. Прямая и резкая, она могла категорически не согласиться с любым собеседником, и я никогда не наблюдала в ней ни малейшей фальши или хитрости. Она или изначально была такой или считала, что как жена Прокофьева обязана говорить правду.
Очень мужественный человек. Никогда не рассказывала про лагерь. Вычеркнула его из жизни. Говорила только, что допросы вёл Рюмин. И ещё одна деталь: в её камере непрестанно, день и ночь, не прерываясь ни на секунду, звучала песня „Полюшко-поле“. Это она рассказывала мне лично. Она её не могла больше никогда слышать, и выяснилось это так: однажды её передавали по радио, и Лина Ивановна попросила немедленно выключить радио. И тогда она мне об этом рассказала».
– А ты что скажешь, Серёжа?
– У них были действительно добрые отношения, можно даже сказать, искренняя дружба. Чисто по-человечески Тихон Николаевич относился к ней хорошо, но он был генерал, как называла таких людей Мария Степановна[94], и он должен был выполнять тайные и явные инструкции и, прежде всего, проводить линию партии. В соответствии с этой линией он, вероятно, препятствовал в своё время её поездкам за границу, её выезду.
В мае 1969 года в Париже по адресу основной квартиры Сергея Прокофьева, где он жил с женой и детьми, на доме номер 5, по улице Валентен Аюи, должно было состояться открытие мемориальной доски в его честь: «Здесь с 1929 по 1935 год жил композитор Сергей Сергеевич Прокофьев». Министр культуры Франции Андре Мальро лично пригласил Лину Ивановну на открытие памятной доски. Для выезда требовалась характеристика[95]. Характеристики давал так называемый Первый отдел или попросту местный филиал КГБ. Ведал о том Хренников или не ведал, но только Лине Ивановне дали плохую характеристику, – без этих условных обозначений – и она не смогла поехать.
Как было принято в СССР, под это дело множество чиновных лиц отправились на престижное для русской музыкальной культуры мероприятие – ещё бы, как не съездить в Париж за государственный счёт – не было только хозяйки квартиры.
Трудно предположить всё-таки, что решение приняли без участия Тихона Николаевича. Положение было трудное: Сидела? Сидела! Реабилитирована, носитель ненужной информации, свободолюбивая, доверять нельзя. Безопаснее не пустить.
Об этой же оскорбительной неурядице рассказывал мне Святослав Прокофьев:
«Безобразный был случай, когда на её просьбу поехать на открытие мемориальной доски на доме Прокофьева, улица Валентен Аюи, где в основном они жили, Союз композиторов ответил: „Считаем вашу поездку нецелесообразной“.
Когда во время церемонии в Париже люди спрашивали, почему её нет, то получали ответ, что она не могла, она очень занята. (Об этом рассказывал присутствовавший на церемонии композитор Николас Набоков). Мероприятие долго откладывали, то доски не было, то кто-то не мог приехать. А Тихон присутствовал со всеми своими домочадцами.
Мама старалась быть с ним в хороших отношениях. Но тут, как видите, не помогло. Не полез он поперёд батьки. А вот насчёт восстановления брака он боролся вместе с мамой, – меня это удивило».
– Её не пустили и на открытие знаменитого оперного театра в Австралии, в Сиднее, – продолжает Серёжа. – Он открывался, если я не ошибаюсь, «Войной и миром», – в любом случае, каким-то балетом или оперой Сергея Сергеевича, и Лина Ивановна была приглашена как почётная гостья. КГБ сделал так, как всегда: тянули с оформлением документов до тех пор, пока премьера не состоялась, а когда всё наконец было «готово», заявили: «А теперь-то что вам ехать? Премьера-то прошла уже».
В Сиднее же сделали нечто очень симпатичное. Об этом было написано в газете, и они ей эту газету прислали. Я сам читал статью. Они оставили в первом ряду свободным её кресло, положили на него красную розу, – её место на премьере.
Это шло по официальной линии, но в человеческом плане он старался ей по-своему помочь, хотя я совершенно не могу понять, почему за годы после освобождения он не выхлопотал ей двухкомнатную квартиру. Это совершенно непонятно. Он свободно мог пойти к любому министру и сказать: «Вот вдова Прокофьева, ютится в одной комнате, неудобно перед людьми. Ей негде принимать своих многочисленных русских и иностранных друзей, многие из которых с мировым именем, некуда класть книги, пластинки, некуда повесить картины.» Наконец, незадолго до окончательного отъезда – я даже сопровождал её – ей предложили на выбор несколько двухкомнатных квартир, но было уже поздно, она уже решилась уехать.
Когда же политическая ситуация стала меняться, и можно было помогать, не подвергаясь опасности, думаю, что Хренников помог бы. Парадоксально, но несмотря на то, что он читал все эти речи, повторял и произносил, с другой стороны, он совершенно искренне считал и считает себя учеником Прокофьева. Я слушал в своё время два его фортепианных концерта – конечно, в них влияние Прокофьева совершенно очевидно. Даже подражание. Так что, я думаю, Хренников всё понимал. В границах, когда не было угрозы его собственному положению и карьере, в этих условиях он помогал искренно. Но эти границы никогда не переходил. И когда её отъезд, о котором всем было уже известно, перестал быть абсолютным криминалом, вряд ли он стал бы от себя ей препятствовать. В 1974 году он даже поехал провожать Авию в аэропорт Шереметьево, когда она уезжала из России, теперь уже навсегда.
– Кто же мог посоветовать ей написать Андропову?
– Наверное, кто-нибудь из её дипломатических друзей, поскольку они знали расстановку сил. До этого Авия уже писала Брежневу, но безрезультатно. Андропов же был в то время главой КГБ. Наступали уже диссидентские времена, кто-то мог предположить, что такой эффект возможен. Конечно, имело значение, что её сын уже жил за границей, и она снова стала признанной женой великого композитора.
Авия вообще была человеком, который в принципе зла ни на кого не держал, в каких-то случаях она знала, что Хренников не сделал для неё того, что мог бы, боясь за своё положение, но она продолжала с ним дружить. Человек незлобивый, отходчивый, – такой она была, и я редко встречал подобных людей в этом смысле. Могли быть и приступы гнева, и она могла топать ногами, кричать, у неё был испанский темперамент, властный характер, но после грозы она всё тут же забывала, сама принималась мириться и никогда не вспоминала о прошлых конфликтах.
***
Про квартирку на Кутузовском проспекте в семье существует много легенд.
В быту Лина Ивановна была крайне непритязательна, хозяйства не вела. Ну а если поставила однажды жарить мясо, то сначала заработалась за своей машинкой, а потом и вовсе ушла из дома, оставив его на плите. Из-под двери вскоре повалил дым. Соседи вызвали Святослава, он примчался, вынужден был взломать дверь, так как ключей у него не было. В кухне обнаружил обуглившиеся куски мяса на сгоревшей сковороде. Лина Ивановна, возвратившись, особого значения случившемуся не придала, но выразила недовольство по поводу взломанной двери.
Кроме квартирки на Кутузовском проспекте, с некоторых пор Лина Ивановна стала часто бывать и на даче Прокофьева на Николиной Горе.
В рассказе другого внука, Сергея Святославовича Прокофьева, мы найдём запоминающиеся подробности жизни Лины Ивановна и в квартире на Кутузовском, и на даче.
РАССКАЗ СЕРГЕЯ СВЯТОСЛАВОВИЧА ПРОКОФЬЕВА 8 ноября 2004 (в квартире Святослава в его присутствии):
– Я могу сказать, что мои самые яркие детские воспоминания, хотя в них, может быть, смешались и многие другие элементы – связаны с посещением Большого Театра. Я и с родителями ходил туда, но Ава – я называю её так в отличие от моего кузена, который зовёт её «Авия»[96] – особенно часто брала меня с собой. И я помню, что был как-то раз на одном спектакле в Большом Театре, почему-то мне кажется, что это был «Игрок». Обычно ей предлагали места в директорской ложе справа от сцены, где плохо слышно – там же сидят все контрабасы и духовые самые тяжёлые – а в этот раз получилось так, что та ложа была занята. Её пригласили в центральную ложу[97], которая находится по оси зала, прямо напротив сцены. Мне не досталось места. Все ряды были заняты. И тогда мне принесли стул из фойе и поставили его ровно посередине центральной ложи. Это был уникальный случай, я был жутко горд. Само по себе уже было примечательно. А после спектакля она всегда совершала традиционный поход за кулисы, который назывался «жать руку», приветствовать исполнителей. И это тоже мне очень нравилось. Я не знаю, может быть, в те детские годы такие экстраординарные подробности для меня были более интересны, чем само представление: кто же в возрасте семи-восьми лет после аншлагового спектакля мог оказаться тут же за кулисами, среди всех тех артистов, которые только что… причём самое интересное – да, почему это был «Игрок»… Потому что я помню, что по всей сцене были разбросаны фальшивые банкноты, присутствовашие там во время спектакля. И конечно, производило впечатление, что Ава со всеми была знакома, хохот, смех, радость такая. А я смотрел на этих актёров в гротескном их гриме, потных, усталых, измождённых, из зала-то они нормально выглядят, а вблизи – какой ужас. Такой гротескный грим. Это было для меня сильное впечатление.
Мы не раз, конечно, ходили. Вот обратите внимание на фотографию, которая за вами.[98]. Там внизу она с двумя сыновьями, а выше точно такая с двумя внуками. Но, правда, я не помню, чтобы мы ходили втроём.
Конечно, я очень любил ездить к ней. Правда, не следует тут забывать роль родителей. Поезжай, навести бабушку. Сейчас это всё мне понятно со своими дочками. По дороге к ней в гости на Кутузовский, я ещё проходил мимо булочной, там были калачи. И я всегда успевал купить горячий. И вот я приходил к ней в эту крошечную квартирку, то ли музей, то ли пещеру Али-Бабы, – для меня что-то невероятное – количество фотографий, книг, пластинок, картины, записки, журналы. Это было нигде не видано и всё страшно интересно.
Не всё там было связано с Сергеем Сергеевичем, но в первую голову, если приезжал какой-то пианист и играл его произведения, то, конечно, она непременно ставила его пластинки. А картины эти там висели[99]. Пластинки там и другие бывали, которые у неё оказывались. Кроме всего прочего, она всегда очень любила доставить удовольствие друзьям и в особенности иностранным, – у неё всегда были приготовлены сувениры, чтобы никто не ушёл с пустыми руками, – всегда присутствовало множество всяких мелочей.
Потом я ещё помню, мы как-то ездили гулять в Сокольники. Вместе с Олегом или вдвоём. Помню выезд: папа, Олег и два их сына. Это я как-то очень хорошо помню. Такая мужская поездка. Отправились в Сокольники или, может быть, в Измайлово. Есть фотография. Лина Ивановна в середине шестидесятых ездила со мной погулять. А та поездка, «мужская» – её не так-то просто забыть, потому что вы с Олегом[100] издевались над нами, засаживали в какие-то немыслимые аттракционы дурацкие. Помню эти лица, которые смотрели на своих несчастных детей.
Когда мы жили вместе на улице Чкалова, там было так тесно. Там мы жили так: папа, мама и я в одной комнате, а в другой – Ава и Олег. Помню, что в это время в этой комнате были тёмно-синие стены, такой ультрамарин. И кровать парижскую помню с сундуком, который открывался и был неким таинственным вместилищем. И утренний запах кофе со сгоревшими тостами. Этот запах сгоревших тостов постоянно встречал меня и на Кутузовском. По комнате плывёт синий дым, пахнет кофе и тостами.
Ещё помню жизнь на Николиной Горе уже после ремонта, который Ава провела, и летом вечерком она каждый вечер обязательно куда-то отправлялась. Это был семидесятый год. Я как раз кончил школу, сдал экзамены в институт.
И мы с приятелем, сдав экзамены, приехали на дачу, чтобы в ожидании результатов как-то передохнуть и разрядиться. И мы отдыхали. Вечером Ава куда-то уходила в гости, и я говорю: «Знаешь, мы будем со стороны сада и дверь закроем. Так что ты возвращайся через сад, мы будем на улице.» И время уже было позднее, пробило 12 часов и шло уже к двум, а мы лежали на террасе на двух шезлонгах, оттягивались после экзамена, нам было всё равно, и вдруг так-тук-тук, насвистывая какую-то абстрактную мелодию, которая содержит и оперу, и балет, и романс – такое вот нечто – и она идёт с фонариком и поднимается по длинной лестнице из сада в дом, а мы замерли, и она проходит мимо нас, не заметив нас совершенно – а было темно – и тут я её окликнул, и она так испуганно: «Ах, вы здесь!» И явно с испугом, при том, что прошла пол-Николиной Горы в полной темноте, по тем временам не то что сейчас, это был полу-лес фактически, и её это нисколько не беспокоило, а тут… Она знала, конечно, что мы дома… Это я к тому, что в моей памяти она сохранилась такой независимой и бесстрашной.
Если она была недовольна, то могла топнуть каблуком и уйти. Помню, однажды мы ехали с папой и Авой, и у мамы с сыном произошла какая-то размолвка, в машине стоял крик, а ехали мы зимой по кольцевой дороге, по-моему. Вдруг в какой-то момент она просто сказала папе: «Останови машину, я сейчас выйду». Кольцевая дорога, 70-е годы, кругом снег. Ты не остановился, конечно, и она знала, что ты не остановишься, – это понятно. Но если бы ты остановился, я не сомневаюсь, что она бы вышла. Я и по рассказам других знаю, что это так. Андре[101] рассказывал аналогичную историю, что она его просто бросила в аэропорту в момент посадки. «Ах так, ну и езжайте один!» Хотя дело было совместное. Так что характер был такой. Именно независимость. Ах так, ну тогда я пошла.
Когда я её посещал, она всегда заранее приготавливала мне конвертик с марками, все мальчишки ведь собирали почтовые марки, а тут такой случай, – из всех стран, – она же получала почту со всего мира, из многих стран. Она всегда делила марки на две кучки: одну – мне, другую – кузену. Ему тоже полагались.
– В общем она любила своих внуков…
– Ну да. Как любая бабушка, она всегда очень радовалась, когда внуки приезжали навестить её. Однажды она была ужасно рада, когда я предложил разобрать огромное количество разбросанных повсюду пластинок. Это не была коллекция, но пластинок было очень много. Я спросил: «Ав, хочешь, я тебе разберу пластинки», и она была очень рада. И я помню, как к нашему обоюдному удовольствию я сидел около низенького длинного, в два метра, серванта – так эту мебель тогда почему-то называли – и разбирал все её пластинки, которые сплошь занимали поверхность этого низенького комода. Мне было очень интересно самому посмотреть все эти пластинки, столько!
И потом, когда у неё появилась возможность приобрести какую-то аппаратуру, она очень радовалась, если кто-то из внуков показывал ей, как пользоваться кнопками «вкл» и «выкл». Как включить всё это.
– Она осталась в ваших воспоминаниях энергичной, независимой?
– Прежде всего, независимой. Потому что её всегда окружали люди, кто-то всегда был рядом с ней. Это та независимость, которая даётся возрастом, когда не нужно к чему-то привязываться, к месту, к дому, к человеку. Она же всегда куда-то уходила! Ведь в её доме можно было разве что скромно позавтракать. Никакой еды не было. Ничего не было для этого приспособлено. История с мясом принадлежит к исключительным событиям…
У неё была масса друзей, и она всегда отсутствовала. Потом театры, концерты. Все кассирши и билетёрши всегда давали ей все на свете места, несмотря на любой ажиотаж. Она всегда проходила. Она ничего не пропускала. В 16-м служебном подъезде Большого Театра её встречали как родную, с восторгом. Я на своей памяти в 99 процентах случаев входил сбоку. Может быть, даже это не так уж интересно, потому что пропадает часть «театральности». Попадаешь сразу в эту ложу и ограничиваешься своим местом и прилегающим салоном. Выход прямо вниз.[102].
– Она была полностью сосредоточена на музыке Сергея Сергеевича?
– Всё-таки да, конечно. Он ведь и сам с ней много советовался. Хотя композитор не нуждается в поправках.
Молодых же, наверное, лучше не хвалить. Сужу по дочери, которая учится в художественном училище. Кстати, мою дочь зовут Лина. И когда прабабушка узнала, что её так назвали, она была очень рада. Правнучка родилась в 1981 году, и они даже говорили по телефону.
Святослав:
– И когда Серёжа послал ей фотографию, она говорила, что в своей квартире в Париже (на улице Рекамье) повесила её и разговаривает с ней.
– Я вот не знала, что вы жили вместе на Николиной Горе.
– Да, она реконструировала там весь верхний этаж, на котором невозможно было жить. То есть я, конечно, мог бы, но она превратила его в квартиру, сделала там всё очень хорошо и с удовольствием там бывала. Потому что к этому времени у неё уже была машина, и она могла ездить со своим шофёром куда хотела.
– И всё же она хотела уехать…
Святослав:
– Она хотела уехать уже очень давно. Например, в промежутке между 1945 и 1948 годом.
Как ни странно, Андропов пошёл ей навстречу.[103].
Он нашёлся, между прочим, в тех коробках, которые Фрэнсис отдала в архив. Там может быть и что-то другое. Когда Олега не стало, всё осталось у Фрэнсис и никто с ней не поговорил об этом. Слава Богу, что она вообще не выкинула всё это, а собрала и отдала Ноэль Манн, в Архив.
Когда я приехал в архив и увидел все эти коробки, мне стало так обидно…
«Во время своих посещений Авы, – продолжает Сергей, – я помню её часто склонённой над письменным столом, с ручкой в руках. Она ведь всё время всё записывала, может быть хотела писать дневник или воспоминания. У неё было бесконечное количество маленьких тетрадочек, – назывались „тетради для записей“. Линованные. Она их использовала как ежедневники, линовала от руки, проставляла числа и где-то там ставила даты разных спектаклей, концертов или других каких-то дел, а в некоторых тетрадках она делала свои записи, писала что-то из воспоминаний, заметки. Они лежали повсюду. Я совал нос, любопытство всегда брало верх, не всегда это легко читалось, но я смотрел. Часть этих книжечек – тетрадочек я видел в архиве в коробках Фрэнсис».
Святослав:
– У неё были там расписаны и всякие дела по дням, в котором часу, где и пр. Кстати, она когда-то изучала стенографию и кое-где писала крючками. Это уж никак нельзя было разобрать.
– Но это как ежедневник, – продолжает Сергей, – потом, когда она приобрела свою первую пишущую машинку, это было такое зрелище: посвистывая, в очках, не хватало только клубов дыма для полного вида писателя. У неё был тогда рабочий стол. Он всегда был совершенно завален бумагами, записями, и пр. Я теперь понимаю, от кого я унаследовал этот «борделический» характер. Мой стол имеет точно такой же вид, независимо от величины.
У неё были не только записи, но и огромная переписка, потому что она ведь отвечала на все письма, несмотря на время и все строгости. Я не знаю, как она отправляла эти письма. Через кого-то или с оказией…
– Когда же вы в последний раз её видели?
– Перед отъездом.
– А на западе вы её уже не видели?
– Нет. Когда в первый раз речь зашла о том, чтобы поехать за границу, в 1986 году, я уже работал. Олег меня пригласил, я прошёл все круги ада, у меня уже была семья, двое детей, но мне сказали в ОВИРе, что они считают мою поездку нецелесообразной. Всё, точка. Адьё. Меня впервые выпустили в 1989 году, уже на похороны. Тошнит вспоминать всех этих кадровиков, бухгалтеров, которые там сидели. И каждый: «А почему ваш дядя там живёт? И какие картины он пишет?» Ёлки-палки. Думаешь: какое ваше дело. Дали мне разрешение, но тут французы заартачились. Французское посольство мне отказало: «Вы – слишком дальний родственник, вам необязательно ехать на похороны.» Гнусно. И тогда мы связались с нашим юристом, Андре, благо он уже крепко стоял на ногах, и он не задумываясь написал письмо министру иностранных дел. Это сыграло свою роль, потому что через несколько дней, в восемь пятнадцать утра, раздался телефонный звонок, – я ничего со сна не понимал: «С Вами говорят из французского Посольства. Пожалуйста, приходите в любое удобное для вас время». Я даже не понял, что к чему. «На проходной всё оставлено для Вас». Я пришёл когда мне было удобно, у проходной меня встретили и просто пронесли на руках к послу, которая сама со мной говорила, извинялась и дала визу на месяц, – закончил рассказ Сергей Святославович.
* * *
Власти никогда бы не «поняли» желания Лины Ивановны покинуть СССР.
Лишь однажды её выпустили в ГДР на исполнение «Огненного ангела», она побывала и в других странах «социалистического лагеря», из которых, как и из СССР, нельзя было выехать.
Желание попросту уехать в Европу из СССР, где она перенесла столько горя, могло бы стать только ещё одним аргументом в пользу «преступных намерений» бывшей заключённой. Таких желаний не должно было быть.
Как это часто бывает на свете, причина, более или менее приемлемая для объяснений в КГБ, появилась из-за изменений в семейной жизни Олега Сергеевича.
В шестидесятые годы, – об этом уже говорилось – Олег Сергеевич оставил Софью Леонидовну Фейнберг-Прокофьеву и в 1969 году женился на англичанке Камилле Грей. Начался новый период его жизни.
Возвращаясь к теме дачи на Николиной Горе, напомним, что решением дачного кооператива она была передана во владение сыновьям Прокофьева. Но тут проявился западный склад личности второй жены Олега Сергеевича, которая к всеобщему удивлению «вдруг» заявила, что две семьи не могут жить вместе под одной крышей. Для привыкших к коммунальным квартирам и поделенным на множество отсеков дач граждан СССР её решение выглядело абсурдным и необъяснимым капризом. Однако Камилла настояла на своём решении, и вскоре супруги поселились в замечательном доме в московском предместье.
Лина Ивановна нисколько не изменила своей привязанности к Софье Леонидовне: «Для меня очень ценным было, что уже после того, как Олег женился на Камилле, Лина Ивановна говорила, что я остаюсь её любимой невесткой. Она очень тяжело пережила наш разрыв с Олегом, тем более важно это было. Время шло, мы разошлись, но отношения у нас сохранялись хорошие. Сначала был полный провал, и Лина сказала, что больше не переступит порог этого дома, а будет встречаться с Серёжей в скверике, потом всё наладилось и восстановилось, она прекрасно относилась к Виктору. Жизнь продолжалась».
Лина Ивановна дружила и с Камиллой, находила в ней полное единомыслие, ум и настоящую духовность.
В 1970 году на свет появилась дочь Камиллы и Олега Анастасия, родившаяся в Англии.
А потом случилось непоправимое. В это было трудно поверить. Вернувшись в СССР, во время отдыха в Сухуми Камилла внезапно скончалась.
Родители Камиллы, бабушка и дедушка Анастасии, жили в Англии и, убитые горем, хотели похоронить Камиллу на родине и воспитывать свою внучку.
Олег Сергеевич получил разрешение присутствовать на похоронах Камиллы Грей в Англии, расстался с новым роскошным домом, который стал для него невыносимым напоминанием о счастье с Камиллой, и уехал.
Интересные подробности про судьбу этого дома рассказала Софья Прокофьева:
Олег купил дом, очень красивый. Когда он с гробом Камиллы уехал в Англию, было непонятно, что делать с этим домом. Всем было тяжело, и никто не хотел там оказаться. Продали было его знаменитой балетной паре, но обстоятельства воспрепятствовали этому. В большой зале этого дома висела деревянная скульптура ангела работы восемнадцатого века. И будущий хозяин квартиры вставил в его правую руку свечу, она горела и опалила щёку ангела, щека почернела. Кроме того, репетируя в зале (это было бы совершенно понятно, но дом ещё не принадлежал им!), поцарапали паркет. Лина Ивановна была до предела возмущена, – как?? Они ещё даже не купили дом, и так бесцеремонно себя ведут. Она решительно выставила их и категорически отказалась продавать его этим людям. Тут надо сказать и другое: замечательному художнику, который в конце концов поселился в нём, он тоже не принёс счастья, – его молодая и тоже очень талантливая жена рано скончалась, – такой уж это был дом.
Именно эти трагические обстоятельства стали, наконец, «уважительной» причиной для просьбы Лины Ивановны. Не приходится говорить, что времена немножко изменились. Граждан не убивали миллионами, но в то же время глаз с них не спускали. Иногда сажали, иногда высылали.
Желание в преклонном уже возрасте увидеть младшего сына и внучку можно было выдвигать как основание (конечно, единственное) для поездки в Англию. Но все письма и ходатайства Лины Ивановны по-прежнему оставались без ответа, и от разрешения проблемы её отделяла совершенно глухая стена без единой трещинки или щёлочки.
И вот явилась кому-то, казалось бы, безрассудная идея написать письмо с просьбой о выезде главе КГБ, самому Юрию Владимировичу Андропову.
Больше тридцати лет прошло между тем, как я печатала для Лины Ивановны это письмо, и вот оно снова передо мной, – естественно, в копии, – предоставленное мне в числе прочих документов Святославом Сергеевичем и Сергеем Святославовичем Прокофьевыми.
В следующей главе я объясню, как случилось, что это письмо печатала именно я. Это не так уж важно, гораздо удивительнее, что спустя столько лет оно снова передо мной. Я, конечно, не помню точно текста, который я печатала, и мне кажется, что по нему прошлась ещё чья-то опытная не только в грамматике рука, он пестрит штампами и удобоваримыми доводами, написан в лучшем стиле и клише соответствующих организаций. Всё очень тонко. Чего стоит, например, присоединить к слову «интерес» прилагательное «нездоровый», и нужный накал верноподданических чувств достигнут! Также я думаю, что мы вдвоём написали скорее всего черновик письма. Перечитывая письмо теперь, я дивлюсь тому, что в сущности говоря всё в нём – правда. Лина Ивановна и не могла ни говорить, ни писать неправду и никогда не делала этого. Вся эта правда, конечно, совершенно претила нашим органам госбезопасности, и все факты должны были бы, как ни изложи их, вызвать полное раздражение. Но, видимо, имя Прокофьева всё же сыграло свою роль. Так или иначе, вот оно:
«Председателю Комитета Госбезопасности при Совете Министров СССР тов. Ю. В. Андропову
от Л. И. Прокофьевой, персонального пенсионера союзного значения.
Москва, Кутузовский просп. 9, кв. 177
Телефон 243 76 73
Уважаемый Юрий Владимирович!
Обстоятельства заставляют меня обратиться к Вам с просьбой личного характера. Я вдова всемирно известного композитора С. С. Прокофьева. Родилась в Испании в 1897 году. В 1919 году в США я с ним познакомилась и в 1923 году вышла замуж за него в Германии. В Париже у нас родились два сына, в 1924 году Святослав и в 1928 году Олег. В прошлом я певица, училась в Италии, выступала в опере и в концертах мужа в США и многих европейских странах. Когда Сергей Сергеевич задумал вернуться на Родину, я поддержала его решение, и в 1936 году мы всей семьёй приехали в Советский Союз. Тогда же я приняла советское гражданство. Советский Союз стал моей второй родиной, обоих моих сыновей, здесь родились и выросли два моих старших внука. В настоящее время я работаю над архивами С. С. Прокофьева и составлением фототеки композитора.
В 1969 году мой младший сын, Олег Сергеевич Прокофьев, женился на англичанке Камилле Грей, дочери Бейзиля Грея, востоковеда с мировым именем, пожизненного куратора и бывшего хранителя Государственного Британского Музея. Камилла переехала для постоянного жительства в СССР. В 1970 году, в Англии, у них родилась дочь Анастасия. С новорождённой дочкой Камилла вернулась в СССР.
17 декабря 1971 года в Сухуми скоропостижно скончалась жена Олега. Он получил разрешение выехать с маленькой дочкой на похороны своей жены в Англию. В настоящее время он имеет советский паспорт сроком на пять лет. Моя внучка Анастасия живёт у родителей покойной жены Олега.
В начале 1973 года родители Камиллы пригласили меня к себе в Англию. Я подала документы в ОВИР для оформления и получения визы для выезда в Англию сроком на три месяца.
Ответа я ждала почти восемь месяцев (в моём возрасте это немалый срок!) и в конце концов получила отказ. Затем я была на приёме у зам. начальника ОВИРа тов. Золотухина, но мне так и не удалось получить обстоятельных разъяснений о причинах отказа в поездке сугубо личного характера. Мне уже много лет, и мысль, что я могу умереть, не увидев мою внучку и сына, для меня невыносима.
Я не могу примириться с этой жестокой несправедливостью, которая допускается ОВИРом по отношению ко мне.
По своему положению вдовы С. С. Прокофьева я широко известна зарубежной и культурной общественности. Отсутствие разрешения на выезд привлекает нездоровый интерес западных журналистских кругов, а мне хотелось бы избежать скандала, хотя с каждым месяцем всё труднее утверждать, что документы на выезд оформляются.
Отсутствие обоснованных причин отказа для отъезда заставили меня обратиться к Вам с просьбой: разобраться в моём деле и помочь мне получить разрешение на выезд из СССР в Англию сроком на три месяца для свидания с моей внучкой и сыном.
Заранее Вам благодарна, надеясь на внимательное и доброжелательное отношение.
С уважениемЛина ПрокофьеваМосква16 августа 1974 г.»Ю. А. Андропов в кратчайший срок лично распорядился о выдаче Лине Ивановне заграничного паспорта.
Глава четырнадцатая Мои встречи с Линой Прокофьевой
Разноцветное видение детства вновь возникло передо мной в шестидесятые годы. Тогда и произошло по существу моё настоящее знакомство с Линой Ивановной Прокофьевой.
Её ждала впереди интересная, относительно спокойная пора жизни в Париже и Лондоне, поездки в Швейцарию, Германию, США, в другие страны, где она будет жить как полноправная вдова Сергея Прокофьева, всеми уважаемая и любимая замечательная женщина. Однако когда мы с ней снова «познакомились», она ещё не знала об этом. Она продолжала жить в Советском Союзе, восстановленная в своих правах, но с острым желанием покинуть страну и вернуться на запад, где она жила до сорока лет. Никаких твёрдых надежд на выезд не было, и на тот момент все её обращения в КГБ с просьбой покинуть СССР оставались безответными.
Про пёстрое видение, исчезнувшее с моего горизонта, я писала вначале. Далее по порядку знакомства с членами этой семьи возникают (о счастье!) встречи с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым у нас дома и в Иванове.
О встрече в Иванове я писала уже в своей книге «В доме музыка жила».
Ведь и то, что я пыталась передать в этой книге как детское впечатление 1944 года и нескольких последующих лет, – правда. Мира Александровна казалась идеальной женой, «Привела голубоглазого и сказала „Навсегда“. Если не знать всего, что мне открылось в дальнейшие годы и описано в предыдущих главах, было нетрудно поверить в это.
О встречах в Москве у нас дома у меня остались самые смутные воспоминания. Помню только, как все сидели вокруг старинного овального стола из красного дерева в нашей столовой и отчаянно веселились. Смутные воспоминания остались и о мальчиках – Святославе и Олеге, с которыми я познакомилась во дворе дома на Чкаловской, где они жили. Почему-то они застряли в моей памяти в клетчатых костюмах, ботинках на толстой подошве, в кепках. Может быть, игра воображения: так они должны были выглядеть. Помню, однако, что чем-то они решительно отличались от московских мальчишек. Например, из нашего двора. Что ж удивляться? Они родились в Париже, провели там детство, они не были „нашими“.
Меня Святослав и Олег полностью игнорировали по причине непреодолимого в этом возрасте презрения к маленьким девчонкам. Всё же под давлением взрослых и их однолетки, моей троюродной сестры – красавицы Маши (дочери тёти Ляли) – они поиграли со мной несколько раз во дворе их дома на Чкаловской в какие-то игры с мячом.
Познакомила нас моя тётя Ляля – Елена Александровна Спендиарова – Мясищева, – к которой я каждую неделю ездила на воскресенье в гости на Чкаловскую. Лина Ивановна всегда называла её в числе самых верных своих друзей. Так это и было.
Тётю Лялю тогдашнее НКВД ни на минуту не ввело в заблуждение относительно „правомерности“ ареста Лины Ивановны. Она вообще никогда не заблуждалась в оценке деятельности этой организации, постепенно подчинившей себе всю страну. Были у неё и личные соображения, поскольку в 1938–1940 годах наши доблестные органы арестовали вместе с Туполевым и другими виднейшими авиаконструкторами СССР и её мужа – дядю Володю, теперь всеми признанного талантливейшего авиационного конструктора, – на его счету создание девятнадцати уникальных типов самолётов.
Что же касается Миры Александровны, то тётя Ляля чуть не рассорилась с моей мамой за то, что мама её принимала. Она считала Миру Мендельсон бессовестной хитрой разлучницей, расчётливой и аморальной. В разводе Прокофьева видела руку КГБ.
Первой из жён, с которой я познакомилась, была не Лина Ивановна, а Мира Александровна. Ивановское впечатление, как я уже говорила, относится к 1944 году. Последующие годы моих встреч с Мирой Александровной были впрямую связаны с моей болезнью, начавшейся в 1949 и до 1952 года продержавшей меня в неподвижности. Вместе с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым Мира Александровна посещала наш дом и раньше.
В своём, опубликованном во фрагментах в 2004 году, дневнике Мира Александровна записывает:
„5 февраля 1946 года.
После долгих колебаний, связанных с неважным самочувствием Серёжи, поехали поздравить Зару Левину с днём рождения. Приехали к концу ужина. За большим столом сидели Шостакович с Ниной /…/. Шостакович показывал фокусы с картами. Были мы там совсем недолго, но это внесло разнообразие в наше расписание, со всех сторон ограниченное врачами.“[104]
Увы, я не обладаю памятью уникальных героев прошлого века, (С. Т. Рихтер, Е. В. Мравинский, сам С. С. Прокофьев), помнивших себя в каждый момент своего детства.
Вспоминаю фигуру Прокофьева у рояля в кабинете мамы, помню его в Большом Зале Консерватории на первом исполнении маминого фортепианного концерта, – по этому случаю Сергей Сергеевич подарил ей свой замечательный портрет с надписью „Милой Заре по прослушивании её концерта СПРКФВ 1946“. Этот портрет уже более 60 лет висит на святом месте, слева от рояля, над клавиатурой. В Сергее Сергеевиче всегда поражало его решительное отличие от ВСЕХ, кого я видела. Это чувство не покидало меня никогда, – единственное сравнение возникло, когда я смотрела интервью парижского телевидения с Владимиром Набоковым. Какая-то особая русская речь, объёмная, этажом выше привычного звучания, интонаций, несколько сверху вниз, не то чтобы высокомерная, но с дистанцией, – трудно описать. Другое измерение жизни.
Сознательные воспоминания о Мире Александровне связаны с пятидесятым годом. Двумя годами раньше молодым, 44 лет, умер мой папа, композитор Николай Чемберджи. Именно в 1948 году смерть прошлась своей косой особенно размашисто, – на Новодевичьем кладбище покоились рядом многие друзья, цвет страны.
Лина Ивановна отбывала срок „на севере“, о чём я не имела ни малейшего понятия, а меня в это время с ошибочным диагнозом на два года приковали к постели.
Тогда-то и возникала как добрая фея в дверях моей комнаты Мира Александровна. От доброй феи её отличало разве что отсутствие красоты. Она стояла, прислонясь к косяку двери моей комнаты, молчаливая, ненавязчивая, всегда в чёрном. Вкрадчивые манеры, тихий голос, ломкость фигурки как-то затуманивали впечатление едва ощущаемой фальши. Я смутно чувствовала её, но не отдавала себе в этом отчёта, безраздельно доверяя доброй фее. Она приносила мне ПИРОЖНЫЕ и ПИСЬМА (ТРИ!) от Сергея Сергеевича. На её несколько унылом лице как будто заранее было заготовлено выражение жалости, она ласково говорила со мной, расспрашивала и о самочувствии, и об учении (я продолжала учиться в школе экстерном), о впечатлениях от балетов Сергея Сергеевича, – я их обожала с детских лет, со временем успела посмотреть „Ромео и Джульетту“ и „Золушку“ много раз – и потом, видимо, рассказывала Прокофьеву о моих детских восторгах, потрясённости Часами из „Золушки“ (на это он ответил!), считая нужным выразить сострадание больной дочери Зары и покойного Коли каким-то особенным способом. Но что на свете могло быть дороже собственноручно написанных на собственных бланках нескольких строк Прокофьева, обращённых к Вале. Он был очень добр, ему удавалось придать нескольким фразам заинтересованность и тепло. Я уже не один раз в своей жизни сокрушалась, что два из трёх писем потеряны.
Мира Александровна растрогала меня своим вниманием, и я считала её очень доброй и милой. Иначе и быть не могло.
Письма Прокофьева датируются в основным пятидесятым годом, – теперь я понимаю, что реальная Лина Прокофьева (не разноцветное видение детства!) была в это время уже арестована и сослана, но никто никогда не заикался об этом, и я ни о чём догадаться не могла. Охотно верю, что нашлись бы умные дети, которые почувствовали бы неладное, проявили бы любопытство, но я к ним не относилась. Жалостливость, которую Мира проявляла по отношению ко мне, как и всякая жалостливость, всегда казалась мне прекрасным чувством. В советской школе культовым понятием была „безжалостность“, но я никогда не была согласна с этим, жалеть – далеко не всем доступное чувство. Но, видимо, в этом случае наряду с жалостью существовало подспудное намерение снискать своим сочувствием симпатию к себе, – не у меня, конечно, но у мамы и её многочисленных друзей из музыкальных кругов, иначе почему же она исчезла по отношению к оставшимся без отца и матери сыновьям Прокофьева.
В 1953 году умер Прокофьев, умер Сталин, (общеизвестно, что они умерли в один день – 5 марта), я поступила в университет. В памяти не сохранились дальнейшие встречи с Мирой Александровной. Может быть, их и не было. Она исчезла с моего горизонта, и до меня доходили только слухи о её благородной деятельности. Свою долю авторского права, причитавшуюся ей после смерти Прокофьева в 1953 году, она распределила в своём завещании между Школой имени Прокофьева и Государственным Музеем имени Глинки. Мира Александровна Мендельсон жила очень одиноко и скончалась в 1968 году.
Её образ стал гораздо яснее для меня только в последние годы благодаря её собственным дневникам, рассказам членов семьи С. С. Прокофьева, документам, письмам. Я узнала много фактов, которые позволяют судить о прошлом трезво и непредвзято. Они никогда не обладали бы для меня такой живостью, если бы я не знала Миру Александровну, не помнила её женственность и жеманность, – слова она произносила в нос, сентиментальность, ласковые интонации в разговоре с Сергеем Сергеевичем, друзьями, детьми. Она хотела быть хорошей, но естественности в ней не было, она хотела быть интеллигентной, но оставалась прежде всего советской. Простые мысли и высокая целеустремлённость.
Лину Ивановну выпустили на свободу в 1956 году, и через какое-то время она снова появилась в нашем доме. И это тоже я приняла как должное, ни о чем не задумываясь, не расспрашивая, да никто и не стал бы мне ничего объяснять.
Новое появление Лины Ивановны и дружба с ней возникли, когда её старший внук – Серёжа – Сергей Олегович – был совсем малышом. Но прошло не так уж много времени, как он превратился в золотоволосого и синеглазого отрока легендарного русского типа, уже лет с пятнадцати сжигаемого пламенем веры. Преданный друг Авии, свидетель русского периода её жизни, он стал и моим близким другом. Я благодарна ему за тот рассказ об Авии, который услышала в январе 2004 года в Берлине, куда он прилетел для участия в антропософском конгрессе, а я, чтобы встретиться с ним. В этой беседе Сергей Олегович глубоко раскрывает неведомые нам и в то же время основополагающие стороны натуры Лины Ивановны. Он говорит, в частности, и о том отношении, которое сложилось у Лины Ивановны к России, и о её религиозном чувстве, о многом другом, что было известно только ему. Они часто приходили к нам вместе, – эта пара сражала окружающих наповал. Может быть, мы видели бы их гораздо реже, если бы не то обстоятельство, что мы жили в одном и том же доме, „доме композиторов“, через подъезд. Навещая Серёжу, Лина Ивановна заходила и к нам. Она очень любила внука, гордилась им, поддерживала во всех его отнюдь не обычных начинаниях. Я чувствовала, что в их отношениях крылись очень серьёзные основы, более глубокие, чем обычное отношение красавицы бабушки к красавцу внуку, – их объединяла глубокая духовная общность. Я познакомилась с шестилетним Серёжей, когда мне было двадцать четыре года. Очень вскоре он стал поражать меня вот уж поистине „лица необщим выраженьем“, кругом интересов, совсем нетипичных для детей и взрослых из моего окружения. Вскоре нас объединяла уже искренняя и глубокая симпатия. Для меня неестественно при всех его заслугах называть его Сергеем Олеговичем, на „Вы“, – надеюсь, читатель простит мне эти знаки долгой дружбы.
БЕРЛИН, 23–25 января 2005 года
– Я помню Авию с очень раннего возраста и уже как члена нашей семьи. Мне было два с половиной года, когда она вернулась из лагеря. Мама была тогда замужем за моим отцом Олегом Прокофьевым, и Авия, уже восстановленная во всех своих правах после лагерей, бывала у нас очень часто. Конечно, мне трудно сформулировать мои ранние впечатления, могу сказать, что она была человеком ярким, блестящим, остроумным, бросалась в глаза, всегда оказывалась в центре внимания, вносила в любое общество свежую струю, обладала притягательной силой, отличными манерами, врождённым аристократизмом, который помог ей достойно пережить все испытания. Она бывала на приёмах самого высокого уровня, в том числе на приёме у Королевы-матери Великобритании. Разбиралась во всех тонкостях этикета, от подходящего к случаю туалета до всех поклонов, книксенов, реверансов и так далее. Она учила меня, как надо улыбаться в тех обстоятельствах, когда улыбка ДОЛЖНА появиться: надо было как бы произнести „ззззз“. Я много раз пробовал, но у меня получалась какая-то гримаса. Я уж, конечно, не говорю, что она без акцента говорила на многих языках. Говорила увлекательно, захватывая собеседников собеседников содержательностью и блеском изложения. Она могла говорить на множество тем, будь то философия, религия или искусство, вплетая в разговор свои собственные воспоминания о муже, об интересных и выдающихся людях, которых она хорошо знала лично, о странах и континентах, где она бывала и жила.
Вообще же она была человеком рассказов, разговора, беседы, – не письма. Её очень трудно было заставить написать или записать что-то. Особенно в последние годы она в разговорах часто перескакивала с темы на тему, а когда я её переспрашивал, она возмущалась: „Ты меня совсем не слушал“. В конце жизни, когда многие журналисты пытались расспросить её о жизни, получить от неё ответы было нелегко.
С самого раннего детства и до моей юности она постоянно водила меня на концерты и в Большой театр, на оперные и балетные спектакли – вообще на все мероприятия, связанные с музыкой. Драматические театры не интересовали её в такой мере. Я очень благодарен ей за то, что с детства оказался приобщённым к музыке, слушал шедевры музыкального искусства в исполнении самых крупных артистов. После концерта или после спектакля она всегда вела меня в артистическую и представляла артистам. Так я познакомился с Дмитрием Шостаковичем, Святославом Рихтером, Иегуди Менухиным, Жаклин Дюпре, Рудольфом Баршаем, Олегом Каганом, Мстиславом Ростроповичем, Давидом Ойстрахом, Даниэлем Баренбоймом, Эмилем Гилельсом, Марией Юдиной, Леонидом Коганом… Благодаря ей я оказался завсегдатаем Большого зала консерватории.
В сущности можно сказать, что я был её постоянным спутником. Помню, как сопровождал её в концерт или в театр уже из квартирки на Кутузовском. Любому походу предшествовало создание своего портрета, некий ритуал „наряжания“. Авия создавала свой портрет, не позволяя торопить себя (Боже упаси!). Портрет создавался медленно. И вот наносился уже последний штрих, как вдруг оказывалось, что до начала оставалось пятнадцать минут. Тогда срочно впопыхах вызывалось такси или ловили машину и неслись что было сил.
Авия замечательно одевалась. У неё была портниха Маша, и всё шилось на заказ для того, чтобы сидело на ней без сучка без задоринки. Она одевалась не просто красиво и элегантно, она одевалась артистично, как настоящая артистка! И даже когда появилась „Берёзка“, всё равно всё всегда ушивалось и переделывалось по фигуре до миллиметра. Дело не только в том, насколько хороши были или как сидели вещи, – в манере Авии одеваться всегда присутствовал артистизм, обращавший на себя внимание не только в России, но и за границей. Её внешний вид был не только безупречен, но артистичен.
С ней было очень приятно ходить на концерты, в оперу, на балеты, в театр, потому что она это делала совершенно особым образом, это было частью ее жизни.
На концерты Авия ходила не только чтобы отдохнуть или насладиться, но это было частью её профессии. Она всегда жила в сознании, что она – вдова Прокофьева, и хотела представлять Прокофьева на каждом музыкальном событии, это входило в её обязанности, приезжал ли какой-то пианист или оркестр из-за рубежа или это была какая-то российская постановка, впечатления эти она переживала так, словно вместе с ней невидимо на концерте должен был присутствовать Сергей Сергеевич. Она это делала как бы и для себя, и для него тоже. Конечно, она и сама всё это любила и наслаждалась музыкой и общением. Она всё-таки была профессиональным музыкантом, училась в Ла Скала, пела сама и разбиралась в музыке. Поэтому походы с Авией на концерты имели вот такой особый характер, и я вспоминаю о них с большим удовольствием.
Думаю, чаще всего мы ходили в Большой зал консерватории. Я Авии бесконечно благодарен за то, что образован в этой области, потому что в детстве и юности слушал много хорошей музыки.
У неё были свои суждения, которые могли быть и достаточно резкими, но она знала, что и как нужно сказать и стремилась никогда никого не обижать. В более узком кругу Авия могла высказаться довольно резко. В целом же её настрой был положительным. У неё редко бывало совсем отрицательное мнение о каком-то произведении. Если это не было уж совсем какое-то музыкальное безобразие…
– Ты знаешь, как часто мы встречались с Линой Ивановной в Москве, – мы говорили о многом. Но по сути дела получается, что тогда я знала о Лине Ивановне в основном то, что касалось повседневности, сиюминутных интересов, увлечений и т. д. Только теперь становится очевидным, сколь малая часть её жизни заключалась в этом. Что бы тебе хотелось рассказать об Авии, как ты её называешь, в свете того, что мы знаем теперь?
– И в жизни, и в быту Авия была чрезвычайно мужественным человеком. Помню, она однажды сломала руку, а вечером был какой-то приём, она даже не пошла к врачу, ей просто перебинтовали руку, к которой нельзя было прикоснуться, поскольку это вызывало страшную боль, и она так и пришла на этот приём и просидела до конца как ни в чём не бывало. Она как бы не признавала, не желала признать власть над собой физической боли.»
Серёжина мама Софья Леонидовна рассказывает нам о похожем эпизоде:
«Я познакомила её с Олей Янченко.[105]. Олечка выходила замуж, и Лина Ивановна позвонила мне с просьбой помочь ей одеться на свадьбу Олечки Янченко. Надо сказать, что именно в это время она сломала себе правую руку, это был тяжёлый перелом со смещением. Я сказала: „Конечно, я приеду и помогу вам одеться“. Я приехала к ней, открыла шкаф, – там костюм, костюм, костюм. Я говорю: „Наденем какой-нибудь нарядный костюм и серёжки“. Она возмутилась: „Какой может быть костюм?! Только вечернее открытое платье“. В институте Склифософского ей категорически предложили гипс, но она наотрез отказалась, ходила без гипса, и когда я начала натягивать на неё вечернее узкое платье, она просто кричала на крик. Ей ведь пришлось поднять руки, влезая в это узкое платье. Светлое, блестящее, парчовое. Очень узкое с очень узкими рукавами. Наконец, мы это платье натянули, молнию сзади я застегнула, потом она наложила косметику и отправилась на свадьбу. Она была необыкновенно хороша и как всегда была царицей бала. Я поехала вместе с ней и когда мы вернулись, снова помогала ей. Через три недели мы поехали с ней в институт Склифософского, и они сказали: „Никаких следов перелома не осталось“.
Она вообще не признавала никаких лекарств, никакого лечения. Принадлежала к „Christian Science“, американскому религиозному течению. Помню такой случай: её приглашают в Серебряный Бор на чей-то день рождения. Она была совершенно больна. Я стала уговаривать её: „Авия, вам нельзя ехать, вы получите сильное осложнение“. „Какое осложнение?! У меня не будет никакого осложнения“! – помню, как она громко возражала. И, конечно, поехала, и никакого осложнения у неё не было».
– Конечно, её мужество идеальным образом сочеталось с отменным здоровьем, – продолжает Серёжа, за исключением проблем со зрением в конце жизни, возникших в лагере из-за чтения без света. Она очень редко болела, но с другой стороны может быть именно благодаря мужеству она, всю жизнь любившая тепло и свет, перенесла и выжила вообще в условиях советского лагеря посреди бескрайней ледяной пустыни, без солнца, красок, растительности.
Я думаю, что для понимания характера Авии очень важно, что она со сравнительно юных лет имела близкое отношение к определённой форме духовной жизни, Christian Science – Христианской науке. Потому что как бы ни относиться к самому Christian Science, решающую роль в жизни людей играет наличие или отсутствие конкретных форм духовной жизни. И, конечно, надо отметить, что некоторые стороны этого учения соответствовали характеру Авии. Согласно этому учению, страдания или болезнь являются иллюзией, любая болезнь может быть преодолена силой мышления, силой духа. В Christian science они иначе это называют. Идея, что всё можно преодолеть духовным усилием, была ей очень близка, и, может быть, тоже помогла ей выжить в экстремальных лагерных условиях. Сергей Сергеевич относился к этому очень серьёзно, не менее серьёзно, чем она. И когда она жила в России, у неё в России сохранялись связи. В Christian Science две основных книги для чтения: одна – Библия, а другая – главная книга основательницы этого учения Мэри Беккер Эдди, – «Ключ к здоровью и Святому писанию». Мэри Беккер Эдди жила в Америке во второй половине XIX века. Каждую неделю по всему миру через приверженцев этого учения распространяются брошюры, где указаны места из Библии, которые надо читать в определённый день. И когда Авия жила в России уже в позднее время, и я к ней приходил, у неё всегда был кто-нибудь из англоязычных посольств – в частности, американка, которая каждую неделю приходила и бросала ей в дверь такую брошюру. В её двери помимо почтового ящика была щель специально для этих брошюр, через которую они падали прямо на пол в передней.
Авия дружила со многими иностранными дипломатами и особенно с женой австрийского культурного атташе. Она была художницей, и я очень хорошо помню, как после очередного концерта, который проходил в канун Православного Рождества, мы поехали вместе с этой художницей на Рождественскую службу в православную церковь. И хотя Авия никакого особенного отношения к православию и вообще к религиозно-церковной жизни не имела, но тем не менее она поехала, и тогда мы, хотя и не всю службу отстояли, но провели в церкви целый час. И хотя она знала свой собственный путь, у неё был живой интерес к различным явлениям духовного порядка и особая ей присущая внутренняя широта и терпимость к другим взглядам и убеждениям. Чего она совершенно не переносила – это фанатизма в любых его проявлениях. Она презирала материализм, считая его примитивным и не достойным человека мировоззрением. Она ценила и поддерживала в людях духовные интересы и считала, конечно, что они являются необходимым условием полноценной человеческой жизни. Человек в любой области должен был проявлять духовные интересы и сознавать, что принадлежит не только к земному, но и к духовному миру. Эту веру в реальность высшего духовного мира она пронесла через всю свою жизнь, никогда ей не изменяя и до конца жизни продолжая следовать указаниям своего учения.
Она считала нужным каждый день хоть немного времени уделять духовной работе, и как бы она ни была занята своей светской жизнью, это обязательно входило в программу дня. Я прекрасно помню, что когда я к ней заходил, а заходил я часто, я заставал её в очках с лупой читающей эти брошюры. Это форма приобщения к вере, и она постоянно читала Библию. Она верила и в духовный мир, и в силу духа и во всяком случае в способность духа властвовать над материей, преодолевать все препятствия. То есть любая жизненная трудность, любое страдание, любое несчастье – представлялось ей с точки зрения этого мировоззрения иллюзией, которая должна быть преодолена силой человеческого духа. В общем идея, которая русской психологии совершенно чужда, – не сама идея, что можно что-то преодолеть исходя из духа, эта идея свойственна всем духовным течениям, – но то, что страдание само по себе не имеет никакого положительного значения. Такое убеждение, положительная роль страдания, непременные для русской и вообще христианской духовности, в центре которой стоят страдания Христа, Christian Science чуждо.
Авия имела определённое чувство, что жизнь человека обретает смысл, если в ней есть какие-то духовные устремления и убеждения. И поэтому она проявляла интерес, может быть, не очень глубокий, и даже любопытство, к РАЗНЫМ течениям. То есть она охотно беседовала и выслушивала людей, говорящих на темы их духовных убеждений. Она совершенно ни от кого не требовала, чтобы они были такие же, как у нее, но когда человек никакими убеждениями не обладал, это было для неё определённым признаком характера советского человека. Нормальный человек в её представлении должен был жить духовными ценностями, и поэтому то, чем я интересовался и чем я жил, то есть антропософское мировоззрение, – было ей важно. Она этим не занималась в деталях, но спрашивала ещё в Москве, в России, что это такое, мы с ней об этом говорили, она мне через своих знакомых доставала некоторые книги по антропософии, она относилась сочувственно, и, более того, когда я был ещё в России, а она уже уехала на запад, она пожелала сама, по собственной инициативе, посетить международный антропософский центр, где я теперь живу и работаю, Дорнах, в Швейцарии, чтобы посмотреть, чем же её внук, собственно, живёт. Меня там уже знали и встретили её соответственно. Интересно, что её водил по Гётеануму, показывал всё здание пожилой музыкант, известный скрипач из Вены Карл фон Бальц, который знал ещё Рудольфа Штайнера, и они с Авией очень хорошо общались и разговаривали на многие темы – о музыке, об антропософии, – и она находилась под впечатлением того, что увидела. Они были примерно одного возраста, и я потом с Карлом говорил, и он восхищался её обаянием, её открытостью, живым интересом ко всему. Он сам антропософ.
– Стиль воспитания сыновей был скорее западный? Она ведь не была «сумасшедшей», как говорят у нас, мамой?
– Она очень любила своих детей, гордилась ими или ХОТЕЛА гордиться. Ситуация осложнялась тем, что, я думаю, она невольно сравнивала детей с мужем. Ей всё время казалось, что дети не тянут, не достигают в своей жизни того уровня, которого бы ей хотелось видеть в них. И когда дети имели какой-то успех, у Олега, например, была выставка, то она этому необычайно радовалась и необычайно гордилась. Радовалась даже больше, чем заслуживала эта выставка, потому что ей очень хотелось, чтобы её дети были ЧЕМ-ТО, а не просто росли в тени великого отца.
– А стихи Олега она знала?
– Нет, это уже было позже, она знала его живопись. Ей хотелось, чтобы дети чего-то достигли и были более блестящими. Она радовалась любому успеху, но могла быть и довольно придирчивой. Если ей что-то не нравилось, она, конечно, это прямо высказывала и иногда в довольно резкой форме. И, с другой стороны, конечно, она ожидала от детей определённого мужества, то есть той настроенности, в которой жила сама. Она очень не любила людей, которые жалуются на свои болезни, на свои неудачи, таких людей она не любила и избегала.
– Мальчики в общем росли самостоятельно?
– Да. Но, конечно, было много друзей Лины Ивановны и Сергея Сергеевича, которые о них заботились, так что совсем одни они не оказывались, но часто больше о них заботились посторонние люди. Потому что Авия, конечно, более всего жила своей жизнью. И, если кто-то её жизни не разделял, то возникала сложная ситуация.
– А к внукам как она относилась?
– Она их любила. С одной стороны, ей тоже хотелось, чтобы внуки чего-то достигли и стали личностями, а не просто родственниками. С другой стороны, я думаю, она относилась к ним с большей свободой и меньшей предубеждённостью. Она меньше претендовала на то, чтобы внуки стали такими, какими ей хотелось – преуспевающими. Во мне она ценила наличие собственных духовных интересов, у меня была своя независимая жизнь, я отделился, я жил один. Сначала меня поселили в крошечной комнатке в коммунальной квартире в доме композиторов на Студенческой. И там я жил много лет, потому что нуждался в таком месте, где мог хранить литературу, встречаться с людьми, с иностранцами, не подвергая никого опасности. Переехал в квартиру Авии уже после её отъезда.
– Она всё о тебе знала?
– Нет, не думаю. Я не рассказывал ей подробно, но говорил о том, чем интересуюсь, и время от времени просил её помочь мне достать некоторые книги через своих дипломатических знакомых. Она не то что поддерживала мои интересы, но думаю, уважала. Для неё это был образ полноценного восприятия жизни, и он сильно отличался от советского образа мыслей, который она ненавидела. Она выросла и была воспитана в совершенно другой среде, и ей это советское (она часто произносила это слово с подчёркнутым «с») было невыносимо. Не столько ненависть, сколько презрение. Не думаю, чтобы Авия была склонна к ненависти, это было презрение ко всякому проявлению «советского». И люди, в которых было слишком много советского, её не интересовали. Талантливому человеку она многое могла простить. Но в принципе то типично советское, чего до сих пор много в России, она не переносила.
– Я хорошо помню вас с Линой Ивановной в тот период, когда ты, как одержимый учил немецкий язык и преуспел в этом! Мы все, а что уж говорить об Авии очень гордились тобой. Ведь ты тогда впервые поехал в Гётеанум и сделал доклад на немецком языке. Лина Ивановна, я уверена, считала необходимым для тебя знание иностранных языков.
– Авия очень хотела, чтобы я выучился английскому языку, именно английскому, а не американскому. Американский она не любила, вообще всегда была очень чувствительна к чистоте языка. Она сокрушалась, что французские швейцарцы не умеют говорить по-французски, а американцы говорят на ужасном английском языке. Язык должен был быть английским. В своё время удалось найти очень хорошую преподавательницу английского языка, но через полгода она умерла, и поэтому моё изучение английского языка отложилось на несколько лет. Но потом я выучил его довольно быстро, и у меня было такое чувство, что Авия мне помогает, потому что она очень этого хотела. Её уже не было.
– Стала ли ей в чём-нибудь близка Россия?
– Если бы она была чисто западным человеком, ей было бы очень трудно жить в России. В какой-то мере, надо признаться, Авия в России прижилась и, конечно, любила Россию. Не думаю, чтобы она жила в России как тайная эмигрантка. Через какие-то основы, заложенные в детстве, она уже познакомилась с Россией, живя в Нью-Йорке. Она попала на концерт Сергея Сергеевича, потому что посещала концерты людей, приезжавших из России. Она интересовалась русской культурой и русскими людьми. И в России она бы чувствовала себя в целом по-другому, если бы судьба её повернулась иначе. Думаю, она продолжала бы жить в России до конца жизни и для неё не было бы в этом трагедии. Россия, безусловно, стала её второй родиной в полном смысле этого слова. Хотя ни советского хамства, ни советского образа жизни и образа мыслей она органически никогда не принимала и принять не могла. Труднее всего ей было в России именно из-за всем нам хорошо известного русского хамства. Этого она не переносила ни в какой форме. И заставить её не смогли даже женщины-рецидивистки, с которыми она сидела в лагере. Они изо всех сил старались заставить её употреблять матерные выражения, но так и не смогли, ничего не достигли.
Авия сознавала, что это великая страна с большой культурой. В Париже она встречалась с многочисленными её представителями, с самым цветом, она ценила и любила русскую культуру и на этом уровне у неё была глубокая связь с Россией. Я думаю, Авия любила и русскую природу. Она охотно жила после смерти Сергея Сергеевича на Николиной Горе, наслаждалась её сосновыми лесами, рекой, полями. С какого-то времени дачу передали сыновьям, и Авия её перестроила, отремонтировала себе верхний этаж и ездила туда с большим удовольствием.
Она хотела уехать и уехала. У неё был выход и в дипломатические круги, а в советское время в Россию посылали очень умных людей, потому что на этом месте требовались тонкость, определённые знания и мысли в голове, поэтому часто это были очень интересные и эрудированные люди, и она могла блистать и своими языками, и своими познаниями. Она могла бесконечно рассказывать эпизоды из своей жизни с Сергеем Сергеевичем, притом что она так много знала.
Теперь мне страшно жаль, как и всем нам, наверное: пока она жила в России, я её недостаточно расспрашивал. Потом она уехала, и много лет мы с ней не виделись, а когда увиделись уже в Париже, то можно было заметить, что у неё с памятью перебои, и было сложно для неё что-то долго и последовательно рассказывать. Я уже говорил раньше, что она перескакивала с одной темы на другую, возникали новые ассоциации и новые воспоминания, а переспрашивать её было нельзя, потому что в этом отношении у неё не было никакого терпения. Она сразу говорила: «Вот, ты меня не слушаешь». Есть неизвестные страницы и в жизни родителей Авии, – жаль, что её вовремя не расспросили о них.
– Ты бы назвал судьбу Лины Ивановны трагической?
– Конечно, с одной стороны, безусловно трагическая, – достаточно упомянуть восемь лет лагерей и разрушенную семью. Вышла она из лагеря когда Сергей Сергеевич, которого она, конечно, очень любила, уже умер. Но, помимо этой объективной трагичности, многое зависит от человека. Как я уже говорил, Авия не была из тех, кто, спекулируя на своих трагических переживаниях, делает карьеру, всюду об этом рассказывает или пишет. Наоборот. Она по своей природе и по своему мировоззрению, как и Сергей Сергеевич, была убеждённым оптимистом. Считала, что надо делать усилия, и что силой духа можно преодолеть много, может быть, даже и всё.
Воспоминания о ней очень светлые. Она была непростой человек, с ней было нелегко. Она обладала определённой властностью, в какие-то другие времена вполне могла быть королевой. Она очень не любила возражений, касающихся повседневной жизни, быта. Если в области мировоззрения она позволяла сосуществовать самым разным мнениям и отличалась абсолютной терпимостью, в практической жизни у неё были ясные представления о самых разных ситуациях, и, находясь в её окружении, надо было с этими представлениями считаться. Несколько конфликтов, которые у нас были, показали, что она в этой области особой терпимости не проявляет, и надо следовать её мнению.
В Дорнахе к 50-летию со дня смерти Сергея Сергеевича я организовал два утренника, где игралась его музыка, и я каждый раз больше часа рассказывал его биографию. И вот, рассказывая о нём и о Лине Ивановне, я в конце концов стал рассказывать о Лине Ивановне больше чем о Сергее Сергеевиче. О ней в целом и её характере, о том, как она жила и справлялась с невзгодами, не теряла мужества, проявляла человечность. И всё это в какой-то мере делает её жизнь не менее, а может быть даже и более значительной, чем жизнь её мужа. Конечно, я не говорю о таланте, о гении Сергея Сергеевича. Я о другом. Последовательность в её судьбе и воля к тому, чтобы сформировать жизненный путь так, как именно считала сама Лина Ивановна. Не позволить внешним условиям, советскому влиянию или лагерному окружению как-то повлиять и задушить в себе тот образ человека, который ты сам избрал как некий идеал, как образ того, каким человек должен быть, – это, конечно, удивительная духовная последовательность в её судьбе, вызывает огромное уважение. Можно сказать, что в её характере больше цельности, он же был гениальный и цельный человек в творчестве. Как редко какой композитор он не мог писать плохой музыки, он никогда не допускал никакой халтуры и даже если писал кантату «К Двадцатилетию Октябрьской Революции», то если убрать текст, всё равно это была музыка высокого класса. Он не мог халтурить, чем занимались буквально все композиторы за редким исключением. Даже самые-самые великие. Для него как гениального композитора жизнь представлялась в совсем ином свете и получала особое значение. Но в жизни он не всегда был цельной натурой и не всегда оставался верен себе и своим принципам, которые у него, конечно, тоже были. Авия – очень самобытная, очень оригинальная и исключительно цельная натура. Она прожила долгий век и осталась верной себе и своим принципам. Безупречным человеком. Не говоря о том, что она была абсолютно верной женой, потому что это тоже входило в число её внутренних принципов. Никогда не позволяла себе злословия или сплетен, была светским человеком в лучшем смысле этого слова. У неё было определённое женское любопытство, – это у неё всё было – до конца жизни она была и дамой, и шармантной прелестной женщиной. Её кокетство было проявлением артистизма. Артистизм, этот благородный элемент – она не теряла его никогда. Что бы ни делала, что бы ни говорила, в какой бы ситуации ни оказывалась… Поэтому она могла быть на высоте в самом высоком обществе Парижа…
– Ты знаешь, когда я встретила Лину Ивановну после лагерей, она уже занимала в обществе своё почётное место. Да, она вдова Прокофьева, она – Лина Любера, но помимо всего она – центр светского общества. В этом смысле я всегда ощущала одновременно её принадлежность к этому светскому (в СССР – в своеобразном смысле) обществу и в то же время её положение над ним, немного со стороны, немного насмешливое. Ничего от обличения, но и от пошлостей светской жизни, полная независимость, в ней олицетворялось всё лучшее, что есть в этом понятии, включая, например, потрясающее воспитание. Но это я уже отвлеклась. А хотела спросить вот о чём. Так как она во всём, в судьбе, в происхождении, в принадлежности к мировой элите, во внешности, в одежде решительно от всех отличалась, она постоянно служила объектом пересудов, связанных, конечно, больше всего с завистью. Среди этих пересудов я часто слышала: «Может быть, она всё-таки – еврейка?» Поскольку гремучая смесь испанского, польского, французского была избыточной для сознания окружающих. А вот – брюнетка, с жгучими горящими чёрными глазами, – это утешало и навевало мысли скорее о… всё том же… – еврейка… Я хотела спросить тебя, как Лина Ивановна относилась к антисемитизму.
– У Авии не было ни малейшего оттенка антисемитизма, ни в малейшей степени, никогда. Для неё существовали культурные и некультурные люди. В этом она остро чувствовала разницу. Она судила о людях по их внутреннему аристократизму и по талантливости. Талантливому человеку она могла что-то прощать, но до определённого предела. Она настолько стояла выше всех разговоров о национальности, что когда её пытались уличить: а, может быть, в ней всё же есть еврейская кровь – то она или вообще не реагировала или говорила: а какая разница, чем совершенно ставила собеседника в тупик. И все разговоры заканчивались. Еврейской крови не было, но если бы была, то для Авии это ничего бы не меняло. Она относилась ко всем людям совершенно одинаково. Аристократизм духа, а не национальность, – вот что интересовало её.
– Я помню её всегда весёлой. Это было воспитание или она в самом деле часто была в хорошем настроении?
– Она везде себя хорошо чувствовала, в мрачной стране она была весёлая, и это после всего пережитого! В самом деле, удивительная сила духа, то ли ей Christian Science помогала, то ли она родилась такой. Всем всё прощала, очень быстро, не умела сердиться. Единственный человек в её жизни, с которым она не могла и не хотела примириться и смириться, не могла простить поступков, – это была Мира. Единственный во всей её жизни человек. Когда у тебя уводят мужа и отца двух сыновей, то это простить трудно. Я даже думаю, что она ни на кого – даже на своих мучителей в лагере – зла не держала.
Она мне рассказывала, что когда ездила в Польшу, то встретила лагерного надсмотрщика, который работал в поезде с заграничным маршрутом. Естественно, она его узнала, он её – нет, у него заключённых женщин прошли сотни и тысячи, а она, конечно, прекрасно его запомнила. Я знаю из других источников, что в советское время в поездах, которые ходили за границу, проводниками ставили бывших надсмотрщиков, вышедших на пенсию. Могли быть уверены, что он там не останется. Уедет и приедет. И никакого зла она к нему не чувствовала.
Только один поступок она не могла простить. Мирин.
– Она никогда не говорила с тобой о Мире? Об этой своей семейной трагедии?
– Нет. Правда, я никогда не задавал ей вопросов. Не очень ориентировался во всём этом. То есть я знал, что там была вторая жена, но она не любила говорить на эту тему.
Только иногда, в пылу, Лина говорила, что Миру подослал КГБ, что КГБ воспользовался ею, чтобы разрушить их брак. Конечно, Мира Александровна никакого отношения к КГБ не имела, но её влияние на Сергея Сергеевича было именно таким, как желал КГБ. Прокофьева надо было скорейшим образом «перевоспитать». И Авия для этого совершенно не подходила.
Я знаю, что когда Авия вернулась из лагеря, Мира Александровна делала какие-то попытки с ней сблизиться, но Авия ни на какое сближение с ней не пошла. Я об этом слышал. Может быть, надо было бы спросить мою маму, – они были близки.
Когда я стал в чём-то разбираться, Мира Александровна уже умерла. Меня ей один раз показывали в детстве. Недавно мама мне рассказывала, что отношения совершенно испортились после злополучной истории с ковриком. Олег увидел у Миры Александровны свой старый, детский, ещё из Парижа, коврик, который лежал там у его кроватки. Купленный родителями у старой индианки во время гастролей по Америке. Теперь он был весь вытертый и имел ценность только как воспоминание. Мира Александровна закатила настоящую истерику с воплями «Забирайте всё! Мне ничего не нужно!» После этой истерической сцены отец сказал: «Мы к ней больше не ходим», хотя в принципе хотел поддерживать какие-то отношения с Мирой Александровной.
В своей беседе с Софьей Прокофьевой в августе 2005 года я попросила её высказать мне свой взгляд на Миру Александровну Мендельсон, и её ответ – это ещё одна точка зрения: «Это человек, который в общем-то остался для меня загадкой. В нашей семье было сложное положение. Мы общались с Мирой Александровной, а потом, когда возвратилась Лина Ивановна и узнала об этом общении, это оказалось для неё просто ударом. Потому что она не могла ей, естественно, простить того, что Мира Александровна сотворила с её жизнью.
У меня такое ощущение, что в период её поиска, достаточно хищного, когда она искала себе напарника для жизни, для судьбы, когда она искала себе, иначе говоря, просто мужа, и никто другой ей был не нужен – это, вероятно, был один человек, и я думаю, что тут она была способна на многое, и трудно было остановить её в этих поисках и погоне, потому что ни то, что у этого человека есть жена, ни то, что у этого человека есть дети, – ничто остановить её не могло. Но потом, когда она достигла своего, наступил резкий перелом, и она стала другим человеком. Мира Александровна была ему верной подругой, любила его. И тут о ней можно сказать много хорошего. Она была действительно тем, что ему было надо. Не светская блистательная женщина, как Лина Ивановна. Это была подруга, а чем дальше, тем больше – сиделка, потому что он был очень болен, страдал тяжёлой гипертонией, поэтому не только её судьба, но и характер как бы делится на две части. В чём её можно упрекнуть? В том, что она никак не пригрела двух мальчиков, которые оказались в ужасной ситуации: мать арестована, а отец болен. У них были порядочные деньги, а мальчикам давалось очень мало. Но это уже внутренние семейные дела, где я – не судья. Я знаю, что и Н. Я. Мясковский и П. А. Ламм относились к ней очень хорошо, потому что они видели, что она сохраняет жизнь Сергею Сергеевичу, создаёт ему рабочую обстановку, чтобы он мог работать столько, сколько у него хватало сил. Правда, литературно она была совершенно не одарена – это мягко выражаясь – и не нашла либреттиста, который сделал бы прекрасные либретто для такого композитора, как Сергей Сергеевич, – и найти такого было, конечно, можно. Мы два вечера подряд ходили слушать оперу „Война и мир“. „Семёна Котко“ я не знаю.
Отец её, когда мы бывали у неё несколько раз, к нам не выходил, мы его не видели.
Однажды Мира Александровна пришла к нам посмотреть на маленького Серёжу. Серёже было года два. 1956 год. Он ходил вокруг дивана, держась за него, потом вдруг побежал быстро, неудержимо, как дикая лошадка, – ему было даже меньше, я помню её необыкновенно тоскливый, жадный взгляд, как она смотрела на Серёжу. Видимо, она хотела детей или хотела какой-то связи с Серёжей как с внуком Прокофьева, – вот этот взгляд я помню, потому что он был откровенен, – она забыла о моём присутствии, она смотрела так, как она это ощущала в данный момент, она смотрела на него просто с жадностью, не отрываясь.
Такое двойственное у меня ощущение от этого человека. Потом отношения наши резко прервались, я её уже больше не видела никогда. Прервались, потому что вернулась из лагеря Лина Ивановна и не хотела, чтобы кто-либо из её семьи общался с человеком, который нанёс ей такой удар.
Она пережила всё. Со своим могучим характером она пережила. Но не простила. Когда Сергей Сергеевич оставил её, этот момент был для неё страшно тяжёлым и непонятным, оскорбительным, – Лине Ивановне казалось, что Мира Александровна ничтожна по сравнению с ней, которая прошла с ним через всю жизнь, родила двух сыновей…
Соня рассказала мне и о забавных юмористических письмах, в которых Сергей Сергеевич спрашивал Лину, почему она не едет к нему в Кисловодск, и намекал, что есть дама, которая его преследует, которая явно положила на него глаз.
„Об этом рассказывал мне Олег, и я точно помню его рассказ про эти письма“, – говорит Соня.
Наверное, Лине Ивановне надо было обратить внимание на эти письма…
„Жизнь и судьба Миры Александровны как бы делится на две половины. Я знаю, что есть люди, которые любили её, есть люди, которые обожали Лину Ивановну, ценили её блеск, артистизм и абсолютную честность. Что касается Миры Александровны, то её поступок был самый классический, самый вульгарный, потому что я не уверена в том, что она любила его тогда, когда добивалась.
У неё никого не осталось. Конец её жизни был чрезвычайно печален и одинок. Но я об этом ничего не знаю. Я не могла её увидеть, так как появилась Лина Ивановна.
Мира Александровна была богата, и меня удивила их с Сергеем Сергеевичем квартирка, неуютная и убогая“.
* * *
Как часто в связи со встречами с Линой Ивановной возникает в голове слово „праздник“. Для меня поход в Большой театр всегда был событием, хотя благодаря родителям и друзьям я на протяжении своей жизни бывала там очень часто. Балеты Прокофьева я знала чуть ли не наизусть, его музыка и Уланова – самое прекрасное, что существовало в жизни. Но приглашение Лины Ивановны несло с собой какую-то особую радость.
Однажды она пригласила меня пойти послушать находящийся на гастролях немецкий оперный театр. Мы условились встретиться у колонн. Она появилась в гладком чёрном „маленьком пальто“, с узким воротничком из белой норки вокруг шеи и „бриллиантовыми“ пуговицами. Как всегда, замечательно выглядели её волосы, и туфли, как всегда, были на высоких каблуках. Произведение искусства. Мы прошли в гардероб, разделись и неторопливо пошли в зал. Её останавливали на каждом шагу. Все знали её, все стремились поговорить с ней. Не только потому, что она была вдовой Прокофьева, и многие знали трагические подробности её биографии. Нет, не в этом было дело. Люди стремились говорить с ней, потому что это было интересно. Она обладала широкой музыкальной эрудицией, и сама жизнь сначала „там“, а потом „здесь“, жизнь с Прокофьевым, общение со звёздами большого искусства, музыкальность и ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ во всём, что происходило в искусстве, делали её неотразимо влекущей к себе собеседницей. Мне кажется, может быть, что на её манеру и стиль речи оказала влияние и личность Сергея Сергеевича. Его бесчисленные письма, беседы с ним приучали к интенсивной работе мысли, к полному отсутствию пустых слов или безответственности в суждениях. Каждое слово Прокофьева было значимо и правдиво. И Лина Ивановна, светская дама высшего класса, отличалась именно тем, что разговор с ней был плодотворным, – она всё знала, она судила непредвзято, она говорила то, что думала. А мысли её были всегда свежими. Для многих, „замшелых“, „пещерных“ музыкальных деятелей, застывших в догмах официально дозволенного, чей кругозор очерчивался линиями, проведёнными от носа вперёд, она была, конечно, экзотична, эксцентрична, но именно в том смысле, что небрежно, без нажима говорила о вещах им неизвестных, хотя и давно существующих. В зале было не так уж много людей, знакомых с привезённой оперой, с либретто, с новизной постановки. Лина Ивановна была естественна, вне власти толстовских представлений об опере как нелепости или показном экстазе по этому же поводу. Она воспринимала происходящее на сцене по существу, она преклонялась перед всем талантливым, её поведение и мысли учили.
На концертах в Большом зале консерватории меня тоже не покидало особое чувство, которое вызывали во время концертов реакция и поведение Лины Ивановны. В том, как она слушала и что говорила всегда присутствовали одновременно профессиональное и в то же время глубоко личное отношение к происходящему. Ну ещё бы. Она ходила на концерты Прокофьева (не говоря о Стравинском, Рахманинове и т. д. и т. д.), пианиста и дирижёра, она ходила на концерты с Прокофьевым, и они детально обсуждали всё, что слушали, о чём Сергей Сергеевич Прокофьев неоднократно пишет в своём „Дневнике“, она выходила на сцену сама, с оркестром или с партнёром – Прокофьевым, она знала законы сцены, чувствовала реакцию публики.
Как известно, Стравинский посетил СССР в 1962 году и давал концерт в Большом зале Московской консерватории. Он довольно прохладно относился к советской музыкальной общественности, которая на приёме, устроенном в его честь, развлекалась, бросая друг в друга хлебные шарики. Но с Линой Ивановной он несколько раз встречался, они о многом говорили. Святослав Сергеевич рассказывает, что когда они возвращались после концерта, вместе с мамой провожая Игоря Фёдоровича до гостиницы „Националь“, Стравинский вдруг обнял его, положил руку на плечо и сказал: „Мы с твоим отцом были большими друзьями“, – эти слова произвели на Святослава Сергеевича сильное и приятное впечатление.
Я уже рассказывала о первой встрече Святослава Сергеевича со Стравинским в 1929 году, в замке де ла Флешер (Chateau de la Flechere), когда мальчик спросил, что такое Стравинский, и получил разъяснение лично от композитора. Лина Ивановна встречалась в СССР и с Булезом, приезжавшим в Москву. Вернувшись в Париж, Лина Ивановна продолжила дружбу с ним.
Среди особенностей поведения и натуры Лины Ивановны при всей её природной женственности бросалась в глаза необыкновенная точность, чёткость и определённость во всём – в речах, в поведении, в желаниях, поступках, связанные со всем образом её жизни. Однажды С. Т. Рихтер сказал мне, что взгляд её был требовательным. Это, конечно, не звучит как однозначный комплимент, но со временем я уяснила, что и жизнь с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым и собственная, насыщенная событиями, научили её точно знать, чем она занимается в данный момент. Прокофьев мог поручить и часто поручал ей крайне важные для него дела, и она без лишних вопросов справлялась с ними, равно как и с квартирными хлопотами, устройством детей в школу или в случае необходимости в больницу. Абсолютная чёткость поведения и поступков Прокофьева среди прочих, более важных особенностей его насыщенной ВСЕМ жизни очевидна для любого читателя его „Дневника“, но не меньше это бросается в глаза в его письмах, обращённых к Лине Ивановне. В разлуке он писал ей почти каждый день. И будь то описание нового города, репетиции, встречи с друзьями, делового разговора, вопросов, касающихся сыновей и т. д. – во всём этом решительно невозможно найти ни одного лишнего слова. Лина Ивановна оказалась под влиянием глубокой содержательности и насыщенности его жизни, испытала на себе влияние мужа, для которого главное всегда было главным, а второстепенное – второстепенным. Впрочем, если он писал о чём-то в данный момент, оно и было тогда главным. Писал он в высшей степени подробно, и, видимо, именно этот огромный запас того, что обязательно должно было быть высказано (всё важно!) привёл его к привычке обходиться без гласных.
ЛИНА ПРОКОФЬЕВА У НАС В ДОМЕ, В РУЗЕ, У СЕБЯ НА КУТУЗОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ
Лина Ивановна, переступая порог нашей квартиры, без всяких усилий, самим своим появлением повышала самоощущение присутствующих.
„Выставочная“ внешность: всегда при параде, испанка, маленькая, всегда весёлая, очень подвижная, как заведённая, „не наша“, резко отличалась от всех остальных. Голос – высокий, с хрипотцой, говорила быстро и с напором» – такой запомнилась Лина Ивановна моей дочери Кате, тогда ещё девочке.
Сразу вспыхивали разговоры, с мамой, со мной. Мы горячо обсуждали все новости, общественные, музыкальные, театральные. Лина Ивановна щедро делила свою дружбу и расположение между мной и мамой, – ей всё было интересно: не только мамины, но и мои друзья, моя профессия – древние языки, – моя работа, дети. Мне жаль, что мой сын Саша родился за год до её отъезда в Европу, и память о ней, кроме моих рассказов, осталась лишь в красоте небесно-голубого костюмчика, который Лина Ивановна ему подарила.
Она любила расспрашивать меня об авторах, которых я переводила, о Цицероне и Ахилле Татии, очень заинтересовалась основами красноречия в изложении Квинтилиана. К моему удивлению, выпытывала у меня в подробностях те главы, над которыми я работала. Ей страшно нравились те чеканно звучащие по-латыни основы учения о красноречии, которыми люди часто пользуются, не подозревая о том, что они формализованы. Но и тонкость наблюдений Квинтилиана над языком восхищала её. Мы обсуждали многое, среди прочего и всё, что касалось её сыновей и внуков, но ни разу она не коснулась темы увлечения Серёжи (кто знал, может быть, занятия антропософией не приветствовались) и ни разу не назвала имени Миры. С увлечением и прекрасным чувством юмора она выспрашивала меня и маму обо всех композиторах – современниках, и, надо сказать, преувеличенная роль так называемых композиторов-песенников занимала её чрезвычайно.
Её интересовал образ мыслей моих сверстников, круг их интересов, животрепещущие проблемы нашей жизни. Что изучали в университете, какие там царили настроения после смерти Сталина, – она всё понимала. Про «север» молчала. И я лишь смутно слышала что-то о годах её пребывания в лагере. Не вдумывалась в её прошлое. Но она, может быть, этого и не хотела. Не то чтобы она навёрстывала ушедшие годы, – нет. Но прошлое осталось позади.
Она никогда не являлась в дом с пустыми руками, – всегда приносила что-то сулящее радость, всегда очень красивое, праздничное, – всегда сюрприз.
РУЗА
По приглашению мамы Лина Ивановна несколько раз приезжала к нам погостить в знаменитую Рузу, в Дом творчества композиторов, «композиторский рай» на берегу Москва – реки, где каждое лето жила моя мама в коттедже номер 4. (Эта подробность понятна только тем, кто там бывал: коттедж номер 4 стоял на скрещении всех дорог, все так или иначе проходили мимо, по дороге на речку или в столовую или на волейбольную площадку).
В коттедже были три комнаты и большая веранда. Лине Ивановне предназначалась спальня, (мама всегда жила в кабинете с роялем). Она приезжала во всём блеске своей красоты, и я помню, что каждый её приезд сопровождался шушуканьем обитателей Рузы о её возрасте. И в самом деле, она приближалась к семидесяти годам, но весь её облик совершенно не соответствовал внушительным цифрам. С ней прибывал отнюдь не маленький багаж. Я вела свою жизнь, – ходила купаться или играть в волейбол или теннис, – но по возвращении, или встав поутру, каждый раз бывала потрясена полностью изменившимся видом и благоуханием нашей ванной комнаты. Количество баночек, бутылочек, флаконов, спреев, духов, паст, мазей и пр. и пр. не поддавалось описанию. Аромат стоял сказочный, необычный, но в силу, вероятно, качества парфюмерии прекрасно сочетался с любимым запахом горящих в печках дров.
Прежде чем появиться к завтраку Лина Ивановна удалялась в ванную и проводила там не меньше часа. Но выходила оттуда поистине как роза. Благоухающая, свежая, прекрасная роза, в лучшем своём наряде. Не надо забывать при этом, что наряды менялись не только каждый день, но и в течение дня. Мне приходило в голову, что жена Сергея Прокофьева могла быть или должна была быть именно такой.
Обычное кофепитие превращалось в прекрасный ритуал.
Знаменитые обитатели Рузы, Светланов или Плисецкая стремились к ней не для того чтобы исполнить долг перед памятью великого композитора, но чтобы полюбоваться ею, поговорить с ней, вкусить радость общения с необыкновенной блистательной умной женщиной. Не раз была этому свидетельницей.
Даже привычные с детства река, лес, – всё становилось новым, нарядным. И чувство царящей кругом благодати и благодарности природе обострялось. Она радовалась всему. Мы по длинной и довольно крутой горке спускались вниз к реке, брали лодку, она легко вступала в лодку, присаживалась на скамейку, я гребла, и мы блаженствовали и ощущали благодать соединения с удивительной подмосковной природой, мы причаливали в моем любимом крошечном заливчике, выходили на тёплый песок и вели самые душевные разговоры. Несколько раз Лина Ивановна привозила с собой и Серёжу, ему было 16 лет, и по этому его возрасту я могу с уверенностью сказать, что однажды, во всяком случае, это было лето 1970 года.
Во время прогулок мы много говорили обо всём, о новых книгах, об изменениях в обществе, опять пошедшем вспять после оттепели. Её суждения часто бывали нелицеприятны, никакой особой снисходительностью или ложным сочувствием к сильным мира сего или пошлости окружающих она не отличалась. Острая на язычок, находящаяся в полном соответствии с происходящим (как говорят теперь, адекватная), она уж никак не была идиллична.
Зоркий взгляд настоящего художника помог бы описать её так, как она того заслуживала. Лина Ивановна стоит передо мной как живая, миниатюрная, не худенькая, с шапкой чёрных кудрей с проседью, с чёрными горящими глазами, с характерными чертами очень красивого лица: нос маленький, прямой, изящный, узкий, с изысканным рисунком ноздрей, прекрасные пропорции лица, – во всех точёных чертах сквозила порода, облик римско-испанский, романский, но с дуновением холодного ветерка Польши, утончённостью Франции. Горячая как испанка, мудрая на средиземноморский манер, независимая по-галльски, своенравная по-польски. И в чёрном с белой норкой и «бриллиантовыми» пуговицами пальто у колонн Большого театра, или в строгом английском костюме, в пёстром летнем платье или дома в брюках, – всегда безупречная, естественная, независимая, свободная, – такое вот особое создание.
Кстати говоря, в Рузе она любила гостить у нас, хотя Т. Н. Хренников по первому слову давал ей коттедж, и Святослав с Надей и Серёжей, бывало, тоже там жили.
Но как бы она ни наслаждалась природой средней полосы, больше всего она любила море и без него не представляла себе лета.
– Я знаю, что она очень любила ездить повсюду. Ты проводил с ней когда-нибудь летние месяцы? – спросила я Серёжу.
– Она ездила и по России, и в Прибалтику, совершенно не была снобом, – не то чтобы хотела непременно только в Париж или Нью-Йорк. Она ездила и в Польшу, и в Чехословакию, и всюду проявляла интерес к странам, к людям, к культуре.
– Помню, она находила много общего с моей мамой в любви к морю. Святослав Сергеевич тоже говорил мне, что жизни без моря она просто не представляла себе.
– Однажды она взяла меня в Коктебель, в Дом творчества писателей. Само собой разумеется, что она быстро завоевала симпатии Марии Степановны[106]. Ей было уже под семьдесят лет, но мы с лёгкостью поднимались вместе на Карадаг, она заплывала далеко в море, плавала без устали. Очень любила море и очень хорошо плавала. По-моему, мне рассказывали, что однажды из-за своей любви к морю чуть не погибла. Это было где-то в Америке, она заплыла далеко в море – я, правда, не думаю, что это было в Нью-Йорке, поскольку океан достаточно холодный, – и её подхватило течение и унесло. В последний момент – она уже не могла держаться на воде – её выловили рыбаки. Это было в юности.
После свадьбы Оли Янченко она поехала с ней в Одессу, там она просто замучила всех (при том, что все были моложе и крепче её) тем, что хотела осмотреть ВСЕ места, лазила по скалам над морем, Оля её поддерживала, потому что в любой момент можно было сорваться, но она всё равно каждый раз должна была подняться на самый верх.
Она несколько раз была в Коктебеле, купила машину, и в компании друзей они отправились путешествовать на юг. Сыновья к ней приезжали и в Коктебель. Она дружила там с Габричевскими, он читал в архитектурном институте, где учился Святослав, был другом и поклонником Г. Г. Нейгауза и С. Т. Рихтера, его жена была талантливой художницей.
Вместе с семьёй Святослава Лина Ивановна ездила и в Дилижан, где в это время жил Сарьян, и в Сухуми, и в Крым, одно лето гостила у Расула Гамзатова. Они познакомились в каком-то санатории. Гамзатов – широкая натура – ей симпатизировал и пригласил в своё имение. Он тоже был ей симпатичен.
Мы, бывало, навещали её в крохотной квартирке на Кутузовском проспекте. И внуки, и сыновья, и друзья постоянно сетовали на то, что квартирка была маленькая и никак не подходила для жизни вдовы Прокофьева. И в самом деле это, конечно, было так. Однокомнатная квартирка не вмещала ни друзей, ни родных, ни почитателей композитора. Лина Ивановна её стеснялась и принимала в ней только самых близких людей. Но когда я впервые переступила порог этого последнего в СССР жилища Лины Ивановны, меня совсем не поразили его маленькие размеры. Мне это жильё показалось необычным, красивым, наполненным массой интереснейших вещей, картин, пластинок, книг, пронизанное запахом кофе. Как же я удивилась, когда нашла полное подтверждение своего впечатления у Сергея Святославовича Прокофьева. Быт Лины Ивановны состоял в его отсутствии. Ничто не говорило в этой квартирке о развёрнутом домашнем хозяйстве, необходимых продуктах и пр. В еде Лина Ивановна проявляла полную аскетичность. Хозяйка жила другими идеями.
По поводу быта Лины Ивановны Соня тоже внесла некоторую ясность: «Она очень часто обращалась ко мне за помощью, но у неё была ещё одна помощница, портниха Маша, которая ей шила и была близким другом Лины Ивановны. Никакой домработницы у неё не было, и Маша играла в её жизни большую роль, – действительно, помогала, делала покупки, – в общем выполняла всю работу по хозяйству. Хоть квартира у Лины Ивановны была маленькая, но вещей разного рода там было очень много. Квартира была настолько маленькая, что однажды некий иностранный гость, оперевшись, как ему казалось, на стену гостиной, нажал спиной на дверь и чуть не упал в туалет».
Лина Ивановна с течением времени всё больше доверяла мне и постепенно стала рассказывать о своём желании уехать из СССР. На этом пути она встретилась с невидимыми, но легко угадываемыми препятствиями. Конечно, Лина Ивановна не выходила из поля зрения Органов Госбезопасности, и они вовсе ничего не хотели делать, чтобы облегчить ей выезд. Она посылала ходатайства и письма в высшие инстанции КГБ, ей месяцами не отвечали, но потом, когда удавалось спросить кого-то из них о результатах, ответ всегда был один и тот же: «Почему вы обращаетесь к нам? Мы совершенно ни при чём. Хотите ехать, езжайте». Это было принятое издевательство. Каждый понимал, что заграничный паспорт с визой можно было получить ТОЛЬКО через КГБ. Так проходили годы. Сменяли друг друга наши дряхлые вожди. Когда КГБ возглавил Ю. А. Андропов, впоследствии процарствовавший всего два года ввиду тяжёлой болезни почек и писавший стихи, Лине Ивановне, как я уже говорила, посоветовали обратиться с письмом непосредственно и лично к нему.
Письмо надо было напечатать. Помню, как мы вдвоём с Линой Ивановной садились перед моей пишущей машинкой и сочиняли это письмо, стараясь высказать всё самое главное и в нужных официальных выражениях. Оно сохранилось, и я уже поместила его на страницах этой книги в Главе тринадцатой, «1956–1974. Отъезд из СССР».
Никто не ожидал, что буквально через несколько дней после отправления письма Лина Ивановна получит заграничный паспорт с визой. Мы все были просто ошарашены.
Дела сразу приобрели характер предотъездных. Одно из них, в котором я тоже выступала как доверенное лицо – машинистка – было очень смешное. Лина Ивановна должна была распорядиться своими средствами. Для этого я печатала по той форме, которую она знала, весь текст, а потом, когда дело доходило до цифровых данных некоей суммы, Лина Ивановна, чтобы сохранить коммерческую тайну, говорила мне: «А теперь вы выйдите, я сама напечатаю это число». Я выходила, и через некоторое время раздавались раздражённые самокритичные восклицания, меня вызывали обратно, Лина Ивановна признавалась, что всё перепутала, лист вынимали из машинки, рвали, и начинали писать новый. Легко себе представить, что это случалось не один и не два раза. В конце-концов после очередного перепечатывания всей формы Лина Ивановна продиктовала мне по одной каждую цифру, которые не сложились для меня в реальное число, и на этом работа была закончена.
Не помню сцен прощания, не помню день её отъезда. Из Парижа пришла открытка, в ней Лина Ивановна писала, что она поселилась на улице Мадам Рекамье.
Это было в 1974 году. Ей предстояли последние пятнадцать лет жизни в Париже, Лондоне, Германии.
Глава пятнадцатая 1974–1989. Жизнь Лины Прокофьевой на западе
Мне не пришлось увидеть Лину Ивановну после её отъезда. Год моего первого выезда за границу совпал с годом её кончины.
Я осталась в России, героиня уехала на запад. Она вернулась домой, в другом возрасте и в другое время, через тридцать восемь лет. Для автора эта часть её жизни несколько более абстрактна, автор её уже не наблюдал лично. Парадокс состоит в том, что ад Абези я вижу яснее, чем парижскую вольницу.
Современники, дети и внуки, друзья, те, кто был рядом в Париже, Лондоне, Бонне, Швейцарии, Мадриде, городах Соединённых Штатов – оставили свидетельства о ней, из которых складывается пусть и неполная, но правдивая и насыщенная событиями картина её последних пятнадцати лет.
Они были отданы в большой степени музыке Сергея Сергеевича Прокофьева, поискам его сочинений, их изданию и переизданию, корректурам, исполнению, постановкам, и наконец созданию Фонда Прокофьева в Лондоне, на основе которого возник Архив С. С. Прокофьева. В нём хранится личная переписка с детьми, внуками, авторами, пишущими книги о С. С. Прокофьеве и Л. И. Прокофьевой, музыкальными обществами и оркестрами, деловая корреспонденция, касающаяся основания Фонда Прокофьева, биографические и автобиографические архивные материалы, сведения о Christian Science, расшифровки плёнок с записью рассказов Лины Ивановны о её семье, юности, знакомстве с С. С. Прокофьевым, статьи и радиопередачи с участием Лины Ивановны, её записные книжки и т. д.
Лина Ивановна позаботилась и о том, чтобы прояснить некоторые ситуации, касавшиеся отношений Прокофьева и Стравинского.
Со времён Парижа Сергей Сергеевич и Лина Ивановна много общались с Игорем Фёдоровичем Стравинским. Их связывала взаимная творческая заинтересованность, хоть отношения, как я уже писала, были сложными. Лина Ивановна сочла нужным прокомментировать их и опубликовать два письма, написанные композиторами друг другу в 1933 году.
31 августа 1982 года
«Меня часто спрашивают, и в особенности музыканты: „Каковы были отношения между Прокофьевым и Стравинским?“ Это, действительно, очень деликатный вопрос.
Никогда я не слышала, чтобы Прокофьев говорил о Стравинском в неуважительных тонах ‹…›. В своей личной переписке с друзьями Прокофьев пишет о новых, только что услышанных им, сочинениях Стравинского, пишет с чисто профессиональных позиций ‹…› Определённая взаимная симпатия между ними была всегда, но никогда не было глубокой дружбы. Прокофьев постоянно интересовался новыми произведениями Стравинского, внимательно и с большим интересом слушал его музыку. ‹…›
Я запомнила очень отчётливо, так как присутствовала при этом разговоре, что Прокофьев спросил Стравинского о том, сочиняет ли он за фортепиано (Прокофьев этого не делал). Стравинский ответил, что сочиняет всегда за фортепиано. Он говорил, что прикосновение к клавишам, контакт с ними, стимулирует его на создание музыкальных тем, которые он записывает на столике слева от себя. Стравинский также спрашивал об отдельных фрагментах сочинений Прокофьева – иными словами, их отношения носили сугубо профессиональный характер.
Они имели возможность встречаться часто в период дягилевских сезонов, когда вместе с семьями жили в Париже.»
Лина Ивановна рассказывает, как Прокофьев и Стравинский встречались семьями, говорит о матери Стравинского, которую тот побаивался. Много встречались в 1929 году, когда отдыхали в Шато де ла Флешер, делали фотографии. Некоторые сохранились: на них запечатлены также Ансерме и Сувчинский.
10 февраля 1983 года
«После того, как мною были написаны предыдущие заметки, ‹…› я вспомнила, что не упомянула один эпизод, имевший место приблизительно в 1926 году.
Стравинский выступал в Варшаве и после концерта представительница Плейеля пригласила его к себе на приём. Мадам Гроссман попросила Стравинского сделать запись в своём гостевом альбоме. Стравинский нарисовал свою руку, обведя пальцы карандашом. Через несколько недель после своего концерта Прокофьев также был приглашён к мадам. Просматривая альбом, он неожиданно заметил рисунок руки Стравинского, который позабавил его. На обороте листа Прокофьев сделал следующую запись: „Когда я начну обучаться игре на духовых инструментах, то нарисую свои лёгкие“. Прокофьев поступил как озорной ребёнок, каким он, в сущности и был (но, право же, он не хотел этим никого обидеть).
Когда Прокофьев рассказал мне об этом, я заметила ему, что нельзя делать подобные вещи и, тем более, писать их – всегда найдутся люди, которые смогут использовать это с дурными намерениями. Прокофьев обещал мне отныне показывать все свои замечания.
Случай этот был позабыт, но, к несчастью, какой-то французский журналист, увидев альбом, немедленно дал публикацию. Конечно, кто-то показал газету Стравинскому, который, как это можно заметить из последовавшего между Стравинским и Прокофьевым обмена писем, воспринял этот инцидент близко к сердцу. Прокофьев был удручён (он никого не хотел обидеть). Это была лишь непроизвольная шалость. Ещё будучи студентом консерватории, он был известен как большой шутник, его остроумие служило только противоядием против его соучеников, которые были старше него чуть ли не в два раза.
Фактически, это всё, о чём я не сказала в моей первой заметке. Мой долг рассказать об этом случае, что называется, из первых уст, так как в будущем эта история, без сомнения, всплывёт вновь.
Конечно, если бы журналист не увидел альбома и если бы Стравинскому не показали газету, то инцидент был бы забыт, но „доброжелатели“ сделали из мухи слона.
Они оба имели свои слабости. Прокофьев был склонен к озорству, а Стравинский был высокомерен и очень остро реагировал на любое замечание, даже безобидное. Только через семь лет Стравинский узнал об этой необдуманной шутке. В декабре 1933 года он пишет Прокофьеву:
„Дорогой Серёжа,
я получил газетную вырезку, которая недавно была опубликована в одной из парижских газет. Полагаю, что Ваше объяснение Вашей же шутки в альбоме варшавской дамы было бы иным, нежели то непонятное для меня злословие, которое появилось в газете. Конечно, Вы были далеки от мысли поиздеваться надо мной – ведь, в конце концов я играю исключительно собственные сочинения, даже если выступаю в роли дирижёра. Мои руки, изображённые в альбоме, и играют, и дирижируют – но неужели это позорно? Я думаю, что стал жертвой глупой и мерзкой шутки. Без сомнения, многим может не нравиться моя исполнительская деятельность, но это единственная возможность избавить мою музыку от искажений.
Преданный и с любовью,
Игорь Стравинский“»
Ответ Прокофьева от 21 декабря 1933 года
«Дорогой Игорь Фёдорович,
я очень ценю то проявление дружеской снисходительности, с которой Вы подошли к этой газетной статье, появление которой причинило мне немалые огорчения. Самое время забыть тот период, с которым эта история связана, – что Вы тогда говорили о моей музыке и что я писал в дамском альбоме. Репортёр, который откопал и показал эту, неправильно понятую им шутку, оказал плохую услугу, так как любая тень, возникшая между нами, была бы чистым неприличием.
Я тепло обнимаю Вас, ваше новое сочинение очень заинтересовало меня.
Ваш СПРКФВ»
Сложившийся при Лондонском фонде Прокофьева Архив существует и действует под руководством музыкального учёного, искусствоведа, его куратора Ноэль Манн, энтузиастки, преданной музыке Прокофьева, знающей его жизнь и творчество, работающей в журнале «Три апельсина», помещающем на своих страницах статьи, рецензии, материалы о его сочинениях, переизданиях, научных изысканиях, постановках, исполнениях и прочее, а также о сложных обстоятельствах его жизни. Бросается в глаза содержательность и объективность, неукоснительная точность статей самой Ноэль Манн, далёкой от каких бы то ни было недостоверных спекуляций, которыми так грешат многие статьи музыкальных критиков, посвящённых Прокофьеву и Шостаковичу. Пусть это не покажется странным, но невольно обращаешь внимание на необычайную доброжелательность тона Ноэль Манн, резко отличающего её статьи в потоке западных публикаций, с их не только неточностями, но и странным и даже несколько неприязненным взглядом свысока.
Все, кто профессионально занимались музыкой или близко наблюдали занимающихся ею людей, хорошо знают, сколько неких дополнительных усилий вызывает к жизни эта звучащая материя, сколько суеты происходит вокруг любого исполнения, сольного, с оркестром или в ансамбле, постановки на оперной или балетной сцене, сколько горячих дискуссий, звонков, (теперь другие средства сообщения, но от этого суть не меняется) сопровождают эту деятельность, с каким количеством людей необходимо говорить, спорить, убеждать, доказывать, какая тщательная ювелирная работа идёт на репетициях.
Говоря об этом, вспоминаю, что Лина Ивановна покинула СССР в возрасте семидесяти семи лет и оставшиеся ей пятнадцать по мере сил занималась всеми этими необходимыми делами. Она всю жизнь обожала музыку Прокофьева, сама была музыкантом, и это, впридачу к собственной независимости и неукротимой энергии, вере в свою правоту, придавало ей силы для многотрудной деятельности вплоть до последнего года жизни, когда болезнь и смерть одолели её волю.
По приглашению Олега Лина Ивановна прибыла в Лондон в 1974 году. О самом начале её жизни в Лондоне мы узнаём от супруги дирижёра сэра Эдварда Даунса леди Даунс, ставшей её близким и верным другом.
В своих воспоминаниях о Лине Ивановне леди Даунс рассказывает, что познакомилась с «миссис Прокофьев» в январе 1975 года, когда она приехала к своему младшему сыну Олегу, его новой жене Френсис и их новорождённому сыну Габриэлю, самому младшему в то время внуку. От неё мы узнаём, что внучка Лины Ивановны – Анастасия – дочь Олега Прокофьева и рано умершей Камиллы Грей – ходила в школу вместе с дочерью супругов Даунс по имени Будикка, им обеим было в это время по четыре года.
Френсис ещё не вернулась из госпиталя, когда Лина Ивановна и Олег вместе должны были прийти к леди Даунс, но Олег заболел и Лина пришла одна. В тот день она впервые села за их кухонный стол, и с того момента сотни раз усаживалась на это место в течение последующих лет. Миссис Прокофьев стала членом семьи сэра и леди Даунс.
Лина Ивановна много раз просила, чтобы леди Даунс называла её по имени – Лина –, но та не могла решиться, чувствовала себя неловко и очень обрадовалась, когда Лина Ивановна разрешила ей называть себя «миссис Прокофьев», как она обычно представлялась по телефону.
Прожив некоторое время с Олегом и Френсис, миссис Прокофьев переехала на Майда Вейл. Тогда леди Даунс впервые пришлось складывать и паковать её вещи. Ей предстояло делать это ещё много раз, когда она перевозила миссис Прокофьев из одной квартиры в другую.
Она и отвезла Лину на новое место. В тот день миссис Прокофьев впервые приоткрыла леди Даунс завесу над сложными хитросплетениями своей жизни. Во время сборов Лина Ивановна подарила леди Даунс жёсткий крахмальный воротничок, который, по её словам, принадлежал Сергею Сергеевичу, сказав, что никогда не расставалсь с ним, всюду брала его с собой. Лина Ивановна показала леди Даунс и клочок бумаги, который снимал с неё обвинение в шпионаже, за который её посадили в тюрьму, – она называла этот период «своим северным временем». В тот же самый день Лина рассказала леди Даунс, что никогда не разводилась с Прокофьевым, пусть даже он жил с Мирой Мендельсон, а она коротала время в попытках освободиться из лагеря. Она пробыла там восемь лет и делила камеру с балериной, с которой они занимались «у станка» каждый день. Это помогало сохранить форму.
С тех пор леди Даунс каждую неделю предоставляла себя в полное распоряжение Лины Ивановны на целый день. Часто они отправлялись за покупками. Лина Ивановна любила одеваться и находила лондонские магазины неотразимыми. В особенности Селфриджис, казавшийся ей пещерой Аладдина. В те времена у Лины не было чересчур много денег, и в её паспорте стояла виза с разрешением пребывания заграницей в течение всего лишь шести месяцев.
Леди Даунс часто сопровождала Лину Ивановну в советское посольство с целью продлить визу. Однажды она даже попросила леди Даунс вклеить туда несколько страничек, так как места в паспорте уже не хватало.
Лина Ивановна боялась ходить в посольство одна, боялась, что её схватят и вернут обратно в Москву. У леди Даунс существовала договорённость с мужем, что он начнёт действовать, если к вечеру они не вернутся. Леди Даунс, привыкшей жить в свободной стране, эта ситуация была совершенно незнакомой.
Леди Даунс рассказывает также, что вскоре по прибытии в Лондон Лина Ивановна встретилась с «Boosey & Hawkes», издательством, публиковавшим музыку Прокофьева на западе. Лине Ивановне удалось заключить с ними новый контракт, согласно которому все члены семьи получали свою долю авторских прав.
Леди Даунс поражалась энергии, определённости и деловой сметке, которые проявила миссис Прокофьев в этих весьма сложных переговорах.
Именно в это время Лине Прокофьевой пришла идея учредить Фонд Прокофьева с целью пропаганды и изучения его сочинений. У неё было уже несколько друзей, которые по мере возможности помогали ей. Одни готовили еду, другие выполняли секретарскую работу; леди Даунс по-прежнему паковала вещи, отвозила в аэропорт, следила за одеждой и привечала Лину в своём доме. Дети обожали, когда Лина приходила, и она с удовольствием выезжала с ними, особенно любила пикники.
Старший сын, Святослав, впервые поехал в Лондон по приглашению Олега, ещё до выезда Лины Ивановны. Потом, когда Лина уже оказалась в Лондоне, она поначалу не имела ещё права сама присылать приглашение, поэтому во второй раз Святослав снова приехал якобы к Олегу, но основной его целью было навестить маму. Лина Ивановна сняла в Лондоне квартиру на время приезда сына. Святослав целыми днями бегал по Лондону, всё было ему интересно, он возвращался домой поздно, и мама даже немного обижалась, что не всё внимание сына уделялось ей.
Я спросила Святослава Сергеевича:
– А как вы общались, когда она уехала на запад?
– В основном по телефону. Она вообще мало рассказывала.
– Но она хорошо себя чувствовала, когда вернулась на запад?
– По-моему, она счастлива была. Наконец стала счастлива. Окунулась в парижскую атмосферу, где осталось много друзей, потом и другие появились. Она, естественно, ходила на концерты, где исполнялась музыка Прокофьева, и её, конечно, везде с восторгом принимали, когда она появлялась в артистической поздравлять и благодарить, узнавали и радовались встрече с ней. В третий раз мы с женой уже приезжали к ней в Париж, – рассказывает Святослав Сергеевич, – в её квартиру на улице Рекамье. Квартира была хорошая. Просторная гостиная, спальня, большая кухня.
***
Святослав Сергеевич по моей просьбе рассказал и об основании Лондонского Фонда.
– Значительную сумму мама завещала на основание Фонда Прокофьева. Брат Камиллы в силу своей профессии – он бухгалтер – занимается его финансовой частью и следит, чтобы фонд не трогали и чтобы он жил на проценты. Строгий.
– «Три апельсина» выходят на эти проценты?
– Не только. Тут и мы помогаем. Издание «Трёх апельсинов» напрямую финансируется семьёй.
Поэтому Ноэль Ман и рассматривает маму как основательницу фонда. В самом фонде на стене висит большой мамин портрет.
– Я читала, как значится Лина Ивановна в документах фонда: «Имя основателя: Прокофьева Лина (1897–1989), сопрано, жена Сергея Прокофьева». Мама успела увидеть рождение этого фонда?
– Юридически он был создан на деньги по завещанию, то есть начал работать уже после маминой смерти. И первые годы вёл довольно вялое существование, при колледже. Там был какой-то формальный руководитель, но именно формальный. Олегу тоже не до этого было. В общем только когда появилась Ноэль Ман, он заработал по-настоящему. И тогда стали издавать «Апельсины».
Сергей Святославович поясняет:
– Фонд реально представляет собой чисто финансовую единицу. На основе Фонда в дальнейшем был создан Архив Сергея Прокофьева, деятельность которого финансируется Фондом. Именно Архив представляет собой реально действующий организм. Его куратором и является Ноэль Манн.
После смерти Камиллы Грей Олег Сергеевич Прокофьев женился на англичанке Френсис Чайлд, у них родилось пятеро детей. Он был счастлив в этом браке, писал стихи, выставлял свои картины. Смерть настигла его внезапно, во время отдыха на морском берегу одного из Нормандских островов. Вода была холодная, он долго купался с детьми, веселился с ними, потом сел на скалу у воды погреться. Когда дети вышли из воды, он был мёртв. Выражение его лица было удивлённым. Это случилось 20 августа 1998 года, на семидесятом году его жизни.
После его смерти Френсис собрала все бумаги Лины Ивановны, которые хранил Олег, и отнесла семь ящиков в Архив Прокофьева, к Ноэль Ман. В этих ящиках хранится множество тайн.
* * *
Однако не надо представлять Лину Ивановну, по свидетельству всех родных и друзей, «настоящую женщину», ведущей на западе трудовой деловой образ жизни. Она жила как птица, выпущенная из клетки. Вокруг очень скоро появились друзья и почитатели, нашлись немногие и из тех, с которыми чету Прокофьевых связывали тесные узы дружбы ещё до их отъезда в СССР, среди них кузен Владимира Набокова композитор Николас Набоков, композитор Соге, появились среди друзей молодые пианисты, скрипачи, виолончелисты. Лина Ивановна общалась, выезжала, одевалась по последней моде. Побывала во многих странах по обе стороны океана. Об этом мы узнаём из рассказов её детей, внуков, друзей.
О встречах с Линой Ивановной на западе мне рассказывал её старший внук Сергей Олегович Прокофьев. Впервые он выехал заграницу по приглашению отца, Олега Сергеевича Прокофьева, в 1981 году. Тогда же он, как уже говорилось, впервые побывал и в Дорнахе, где выступил с обстоятельным докладом на антропософские темы, сделанным на немецком языке. Окончательно он переехал на запад в 1985 году. Как я уже писала, бабушку связывала с внуком большая дружба.
Нарушились ли эти связи, как протекало общение Серёжи с Авией после её отъезда, с 1974 года до 1989?
– Мы почти не переписывались. Переписка была главным образом с отцом. Но я время от времени говорил с ней по телефону. Этот способ общения был ей ближе. Может быть, она и написала мне пару открыток. Время было застойное, брежневское, потом андроповское, поэтому она, умудрённая опытом, конечно, была осторожна. Она-то вполне понимала все опасности и ни в коем случае не хотела мне как-то повредить.
– А что ты знал о её жизни? Куда она поехала сначала?
– Я впервые попал на запад в 1981 году. Знаю, что она должна была поехать сначала к Олегу, в Лондон. По-моему, в Лондоне она сразу получила испанский паспорт. Потому что, к счастью, у неё сохранилась копия «Свидетельства о рождении», где было сказано, что она родилась в Мадриде. В Испании существует закон, что родившийся в Испании – испанец, поэтому ей сразу выдали паспорт, и она, естественно, поехала в Париж, там прошли её самые счастливые годы – вершины известности Сергея Сергеевича, рождение детей, семья, счастливые поездки по всему миру, – в общем тот стиль жизни, который она любила.
В самом центре города, недалеко от Люксембургского дворца, на улице Мадам Рекамье, она сняла просторную двухкомнатную квартиру со светлой, солнечной лоджией, смотревшей на юг. Она ведь так любила тепло и свет. Квартира была очень уютной и располагалась в красивом доме в стиле модерн, который ей так нравился, напоминая о ее юности. Само собой разумеется, она поселилась в Париже одна. Независимость и самостоятельность были ее важными жизнеными правилами. А ведь ей было уже 77 лет, и начинала она жизнь в Париже действительно заново, после 38-летнего перерыва. Я раза три бывал у неё там. Она мне рассказывала, что занялась делами Прокофьева, поисками, архивами. Она приезжала в Швейцарию, и мы путешествовали, ездили в основном по французской Швейцарии. У меня машины тогда не было, мы брали машину напрокат. Это было её любимое средство передвижения.
– Какое впечатление сложилось у тебя о жизни Авии в Париже?
– Она жила в прекрасных условиях, всё было завешено папиными картинами, ей удалось вывезти и кое-какие из принадлежавших им картин из Москвы через свои посольские связи. Она снова погрузилась в атмосферу Парижа. Конечно, она жаловалась, что Париж стал не тот, но тем не менее она чувствовала себя там как дома. Из старых знакомых почти никого не осталось. Она нашла новых друзей, потому что вообще быстро сближалась с людьми.
Она по-настоящему интересовалась и искусством, и философией, и религией, могла поддержать разговор на эти темы. Принадлежала к направлению, где предполагалась определённая терпимость к мировоззрениям, практиковала её сама и требовала её от других. И очень не любила ортодоксии ни в какой области.
Авия много ездила к своим знакомым. Два раза если не три, она ездила в Англию. Один раз – показывать свои глаза, в лучшую Лондонскую клинику, и ей сказали, что современная медицина лечит всё, кроме её случая – отслоения сетчатки. У неё был тот редчайший случай, когда фактически улучшить зрение уже было невозможно. Зрение она потеряла в лагере, где пыталась читать по ночам. Потом она ездила вдвоём с моим отцом на открытие его выставки. Летели они на этом пресловутом Конкорде, сверхзвуковом, которого теперь не существует.
А потом, в какой-то момент выяснилось уже, что она со своим зрением не может жить одна, что кто-то должен быть рядом, чтобы помогать. Тогда она купила квартиру в Лондоне, поближе к Олегу, и переехала туда, и там я её тоже несколько раз навещал.
Как ни странно, но у меня больше воспоминаний об общении с Авией из России. Потому что через десять лет она всё-таки сильно постарела, и прежнее, «московское» общение уже было невозможно. Потом ей казалось, что на западе я делаю всё немножко не так, что надо быть в большей степени западным человеком в её представлении. С другой стороны, конечно, у неё вызывало определённое уважение, что я как-то справляюсь сам, что я устроился сам, не приехал ни в Париж, ни в Лондон, не сел на шею ни моему отцу, ни ей, иду своим путём. Самостоятельность, инициатива, всегда вызывали в ней уважение.
На нашу свадьбу с Астрид в Эдинбурге Авия приехала из Парижа, отец – из Лондона, маленькая Анастасия тоже приехала. Это было начало 1982 года, февраль. Она была на нашей свадьбе ещё в полном здравии. Она снова сделала несколько попыток приобщить меня к Christian Science, но я активно жил в другом духовном течении, и эти попытки успехом не увенчались. В то же время она никакого противодействия моим занятиям антропософией не проявляла. Давления не оказывала. Во многом наши представления о мире, о человеке, о человеческой судьбе сходились. Для Авии реальность духовного мира была очевидна. И она, так же, как и я, была убеждена в том, что душа живёт после смерти. Кажется, я рассказывал её сон в лагере, когда умер Сергей Сергеевич. К этим вещам она относилась серьёзно, но была человеком сдержанным. Если её прямо не спрашивали, то она о своём внутреннем мире не распространялась. Это была её как бы частная сфера, и она не любила об этом говорить.
Она поехала в Гётеанум, чтобы посмотреть, чем я живу. Может быть, она была немножко озабочена, а может быть после того как она доставала мне в Москве через своих дипломатических друзей разные книги, просто хотела посмотреть, чем же всё же её внук занимается.
– В первый раз ты видел её на западе в 1982-м году, а потом?
– А потом я уже окончательно переехал сначала в Швейцарию на три года, потом в Германию, в Швейцарии я жил с 1985 по 1988, и за это время она несколько раз приезжала ко мне, и мы ездили в Женеву, в Монтрё, где она заходила в пансионат, в котором в раннем детстве её оставляли гастролировавшие родители. Я в этот период ездил к ней в Париж. Она очень любила путешествовать. Всю жизнь. Когда она садилась в машину, и машина трогалась с места, она всегда говорила: «Когда я путешествую, я сразу себя лучше чувствую». Помимо музыки это был её элемент: разговаривать, общаться с людьми и путешествовать.
В 1988 году мы переехали в Германию, и из Германии мы с Астрид тоже ездили в Париж навещать Авию, а потом уже в связи с ухудшением зрения она уехала в Лондон.
В Англии она прожила недолго. Купила там квартиру, обосновалась, – квартира была недалеко от Гайд парка, от Олега далеко. Она пользовалась такси для поездок. У неё и в Париже не было машины с шофёром. Машина с шофёром у неё была только в России. Когда мы переехали в Германию, Авия жила в Бонне у своих друзей, у мексиканки Нормы, которую она знала ещё по консульству чуть ли не по России, и там она заболела. Собственно, болезнь эта была у неё давно, но тут она проявилась на последней стадии, её поместили в больницу, там её оперировали. В больнице я её тоже навещал.
Из Боннской больницы её прямо перевезли в английскую, но, к сожалению, из-за визы я не мог туда поехать и не был на её похоронах в Париже. С визой были большие сложности.
По внутреннему настрою она лучше всего чувствовала себя в Париже. Ей было там хорошо, она жила по своему распорядку, утром выпивала огромную чашку кофе с молоком, у неё была своя собственная огромная чашка. Это был в каком-то роде утренний ритуал. Она любила какие-то вещи повторять изо дня в день, из года в год. Работа с архивом Прокофьева, встречи с друзьями, путешествия, посещения концертов, оперы, – всё это составляло содержание её жизни.
В 1976–1977 году Лина Прокофьева побывала в США и там посетила в Бостоне основную церковь Christian Science, огромное здание с куполом… и была очень разочарована. Но потом она эти свои негативные впечатления поставила под вопрос и говорила, что все официальные учреждения, все церкви – когда становятся официальными, то сразу становятся не тем, чем должны быть в действительности.
В конце семидесятых годов Лина побывала в Испании, в Мадриде, где попыталась найти следы своих родственников, семьи Кодина, но в телефонной книге фамилия «Кодина» занимала несколько страниц. Ей удалось узнать всего лишь, что довольно давно семья эмигрировала в Аргентину, друзья обещали ей поискать их. В 1989 году, уже после смерти Лины пришло письмо от вдовы каталанского композитора Момпоу, старого друга семьи Прокофьевых, с копией свидетельства о рождении Хуана Кодины. Можно сказать, что Лина в поисках места своего рождения в известной степени повторила опыт Сергея Сергеевича, который в письме от 19 ноября 1935 года рассказывает о своих тщетных попытках найти следы жизни семьи Кодина в Мадриде (см. гл. 8).
Вскоре после того, как Лина Прокофьева обосновалась в Париже, она встретилась с господином Андре Шмидтом, ставшим её представителем и адвокатом. Интересно читать впечатления о Лине Ивановне человека, который впервые познакомился с ней в 1976 году, когда ей было ни много ни мало семьдесят девять лет. Между тем, когда он делится своими воспоминаниями о встречах с Линой Ивановной, совершенно не возникает впечатление, что речь идёт о встречах с отнюдь не молодой женщиной. Возраст всё ещё не властен над ней, и она по-прежнему ходит на высоких каблуках. Только гораздо позднее, в конце восьмидесятых годов Серёжа забьёт тревогу и скажет мне, что Авия стала сдавать: она пожаловалась ему, что уже не ходит на высоких каблуках.
Их впечатления о ней не отягощены предшествующими семьюдесятью с лишним годами её жизни, они свежи, и, несмотря на другой угол зрения, на расставленные на необычных местах акценты, они удивительно схожи с теми, которые выносили из дружбы или знакомства с ней все её друзья, будь то в Париже, Москве или Абези.
Андре Шмидт: (май 2004 года)
Я встретился с Линой в 76 году, когда она возвращалась из Вашингтона, куда была приглашена кем-то из Кеннеди. Она провела в заключении восемь лет по обвинению в шпионаже! Я держал в руках бумажку из КГБ, полстранички, на которых было написано нечто ошеломляющее: «Мадам Прокофьева освобождена генералом КГБ за отсутствием вины». Ничего себе! И это после восьми лет, проведённых в концентрационном лагере на севере России.
И вот она добралась сюда, сроки пребывания, указанные в визе, были чересчур коротки, она пренебрегла ими и осталась. Тогда же она обратилась ко мне, чтобы я урегулировал ситуацию с авторскими правами, – это моя специальность. Я сразу принялся за дело и довольно скоро, поскольку это не было слишком трудно, она получила авторские права.
Это была необыкновенно живая личность, цельная натура, говорила без обиняков, пользовалась французским языком без всяких дипломатических ухищрений. Она, конечно, умела быть дипломатичной, но в основном, во всяком случае со мной, говорила всё напрямик, когда мы ругались – мы ругались – впрочем, я считаю куда более приятным называть в разговоре вещи своими именами. Бывали и очень – очень трудные моменты, бывали и забавные.
Выбирая из изрядного количества важных эпизодов её жизни обращусь, например, к следующему: однажды кто-то ей позвонил с таким сообщением: «Послушайте, только что пришёл каталог аукциона Кристи в Лондоне (это происходило в восьмидесятые годы), и в этом каталоге упоминается, что выставлены на продажу письма Лины и Сергея Прокофьевых, их переписка. И среди них одно письмо Сергея Прокофьева Лине (это было прощальное письмо с объяснением причин расставания), складывалась ужасная ситуация, крайне жестокая. Это письмо становилось в Лондоне достоянием широкой публики. Как это могло случиться?»
Всего было пятнадцать документов, в частности рисунок Эйзенштейна, подаренный им Прокофьеву во время работы над «Александром Невским»: сцена битвы на льду Чудского озера русских против «псов-рыцарей», в результате которой их тяжеловооружённая армия была разбита в пух и прах. Это один из самых сильных эпизодов фильма, да к тому же и наиболее известный, так что документ был из важных.
В общем там оказалась целая куча всего, и тогда мы сели на самолёт, прилетели в Лондон и пошли к адвокату. Добились от судьи запрещения продаж. Потом вошли в контакт с владельцем этих товаров, это был француз, обозначенный в каталоге как «высокий французский джентльмен»; кажется, с помощью Кристи узнали, кто это был, в конце-концов выяснилось, что это был сын французского посла в Москве. Тогда Лина вспомнила, что в своё время передала свои документы французскому послу, отправлявшемуся во Францию с тем, чтобы они ждали её там, когда она вернётся, а она надеялась вернуться.
Почему же состоялась эта продажа у Кристи? Потому что посол умер, и когда среди его документов были обнаружены бумаги Прокофьева, родные решили пустить их с аукциона Кристи.
Их удалось выкупить, они стали собственностью Лины.
Письмо было очень интересное, очень важное для неё, она испытала настоящее эмоциональное потрясение.
Прервём рассказ господина Шмидта, чтобы услышать ту же самую историю из уст того «кого-то», которого упоминает господин Шмидт. Это – уже названная мною леди Джоан Даунс, супруга известного английского дирижёра, сэра Эдварда Даунса, большого любителя музыки Прокофьева, друга семьи с незапамятных времён, дирижировавшего многими сочинениями композитора. Леди Джоан Даунс дружила с Линой Прокофьевой до её смертного часа. В своих воспоминаниях о Лине Ивановне леди Даунс пишет об этом эпизоде:
«Однажды утром в пятницу мой муж прочитал в Литературном Приложении к Таймс, что аукцион Кристи выставляет на продажу коллекцию рукописей и личных писем Прокофьева. Мы позвонили миссис Прокофьевой, она была в Париже в это время, и мы сомневались, что она об этом знает. И всего несколько часов спустя я встретила её в аэропорту в сопровождении адвоката и отвезла их к лондонскому поверенному, чтобы остановить продажу. Запланированная распродажа включала коллекцию её личных вещей, которые она послала из Москвы в Париж через друзей в надежде, что когда-нибудь сможет покинуть Россию и получить их обратно. Друзья, с которыми она отправила вещи в Париж, умерли, а их детям, не слишком разбиравшимся что к чему, посоветовали продать их. Лина была очень взволнована, найдя не только письма и открытки от своего мужа, но и рукописи, в числе которых находилась первая опера Прокофьева, написанная им в возрасте девяти лет, она называлась „Великан“».
В фильме о Прокофьеве, выпущенном в Соединённых Штатах (режиссёр – Некрасов) мне больше всего понравился эпизод, в котором дети поэтично изображают сцену из этой оперы. Девочка – в старинном платьице и золотыми кудрями, сначала спит в своей сказочной кроватке, а потом приходят два мальчика – рыцари, спасающие её. Во всяком случае, это сделано «с настроением» (из запомнившихся выражений С. Т. Рихтера).
О постановке оперы «Великан» в Сонцовке упоминает и Лина Ивановна в своём рассказе в 80 годы. Она знала об этом со слов Марии Григорьевны.
«Одна из тёть Сергея вышла замуж за Генерала Раевского, чьё знаменитое имя упоминается даже в романе „Война и мир“. Сергей жил у Раевских, когда в девятилетнем возрасте написал и поставил свою первую оперу „Великан“. Конечно, это был домашний любительский спектакль, в те годы они были широко приняты. Кто-нибудь писал сюжет, а потом участники импровизировали диалог. Ребёнком я тоже „написала“ такую пьесу в США: она называлась „Мистер и миссис Пирс“, и я даже помню споры вокруг того, как правильно писать по-английски „Пирс“.
В России в таких домашних спектаклях часто участвовали дети и прислуга обоих семейств, родительского и дядиного, их чада и домочадцы, среди которых было много детей – друзей Сергея.»
«Мы отнесли всё это библиотекарю Ройял Опера Хаус, – продолжает леди Даунс – он сделал фотокопии и теперь мы могли поместить оригиналы в банк. Миссис Прокофьев попросила моего мужа взглянуть на рукописи, и посмотреть, может ли он ими воспользоваться. В это время муж готовился к первому исполнению музыки Прокофьева „Евгений Онегин“, и в партитуре, по которой он работал, не хватало четырех „номеров“, как вдруг – вот ведь чудо! – перед ним оказались пропущенные страницы, так что за неделю он оркестровал их, и сочинение было исполнено.»
Читая эти строки, я с нежностью подумала о таировских артистах, передавших в незапамятные уже времена репетиционные ноты автору.
С помощью Лины Ивановны сэр Эдвард Даунс осуществил ещё одну премьеру сочинения Прокофьева: это она привезла ему оперу Сергея Прокофьева «Маддалена».
Лина Ивановна рассказывает:
«Прокофьев приехал в Италию, чтобы обсудить с Дягилевым возможность написания балета на основе „Скифской Сюиты“, кстати сказать, одного из моих любимых произведений мужа. Это кресчендо, представляющее рассвет и восход солнца, потрясающее! Скифская сюита – выдающийся пример его оркестрового мастерства.
Соломон Волков в своей книге, которая выдаётся за мемуары Шостаковича, говорит, что Прокофьев не был силён в оркестровке, мучился с ней и вынужден был прибегать к помощи. Это не просто неправда, это абсурд. И Шостакович, независимо от того, любил он его или нет, был серьёзным музыкантом и ничего подобного сказать не мог. Так мог сказать только невежда.
Этому сочинению предшествовала его одноактная опера „Маддалена“, оркестровку которой он не закончил, она была завершена дирижёром Эдвардом Даунсом несколько лет тому назад и исполнена под его управлением на радио ВВС в Манчестере в 1979 году, сначала по-русски, а затем по-английски, в один и тот же вечер.
Даунс рассказывал мне, что в нотах были пометки Прокофьева, показывающие, как он собирался оркестровать оставшиеся части (примерно одну четверть произведения) и Даунс заодно изучил и „Скифскую сюиту“ и другие произведения этого периода.
Театральная премьера прошла в Австрии, в Граце в 1981 году, но спектакль не совсем удался. Это неудивительно: режиссёр и его друзья сами придерживались мнения, что эта музыка „little merit“. Когда Даунс исполнил её, красота музыки пронзила слушателей, в то время как оркестр в Граце не справился со своей задачей, может быть, и потому, что у них было недостаточное количество репетиций.
Думаю, истинная причина, по которой Сергей не закончил „Маддалену“, заключалась в том, что яркий экспрессионистский сюжет, увлёкший его в ранние годы, позже перестал интересовать его. Но он часто повторял: „Как-нибудь летом я непременно закончу ‘Маддалену’. Думаю, если бы встретился настоящий режиссёр, ‘Маддалена’ заняла бы достойное место. Конечно, она должна быть поставлена вместе с другой маленькой оперой, чтобы полностью занять программу вечера“. В Граце умудрились „инсценировать“ версию из кантаты „Иван Грозный“, и получилось смехотворно. Почему бы не взять к „Маддалене“ что-то из русской классики, „Иоланту“, например, или какую-нибудь из маленьких опер Римского-Корсакова?»[107]
Рассказ леди Даунс в дополнение к господину Шмидту доносит до нас темп принятого и выполненного решения (несколько часов!), а также почти детективную историю клавира «Евгения Онегина», чудесным образом попавшего к дирижёру в тот момент, когда он готовил его исполнение и вскоре осуществил его.
Но вернёмся к интервью с господином Шмидтом.
– Среди в некотором роде комических эпизодов:
Лину часто приглашали к себе разные знаменитости. Она рассказала мне две довольно забавных истории. Первая заключалась в том, что среди политиков, с которыми она встречалась, во всей Франции не оказалось ни одного, кто бы слышал о Прокофьеве. Единственным, кто знал его, был Барр, Раймон Барр[108] Причём Раймон Барр был совершенно потрясающий, потому что с ним можно было говорить о разных произведениях, иначе говоря, знания его были отнюдь не поверхностными, но глубокими. Но что было забавно, так это восклицания Миттерана или Ширака, «Прокофьев???», дальше этого дело не шло, и я не уверен в том, что это не осталось точно так же по сей день.
Вторая история: Лина интересовалась всем, – политикой в том числе. Встречаясь с Месье и Мадам Ширак, она спрашивала: «Почему вы не социалисты? Почему вы такие правые?» Эти слова она произносила на редкость ловко и изящно. Можно себе представить, какова была реакция окружающих.
Иногда я сопровождал её. Это было великолепно, и она совершенно очаровывала меня, но в тот момент, когда она переступала порог дома, куда была приглашена, я переставал существовать для неё. Она немедленно вписывалась в любую новую обстановку. На мой взгляд, она обожала приёмы, это была для неё потрясающая штука, она обожала говорить со всеми и говорила на шести или семи языках. Она проводила жизнь, расспрашивая людей, задавая им вопросы, иной раз нескромные. Очень живая, и очень активная, без всяких социальных предрассудков, – это было неважно для неё.
Журналисты и писатели, – она не была писателем, – часто брались беседовать с ней, полагаю, что некоторые из них должны были бы сохранить плёнки. Ей было о чём порассказать, и немало. Всё шло хорошо до тех пор, пока автор не произносил: «Я тоже хотел бы поставить своё имя на обложке книги». И тут его ждал от ворот поворот, полная катастрофа. Между тем среди писателей встречались и весьма известные, в частности, – американский биограф Прокофьева.
‹…›
Её интервьюировало BBC, я слушал эти плёнки, – думаю, они сохранились у сыновей, по крайней мере, я на это надеюсь.
Среди плёнок одна была особенно ясной, светлой, искрящейся, Лина делилась очень точными воспоминаниями, доселе мне совершенно не известными. Она наконец-то дала выход своей душе.
Другая кассета не такая великолепная. Первая была более оригинальная, там Лина очень интересно рассказывала о своих отношениях со Стравинским и другими музыкантами.
В конце концов она была уникальной свидетельницей огромного периода. Она вышла замуж за Прокофьева в юные годы и повсюду сопровождала его, они встречались со всеми на свете, они виделись с Рахманиновым, знали Онеггера, Пуленка, французских музыкантов, всю эту компанию.
Мне кажется, она написала статью об отношениях со Стравинским. Она говорила: «Они и в самом деле были соперниками, по отношению, например, к Дягилеву». Думаю, между ними шло отчаянное соревнование. Оба были в той или иной мере учениками Глазунова. Но они брали реванш в разговорах о музыке, собственной и других композиторов, и это была точка их соприкосновения, а не раздора. Прокофьев принимал Стравинского в шато де ла Флешер во Франции. Лина фотографировала их вместе с дирижёром швейцарского оркестра Ансерме (сохранились их фотографии, сделанные Линой). Они принимали их у себя, они были связаны трудно описуемым чувством, объединявшем членов иностранного сословия (общину иностранцев) во Франции.
Она много рассказывала мне об этом после того как вернулась. Она ходила на улицу Валентен Аюи, чтобы посмотреть на свою квартиру. На доме была мемориальная доска, установленная друзьями Прокофьева, которые были впрочем не столько друзьями Прокофьева, сколько друзьями французской коммунистической партии, организовавшей «Общество Прокофьева», оставившее от Прокофьева только его имя.
Она боялась. Вначале у неё был страх, потому что незадолго до того в Риме советскому посольству удалось захватить прямо на улице некоего типа и сразу затолкать его в самолёт Аэрофлота. Когда итальянская полиция проснулась, он был уже в самолёте. У неё были опасения, что и с ней могут поступить подобным образом. Живя в Париже, она часто оглядывалась по сторонам, проверяя, нет ли за ней слежки, в ней всё ещё жил огромный страх, потом она успокоилась.
Советский посол вступил с ней в контакт, чтобы попытаться уговорить её вернуться в Москву. Там отмечалось девяностолетие со дня рождения Прокофьева (1981 год), ей сказали, что состоятся концерты и прочие мероприятия, приуроченные к дате. В течение шести месяцев она без конца спрашивала: ехать или не ехать, и потом в один прекрасный день я позвонил ей и сказал: «Послушайте, Лина, я думаю, не следует вам ехать по той причине, что они наверняка вовлекут вас в юбилейные церемонии, вы увидите, как тотчас станете „Лина Прокофьев, которая только что приехала с запада наслаждаться советским раем“. И они прекрасно понимают, что с политической точки зрения, проведя годы в концентрационном лагере, Лина Прокофьев не только не придерживается коммунистических воззрений, но является их жестокой противницей, и я думаю, они нанесут удар, как делают обычно: „да ведь она уже стара“, и поместят вас в больницу, из которой вам уже никогда не выйти, они объявят всем, что вы больны, да и в самом деле в таком возрасте вряд ли найдётся кто-нибудь свободный от проблем со здоровьем» (в это время ей было 84 года).
Тогда она сказала «нет» послу, и посол вызвал одного человека из Москвы, и это был однин из самых больших музыкальных авторитетов России, месье Хренников.
Месье Хренников уже в 1948 году, во времена, когда Прокофьев и Шостакович были уничтожены тогдашним Союзом композиторов, клеймил Прокофьева от имени Жданова. Он произносил речи, и всё это было заснято в кинокадрах, мы видим Жданова и рядом с ним Хренникова, должно быть лет тридцати, и все они славили Великого Вождя, то бишь Сталина. И вот у Лины я видел перед собой этого самого Хренникова. Что было совершенно экстраординарным событием, потому что я говорил Лине: «Вы, конечно, пригласите Хренникова, но я хочу при этом присутствовать, потому что я не хочу, чтобы он Вас облапошил. Я не хочу, чтобы он оказал на вас давление. Поэтому я буду там, он не сможет ничего сказать, так как я понимаю русский, у него нет никаких шансов, он не сможет ни увезти вас, ни убедить. Я думаю, он выпьет рюмку водки и уйдёт».
Случилось всё именно так, как я говорил. Я поздоровался с мсье Хренниковым: «Здравствуйте, счастлив с вами познакомиться», – потом я сел в сторонке. И все дела! Никакой беседы, никаких просьб о приезде, он был начисто лишён такой возможности. Он не сказал ни слова о цели своего визита, которая состояла в том, чтобы убедить Лину вернуться в Москву. С тем и ушёл. Его жена выглядела более мудрой. На мой взгляд это она советовала ему, как поступать, это была более тонкая натура. Но справедливости ради я должен сказать в его защиту, что руки его не были запятнаны кровью. Он не поступал как Жданов, этот головорез, негодяй, который посылал людей в Гулаг, нет, он всё-таки был не такой. Он был защитник, он по-настоящему помогал Лине в России, когда она боролась против второй женщины, за восстановление своего брака.
В каком-то смысле Хренников был полезен этой семье, я думаю, что выражаю мнение всех её членов.
Больше всего на свете она обожала путешествовать, становилась счастливой, молодела и продолжала путешествовать до конца жизни. И каждый раз она расцветала.
По правде говоря она вела довольно одинокую жизнь; Олег время от времени приезжал, но проводил дни со своими друзьями, он только ночевал у неё, больше она его и не видела, постоянно ворчала на него, Олег был её любимцем, типичный «маменькин сынок», это было очевидно, у него были с ней именно такие отношения, он был с ней очень мил. Она не возвращалась более в Россию, куда пути ей были заказаны, и в первое время, чтобы увидеть своего старшего сына, она ехала в Лондон, и Святослав туда приезжал по приглашению Олега, то на два, то на три месяца. Продлевать пребывание было очень сложно, в восьмидесятые годы царили всё ещё советские порядки. Я впервые встретился со Святославом в Лондоне. Она снимала комнату в отеле, и он приходил туда, совершенно потерянный.
– Как вы думаете, она была здесь счастлива?
– Несчастной её никак нельзя было назвать. Хотя она вела уединённую жизнь, одинокую, но у неё была масса знакомых, друзей, близкая приятельница – японка, достаточно любопытное создание. Она вела образ жизни особы, достигшей определённого возраста, прожившей здесь всю жизнь, она совершенно акклиматизировалась. Она очень легко рассталась с грузом предшествующих лет, быстро освоилась. Она побывала понемногу повсюду, в Испании, в Соединённых Штатах, часто ездила в Лондон, там жили её внуки и сын, она не слишком привечала свою невестку, как все свекрови…
Я был свидетелем одной части её жизни, существуют ведь не только светлые моменты, я поехал к ней, и в последний раз я видел её в Бонне, уже тяжело больную.
– Какие черты характера Лины Вы назвали бы самыми главными? Что казалось Вам определяющим в ней?
– Огромный ум, огромная весёлость, огромная жажда всё знать, участвовать, потрясающий жизненный импульс. Чрезвычайно могучая личность, охваченная желанием жить. Она была самим олицетворением жизненной активности. Громадная личность.
Прокофьев, как мне кажется, был немного «мачо», немного «начальник», и в их отношениях, из-за любви она была несколько на втором плане, но, независимая, она была потрясающая, она «нуждалась в жизни», её интересовало всё.
Я помню, как она смотрела по телевидению футбольные матчи, можно было обалдеть от её реакций, она говорила: «Этот плохой, а тот хороший», она кричала: «Судью, где судья?!», она ругала всех подряд, игроков, судей, она участвовала в игре как малое дитя, это было великолепно.
Когда ей говорили, что надо идти на концерт, она бывала счастлива, она встречалась там с людьми, она им улыбалась. Я думаю, это было её доминантой. Она покинула Париж, уехала, её отъезд в Россию был не сахар, она боролась, она пережила в России депортацию, трудные, ужасные времена, восемь лет лагерей. Я ей говорил: «Этот следователь, который вас допрашивал, он наверное, сплошь и рядом оказывался в затруднительном положении». Потому что с такой личностью, какой она была, следователь, действоваший согласно инструкции, которому было приказано выбить из неё признание, ничего не мог поделать. Она должна была полностью сокрушить его, разбить его в пух и прах. Потому что если ей говорили: «вы сделали это», она, наверное, отвечала: «пошёл ты к чёрту…» – нечто в этом роде. Я ей говорил: «они, наверное, вынуждены были часто менять типов, которые задавали вам вопросы, они уже должны были быть сыты по горло» Она, наверное, говорила им: «ах, у вас красивый галстук», или неважно что ещё, она была потрясающая.
Она могла опрокинуть вверх дном доводы собеседника, очень общительная и очень сильная. Думаю, что если бы ей было на двадцать или тридцать лет поменьше, что-то могло бы произойти, она была очень обаятельная, полная жизни. Это не была Мадам Прокофьев, какое там! Конечно, сказать правду, это ей помогало, представьте себе преклонение людей перед ней, пожилой дамой, потрясающе блестящей.
В те времена ещё не было видео, но, наверное, у меня есть несколько плёнок, где она есть, она знала детей, она знала всех на свете, она была частью семьи. Вспоминаю, как один раз она собиралась в поездку в Лондон, она мне сказала: «Заезжайте за мной», я ей ответил: «Не поеду, потому что нет времени и пробки и т. д.». В конце-концов я заехал за ней, само собой разумеется. Началась перебранка, и я сказал: «Послушайте, Лина, хватит, я вас засуну в поезд, потом вы сядете на метро до Руасси, оттуда на самолёт, идите вы ко всем чертям, привет, я пошёл». Я оставил её, где она была, и убежал, взвинченный до предела. Потом я немного жалел, но никаких проблем не возникло, она добралась совершенно спокойно.
Она прожила девяносто лет, и за три месяца до смерти голова её была совершенно ясной.
Это была grande dame, настоящая великая grande dame, к несчастью неизвестная. Совершенно незаурядная дичность. Я жалею только о том, что она не дожила до свободы в России, до падени Берлинской стены.
* * *
С господином Шмидтом можно было бы поспорить в разделе о «писателях», с которыми Лина Прокофьева не хотела работать, коль скоро при этом вставал вопрос об авторстве. Представляется, что причина отсутствия воспоминаний о Лине Ивановне или самой Лины Ивановны кроется совсем в другом. Она хотела написать воспоминания на протяжении всей своей жизни, – это подтверждают её сын и внуки, ответить на фальсифицированные воспоминания, опубликованные в СССР от её имени. Её стол на Кутузовском был завален всякого рода тетрадями, записными книжками, блокнотиками, в которых были перемешаны заметки и записки самого разного рода, от списка того, что надо было купить, до впечатлений от спектаклей, концертов, текущие дела и т. д. В то же время мы помним, что Сергей Олегович характеризовал её как человека рассказа, а не письма. Так оно и было. Но и не только в этом причина. Слишком многообразна, многопланова, разностороння была её жизнь, чтобы вот так вот, с лёгкостью начать рассказывать «родилась, вышла замуж и т. д.» Собеседник, или, как говорит г. Шмидт, писатель или автор должен был сам стоять на огромной высоте и обладать суммой знаний, достаточной для того, чтобы понять Лину Ивановну. Можно сказать даже, что ему надо было бы провести параллельно с ней немало лет, хотя бы в тех же широтах, чтобы ориентироваться во множестве фактов на протяжении десятилетий, когда наряду с основным протагонистом – Сергеем Прокофьевым – героями становились то Стравинский, Дягилев, Пикассо или Рахманинов, то Мейерхольд, Таиров или Эйзенштейн и уже не в Париже, а в Москве, прожить войну в Москве, пережить уход горячо любимого мужа, узнать на своей шкуре, что такое ГУЛАГ, – читатель уже знает эти этапы её жизни. И вот к такой женщине, – ей уже за семьдесят – приходит сколь угодно симпатичный автор любого пола и начинает задавать банальные вопросы. Ну, конечно же, кроме раздражения, у такого человека, как Лина Прокофьева, он ничего не может вызвать. Слишком насыщенна не только её жизнь в целом, но каждый эпизод. За любым именем скрываются бездны противоречий искусства, личных отношений, наконец, истории. И Лина Ивановна просит не перебивать её, а «автор» полагает, что его обязанность состоит в том, чтобы ввести её в нужное русло, она видит, что вопрос слишком сложен, она отвлекается, и её просто бесит, когда ей напоминают, с чего она начала.
Конечно, вслед за господином Шмидтом можно выразить огромное сожаление, что у нас не осталось достаточно наговоренных ею самой плёнок. Ведь даже из коротких и обрывочных её высказываний выявляется сплошь и рядом нужная подробность, необычный нюанс, неожиданный поворот мысли. Однако плёнки в расшифрованном по-английски варианте всё же существуют, и мы уже неоднократно обращались к ним.
Из работавших с ней людей – авторов – писателей – приходит в голову имя уже упоминавшегося мною Харви Закса, опубликовавшего на страницах журнала Ноэль Манн «Три апельсина» статью «Никогда не переставать бороться» или «Почему Лина Прокофьева так и не написала своих воспоминаний».[109] Особенности работы с Линой Ивановной, попытки написать её воспоминания, её капризный, женственный и в то же время совершенно справедивый склад ума отразились в этой работе. Она стоит того, чтобы процитировать её часть. Лина Ивановна не была музыковедом с их нерушимой верой в превосходство музыковедения над всеми прочими музыкальными специальностями. Думаю как раз, что именно характерность, то есть достоверность и живость деталей, ценнее, чем разглагольствования о любом из великих деятелей, с которыми столкнула жизнь Лину Прокофьеву.
Итак, Харви Закс:
«(…) Два месяца спустя мы встретились с ней в Милане. (…) Ей было около 85 лет, она была невысокого роста, полноватая, но очень энергичная. Помню, что когда я шёл с ней по Via Torino, у меня было ощущение, что я веду под руку маленький прекрасно вооружённый танк. Она сказала, что в 1920 и 1930 годы она часто бывала в Милане, но это был её первый за 45 лет визит. Бросив безнадёжный взгляд на молодую женщину в шортах, она сказала: „в наше время мы называли это нижним бельём“.
На другой день мы вместе с ней поехали во Флоренцию на представление „Дуэньи“ Прокофьева.(…) И потом с конца июня до середины ноября я провёл с ней в Париже три коротких периода, цель которых была сдвинуть с места намеченный проект.‹…›
Было много прекрасных моментов, когда она говорила о своём детстве и юности, прошедших в многих странах Европы и в Нью-Йорке, о ранней поре знакомства с Прокофьевым в Америке, их совместной жизни в западной Европе и потом в Советском Союзе, его уходе к Мире Мендельсон (о внешности которой миссис Прокофьев не упускала случая отозваться с глубоким презрением) во время Второй мировой войны, о её собственном аресте в 1948 году по обвинению в шпионаже и восьми годах, проведённых ею в ГУЛАГе. Было много рассказов о знаменитых композиторах, исполнителях, певцах, писателях и художниках, с которыми она и её муж постоянно проводили время, особенно в парижский период их жизни: Рахманинов, Стравинский, Хиндемит, Пуленк, Мийо, Копланд, Гершвин, Надя Буланже, Тосканини, Монтё, Казальс, Рубинштейн, Горовиц, Эльман, Константин Бальмонт, Руо, Матисс, Дерен, Дали, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, и многие другие, среди которых такие фигуры, как Чарли Чаплин, принцессы Ноай и Полиньяк, Мисия Серт, Игорь Сикорски – изобретатель вертолёта и так далее и так далее. Воспоминания Миссис Прокофьев об этих людях отличались скорее характерностью чем глубиной, но они звучали правдиво и придавали ценность поучительным рассказам. Она казалась мне личностью высочайшего ума с ясной памятью и далеко незаурядными способностями к описанию, оставаясь, однако, несколько поверхностой. Может быть, глубокое проникновение в прошлое было чересчур болезненно для неё.
Хотя мы оба владели итальянским и французским языками, она предпочитала для наших бесед английский, на котором говорила бегло и в целом совершенно правильно несмотря на то, что прошло шестьдесят лет с того момента, когда она жила в Нью-Йорке (…); она так же великолепно говорила по-испански и по-каталански – родных языках её отца – равно как, конечно, по-русски. Она могла бы говорить ещё как минимум на двух языках (польском и немецком). Какой язык она бы ни выбрала для беседы, она в любом случае была по-детски вспыльчива и нетерпима к мнениям, отличающимся от её собственного; это можно было понять, учитывая, через что ей пришлось пройти в Сталинской России, но из-за этого любая попытка к сотрудничеству с ней становилась абсурдно трудной. „Жизнь прекрасна, – мрачно повторяла она, – если вы никогда не прекращаете бороться“. Но бороться в её случае означало не только защищать или охранять то, что она считала важным, но гораздо чаще впутываться или ввязываться в самые банальные материи. Однажды, когда я пришёл к ней работать на улицу Рекамье, она сказала мне, что костюм, мой костюм напоминает ей одежду парижских дворников. Я залился смехом, что очень рассердило её: „Вы в точности как мой сын Олег! – воскликнула она. – У вас – мальчишек – нет никакого вкуса в одежде.“ („Мальчишке“ Олегу было в это время 55 лет; мне – 36). В другой раз я слышал, как она, пытаясь по буквам произнести свой адрес, в разговоре раздражённо выговаривала девушке за то, что она и слыхом не слыхала о мадам Рекамье: „Но этого не может быть! – Вы как-никак француженка!“
Инциденты такого рода надолго портили ей настроение, но в то же время заряжали её энергией.
Так как я часто брал интервью на радио, я привык автоматически кивать в ответ во время рассказов миссис Прокофьев, пока плёнка крутилась, довольно часто вставляя „да“, „нет“, „угу“ и тому подобное, что я собирался убрать в дальнейшем из записи. Во время одного из сеансов нашей работы она вдруг сердито сказала: „Перестаньте же кивать головой! У меня от этого уже голова кружится!“ Мои объяснения нисколько не интересовали её. На одной из плёнок, наверное, слышны эти её слова.
Я до сих пор смеюсь, вспоминая инцидент, случившийся во время моих последних рабочих встреч с ней. Ей хотелось пойти на концерт Парижского оркестра под управлением Карло Марии Джулини, но она сказала, что не хочет идти одна и спросила, не составлю ли я ей компании. Я охотно принял её предложение; она позвонила в оркестровый оффис, представившись как „вдова Прокофьева“ – постоянный основный её козырь – и попросила бесплатные билеты, которые тотчас были ей обещаны. Она желала ехать на автобусе, но на улице стоял холодный дождливый ноябрьский вечер, и надо было сделать по меньшей мере одну пересадку, чтобы с улицы Рекамье в Седьмом округе доехать до Зала Гаво в восьмом, на другой стороне Сены. Я предложил взять такси. „Пустая трата денег“, – заявила она. Я предложил заплатить. „Чушь! Мы поедем на автобусе.“
– А вы знаете, где автобусная остановка? – спросил я.
– Как-нибудь найдём.
Мы вышли под проливной дождь, и я начал искать нужную остановку на пересечении Бульвара Распай с улицей Бабилон и улицей Севр, не имея представления о том, как выбрать самый короткий путь.
– Господи! Какая ужасная погода, – сказала миссис Прокофьев, когда я вернулся к ней. – Нельзя ли нам взять такси?
Это было не так-то просто, учитывая характер погоды, но наконец мне удалось остановить машину. Я открыл перед ней дверцу.
– САДИТЕСЬ ПЕРВЫЙ! – почти прорычала она. – Может быть, вы думаете, что это Я буду елозить по сиденью?
– По правде говоря, я собирался обойти машину и сесть с другой стороны, – сказал я, скользя по заднему сидению.
Такси поехало и после двух – трёх минут молчания миссис Прокофьев сказала:
– Я себя плохо вела, да?
Я улыбнулся, отчасти потому, что я её уже простил. ‹…›
Что в самом деле очень печально, это то, что когда Лина Любера Прокофьева умерла в начале 1989 года в возрасте 91 года, она так и не нашла никого, с кем сумела бы привести в исполнение свой проект. Нам остались всего лишь разрозненные фрагменты того, что могло бы стать поучительным и ярким описанием замечательного слоя культурной истории двадцатого столетия».
* * *
Бонн, 1988–1989 По рассказу Святослава Сергеевича:
– В 1988 году Лина Ивановна отправилась из Парижа в Германию, в Бонн, погостить две-три недели у своей подруги, Нормы Санчес, мексиканки с ацтекским профилем, и поселилась в её доме. Норма с мужем снимали домик на окраине Бонна, на берегу Рейна, туда они и пригласили маму. У Нормы было много общего с мамой, она знала много языков, и испанский, и немецкий. Её мужем был преуспевающий бизнесмен. Норма работала, по-видимому, при консульстве или при посольстве, устраивала прекрасные мексиканские выставки.
В последние годы жизни Лины Ивановны Норма близко дружила с ней. Трудно сказать, где и когда они познакомились. По словам Святослава Сергеевича их помимо всего прочего объединяла испанская основа, язык: они говорили между собой по-немецки, по-испански и по-английски. Норма, такая маленькая, хрупкая, но очень активная, видимо, с большими организаторскими способностями, успешно курировала мексиканскую выставку. Там были и народные промыслы, и авторские материалы.
– Когда мама почувствовала себя плохо, – продолжает Святослав Сергеевич, – её положили в больницу в Бонне. Видимо, ей было очень плохо, потому что нам прислали заверенную телеграмму как полагается в России, с тем чтобы мы приезжали: она в плохом состоянии. И мы довольно оперативно пошли в ОВИР, нам в тот же день дали разрешение, Наде и мне. Приехав, мы поселились в домике Нормы. На следующий день по приезде поехали навещать маму. Она была в сознании, в общем относительно ничего. Мы жили у Нормы, почти каждый день ездили к маме, и ей даже чуть-чуть лучше стало. Тут и Олег подъехал, и решили перевезти её в Англию, – хоть они и были с Нормой хорошо знакомы, но всё же нагрузка и ответственность были слишком велики.
Мама была тяжело больна, но находилась в сознании. Мы разговаривали, ежедневно в течение двух недель приходили к ней. И наши посещения совпали с её днём рождения. Там в больницах дни рождения обязательно отмечаются, её одели в белое платье и даже выделили маленькую гостиную, перевезли туда, усадили в кресло, рядом стоял столик с телефоном, ей начали звонить из разных стран, из Франции, из Америки, из Москвы, и она, находясь в полной форме, отвечала всем на разных языках, потом стали подтягиваться и гости, – недалеко, в Кёльне шёл в это время «Огненный ангел», артисты пришли чокнуться с ней, и все поражались, насколько свободно она говорит и переключается с языка на язык. Так что получился настоящий день рождения, человек тридцать пришли.
Мама – опытная женщина, так что провела всё это на высоте, у неё с головой-то было всё в порядке, опасность находилась в опухоли в районе желудка, к которой, по словам врача, нельзя было подобраться, но она развивалась медленно. День рождения был в октябре, а скончалась она в январе уже в Лондоне.
Она находилась в отдельной палате, там висела репродукция, пейзаж. И чтобы отвлечь больного, картину часто меняли. Гостей пускали всегда. И тут, кстати говоря, Наде[110] пришла прекрасная мысль расспросить маму подробности о её родителях, и мы тогда о многом её расспросили.
Было и ещё одно мероприятие. Жена Сергея Олеговича Астрид – немка, её отец – ювелир, а мама – увлечённая антропософка. Она очень активная женщина, и вдруг она говорит, что у них есть знакомый виолончелист, и когда он узнал, что здесь сейчас находится вдова Прокофьева, ему захотелось сыграть ей сонату, которую он сейчас разучил. Мама согласилась, и он пришёл в ближайший день. Громоздкая виолончель с её мощным звуком. выглядела в палате очень странно. Мама, мне кажется, не знала этой сонаты, и ей было лестно, с одной стороны, а с другой, она была несколько ошарашена. Как он ни старался играть мягко, всё равно это было (не нахожу слова) – чуждо для палаты. Но, он был в общем удовлетворён, что сыграл для вдовы Прокофьева, не каждому случается такое пережить. Это не был профессионал, студент из заканчивающих.
– В каком состоянии была мама? Она надеялась на улучшение?
– Нет, наверное. Уже и сердце сдавало, и лет ей было в 1988 году уже 90–91 (на дне рождения исполнился 91 год), у неё бывали просветления, а иногда она не понимала, где она и что происходит. Больничная обстановка у неё связалась с тюремной. И ей даже казалось, что один санитар работал в лагере.
Тогда же она занималась своим завещанием и хотя она сама его написала, кому – что, и указала конкретную сумму для будущего фонда, (она его основала) – она очень волновалась.
– Это завещание она написала в больнице?
– Закончила. Это была уже финальная стадия, надо было подписать. Она всё старалась вникнуть в него, ей казалось, что её хотят обмануть, надо было много раз всё объяснять и начинать сначала. Тяжёлая была сцена. Знаете, в кино или в театре жестокие дети обычно выглядят такими …
– Разве у вас были какие-нибудь разногласия?
– Да нет. В том-то и дело, что нет. Но она была в таком состоянии… Она во-первых этого боялась и не понимала до конца, что она подписывает, но в конце-концов подписала. Ну, у неё был уже черновик. А тут уже делался основной документ. Присутствовал и нотариус, с которым она начинала писать завещание. И мы были. Я ей говорил: «Мама, нам ничего не надо, у нас всё есть, папа позаботился о нас».
Состояние не улучшалось, и решили перевезти её в Лондон, где жил Олег.
– Тогда была ваша последняя встреча с мамой?
– Моя – да. Потом её увезли… Вот тут мне неясно. Потому что мы уже уехали. Обычным рейсом её увезли или со скорой помощью в санитарном транспорте. Есть специальные службы. Но по-моему это всё разговоры. Вероятно, отправили в сопровождении медицинских работников.
– Она ходила?
– Нет, так этого нельзя назвать. Она могла перебраться с кровати на кровать.
Мы были вынуждены уехать, а Олег забрал её в Лондон и сначала поместил в больницу, а потом в хоспис – дом для престарелых, но неплохой.
– Олег, кажется, нарисовал её после смерти?
– Во всяком случае, существует фотография, на которой она такая маленькая, крошечная, лежит на огромной кровати. Такое впечатление производит фотография.
Похороны состоялись через две-три недели. Нам же снова пришлось хлопотать о визах, в ОВИРЕ. Но так как сейчас уже точно шла речь о похоронах, нас сразу пустили.
В своё время она сама принимала участие в сохранении могилы папиной мамы, Марии Григорьевны, в Медоне, это пригород Парижа. Контракт уже кончался, и они грозили переносом останков в общую могилу. Они там так делают.
Медон – это близко. На электричке одна остановка. Там типичное французское кладбище, почти нет зелени, и на земле лежат каменные плиты. В Медоне похоронены три женщины: Мария Григорьевна, Лина Ивановна и Надежда Ивановна, скончавшаяся в 2002 году. Там есть место. Я тоже… Так что скоро там мужчина появится…
Мама хотела быть похороненной вместе с папиной мамой. И так как она принимала участие в сохранении этой могилы, это уже было вполне конкретно. «Я там хочу быть». Мы исполнили мамино пожелание. Привезли останки из Лондона и состоялись похороны. Но тут уж народа было не так много, как на дне рождения. Были все свои.
Миссис Даунс пишет в своих воспоминаниях, что в день девяностолетия Лины Ивановны вместе с мужем оказалась в Мадриде. У сэра Даунса там проходило несколько концертов.
«Я знала, что миссис Прокофьев родилась в Мадриде, и спросила её, помнит ли она адрес.
Она сказала мне, что родилась на Кайе де Браганса в квартире 1–5. В день её рождения я отправилась в странствия на Кайе де Браганса и была счастлива обнаружить, что на улице рядом с домом стояла телефонная кабина, и я позвонила ей оттуда, чтобы поздравить с днём рождения в нескольких ярдах от дома, где она родилась.
Когда у неё сделалось ухудшение с глазами, она очень расстроилась. Ей страшно хотелось купит проигрыватель, на котором она могла бы слушать новые записи Прокофьева. Вместе с моим сыном Карактакусом мы повели её в магазин, чтобы купить самую совершенную систему, которую он затем установил в её квартире и сделал массу наклеек, чтобы она могла управлять системой самостоятельно. Она была до глубины души взволнована качеством записей на CD. Миссис Прокофьев была большой любительницей технических новинок, одной из первых обладательницей домашнего беспроводного телефона, который она называла „мой talkie-walkie“.
В ту осень в Бонне, когда на девяносто первом году жизни она тяжко заболела, она всё ещё не потеряла присущего ей боевого духа, но по возвращении в Англию, когда я снова увидела её в Больнице Черчилля, я глубоко расстроилась, увидев, как за несколько дней она сдала.
Она отказывалась пить воду, которую приносили ей санитары, так как считала её отравленной. Она думала, что снова находится „на Севере“ и соглашалась пить только если я сама давала ей воду из непочатой бутылки.
Последние недели она провела в хосписе и на её последнее Рождество к ней вновь вернулась сила духа, и я наблюдала миссис Прокофьев во всём её великолепии. Я зашла повидать её днём, и она с ликующим видом сообщила мне, что к ней приходили и католический и протестантский священники, и она задала им несколько вопросов, но в ответах они не во всём согласились друг с другом. Поэтому она сказала им, чтобы они пошли прочь и возвратились разговаривать с ней только когда сами сойдутся во мнениях.
2-го января я провела с ней утро (первую половину дня). Было очевидно, что она очень слаба, большую часть времени она спала. На следующее утро мне позвонил Олег и сказал, что ночью она умерла, и он просит меня пойти с ним в хоспис повидать маму. Мы вместе пошли с ней проститься – Олег сделал несколько зарисовок и фотографий, чтобы послать семье в Россию.
Какую жизнь она прожила, и несмотря на всё как многого она достигла. Она щедро украсила жизнь родных и друзей, и, прежде чем начать новый день, я по-прежнему присаживаюсь на минутку, как она всегда нас учила».
* * *
Размышляя о своей жизни с Сергеем Прокофьевым, Лина Ивановна и в 80 годы говорит о его творческих достижениях и огорчениях со свойственной ей горячностью жены и музыканта, всё живо для неё как десятки лет тому назад, она делится, кипит, переживает, сердится, сочувствует.
«Это невероятно, как в семейной жизни всё в конце концов подчиняется тому, что ваш муж – творец. И сколь далеко вы бы ни заходили в том, чтобы отдать ему всё и больше чем всё, самым важным всегда остаётся его творчество. Как у матери и главы семьи у вас есть собственные заботы и обязанности, но всё это напрочь отбрасывается, как только речь заходит о каком-либо событии в его профессиональной жизни.
Конечно, если это премьера большого сочинения, то хотя вы ничем не можете помочь, разве что своим участием, вы тоже хотите присутствовать, потому что это часть и вашей судьбы.
Уму непостижимо, что многие думают, будто в жизни с человеком, который сделал себе имя и занял место в истории музыки, всё было легко и просто сначала и до конца. У нас была очень трудная жизнь, пока всё стало на свои места и дошло до стадии, на которой мы могли хоть что-то позволять себе и в материальном смысле. Мы прошли через тяжёлую борьбу, мы не сдавались, и я хорошо помню, как это бывало, когда какое-то произведение, над которым он работал, не находило отклика у критиков – а ведь критики – это всегда несостоявшиеся люди, которые потерпели крах в собственной карьере, и когда они чего-то не понимают, они немедленно припечатывают это полным непониманием или бессмысленным вниманием или чем-то в этом роде. И как часто он чувствовал себя очень плохо, когда некоторые из его произведений не были поняты, даже не то чтобы „плохо“, – он всегда говорил: „Они не готовы к этому, но в один прекрасный день они поймут. Они говорят, что у меня нет мелодии, но они просто не вымыли уши или что-то ещё, из-за чего они не находят мелодии“.
На самом деле можно взять любое из его произведений, о котором люди говорят, что в нём нет мелодии, и нужно просто сыграть его. Музыка непривычна, и слушатели не хотят делать усилий. Они хотят, чтобы всё оставалось классическим, но мы ведь не пользуемся теперь свечами, почему же надо отказываться от новейших достижений? А это ведь то же самое.
Когда вы находитесь в авангарде, всегда существует группа музыкантов, которые понимают вас. Потому что вы уже находитесь в их мире».
И в заключение.
Была одна редкая и своеобразная особенность у Лины Ивановны: с самого рождения она жила, словно на сцене, и никогда не уходила с подмостков, освещённых огнями рампы. Артистка на сцене жизни.
Когда она появлялась, тусклая картинка вдруг вспыхивала, цвета становились более насыщенными, разговоры, их темы приобретали внятность.
В её поведении при этом не было искусственности, наигранности. Напротив. Её непосредственность, уверенность, независимость, уровень, воспитание, испанский нрав, европеизм, даже ГУЛАГ (вспомним рассказ Е. А. Таратуты) – захватывали. Она была рождена со своим артистическим подъёмом и оптимизмом, возвышая окружающий мир.
Почитала талант и не выносила и не прощала бездарность, считая её источником многих человеческих бед.
Она не жила одними воспоминаниями, они не подчиняли её себе, ни хорошие, ни дурные. Они жили в ней, одни сменялись другими, непреложным оставалось лишь ощущение себя и своей миссии жены Сергея Прокофьева.
Сноски
1
18 ноября, играя «Карнавал» на тугом рояле, Прокофьев разбил большой палец на левой руке.
(обратно)2
Вы злюка (фр.)
(обратно)3
(1888–1975), русский скульптор, сделавший в Америке блестящую карьеру, создал в числе прочих скульптурные портреты Н. Рериха, С. Рахманинова, Рабиндраната Тагора, Теодора Рузвельта и Франклина Рузвельта. В России его причисляли к врагам, к белой эмиграции.
(обратно)4
Выходец из Петербургского театрального училища, приехавший в США в 1916 году, Больм бурно работал во многих областях, участвовал в постановках в «Метрополитен» русских опер. Большой поклонник Прокофьева, всего его творчества. Ещё в октябре 1918 года он принял участие в чём-то вроде Нью-Йоркского дебюта Прокофьева в частном концерте, во время которого танцевал «Мимолётности».
(обратно)5
строка из стихотворения Анны Ахматовой, на которое Прокофьев написал романс.
(обратно)6
здесь и далее переводы с испанского, английского, немецкого языков принадлежат автору.
(обратно)7
Чтобы жить счастливо, надо прятаться (фр.)
(обратно)8
Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844–1934), революционерка-народница, одна из создателей и лидеров партии эсеров.
(обратно)9
романс Прокофьева на стихи Ахматовой.
(обратно)10
Асафьев Борис Владимирович (Игорь Глебов) (1884–1949) – музыкальный критик и писатель, композитор, музыкальный деятель.
(обратно)11
Мясковский Николай Яковлевич (1881–1950), композитор, музыкальный критик, музыкально-общественный деятель, педагог.
(обратно)12
Мэри Гарден (1874–1967, певица, в 20 годы директор Чикагской оперы.
(обратно)13
Выдающаяся немецкая оперная певица, сопрано, признанная исполнительница вагнеровских оперных спектаклей, знаменитая Брунгильда.
(обратно)14
Выделено автором
(обратно)15
ошибка, 1891.
(обратно)16
Фру-Фру – нынешняя жена А. К. Боровского, в девичестве Мария Викторовна Барановская, ученица Мейерхольда, приятельница С. С. Прокофьева.
(обратно)17
«Не трогай мои окружности!» – в ужасе закричал Архимед подошедшему воину-врагу, во время штурма Сиракуз.
(обратно)18
Христианская наука.
(обратно)19
подготовлено Савкиной Н. П.
(обратно)20
Nicolas Nabokov – cousin de Vladimir Nabokov. «Cosmopolite» // Mémoire traduits de l'anglais (Etats-Unis) par Claude Nabokov // Claude Nabokov // Mémoire du Libre, 2002 // ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ.
(обратно)21
Ламм Павел Александрович (1882–1951), музыковед, текстолог, пианист.
(обратно)22
Дирижёр, композитор, пианист.
(обратно)23
Дедушка (кат.)
(обратно)24
Красин Б. Б. (1884–1936) музыкально-общественный деятель, член дирекции российской Филармонии.
(обратно)25
первый симфонический оркестр без дирижёра.
(обратно)26
Болеслав Леопольдович Яворский (1877–1942) – выдающийся музыкальный учёный, пианист, теоретик, критик.
(обратно)27
«Дневник» с 13 января по 25 марта 1927 года в первый раз был опубликован на русском языке в 1990 году издательством «Синтаксис» в Париже и в 1991 году издательством «Советский композитор» в Москве.
(обратно)28
Это в самом деле была Вена, на всю жизнь запомнившаяся Святославу сильнейшим ветром.
(обратно)29
певица, меццо сопрано, профессор Петербургской консерватории.
(обратно)30
М. М. Литвинов (1876–1951) – государственный и партийный деятель, дипломат.
(обратно)31
Курсив мой (прим. автора).
(обратно)32
Раевский Александр Александрович – Шурик – 1885–1942 – двоюродный брат Прокофьева, муж Н. Б. Раевской (урожденной Мейендорф).
(обратно)33
Дирижёр оркестра Ассоциации Современной Музыки.
(обратно)34
Сеговия Андрес Торрес (1893–1987), гитарист.
(обратно)35
В. В. Щербачёв (1889–1952), композитор, педагог.
(обратно)36
Прюньер, Анри, музыковед, основатель и издатель журнала «Музыкальное обозрение».
(обратно)37
на лето снимали большой дом в Вотрез, рядом с Анемасом.
(обратно)38
Владимир Софроницкий, русский пианист (1901–1961).
(обратно)39
Пайчадзе Г. Г. – директор издательства Кусевицкого с 1925 года.
(обратно)40
Баланчивадзе Г. М., Жорж Баланчин, балетмейстер.
(обратно)41
Держановский В. В. (1881–1942) музыкальный деятель, издатель, критик.
(обратно)42
Фильм назывался «Бабы рязанские».
(обратно)43
Астров М. Ф. – секретарь Прокофьева.
(обратно)44
Сувчинский П. П.,(1892–1985), музыковед, музыкальный критик, издатель журнала «Музыкальный современник».
(обратно)45
Арбос, Энрике Фернандес, Arbos, 1863–1939 – скрипач, дирижёр, композитор.
(обратно)46
Александр Смоленс (1889–1972). Дирижёр.
(обратно)47
Артур Родзинский – дирижёр.
(обратно)48
Позор – (ит.)
(обратно)49
городок недалеко от Канн на юге Франции.
(обратно)50
РАПм – Российская Ассоциация Пролетарских музыкантов. Авторитарная организация, действовавшая в русле «большевизации» музыкальной культуры, с обеднённой творческой программой, объявившая себя единственными представителями пролетариате в музыке.
(обратно)51
Афиногенов А. Н., 1904–1941, драматург.
(обратно)52
Сокращение слова «миленькая», ласкового обращения к Лине.
(обратно)53
реклама
(обратно)54
Знаменитый русский композитор (англ.)
(обратно)55
Олега.
(обратно)56
приписка сделана 19 января.
(обратно)57
спальный вагон (фр.)
(обратно)58
купейный вагон (фр.)
(обратно)59
туда и обратно (фр.)
(обратно)60
Зал МЕТРОПОЛИТЕН.
(обратно)61
Телеграмма написана по-французски: Moscou plus aimable que jamais Partirai ce soir Leningrad rentrarai Moscou Hotel National 23 Avril stop Départ Tiflis sept ou huit Mai désirable que tu quitte Paris deux ou trois Mai stop Deuxième compagnie propose mysique pour film Embrasse Prokofieff.
(обратно)62
Консерваторская приятельница Прокофьева, жена Самойленко, одного из близких друзей в Париже.
(обратно)63
А. М. Файнциммер (1906–1982) – режиссёр, сценарист, снявший фильм «Поручик Киже» с музыкой Прокофьева в 1934 году.
(обратно)64
Б. Н. Демчинский (1877–1942) – филолог, литератор, давний друг Прокофьева.
(обратно)65
Кубацкий В. Л. (1891–1970), виолончелист, дирижёр, педагог, член художественного совета Большого театр.
(обратно)66
Мария Григорьевна привезла эту тетрадь в Париж.
(обратно)67
Прокофьев обыкновенно пропускал в словах гласные, которые восстановлены во всех случаях, кроме обращения.
(обратно)68
это тот самый «домик», который упоминает Л. И.
(обратно)69
Директор Большого театр, сменивший Малиновскую, арестован в 1937 году – прим. автора), Малиновская (Е. К. (1875–1942), в 1920–1924 и 1930–1935 годах директор Большого Театра.
(обратно)70
femme de ménage – приходящая домашняя работница.
(обратно)71
На любых условиях, (фр.)
(обратно)72
руководитель издательства Кусевицкого в Берлине.
(обратно)73
Держинская К. Г. (1889–1951), российская певица. Сараджев К. С. (1877–1954), дирижёр, педагог. Цейтлин Я. С. (1901–1937) партийный деятель.
(обратно)74
Всесоюзное общество культурной связи с заграницей.
(обратно)75
В. А. Дукельский, Дюк Вернон 1903–1969), композитор, знакомый Прокофьева.
(обратно)76
Ехали.
(обратно)77
Мансурова Ц. Л.,1986–1976, драматическая актриса.
(обратно)78
1939.
(обратно)79
музыкальный критик, учёный, создатель и редактор самого крупного сайта о Прокофьеве.
(обратно)80
Дживилегов А. К. – историк театра, профессор, специалист по итальянскому Возрождению.
(обратно)81
Санаторий Имени десятилетия Октября.
(обратно)82
до бесконечности (фр.)
(обратно)83
я никак не буду тебя упрекать (фр.)
(обратно)84
речь шла о музыке для фильма о Средней Азии.
(обратно)85
Роль Керженцева, председателя Комитета по делам искусств и главного их погромщика, следовательно, не была полным секретом для Прокофьева.
(обратно)86
«Он» – Прокофьев.
(обратно)87
Об этом написала и леди Даунс, см. гл 15.
(обратно)88
Елена Александровна Спендиарова-Мясищева, дочь композитора А. А. Спендиарова (1905–1981), жена авиаконструктора В. М. Мясищева, двоюродная сестра моего отца. В. М. Мясищев (1902–1978) – выдающийся учёный в области самолётостроения, генеральный конструктор.
(обратно)89
Атовмян Л. Т. (1901–1973) – музыкальный деятель, председатель Музфонда, композитор.
(обратно)90
29.10.1941 года.
(обратно)91
Из эвакуации.
(обратно)92
Речь идёт о Пленуме СК 1946 года.
(обратно)93
Рабинович Давид Абрамович. Музыковед. Музыкальный критик. 1900–1978.
(обратно)94
Волошина.
(обратно)95
всем знакомый в СССР документ, со своими условными обозначениями; наличие или отсутствие формулировки «морально устойчив» или «скромен в быту» означало в соответствующей инстанции «выпустить» или «не выпустить».
(обратно)96
Оба эти слова существуют и обозначают «бабушка», одно – на испанском языке – «ава», другое на каталанском – «авия».
(обратно)97
в прежние времена называемую «царской».
(обратно)98
На стене гостиной – кабинета Святослава, где происходил разговор.
(обратно)99
показывает на картины в гостиной-кабинете Святослава.
(обратно)100
Обращается к отцу.
(обратно)101
Шмидт.
(обратно)102
Нет!! Я нашла почти потайную дверцу, которая ведёт в фойе, и я там гуляла. Но эту дверцу нашла не сразу.
(обратно)103
Тут выясняется, что у Сергея находится черновик письма Андропову, который я печатала на машинке десятки лет тому назад.
(обратно)104
Зара Левина (1906–1976), композитор и пианистка. Мать В. Чемберджи.
(обратно)105
Ольга Янченко – пианистка, органистка.
(обратно)106
Вдова поэта Максимилиана Волошина.
(обратно)107
«Маддалена» – первая юношеская опера Прокофьева, написана в 1911 году. Сам Прокофьев в «Краткой автобиографии» так писал о ней: // «Летом 1911 года я написал одноактную оперу „Маддалена“ по одноимённой пьесе барона Ливена. Я надеялся, что её можно поставить на одном из консерваторских спектаклей. ‹…› Но надежды не оправдались. Барон Ливен оказался молодою светскою дамой, более приятной в обращении, чем талантливой в драматургии. Однако в „Маддалене“, действие которой происходит в Венеции в пятнадцатом веке, оказалось наличие конфликта, любви, измены, убийства – и это ставило перед композитором новые задачи».
(обратно)108
Бывший премьер – министр Франции.
(обратно)109
Harvey Sachs, «Never stop fighting», Three oranges, May 2005
(обратно)110
Надежде Ивановне Прокофьевой, жене Святослава Сергеевича.
(обратно)
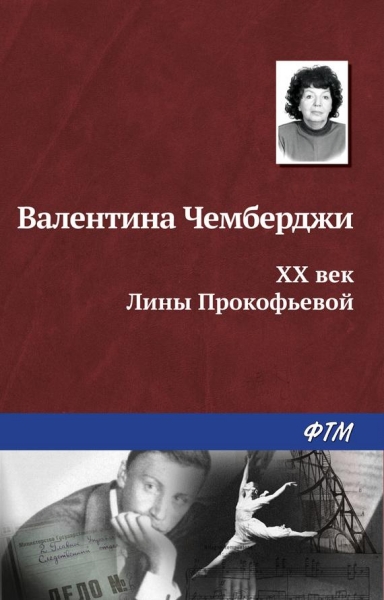

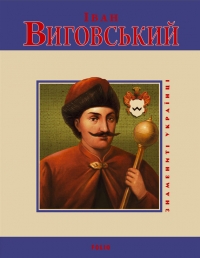



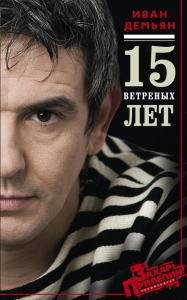
Комментарии к книге «XX век Лины Прокофьевой», Валентина Николаевна Чемберджи
Всего 0 комментариев