Альфред Перле Мой друг Генри Миллер
ДО ВСТРЕЧИ В ДЕВАХАНЕ! Вступительная статья
«Миссия человека на земле — помнить…» — эта фраза, оброненная Альфредом Перле в одной из застольных бесед с Миллером и Дарреллом и жутко рассмешившая всех троих, задала тональность эссе «Помнить, чтобы помнить», где Миллер дает некоторое представление о «главном свидетеле» его жизни, зафиксировавшем свои «показания» и набросавшем его дружеский, хотя и слегка шаржированный, литературный портрет в шутливом биографическом опусе «Мой друг Генри Миллер».
«Когда в один дождливый вечер я столкнулся на Рю-Деламбр с Альфредом Перле, — вспоминает Миллер, — родилась дружба, скрасившая весь период моего пребывания во Франции. В Перле я обрел человека, которому предстояло поддерживать меня во всех моих взлетах и падениях. Было в нем что-то, прямо скажем, хулиганское, что-то от „voyou“[1]. Должен признаться, я склонен преувеличивать его недостатки. Впрочем, у него было одно достоинство, перекрывавшее все отрицательные качества: он умел быть другом. Порой мне даже казалось, он не умеет ничего другого. <…>
Фред был именно тем человеком, которого я бессознательно искал всю свою жизнь. Меня забросило в Париж из Бруклина, его — из Вены. Жизнь закалила нас задолго до того, как мы перебрались в Париж. Мы были ветеранами улицы и знали множество способов продержаться на плаву, когда все ресурсы, казалось бы, давно исчерпаны. Лодырь, плут и фигляр, он был все же чувствителен до крайности. Его деликатность, проявлявшаяся в самых неподходящих обстоятельствах, переходила всякие границы. Он мог быть грубым, наглым, малодушным, ничуть не умаляя своего достоинства. На самом деле Фред намеренно культивировал состояние приниженности — так ему было удобнее позволять себе разного рода вольности. Он делал вид, что готов довольствоваться малым, но в своих вкусах и пристрастиях был аристократ до мозга костей и неисправимый баловень в придачу.
<…> Люди с трудом прощали ему его способность делиться всем, что он имел. Разумеется, того же он ожидал от других. И бывал безжалостен, если ему отказывали. <…> Чего он особенно не переносил, так это претенциозности, амбициозности и скаредности. Фред нелегко сходился с людьми, но с теми, кому он становился другом, дружба сохранялась всю жизнь. <…>
Фред обладал пресловутой кошачьей живучестью и, к тому времени как я на него набрел, прожил, казалось, не одну жизнь. <…> Он написал несколько книг по-немецки, но никто не знал, были ли они опубликованы. Вообще-то он не особенно распространялся о своем прошлом — только когда бывал пьян… <…> По правде говоря, он вел столько разных жизней, надевал на себя столько разных личин, играл столько ролей, что придать хоть какую-то целостность его образу — это все равно что составить разрезную головоломку. Если честно, он был такой же загадкой для себя, как и для других. Тайная жизнь Фреда не была его личной жизнью — личной жизни у него вообще не было. Он жил исключительно en marge — „на полях“. Он был „лимитрофен“ (одно из его любимых словечек) всему, но только не самому себе. В первой книге, написанной по-французски („Sentiments Limitrophes“ — „Лимитрофные чувства“), замаячили микроскопические откровения о его юности, но все — на грани галлюцинации. <…>
Годы плотного общения с человеком его плана имеют как свои плюсы, так и свои минусы. Оглядываясь назад, я вспоминаю только положительные результаты нашего альянса. Потому что между нами, если можно так выразиться, был скорее альянс, нежели дружба. <…> Чаще, наверное, мы все же производили впечатление конфедератов, а не друзей.
Фред во всем был клоун, даже в любви. Он мог рассмешить меня, когда я кипел от ярости. <…> При встрече мы всякий раз задавали друг другу три сакраментальных вопроса: „Еда есть?“, „Как она в постели?“ и „Ты пишешь?“. Больше всего нас занимало писательство, но мы всегда вели себя так, будто первое и второе гораздо важнее. Писательство было величиной постоянной — как климат. <…> Деньгами, когда они водились, мы делились до последнего пенни. И не важно было, мои они или его. <…> На этой ноте наша дружба началась, на ней и продолжалась, пока мы не разъехались. Простой и эффективный способ существования. Интересно было бы опробовать его во вселенском масштабе.
У Перле было три принадлежности, за которые он цеплялся даже в суровые времена ломбардов и ликвидации движимого имущества: пишущая машинка, часы и авторучка. Каждая вещь — тончайшей работы, и он ухаживал за ними, как машинист за локомотивом. Он говорил, что это подарки женщин, которых он любил. Может, так оно и было. Знаю только, что он ими дорожил. С машинкой расстаться было легче всего — на время, конечно. Кажется, она больше находилась в ломбарде, чем дома. Фреда это даже устраивало: так он мог писать ручкой. Ручка была паркеровская — красивее я в жизни не видел. Если ее у него просили, он отвинчивал колпачок и говорил: „Только смотри поосторожнее!“ Часы он носил редко. Они висели на гвозде над его рабочим столом и всегда показывали точное время.
Когда он садился работать, эти три предмета всегда находились при нем. Они были его талисманами. <…> Переезжая на другую квартиру, что случалось довольно часто, он всегда избавлялся от нескольких дорогих реликвий, которые бережно хранил годами. Он радовался, когда обстоятельства вынуждали его менять местожительство. Это означало уменьшение багажа, потому что он приучил себя обходиться одним чемоданом и брал только то, что в него помещалось. Главным образом это были сувениры: открытки от старых друзей, фотография бывшей любовницы, перочинный нож, найденный на блошином рынке. Все какие-то безделушки. Остальное выбрасывалось. Он мог выбросить свитер или пару штанов, чтобы освободить место для любимых книг. Разумеется, я спасал некоторые вещи, которые могли ему пригодиться. Тайком проникнув в его комнату, я набирал целый ворох, а спустя пару дней признавался, что захватил кое-что из его пожитков, и вручал их владельцу. Лицо его озарялось радостью ребенка, нашедшего любимую старую игрушку. <…>
Из-за работы в газете Фред мог посвящать писательству лишь несколько часов в день. Чтобы не мучиться, думая, как мало или как много он сделал, мой друг взял за правило писать ровно две страницы в день и ни строчкой больше. Он мог прерваться даже на середине фразы, если она выходила за рамки положенных двух страниц, и очень радовался, когда ему удавалось выполнить установленную норму. „Две страницы помножить на триста шестьдесят пять дней — получится семьсот тридцать, — говорил он. — Я буду доволен, если за год мне удастся сделать двести пятьдесят. Я же не собираюсь писать многотомных романов“. Фреду хватало ума понимать, что даже при самых лучших намерениях мало кто обладает достаточной силой воли, чтобы писать ежедневно. В иные дни он давал себе поблажку: скверное настроение, похмелье, новая любовница, нежданные гости и так далее. Даже если перерыв длился две недели, Фред все равно не пытался наверстать упущенное. „Перетруждаться вредно“, — щебетал он. „Но неужели у тебя не бывает так, что тебе не остановиться? Неужели тебе не хочется написать иногда страниц шесть или семь?“ — удивлялся я. Он только скалился: „Конечно хочется. Но я себя ограничиваю“. И пересказывал китайскую притчу об учителе, который умел воздерживаться от совершения чуда. <…>
Фреду было свойственно создавать впечатление, что все дается ему легко. Даже писательство. „К чему надрываться? — говаривал он. — Тише едешь — дальше будешь“. Таков был его девиз. Он никогда не выказывал неудовольствия, если его отрывали от работы. Напротив, с улыбкой поднимался из-за стола и приглашал незваного гостя посидеть и немного поболтать. <…> Сам же Фред благоразумно избегал докучать другим. Разве что под настроение. И тогда он врывался ко мне или к кому-нибудь еще и говорил: „Пора бы тебе передохнуть. Мне надо с тобой поговорить. Пойдем куда-нибудь выпьем, а? Что-то мне сегодня не работается. Тебе тоже? Вот и прекрасно — жизнь так коротка!“ <…>
„Миссия человека на земле — помнить“. <…> Не знаю, Фред сам до этого додумался или нет, но мы единодушно признали, что фраза чудесная, более того — запоминающаяся… <…>
В свое время Эдгар[2] мне все уши прожужжал о благе памяти — в Девахане[3]. Помнится, однажды мы с ним крепко сцепились на эту тему. Я настаивал, что память нужно убивать, что если интервалы между земными рождениями преследуют какую-то цель, то, должно быть, она в том и состоит, чтобы избавиться от груза памяти. „Но ты не сможешь этого сделать, если не будешь ничего помнить: чтобы что-то забыть, надо это помнить“, — возражал Эдгар. <…>
Но Фред считал, что помнить нужно здесь, на земле. В этом было что-то новое и в то же время настораживающее. Новое, потому что никто еще не рассматривал память как „миссию“; настораживающее — потому что чем же тогда мы будем заниматься в Девахане? Может, он хочет сказать, что надо стараться достичь нирваны в этой жизни? <…> Или он пережил уже свою последнюю смерть и эта невинная и сентенциозная фраза произнесена им из бессмертия?»[4]
Эта бурлескно-панегирическая характеристика, данная Миллером Альфреду Перле, не требует комментариев. Достаточно добавить, что оба они «помнили» и оба «выписывали из себя» то, что помнили: Перле — чтобы помнить, Миллер — чтобы забыть. Тот же «доминантсептаккорд» прозвучит спустя несколько лет, когда Миллер будет писать предисловие к книге Перле «Мой друг Генри Миллер»: их встреча не была случайной, они давно уже путешествуют в Бесконечном, не раз встречались в прошлых жизнях и будут встречаться в последующих, пока, освободившись от земных страданий, сомнений и привязанностей и «сбросив ярмо кармы и дхармы», не окажутся в Девахане. Тот же аккорд спустя еще четверть века будет звучать и в предсмертном письме, которое Миллер напишет Перле в предчувствии скорого окончания своего земного странствия, и, отзвучав, разрешится прощальной фразой: «До встречи в Девахане!»
Перле называл себя осколком Австро-Венгерской империи. Он родился в Австрии в 1897 году, в Париж перебрался в 20-е. Сведения о допарижском периоде его жизни довольно скудны и расплывчаты. Известно лишь, что после Первой мировой войны жизнь его не баловала. В момент знакомства с Миллером он работал в парижской редакции чикагской «Трибюн». С его легкой руки и под его именем (в газете могли печататься только штатные сотрудники) Миллер опубликовал свои первые парижские вещицы «Париж в ут-миноре» (март, 1931) и «Улица Лурмель в тумане» (апрель, 1932). После закрытия газеты в 1934 году Перле перебивался случайными заработками, в частности писал речи одному из французских политиков. Счастливый случай помог ему в 1937 году возглавить журнал «Бустер», переименованный впоследствии в «Дельту». К работе в журнале он привлек всех своих друзей, включая Лоренса Даррелла и Анаис Нин, в будущем — признанных классиков мировой литературы.
Журнал прекратил существование в 1939-м. Это был год начала войны и массового «исхода» иностранцев из Парижа. Миллер уехал в середине лета. Сначала в Грецию, к Дарреллу на Корфу, а спустя полгода на борту лайнера «Экзохорда» пересек Атлантику. Анаис Нин после долгих колебаний тоже отбыла в Соединенные Штаты. В день объявления войны она еще находилась в Париже и оставила дневниковую запись об этом событии: «Генри в Афинах — он жив и здоров. Я ношусь от почты к почте, посылая деньги направо и налево (крупные суммы одному лицу посылать не разрешалось). В понедельник войны еще не было, но боль стояла в воздухе, как ядовитый туман. И покой — покой перед катастрофой. Вчера на улице мне попались на глаза заголовки: „Бомбовый удар по Варшаве“. Значит, все-таки война. <…> Невозможно рассмотреть названия ресторанов, кинотеатров и кафе. Дождь. Люди в темноте натыкаются друг на друга. Возмездие. Слишком много эгоизма. <…> Раздвоенность и шизофрения во всем. Инстинкт смерти сильнее инстинкта жизни. Миллионы людей по своей слабости превратились в преступников, знающих одну лишь ненависть. <…> …я не ощущаю себя причастной к преступлению, но должна буду понести наказание вместе со всеми. В шесть часов мне еще казалось, что войны, может, и не будет. <…> Нас держат в неведении. Польша оккупирована, а мир ждет, когда Англия и Франция объявят войну — настоящую войну. Ждет и закладывает окна мешками с песком. <…> Первый сигнал воздушной тревоги. Опасность. Мрак. Война идет полным ходом, а люди еще сомневаются в том, что она начнется. Может, это так, для отвода глаз — „игрушечная“ война в угоду тем, кто о ней кричит? Нас дурачат, и все происходящее — это какая-то мистерия. <…> Война объявлена. Остается одно: по мере сил расплачиваться за ошибки человечества и принять на себя часть мировой боли. <…> Меня удивляет, что все мы автоматически начинаем каждый новый день по-старому, зная, что завтра можем погибнуть. Я одеваюсь. Пудрюсь. Крашу ресницы. Между тем по радио объявляют о трагедии, ужасе, страдании. <…> В мой дворик попал осколок и пробил крышу припаркованного там автомобиля. <…> В первую воздушную тревогу я не пошла в укрытие. Я хотела встретить войну и заглянуть в ее пылающее лицо».
И на этом фоне — «возмутительное» письмо Генри, которое она приводит здесь же для контраста: «Я глотнул солнца, света и свежего воздуха. Мне это было необходимо. <…> Кажется, я излечиваюсь от столичной жизни. В деревне как-то милее: уединение, никаких волнений, никаких книг. Я практически ничего не читаю. Ни одной газеты после отъезда из Парижа. Просмотрю заголовки, когда прохожу мимо киоска, и все, — этого вполне хватает. Подробности меня не интересуют. Вдобавок Греция — дивная страна. Просто голый ландшафт и этот сверхъестественный свет и цвет, заливающий все вокруг. По-моему, Франция для меня — это уже закрытая книга»[5].
Забегая вперед, можно сказать, что эта «книга» еще откроется, но только где-нибудь на «эпилоге» или «оглавлении». Когда в 1953 году шестидесятилетний Миллер с будущей «миссис Миллер номер четыре» совершит первое с тех пор турне по Европе, Париж встретит его почти как национального героя, но он напишет Анаис: «…если честно, истосковался по дому. Впервые в жизни. В Европе для меня ничего нового, и мне больше не нужна культурная, интеллектуальная жизнь. Чересчур много болтовни, сплошное повторение пройденного и т. д. <…> Принимали меня везде великолепно — жалоб нет. Но я теперь совершенно другой человек, и Биг-Сур — именно то место, где мне хочется жить. <…> Я даже начинаю сомневаться в ценности самого писательства. Если моя книга, как ты говоришь, „имеет успех“, то, должно быть, это из-за „интима“. <…> Я почти уверен, что сидеть и просить подаяния было бы куда „гонорабельнее“. Конечно, здесь меня принимают всерьез, мной восхищаются. Но мне это не нужно. У меня не осталось ни капли тщеславия»[6].
В том же 1939-м Перле эмигрировал в Англию. Там он вступил в Британскую армию, воевал на фронтах Второй мировой, стал британским подданным, обзавелся семьей и обосновался в Уэльсе. Умер он в 1991-м, в год столетия Миллера.
Разделенные Атлантическим валом, друзья поддерживали переписку, но встречались считанные разы: когда Миллер наездами бывал в Европе и когда Перле приезжал к нему в Биг-Сур в 1954 году дописывать его «дружескую биографию».
Перле, как уже было сказано, не писал многотомных романов. Он был скорее летописцем: его излюбленный жанр — романы-воспоминания. Два первых — «Квартет в ре-мажоре» и «Лимитрофные чувства» — написаны в Париже и по-французски. В Англии вышли «Ренегат» (1943) — с предисловием Миллера, «Чужое семя» (1944), «Мой друг Генри Миллер» (1955) и «Воссоединение в Биг-Суре» (1959). Также была опубликована его переписка с Дарреллом, касающаяся творчества Миллера и вопросов цензуры. Она вышла в Лондоне в 1959 году под названием «Искусство и произвол».
Миллер ценил Перле не только как друга или «конфедерата» — он восторженно отзывался и о его писательском мастерстве. «Сегодня перед сном я присудил Фреду Гонкуровскую премию, — пишет он в апреле 1932 года другу детства художнику Эмилю Шнеллоку. — Легко быть справедливым, когда ты в расцвете сил… Этот его язык — как он на меня действует! Он вызывает у меня томление по той красоте, которая мне совершенно недоступна. <…> Магический язык — такой прозрачный, такой эфирный и тонкий, в нем столько приглушенного света и мечтательных вздохов, таких рассудочных и лукаво-капризных. Он корит себя за то, что может так легко писать обо всем — ни о чем. Но ему следовало бы гордиться этим — гордиться и понимать, что он очаровывает независимо от того, пишет ли он о спичках, шпильках для волос или о чем другом. Это не значит, что он делает ставку исключительно на форму, на то, что принято называть стилем, и т. д. Отнюдь. Просто этот его неуловимый, невесомый, расплывчатый стиль позволяет ему расходовать себя постепенно: он выдавливает себя, как зубную пасту — неистощимый запас — всегда нужной консистенции, всегда с тонким ароматом, всегда благотворно влияющую на десны. Скажу больше: хотя сам он этого и не осознает, у него та же шутливая, ироничная, самоуничижительная и умилительно деликатная манера говорить о себе, что так импонирует нам в лучших вещах Гамсуна. <…> Он осторожно дует на предмет, и тот плывет, дышит, меняет очертания. Как мыльный пузырь, когда он еще не оторвался от соломинки — когда он изгибается, преломляется, когда дрожит и готов вот-вот оторваться, когда вытягивается, переливаясь всеми цветами радуги, и все это — зеркальный танец в причудливом искажении, так возмутительно приятно щекочущий чувства. О, это еще слабо сказано! Нет, Фред достоин большей награды, чем Гонкуровская премия, но хотя бы она, хотя бы для начала! <…> …и еще я хочу сказать, что все то, чего мне недостает — любовь, благодарность, чуткость, — Фред открыл мне посредством своего языка. Магия его слов вызывает у меня слезу умиления, я понял, что в мире есть красота, совершенно для меня недосягаемая, и я склоняю перед ней голову»[7].
Однако о поздних текстах Перле «поздний» Миллер отзывался более сдержанно. Они оба считали, что лучшие вещи каждый из них написал в Париже, в тот пограничный, или, как сказал бы Перле, лимитрофный, период между прошлым и будущим, когда оба они были уже «не теми», но еще не стали «теми самыми», в период, которому посвящены три из четырех глав книги «Мой друг Генри Миллер».
«Гибрид человека и книги» — так называли Миллера попадавшие в его орбиту люди. В человеке высокой творческой организации творит совсем иное «я», нежели то, что проявляется в обыденной жизни. Это суждение Пруста приводит в своем дневнике Анаис Нин, отмечавшая, как и большинство знакомых Миллера, что в книгах он совершенно не похож на самого себя. Что такое «Миллер-книга», известно по его текстам. Есть Миллер «Тропиков», есть Миллер «Распятия Розы», есть Миллер поздних мини- и макроэссе. Он слишком изобилен и многогранен, чтобы можно было получить целостное представление о нем по его отражению в каком-то одном «зеркале». Как человек есть Миллер Перле, Миллер Анаис Нин и Миллер многочисленных собственных писем. Миллер «Тропика Козерога» может быть неадекватен Миллеру «Сексуса», Миллер Анаис — неадекватен Миллеру Перле, но он всегда адекватен самому себе. Сближение его авторского и человеческого «я» началось лишь после того, как он изжил свое «великое распятие» — так Анаис называла Джун, вторую жену Миллера, ставшую квинтэссенцией большинства его текстов. Тема Джун в его творчестве исчерпала себя, когда зарубцевалась нанесенная ею рана. Процесс «рубцевания» продолжался почти тридцать лет и завершился, когда Миллер поставил последнюю точку в трилогии «Распятие Розы». Перле недолюбливал Джун, считал, что она несет Генри зло, и изобразил ее соответственно. Но, причинив Генри боль, Джун оплодотворила его, и он родил Книгу. «Миллер-книга» — это продукт конфликта между Духом и Реальностью. «Долгое время реальностью для меня была Женщина, а значит, и все, что с нею отождествляется: Природа, Миф, Страна, Мать, Хаос, — пишет Миллер, объясняя акцентированность своих книг на „грубом, повторяющемся житейском опыте“. — Я трактую — к вящему изумлению читателей — о романе Райдера Хаггарда „Она“, забывая, что краеугольный камень своей автобиографии („Тропик Козерога“) я посвятил „Ей“. <…> …моя „Она“ тоже отчаянно боролась, чтобы дать мне жизнь, красоту, власть и превосходство над другими — хотя бы через магию слов. <…> В чем тайна Ее жуткой красоты, Ее пугающей власти над другими, Ее презрения к своим раболепным миньонам, если не в стремлении искупить свое преступление — преступление? — в том, что она отняла у меня мою личность именно в тот момент, когда я только-только ее обрел? <…> …посвятив себя задаче обессмертить Ее, я убедился, что дарил Ей Жизнь в обмен на Смерть. Я думал, что смогу воскресить прошлое, думал, что смогу оживить его — наяву. <…> Но все, чего я добился, — это разбередил нанесенную мне рану. Рана еще жива, и вместе с болью из нее выходит воспоминание о том, кем я был. И я отчетливо вижу, что был я ни то ни се. <…> Книгу, которую я пообещал себе написать как памятник Ей, книгу, в которой я должен был разрешиться от бремени Ее „тайны“, я начинал не один раз. <…> Я не собирался писать ничего, кроме этой грандиозной книги. Предполагалось, что она будет Книгой Моей Жизни — моей жизни с Ней»[8].
Конфликт разрешился победой Духа: «Я постигаю смысл своей долгой одиссеи: я узнаю всех цирцей, державших меня в плену своих чар. Я обрел отца — как во плоти, так и ненарекаемого именем. Я понял, что отец и сын — одно. И даже больше: я наконец понял, что всё — одно»[9]. Таков «Миллер-книга».
Миллер Альфреда Перле — это «Миллер-человек», homo naturalis (человек естественный) — человек, которому люди «с легкостью раскрывали свои души и кошельки», но в чьем кармане «деньги никогда не успевали нагреться»; «полноценный человек, не имеющий ни сексуальных, ни религиозных, ни политических, ни интеллектуальных, ни психологических, ни культурных, ни космологических проблем, человек, у которого вообще нет проблем — разве что мелкие житейские, возникающие и разрешающиеся изо дня в день»; человек, прослывший среди «книжников и фарисеев» порнографом, но «едва ли прочитавший на своем веку хотя бы одну порнографическую книжку»; человек, «способный натощак проглотить Освальда Шпенглера или Отто Ранка», гурман, обладавший раблезианским аппетитом и считавший, что «слава может и подождать, а вот обед — вряд ли!». Человек, который «сорок лет возвещал о своем счастье», «проповедовал ложь, чтобы стать правдивей правды», и, понимая, что нельзя спасти мир, всегда оставался «над схваткой», с последовательностью даоса принимая его таким, каков он есть.
Лариса Житкова
ПРЕДИСЛОВИЕ ГЕНРИ МИЛЛЕРА
Лишь четверть века минуло с тех пор, как я впервые встретился с автором этой книги — Альфредом Перле. А кажется, на самом деле познакомились мы гораздо, гораздо раньше. Наиболее вероятно, году так в 1492-м до Рождества Христова, в эпоху минойской цивилизации{1}, но только не в предатомный век. Разумеется, мы были тогда намного моложе нынешних людей того же возраста. Мир чудовищно постарел за последние несколько десятилетий. Наверное — да и наверняка, — он снова помолодеет, хотя в наше время — едва ли. Если мы встретимся вновь — а мы обязательно встретимся, — то это непременно произойдет в период, гомологичный, как сказал бы Шпенглер{2}, первой египетской династии. И пусть мы столкнемся не на Рю-Деламбр, все равно это будет та же самая улица, только под другим названием, — может, она будет носить имя пока что неизвестного «Мирного Повелителя», которому суждено появиться во Франции и подарить нам хотя бы тысячелетие мира и благоволил.
В 1928 году я и слыхом не слыхивал ни о каком Биг-Суре{3}. Название «мыс Сур» впервые попалось мне на глаза году то ли в тридцатом, то ли в тридцать первом. Я читал тогда «Женщин с мыса Сур» Робинсона Джефферса{4}, сидя в кафе «Ротонда»{5} — довольно-таки странном месте для подобного времяпрепровождения. (В те дни я часто читал книжки за стаканчиком, облюбовав себе какое-нибудь злачное заведение.)
Только несколько дней назад мне выпала честь показать мыс Сур моему другу Альфу. «Чем-то похоже на Бинген на Рейне», — заметил я. Альф со мной не согласился, но не суть. Самое главное — и я все никак не могу в это поверить, — что Альф сейчас здесь с нами и дописывает сей шутливый образчик документалистики под названием «Мой друг Генри Миллер». А такая ли уж это документалистика? — спрашиваю я себя. Может, это просто очередной автобиографический фрагмент неведомой жизни того таинственного персонажа, выведенного под именем Альфреда Перле, что в один прекрасный день родился на Шмельце в «Le Quatuor en Ré-Majeurs»?[10]{6}
Как хорошо я помню тот день, когда Альф получил чудесное прочувствованное, восторженное письмо от Роже Мартена дю Гара{7}, ныне прославленной знаменитости, занимающей почетное место во французских литературных анналах. Это было полное симпатии и понимания письмо, которым le cher maître[11] разродился, залпом проглотив «Sentiments Limitrophes»[12]. Я упросил зардевшегося от смущения автора прочесть письмо дю Гара{8} вслух, с тем чтобы еще раз сполна им насладиться. После чего мы оба немного всплакнули на плече друг у друга. А потом дико расхохотались. Мы, видите ли, уже присудили друг другу по Нобелевской премии.
Прочитывая страницы этой книги по мере ее написания, прочитывая их еще «горяченькими», с ощущением мятной свежести во рту, я снова и снова переживаю каждый драгоценный миг. Только теперь улетучивается вся горечь прошлого. Остаются лишь радость и восторг. Так будет, наверное, и после смерти, в том самом Девахане{9}, которым мы столько бредили и в светлые, и в мрачные моменты нашей совместной жизни. Помнится, нас вечно заносило в Девахан, как только мы затрагивали мистическую тему памяти. Что же в нас помнит? «Помнить, чтобы помнить!»{10} Воспоминание… снова и снова всплывает оно в наших беседах, наших текстах, наших мечтах, наших блужданиях в потемках.
Но в клубок умозрительных рассуждений, которым мы так часто предавались с Альфом, была вплетена еще более таинственная, более ценная (по крайней мере для меня) золотая нить. Для пущей ясности я вынужден прибегнуть к термину «абсолюция» — отпущение грехов. Перле, даже будучи сам отпетым грешником, всегда умел облагодетельствовать другого этим драгоценнейшим из даров — абсолюцией. Он обладал какой-то сверхъестественной способностью заглядывать вперед, в потусторонний мир, и приносить оттуда благие вести. Как будто он умел внедряться в скрытые процессы памяти, сливаться с собственным «идом»{11} и приносить другим долгожданное утешение. Он возвращался мгновенно, точно сам Святой Дух.
Это маленькое отступление я предпринял, дабы подчеркнуть, что существует два рода памяти (если не больше), которые, вступая порой в противоречие, дают заведомо разные результаты. Та память, на которую опирается в своей книге Перле, — это память души. Зачастую она, быть может, грешит искажением фактов, событий и дат. Но это аутентичная протокольная запись, и ее-то мы и прихватим с собой в Девахан, где, даст Бог, мы в блаженстве будем жевать свою жвачку до тех пор, пока не придет срок возвращаться за дальнейшими указаниями[13].
Критически мыслящие индивиды со свойственным им дальтонизмом и тугоухостью воспринимают пену и накипь, которой обрастает личность — даже личность прославленных знаменитостей, — как род анафемы. Им можно только посочувствовать. В этой книге, надо сказать, нет ничего похожего на попытку биографии. И никакой критической оценки творчества ее объекта. Все, что он постарался сделать, мой добрый друг Альф, — это представить подробный отчет о той постыдно счастливой жизни, которой нам всем так хочется пожить — хотя бы в мечтах и во сне.
Это и твоя история, любезный читатель, равно как и моя, и его, и если у тебя не хватит ума это понять, тем хуже для тебя. Потому что мы все рождены одной матерью, вспоены одним горьким молоком и вернемся в одно небесное лоно — более мудрыми, вероятно, но не печальными и, уж конечно, ничуть не потрепанными. На всех паспортах, бывших у нас в употреблении здесь, внизу непременно появится штамп «Недействителен». Если мы так удачно замаскировались, что одурачили самого Создателя, то себя одурачить нам не удастся. Все это одна жизнь, один суд, один промысел. Душа шествует дальше. Ведь это Она, а не мы, возвращается снова и снова. И Она знает, куда идет, несмотря на всю очевидность обратного.
Март, 1955, Биг-Сур, Калифорния
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Импульс Парижа
1
Франция потихоньку оправлялась от последствий Марнского чуда{12}. Первая мировая война окончилась, и кое-где стали уже поговаривать о второй. В людях быстро ослабевала вера в Лигу Наций{13}. Пуанкаре{14} умер несколько лет назад, а Народный фронт Леона Блюма{15} пребывал еще в инкубационном периоде. Парламентская система рождала переполох в правительственном кабинете, от которого неутомимая Марианна{16} с взыскательностью стареющей любовницы требовала постоянного наращивания количественной мощи. Франция переживала кризис за кризисом, но это никого не волновало. Подавляющее большинство французов по-прежнему согревалось чувством безопасности, гарантированной уже уволенной в запас победой, которую Генеральный штаб, с молчаливого согласия политиков правого и центристского толка, пытался увековечить посредством «Линии Мажино»{17}. Стреземан{18} пришел и ушел, Бриан{19} не подавал никаких признаков жизни. В Италии прочно окопался Муссолини, Гитлер же был еще величиной неизвестной, и его имя вечно перевирали, когда оно появлялось в газетах в связи с какой-нибудь страстной публичной речью или неудавшимся coup d’état[14].
В области литературы и изящных искусств Париж был неоспоримым мировым центром. Дадаизм{20} приказал долго жить, а Пикассо{21} уже выкарабкался из трясины кубизма. Хороводом правил сюрреализм: кругом только и разговоров было, что о «растворимой рыбе»{22}, не на шутку озадачившей публику. Пруст{23}, Жид{24} и Валери{25} были теми столпами, на которых держалась «надстройка» литературной жизни. Селин{26} еще не взорвал свою первую «бомбу». Наблюдался небывалый подъем творческой активности, превратившей Город Света{27} в мерцающие Афины. Париж был наводнен любителями искусства и литераторами со всего света, распознавшими в этом городе артистическое чрево, в котором жирели культурные эмбрионы обоих полушарий.
Сразу по окончании «всеобщего побоища» в Париж на Монпарнас потянулись центральные европейцы, скандинавы и русские (белые), вытесненные несколько лет спустя ордами англосаксов. Левый берег{28} превратился в настоящую Вавилонскую башню. Были там и французы, но только в качестве декораций, второго плана, и их роль ограничивалась, так сказать, функцией культурной закваски. Париж хватался за чужестранцев и métèques[15] и обеспечивал им самое ценное, что может дать город, — образ жизни, немыслимый ни в одной другой точке земного шара.
Хотя, конечно, какие-то деньги все же требовались, потому как нахлебников и приживалов французам хватало. Однако Париж шел на компромисс даже в этом отношении. Обменный курс составлял чуть больше двадцати франков за доллар и восемьдесят пять — за фунт; даже немецкая марка, на которую совсем недавно и поесть нельзя было, не умножив ее в несколько миллионов раз, стоила какие-то франки. Да и сам франк оставался деньгой солидной! Это были времена, когда французы всё считали на су, а в каждом франке их было аж по двадцать. Чашечка кофе и парочка аппетитно похрустывающих croissants[16] обходилась всего в несколько су. Уличному нищему можно было запросто подать одно су, не опасаясь услышать негодующее «Je vous emmerde, monsieur»[17]. Сотни су — тогда это было где-то около шиллинга — хватало на еду (vin compris)[18], а это позор на головы многих нынешних рестораторов Сохо{29}. Короче, деньги еще имели вес, но — увы! — с неба они не падали.
В этот мир в 1930 году и был трансплантирован Генри Миллер. Он сразу же пустил корни в Париже. Кое-какие представления об этом городе Генри получил еще во время своего краткого визита сюда в 1928 году, когда он и Джун, с оттопыренными от обилия долларов карманами, приехали «делать» Европу. Джун была его второй женой, и я познакомился с ней еще в 27-м — год я помню точно, потому как это был год знаменитого полета Линдберга{30}, — когда она появилась в Париже в обществе чрезвычайно привлекательной молодой особы по имени Джин Кронски{31}. В то время Джун{32} уже была замужем за Миллером, но тем не менее представлялась как Джун Мэнсфилд. Она работала «тарифной» партнершей в нью-йоркском танцзале, когда Генри увидел ее впервые и сразу влюбился по уши. Джун принадлежала к одному из тех загадочных типов femme fatale[19], что встречаются в некоторых французских романах, — красивая, темпераментная, эксцентричная. Я никогда ее особо не жаловал и понимал, что для Генри это не лучший вариант, да он и сам наверняка был того же мнения. Она провела его через все муки ада, но он был в достаточной степени мазохист, чтобы получать от этого удовольствие. К тому же он был влюблен. Пристрастившись к алкоголю или опиуму, не станешь задумываться о том, какой вред причиняют они организму. Джун была для него гораздо большим злом, чем алкоголь и опиум, вместе взятые. Но он любил. Осмелюсь утверждать, что он и по сей день ее любит, хотя, должно быть, она давно превратилась в беззубую старую каргу. Когда Миллер начал писать, Джун вошла в его книги — он попеременно называет ее то Марой, то Моной, — и я не сомневаюсь, что, распространяясь о связанных с ней унизительных испытаниях, он находил подлинное наслаждение в том, чтобы переживать их заново.
Особенно жестоким испытанием для Генри была ее эскапада с Джин Кронски, когда она бросила его на произвол судьбы в какой-то грязной, гринвич-виллиджской халупе. Неужели она и впрямь влюбилась в Джин Кронски? Генри божился, что влюблена она только в него. Но для сексуально одаренной женщины это еще не повод отказываться от параллельных романов с лицом — или лицами — одного с ней пола. Лесбийскую любовь еще не припечатали большим позорным клеймом. Впрочем, я не считаю Джун законченной лесбиянкой. Что же касается Джин Кронски, то это был настоящий morceau de roi[20], и тут я Джун прекрасно понимаю. Я так ей завидовал, что был бы и сам не прочь превратиться в лесбиянку.
Когда я впервые увидел Генри и Джун вместе — а это было в 1928 году, незадолго до краха Уоллстрит{33}, — они показались мне идеальной парой. Очевидно, было объявлено временное перемирие. Как выяснилось, их постоянно бросало от яростных баталий к столь же яростным примирениям. И вот они в Париже — en touristes[21]. Денег у них куры не клюют — Джун умудрилась раздобыть приличную сумму благодаря своей неоценимой способности пускать пыль в глаза, — так что они полны решимости «делать» Европу с шиком.
Я столкнулся с ними на Рю-Деламбр, неподалеку от гостиницы «Отель-дез-Эколь», где они остановились. Был дивный погожий майский денек, и мы решили устроить пикник в Люксембургском саду {34}. Накупили хлеба, сыра, ветчины, а также связку бананов и пару бутылок вина. Расположившись на каменной скамье лицом к статуе королевы французской и наваррской, мы поглощали наши припасы, запивая их вином à même le goulot[22], так как не захватили ни одного стакана. Генри говорил больше всех. Он был отличным собеседником и к тому же обладал удивительным голосом, звучание которого наводило на мысль о гигантском водопаде, перекачивающем собственную энергию в мощный трансформатор его души. Он с огромным воодушевлением рассказывал о путешествии, которое они задумали, о городах, которые собирались посетить, о местах, которые им предстояло увидеть. Потом он заговорил о книгах. Его кумиром был Достоевский; он обожал «Карамазовых», обожал князя Мышкина из «Идиота» и отождествлял себя со всеми сложными персонажами поочередно. Все, что привлекало его в Достоевском, он обнаруживал и в самом себе. Генри барахтался в каком-то хаосе и уравновешивал его Шпенглером и Кайзерлингом{35}, на которых наткнулся в своей непритязательной читательской всеядности. Он с энтузиазмом и восхищением поглощал все подряд, будь это даже кулинарная книга. Несмотря на бессистемность своего читательского меню, он умудрялся впитывать самое важное из всего, что через себя пропускал.
Генри Миллер — я сразу это понял — был столь же прост, сколь и гениален. В отличие от poseuse[23] Джун, он никогда не говорил о том, чего не мог доказать или объяснить сам, — по крайней мере, ради собственного удовольствия. Он был полон ребяческого энтузиазма и прилагал все усилия, чтобы стать писателем. В Штатах он уже пробовал свои силы в затрапезных журналах{36}, но без особого успеха; кроме того, он написал два-три романа{37}, но ни один из них так и не дошел до стадии публикации. Он знал, что ему чего-то не хватает, и старался это восполнить. Несмотря на его замечательные вербальные данные, ему еще предстояло найти свой голос. Ему нужна была совершенно новая точка отсчета, но для этого требовалось кардинальным образом изменить свою жизнь. И Генри решил, что именно Париж даст ему тот стимул, который он тщетно искал в Америке.
Почти весь день мы провели в Люксембургском саду. Ближе к вечеру Джун напомнила, что ей надо еще успеть уложить вещи. На следующий день они собирались посмотреть загородные замки и поэтому хотели как следует выспаться. Мы вернулись назад, и я расстался с ними на том же углу Рю-Деламбр, пожелав на прощание доброго пути. Генри был в прекрасном настроении и напоследок даже поинтересовался, не нужны ли мне деньги, — такие приливы щедрости для него большая редкость, так почему бы мне этим не воспользоваться? В деньгах я нужды не испытывал, но все же поблагодарил его за предложение. Он меня несколько озадачил: в нем не было ничего от тех заурядных кичливых американцев, которых я привык встречать на Монпарнасе. Зато было нечто такое, что не оставило меня равнодушным. Может, я уже тогда подпал под обаяние той мощной индивидуальности, которой в недалеком будущем предстояло заявить о себе в эпохальных книгах? Трудно сказать. Но все же настоящего контакта между нами тогда не возникло: не было смычки. Вероятно, мы еще не были к этому готовы.
2
Смычка возникла два года спустя. Генри только что высадился в Париже, совершив второе путешествие из Нью-Йорка. Сидя в полном одиночестве за столиком одного из монпарнасских кафе, он угощался едой и вином; меня встревожила и привела в восхищение стоявшая перед ним груда тарелок. Хотя происхождения он был чисто германского{38}, в его облике отчетливо проступали монголоидные черты. В покое его лицо приобретало сходство с лицом китайского мандарина. Ему еще не перевалило за сорок, но, не считая седеющей опушки, похожей на нимб святого, он был абсолютно лыс, и череп сиял слюдяным блеском. Его глаза — две миндалевидные расщелины — явно были китайскими. Он носил сильные очки в роговой оправе, сквозь которые взгляд его глаз цвета морской волны буравил благожелательной злобой и какой-то нечеловеческой добротой. Поджарый и тощий, он казался выше среднего роста и ходил пружинящей юношеской походкой Пана{39}.
Я присел за его столик, и мы завели разговор, — вернее, говорил он, а я только слушал. Он говорил, выпуская голос куда-то сквозь шляпу — по наитию, как лунатик, и вновь меня поразила мелодичность его голоса, навевающего воспоминания о кафедральных колоколах. Он приехал в Париж насовсем и всерьез собирался начать писать. У него было два года на размышления, и в итоге он решил сжечь все мосты и порвать с прошлым. Писатель, утверждал он, не может состояться в Америке. В Америке художник всегда изгой, пария. Только в Париже художник может оставаться художником, не теряя чувства собственного достоинства. Значит, надо обосноваться в Париже, выучить французский и стать французом. Но главное — писать! Теперь он знает, что писать и как писать. Еще немного — и он обретет свое подлинное «я». Ярость, скопившаяся за годы его подавления, теперь настойчиво требовала выражения. Генри больше не собирался сдерживать себя. Он ощущал в себе взрывную силу, которая, дай он ей волю в Америке, была бы растрачена на мыльные пузыри. Америка не оправдала его ожиданий. Там он не только голодал, но и задыхался от невозможности высказаться. Во Франции — и в этом он не сомневался — все будет иначе.
Я намекнул, что голодать мучительно везде, особенно во Франции с ее превосходной кухней. Чтобы заниматься литературой, надо иметь какие-то деньги. Генри со смехом заметил, что отдает себе в этом отчет. И еще добавил, что в Штатах у него полно друзей и они время от времени будут снабжать его деньгами. Это и Эмиль Шнеллок{40}, друг детства, который ни за что не даст ему погибнуть; это и Джо О’Риган{41} — на него тоже всегда можно положиться. Да и Джун обещала подкидывать на мелкие расходы — она осталась в Нью-Йорке и собиралась присоединиться к нему позднее, когда он окончательно определится. Франция — страна дешевая, и при двадцати двух франках за доллар побираться ему не придется.
— А у тебя есть доллары? — спросил я.
Он рассмеялся и ответил, что нет. В «Америкэн экспресс» его уже, вероятно, ждет письмо с чеком на десять долларов. Вот завтра поутру он туда и отправится.
Оказалось, в кармане у него ни цента. Стопка блюдец, по которым ведется счет consommation[24], растет с ужасающей быстротой: Генри пьет рюмку за рюмкой, надеясь таким образом набрать необходимый запас мужества, чтобы признаться хозяину кафе в своей неплатежеспособности. Он показал мне часы, которыми собирался расплатиться с владельцем кафе взамен денег. На мой взгляд, часы самые обыкновенные, но он утверждает, что они золотые. Моментально распознав в Генри американца, официанты не выказывали никаких признаков беспокойства по поводу внушительной стопки блюдец.
Хозяин кафе, разумеется, отказался бы принять столь символическую плату и без сожаления передал бы Генри в руки вездесущего agent de police[25], но я уже решил предотвратить такой исход дела. Я заказал еще еды и вина и продолжал слушать его бесконечную говорильню. Он разразился длинным монологом об Америке: о своем нищенском существовании, о друзьях, о работе, о женщинах, с которыми спал, о пошивочной мастерской отца, где, как предполагалось, он должен был овладеть ремеслом и где вместо этого обзавелся первыми поклонниками из числа трудившихся в мастерской безграмотных иммигрантов, которым он читал свои первые опыты, порой представлявшие собой пространные рассуждения о Ницше{42}, Петронии{43}, Рабле, Бергсоне{44} et alii[26].
В тот наш первый вечер он не умолкал ни на минуту, намереваясь, очевидно, выложить всю историю своей жизни. Ни один из рассказанных им эпизодов не делал ему чести. Родители, например, души в нем не чаяли, а он как-то ухитрялся отравлять им жизнь, но дело тут не в наплевательском отношении или в поступках, которые обычно совершают «паршивые овцы» в семьях, — просто он был самим собой. Нарисованные им картины его детства были весьма показательны. Он не был ни вундеркиндом, ни даже особо одаренным. Одной из главных черт его характера, сколько он себя помнил, было полное презрение к вещам. Зачастую, когда ему дарили красивые игрушки — на Рождество или в день рождения (два этих праздника почти сливались в один, поскольку родился он в «День подарков»[27]), — он, продемонстрировав величайшую радость по поводу подарка, мог запросто отдать его товарищу, иногда прямо в тот же день. Он легко расставался с вещами и свои игрушки раздавал без горечи и сожаления, точно так же как впоследствии раздавал самое ценное из своих пожитков. Он делал это не столько по душевной доброте, сколько потому, что вещи ничего для него не значили — он к ним просто-напросто не привязывался. То, что вещи представляют собой сомнительную ценность, было, очевидно, самым первым важным открытием, сделанным Генри в детстве. Его отец, благодушный, щедрый любитель пива, втайне разделял и одобрял позицию сына, но мать — никогда: по ее представлениям, только непутевому ребенку может прийти в голову раздавать свое добро кому попало.
Затем он перешел к рассказу о друзьях, которыми еще ребенком обзавелся на улицах своего родного Бруклина, о том, в какие игры они играли на помойке, о драках и детских шалостях. Генри всегда умел дружить. Его отзывчивость, энтузиазм и зажигательность были заразительны. И всегда кстати. Сколько бы он себя ни растрачивал, в нем сохранялось твердое ядро, которое было неприкосновенно. Хотя он моментально сделался кумиром местных уличных сорванцов, себя он никогда к ним не причислял. Он держался особняком, вызывая к себе любопытство, и был крайне независим — независим до вероломства. Его лучшие друзья, готовые пойти ради него в огонь и в воду, не были гарантированы от его вероломства — того особого типа вероломства, что всегда граничит с предательством, но до предательства все же не дотягивает и в действительности является лишь проявлением эксцентричного чувства юмора. К друзьям Генри относился с безграничной нежностью и благоговением, но отнюдь не заблуждался насчет их недостатков и идиосинкразии{45}. Его своеобразное чувство юмора позволяло ему высмеивать всех и вся, включая самого себя, а смех — это тоже своего рода вероломство.
Будучи внешне послушным ребенком, Генри всегда поступал по-своему. Друзей он заводил исходя из собственных соображений, и ему безразлично было, одобряют родители его выбор или нет. Почему, выбирая друзей, он отказывался от тех, чья дружба сулила заведомо больше выгоды? Трудно сказать. Здесь им двигали скорее инстинкт, любознательность и интуиция, нежели корыстные устремления. Зачастую он выбирал «не тех» друзей, точно так же как впоследствии выбирал «не тех» женщин. Однако ни «не те» друзья, ни «не те» женщины в действительности «не теми» не были, поскольку они отвечали определенным качествам, крывшимся в нем самом, качествам, которые, с тех самых пор как начал писать, он пытался выделить из хаоса своей души.
На Генри, как на единственного сына в семье, возлагались большие надежды. Предполагалось, что он пойдет по стопам отца и унаследует его дело. Какое-то время он даже пытался следовать родительской воле, однако ничего из этого не вышло. Ремесло портного было абсолютно не по его части. Он слишком беспечен, слишком несерьезен, слишком подвержен странным ностальгиям, чтобы стать хорошим мастеровым. Нельзя сказать, что у него не складывались отношения с персоналом отцовской мастерской. В том-то и беда, что складывались они как нельзя лучше. Как раз люди-то его и интересовали, а вот к бизнесу он относился с прохладцей. Генри подружился с закройщиками, портными, подручными — он ладил со всеми, с кем входил в контакт. И все они его обожали. Он возбуждал к себе любовь, ничего для этого не делая, — просто подставлял ухо и слушал, позволяя собеседнику излить душу. Должно быть, он уже тогда обладал даром, которого не утратил и по сей день, — способностью слушать людей. Не всякий умеет слушать: тут мало проявлять внимание к тому, что говорит другой, — важно уметь слышать то, чего он не говорит, то, что он смутно чувствует, но не может облечь в слова из-за недостатка выразительных средств. Генри был единственным на миллион, кому это удавалось. В этом и состоит его величайшее достояние и как писателя, и как человека — талант слушать и отвечать, молчанием или словами — смотря по ситуации, но всегда с симпатией и пониманием.
Портной из Генри не получился. Отец отнесся к этому вполне философски, чего нельзя сказать о матери. Она бы не особенно возражала, если бы ее сын избрал другую профессию и остался дома. Однако Генри был не из домоседов. К восемнадцати годам он был уже вполне сложившимся мужчиной и имел за плечами богатый опыт во всех сферах жизни, исключая разве что женитьбу. У него была масса друзей, и с каждым из них он общался на соответствующем уровне. Он еще не начал писать, а они уже почуяли в нем художника. С некоторыми из них он поддерживал обширную переписку, порой не встречаясь годами. Один только Эмиль Шнеллок, его лучший друг, получил от него за годы разлуки несколько тысяч писем, и, может статься, когда-нибудь эта переписка найдет своего издателя и прольет любопытный свет на становление личности Генри Миллера.
Я никогда не встречал человека более общительного, чем Генри. Он не мог без людей, но причиной его тяги к общению была отнюдь не потребность в друзьях — люди были нужны ему «для пользы дела». Он рассматривал их как сырьевой материал для книг, которые пока только мечтал написать. Для него все было сырьевым материалом: и родители, и сестра, и пошивочная мастерская, и Бруклин, и друзья, и шлюхи, с которыми он спал, и женщины, которых он любил, и еда, которую он поглощал, и книги, которые он читал, и музыка, которую он слушал, — в свое время все это перекочует на галлюцинаторные страницы его книг. Пока же он только собирал материал: люди, вещи, события — все это медленно погружалось на днище его памяти, подобно тому как вода набирается в цистерну. Как бесчисленные фрагменты калейдоскопа, которые еще предстоит собрать воедино.
Генри был уступчив, сговорчив и уживчив, но, когда его внутренней сущности угрожала опасность, он был способен проявить жестокость.
В ходе нашей долгой беседы в тот первый вечер на террасе кафе «Дом» меня зачастую поражала и шокировала та неприкрытая откровенность, с которой он описывал некоторые из своих наиболее чудовищных актов предательства и дезертирства, особенно по отношению к женщинам. Читателю, желающему подвергнуть себя экспериментаторскому риску, я бы рекомендовал пристально изучить двухтомник «Сексус», где Миллер, бравируя почти клиническим словоблудием, выставил напоказ все то, что не может быть упомянуто в печати. Эта книга, изданная в Париже на французском и английском языках, примечательна тем, что была запрещена к распространению даже во Франции. Она легкодоступна в Японии, где Генри Миллер пользуется широкой популярностью.
Говоря о своем прошлом, Генри, видимо, намеренно изображает себя более «черненьким», нежели он есть на самом деле. Для других у него всегда наготове оправдания и смягчающие обстоятельства, для себя же — никогда. Ясно одно: его действия, вероятно, не всегда были отмечены мудростью, но его искренность не подлежит сомнению: он может быть кем угодно — только не лицемером. Он понимал разницу между добром и злом и, от природы являясь носителем добра, не должен был зондировать свои мотивы. В период возмужания он на протяжении многих лет предпринимал героические усилия, пытаясь высвободить ядро своей сущности из того хаоса, в который погрузился по собственной воле.
Над carrefour[28] занималась заря. Теперь Генри углубился в историю своих странствий. Он исколесил всю Америку вдоль и поперек — на попутках, побираясь, как нищий бродяга, — отыскивая свой путь по всему необъятному континенту. Он был превосходным рассказчиком, говорил яркими сжатыми фразами, воссоздававшими атмосферу пережитого. Создавалось впечатление, что он вечно был без гроша, вечно голоден, никогда не имел крыши над головой и зачастую ночевал на скамейке в парке, а то и в местной каталажке. Иногда он пристраивался где-нибудь мойщиком посуды или же приторговывал пылесосами или энциклопедическими словарями. Ни на одной работе он долго не задерживался. Куда бы его ни заносило, люди всюду готовы были ему помочь; зачастую это были простые бродяги, мало чем отличавшиеся от него самого. Время от времени его пригревала у себя какая-нибудь женщина — когда на ночь, когда на пару недель. К тому времени как он вернулся в Нью-Йорк и женился{46}, Генри был уже непревзойденным мастером в искусстве жить без руля и без ветрил, добывая средства к существованию чуть ли не из воздуха.
Я уловил некоторое сходство между его и моим прошлым, что вызвало почти мгновенное чувство избирательного сродства[29]. Прожив почти всю свою жизнь без руля и без ветрил, я и сам не прочь был узнать, почем фунт лиха в «Стране изобилия». Хотя я был несколькими годами моложе Генри, я тоже успел попробовать себя на всевозможных поприщах, по большей части странных: поочередно я работал мойщиком посуды, предсказателем судьбы, коробейником, барменом, ходячей рекламой, писательским «негром», был шулером, подопытным кроликом у шарлатанов, испытывающих действие обезьяньих желез, и так далее. Как и Генри, я бывал гол как сокол и перебивался с хлеба на воду, как и он, я умудрился выжить. Я попадал в те же ситуации, что и он, и независимо друг от друга мы стали родоначальниками одной и той же философии — философии «desperado»[30].
— Оставь-ка лучше эти часы на черный день, — сказал я Генри, кивнув официанту.
В то время я работал в парижской редакции «Чикаго трибюн», так что мог иной раз позволить себе удовольствие сделать широкий жест. Я оплатил счет, купил Генри зубную щетку, выдал ему рубашку и устроил его в своем отеле «Сентраль» — Рю-дю-Мэн, 1-бис, — оплатив номер за неделю вперед.
Декорации к «Тропику Рака» расставлены.
3
У меня ни денег, ни работы, ни надежд. Я — счастливейший человек на земле. Год, полгода назад я считал себя писателем. Теперь я себя писателем не считаю — я им являюсь. Всю литературщину с меня как ветром сдуло. Никаких книг, слава Богу, писать уже не нужно.
Эти фразы можно найти на первой странице «Тропика Рака». Генри не начал еще писать книгу — он только делал глубокий вдох, чтобы как следует набрать воздуху, прежде чем приступать к выполнению этой задачи. Он снова оказался в финансовой яме. Впрочем, Генри редко когда из нее выбирался, так что ситуация привычная, хотя и не вполне нормальная для человека, которому вот-вот перевалит за сорок и которому, по средним обывательским меркам, пора бы уже остепениться и определиться в какой-либо деятельности, будь то бизнес или солидная профессия, дающие право нагуливать жирок и преследовать хобби.
Генри был тощий как жердь, и его единственным хобби была жизнь. К сидению в финансовой яме он относился без паники. В Штатах он попадал и не в такие переделки, так что давно овладел искусством выпутываться из тупиковых ситуаций по мере их возникновения, особенно когда это касалось проблем питания: что толку беспокоиться раньше времени, что толку беспокоиться о следующем бифштексе, когда ты еще не переварил предыдущий! Будет день — будет пища…
На настоящий момент у него была крыша над головой и он жил в Париже. А это уже само по себе большое достижение. Каждое утро он просыпался с радостным ощущением оттого, что он не в Бруклине, а в Париже. Единственное, что изменилось за последующие месяцы, — это его адрес, чувство же новизны, испытанное им по приезде в Париж, не изгладилось никогда. Город Света потихоньку делал свое дело: новый образ жизни производил эффект своеобразной закваски. При всей нищете и убогости своего существования Генри наслаждался определенной внутренней свободой, которой не знал в Америке, где всякая свобода — это зависимость от обилия долларов.
Чего-чего, а долларов у Генри не было. Каждое утро он отправлялся в «Америкэн экспресс», где изредка находил ожидавшее его письмо. Но хоть бы один доллар! Иногда я его сопровождал, но все-таки чаще он ходил один. Пешком. Расстояние в те дни как-то не играло особой роли, да и путь, собственно, был недолог: чуть более получаса ходу от Монпарнаса — через Люксембургский сад, затем вниз по Рю-де-Сен, потом через мост и вверх по Авеню-де-л’Опера до «Америкэн экспресс», находившегося сразу за кафе «Де-ля-Пэ». Разумеется, если он рассчитывал поесть, возвращаться ему тоже приходилось пешком.
Прогулка туда и обратно служила одновременно и моционом и аперитивом. Аппетитом, надо сказать, Генри обладал отменным. И все же он был скорее обжорой, нежели гурманом, хотя он довольно быстро научился делать различие между «кухней» и просто едой, равно как не замедлил пристраститься и к французскому вину, оказывая ему явное предпочтение перед прохладительными напитками, которыми привык запивать еду у себя в Америке. Кормить Генри было одно удовольствие. Та медлительность, с которой он поглощал пищу и вино, его манера смаковать каждый кусок и глоток, его неприкрытое наслаждение la bonne chère[31] были большей наградой для устроителей обеда, нежели самые теплые слова благодарности.
Номер в отеле «Сентраль» ему нравился. Окна выходили на крошечный треугольник сквера Дю-Мэн — треугольник, образованный семью убогими деревцами и двумя-тремя деревянными скамейками, на которых местные нищие и ходячие рекламы поглощали свои скудные завтраки, состоящие из бутербродов с сыром, прямо из бутылки запивая их vin ordinaire[32]. За треугольником сквера открывался вид на противоположную сторону trottoir[33], где патрулировали дешевые шлюшонки в надежде подцепить случайного клиента из рыночных торговцев с близлежащего бульвара Эдгара Кине. Это были самые низкопробные проститутки в городе — их обычный тариф составлял пять франков, то есть двадцать пять центов по подсчетам Генри, что соответствовало цене двух пачек сигарет дома, в Штатах.
Из-за службы в газете — а я работал в ночную смену — мне приходилось спать до полудня. Номер Генри находился рядом с моим, и он имел обыкновение каждый день заглядывать ко мне в восемь утра. Ранняя пташка, он заявлялся уже умытым и побритым, с розовым, как у молочного поросенка, лицом. Обычно он приносил мне несколько апельсинов и персиков, купленных на уличном рынке в районе бульвара Эдгара Кине. Фрукты, объяснял он, полезны для организма, забывая при этом, что сон тоже полезен для организма, в особенности организма ночного служащего.
Затем он начинал говорить. Я уже упоминал о его необыкновенном голосе — сильном, мелодичном, ритмичном голосе уникальной тональности.
Когда Генри начинал говорить, то в первую секунду складывалось впечатление, что ему трудно подбирать слова: он вдруг замолкал в середине фразы, точно выпускающий пары локомотив, затем продолжал уже более уверенно: состав постепенно набирал скорость — невероятно длинный состав, груженный богатым товаром. О чем бы Генри ни говорил, он всегда вдохновлялся собственным голосом — его звучанием, и, опьяненный собственными словами, крепко хватался за них, как паук цепляется за нить, которую сам же и срыгивает.
Вот как Миллер излагает это в «Тропике Рака»:
Я зажимаю между ног бутылку и ввинчиваю в нее штопор. Миссис Рен в предвкушении разинула рот. Вино плещется у меня между ног, солнце плещется о стекла эркера, а в моих венах плещется и пузырится уйма всякой бредятины, и я вот-вот зафонтанирую, как водомет. Я говорю им все, что приходит на ум, все, что когда-то было закупорено внутри и чему несдержанный смех миссис Рен в конце концов дал выход.
Далее идет подробнейшее перечисление всей уймы той самой бредятины, что приходит ему на ум.
Когда Генри в ударе — а иначе я его и не представляю, — он держит аудиторию в напряжении транса. Слушать его — все равно что наблюдать за работой кузнеца, в руках которого бесформенная заготовка на глазах превращается в изящнейшую вещь: Генри брал первый попавшийся аргумент, зажимал его щипцами, точно раскаленный кусок железа, и, поместив на наковальню, всеми силами своего теплотворного естества отчеканивал его, пока не доводил до ума. Затем он рассматривал предмет под иным углом зрения. Теперь он фотограф: вот он отходит на приличное расстояние, доводя фокус объектива до остроты кончика иголки. Сам аргумент давно отошел на второй план — теперь все сосредоточилось на речи, речи яркой, как фейерверк: искры с треском рассыпаются во всех направлениях — то там взовьется пламя, то тут вспыхнет огонь, — ослепляя белокалильным светом. Поди тут разбери, поджигательство это или элементарная пиротехника.
Временами Генри с восторгом принимался развенчивать собственный аргумент, когда тот казался уже идеально отточенным и неопровержимым. Одной короткой фразой он разбивал целые полчища блистательных образов и все начинал сначала, находя мириады новых, антитетических[34] образов, более прекрасных, чудесных и ослепительных, нежели предыдущие. Перенесение акцента на какое-нибудь одно коротенькое словцо вызывало к жизни совершенно новую ситуацию. Едва уловимое изменение порядка слов, беззвучный перевод мысли из одной тональности в другую — и все образы в калейдоскопе выстраивались по иной модели, не менее прекрасной и восхитительной, чем предыдущая.
Было также нечто особенное в его манере сближаться с людьми, независимо от того, мужчина это, женщина или ребенок, — какая-то ласковая прямота, которая избавляла от необходимости в бессмысленных расшаркиваниях и позволяла собеседнику сразу же почувствовать себя в своей тарелке. Его природная жизнерадостность и смешливость располагали к общению. И эта смешливость, не имеющая ничего общего с его чувством юмора, была одной из выдающихся особенностей его натуры. Смех сидел в нем, даже когда он пребывал в плаксивом или сентиментальном расположении духа и превращался в pleurnicheur [35]; смех, можно сказать, был у него всегда наготове, и при необходимости Генри использовал его в терапевтических, гомеопатических и прочих целях, — кстати, весьма успешно.
Кроме разговора по душам, взять с Генри было нечего. От него исходила какая-то животворящая сила: он при любых обстоятельствах умудрялся что-то давать людям, а то, что он был беден как церковная мышь — это уже дело десятое. Расставаясь с Генри как после минутного, так и после продолжительного общения, всегда чувствуешь себя обогащенным, потому что он отдает тебе частицу самого себя. Причем, отдавая себя, сам он тоже обогащался каким-то странным образом: где от него убудет, там тут же и прибудет. При общении с Генри начинаешь смутно осознавать, что, только отдавая, можно рассчитывать обогатиться самому. В результате даже самые замкнутые и прижимистые из тех, с кем он контактировал в те давние дни в Париже, раскрывались в его присутствии — они открывали ему свои души и свои кошельки.
И если я был первым человеком, с которым он познакомился по приезде во Францию, то вскоре я стал одним из многих.
4
Два кафе — «Дом» и «Куполь», объединенные общим фасадом и навевающие воспоминания о довильской{47} potiniere[36]. Разноцветные зонтики и выпивка на любой вкус. Плисовые штаны и пляжные пижамы. Художники в сандалиях и с огромными папками под мышкой. Потасканного вида богемные личности — тощие и голодные как волки, — рыщущие, где бы чего перекусить на дармовщинку. Американские туристы, толпами вываливающие из прогулочных автобусов и, словно неограниченная в правах чума, заполоняющие террасы кафе. Профурсетки в прозрачных цветастых одеяниях, ничего не оставляющих на долю воображения — даже цены за ночь. Официанты с грудами тяжеленных подносов, решительно прокладывающие себе путь в толпе. Североафриканские сиди[37], разгуливающие, под стать штангистам, с рулонами ковров на загривках, с болтающимися на груди ковровыми туфлями, молитвенными ковриками, восковым жемчугом, арахисом и с каким-то отчаянным оптимизмом предлагающие свой товар мрачнеющим интеллектуалам. Сиплые выкрики продавцов газет, возвещающие об очередном международном кризисе. Попрошайки в костюмах акробатов, крутящие сальто вдоль тротуара. Запах кофе, газолина, алкоголя, пота, парфюмерии, амбиций, табака, лошадиных сил, мочи, пустоты, пороха и секса — гремучая смесь, густая, вязкая, существующая как самостоятельный слой атмосферы, тяжелый и плотный, словно какой-то атмосферический пудинг. Таков был Монпарнас в пору его расцвета. Генри всегда можно было найти на одной из террас — либо у кафе «Дом», либо у «Куполи» — в окружении людей, с которыми он только что познакомился или только собирался познакомиться. Непонятно, где он их всех откапывал, как и для чего. Помнится, Джун как-то представила мне исчерпывающее описание одного убогого полуподвального помещения в Гринвич-Виллидже{48}, где обитали они с Генри. Вечное шастанье туда-сюда: одни приходят, другие уходят — как в кафе. Настоящий проходной двор. Но зато какая галерея образов! Большинство из них либо гомосексуалисты, либо извращенцы других ориентаций: несостоявшиеся художники, писатели, поэты, пьянчуга, невротики, маньяки, иностранцы и бездельники. Каждый со своими заморочками. Не важно, кто кого находил: Генри их или они его, они шли к нему, как дикари — к шаману. Это были никчемные, опустошенные души, сдохшие батарейки, требующие подзарядки. Вот Генри их и подзаряжал: он был для них как материнское растение. Никогда не отказывая своим подопечным в еде и вине, он и сам не гнушался принять от них случайную рубашку или пару брюк. Давая, они чувствовали себя не такими несчастными. Что же до Генри, то он никогда не чувствовал себя несчастным, даже при пустом кошельке и пустом желудке. «Всегда веселый и ясный!» {49}— таков был его девиз.
Аналогичная история разыгрывалась теперь на новых подмостках. Меньше чем за месяц своего пребывания в Париже Генри обзавелся не одной сотней друзей. Главным образом это были американцы, хотя имелись естественные вкрапления французов, а также представителей других народностей. Вот некоторые из них: коммерческий художник Фредерик Канн{50}; Уолтер Лоуэнфельз{51} и Майкл Френкель{52}, начинавшие уже издавать книжки — свои то есть; супружеская чета Шранков: муж специализировался по юмору и впоследствии обосновался в Голливуде, а жена, жгучая брюнетка, — по амурным делам (Генри моментально в нее влюбился); Ричард Осборн{53} и Уолтер Фримен{54} — служащие Американского банка, сыгравшие немаловажную роль в судьбе Генри, особенно первый; Эдвард Титус{55} — муж Елены Рубинштейн и владелец книжного магазина на Рю-Деламбр, ведавший журналом «В этом квартале»; с Титусом было не так-то легко найти общий язык, но Миллер и его околдовал в мгновение ока: ходили слухи, будто этот скряга как-то угостил Генри обедом — неслыханная щедрость для Титуса. Генри умудрился даже произвести впечатление на Сэмюэля Путнама{56}, ссохшегося и измученного диспепсическими расстройствами ученого, который перевел Рабле на современный американский язык, а также помог Титусу в издании его ежеквартальника; Путнам, однако, вскоре рассорился с Титусом и основал конкурирующий журнал «Новое обозрение» — довольно скучный ежеквартальник для умников, изредка оживляемый одним из блестящих миллеровских эссе или коротких рассказов. Путнам, скончавшийся несколько лет назад, упоминал о Миллере в своей книге «Париж был нашей возлюбленной». Но об этом позже.
Стоит ли говорить, что Генри вскоре стал своим человеком в тесном кругу моих близких друзей, состоявшем в основном из «останков» давно почившей в бозе австро-венгерской монархии. Один из них — знаменитый фотограф Брассе{57}, трансильванец с огромными батрахианскими глазами{58} и оригинальным складом ума. Сейчас Брассе — один из лучших всемирно известных фотографов Франции. Он не знал ни слова по-английски, но Миллера понимал прекрасно. Миллеру всегда удавалось быть понятным для тех, кто был ему интересен, а интересны ему были все. Венгерский художник Тиханий, будучи глухонемым, тоже понимал Миллера, общаясь с ним на своем языке. И еще Фрэнк Добо, тоже венгр (а теперь тоже американец), который тогда был литературным агентом, — это он открыл Миллеру «Voyage au bout de la nuit»[38]. Именно Добо организовал первые английское и американское издания Селина. Большинство наших друзей жили в районах парижских трущоб; все вышеупомянутые облюбовали себе в качестве обиталища «Отель-де-Террас» на Рю-де-ля-Гласьер — улице, протянувшейся вдоль границы 13-го аррондисмента[39], который Генри нашел бесконечно более соблазнительным, нежели район Елисейских Полей или Пасси.
Нельзя забывать и о Уэмбли Болде{59} — это мой друг и коллега по работе в «Трибюн», где он вел еженедельную колонку «Из жизни богемы». Уэмбли обладал чрезмерными литературными амбициями, но до писателя все же не дотягивал. Впрочем, он был личностью весьма известной в зоне засилья американцев, а это территория, простиравшаяся, по самым грубым подсчетам, от «Клозери-де-Лила»{60} до вокзала «Монпарнас». Он был в вечной беготне за материалом для своей еженедельной колонки — гвоздя программы номера, выходившего по вторникам, и ему стоило неимоверных усилий обернуться вовремя. Писать текст было для него адской мукой, и в последний момент он часто обращался ко мне за помощью. Зачастую он затаскивал меня в свое жилище неподалеку от кафе «Дом». Это была унылая захламленная дыра. Окна никогда не открывались, так что в комнате не выводился спертый, въедливый запах алкоголя и табака. Вне всякого сомнения, днем Уэмбли уже пытался состряпать заметку, о чем свидетельствовала недопитая бутылка бренди на столе рядом с машинкой и обилие разбросанных по полу скомканных листов бумаги.
Чуть не с порога он садился за машинку и вставлял чистый лист. «Сиди тихо и не мешай. Мне надо сосредоточиться», — говорил он, не забывая сделать большой глоток живительной влаги из бутылки, всегда стоявшей у него под рукой. Заглотив «горючее», он морщился в гримасе отвращения. Уэмбли терпеть не мог спиртного, почитая его за отраву, но не мог и двух слов связать, не «залив за галстук». Он был в долгу у своей печени, и порой, когда у него возникали особенные затруднения с заметкой, печень отказывалась засчитывать ему этот долг. Уэмбли требовалось пятнадцать минут, чтобы напечатать две строчки, и еще десять — чтобы понять, что они никуда не годятся. Именно это у моего друга Уэмбли Болда и называлось «сосредоточиться».
И так каждую неделю. Никто из читающих его худосочный, низкопробный, хотя и не лишенный юмора материал даже не подозревал, какие адские муки пришлось претерпеть автору, чтобы его выродить. Заметка обычно состояла из короткой вводной части и последующего светского трепа о жизни Левого берега. Время от времени, когда в Квартале{61} объявлялась заезжая знаменитость — какой-нибудь Джон Дос Пассос{62} или Хемингуэй, — Уэмбли посвящал этому событию всю колонку. Надо сказать, таким образом он прославил кое-кого из актрис, затрапезных писателей, памфлетистов, заготовителей мясопродуктов, чемпионов по шахматам etc., которых тем или иным ветром заносило в его монпарнасскую берлогу. Он произвел большой бум статьей о Гертруде Стайн{63} — королеве лепета с Рю-де-Флёрю. Но все-таки чаще идей ему не хватало. И тут появлялся я — для оказания, так сказать, неотложной литературной помощи.
Когда на сцене появился Генри, Уэмбли довольно часто «позволял» ему подготовить целиком всю колонку. Генри мог сочинять такого рода вещи погонными метрами и делал это в мгновение ока. После чего Уэмбли приглашал его в ресторан, заказывал обед и распинался о том, какой-де он, Уэмбли Болд, чудесный писатель. А заодно показывал ему девиц, с которыми успел переспать. Уэмбли был Дон Жуаном à l’américaine[40], а это означает, что он по всем статьям переплюнул своего европейского коллегу. Он не только переспал со всеми шлюхами Монпарнаса и прилегающих кварталов, но и добирал свой половой рацион за счет англосаксонских любительниц изящных искусств и школьных учительниц, наводнявших Левый берег. Уэмбли Болд не утруждал себя ухаживаниями и не разменивался на сантименты: в женщинах он видел только одно — то, что на научном языке именуется первичным половым признаком. Помнится, Генри как-то указал ему на девушку с лицом мадонны. «Посмотри, какое дивное лицо», — сказал он. «А при чем тут лицо? — пожал плечами Уэмбли и, поняв по нашему смеху, что изрек bon mot[41], тут же добавил: — А что, отлично сказано. Напомните мне, чтобы я использовал это в своей следующей статье».
Я упоминаю всех этих лиц, потому что они под разными именами фигурируют в «Тропике Рака», первой из миллеровских книг, вышедших в Париже, и, по мнению многих критиков, до сих пор остающейся лучшим из всего, что он написал.
Среди тех, с кем Миллера тогда свела судьба, был вчерашний студент из Бриджпорта (штат Коннектикут) Ричард Осборн, успевший уже изучить право и работавший в юридическом отделе парижского филиала нью-йоркского Нэшнел-Сити-банка. Он-то по большей части и поддерживал Генри. Через него же Миллер познакомился с Анаис Нин{64}, которая приняла в нем участие в самый тяжелый для него период жизни в Париже. Дик, как мы называли Осборна, полностью соответствовал бытовавшему среди европейцев представлению об американцах: он был шумным, говорливым, претендующим на всезнайство «недоучкой» и всегда пьян вдрезину — невротик, которому льстило, что его таковым считали. Быть невротиком — значит быть модным, современным, артистичным и принадлежать к богеме. Помню, как он бравировал своей шизофренией — точно трехлетний мальчишка, хвастающийся своими бицепсами. Впрочем, на мой взгляд, Дик скорее относился к параноидальному типу личности. Он гордился также и своим обширным словарным запасом и в разговоре коротким словам предпочитал «сесквипедальные»{65} — полуторафутовые. С Генри они познакомились на Монпарнасе; Осборн моментально стал его страстным поклонником — по той причине, как он объяснял впоследствии, что Генри был как две капли воды похож на командира отряда из его американского бойскаутского детства. Еще он любил его за то, что он был «мировым парнем». Любой, кто пил с Осборном vin blanc[42] и слушал его пересыпанную полуторафутовыми словами болтовню, мог удостоиться титула «мировой парень». Дик и сам был «мировым парнем»: стерильный американский служка — снаружи по крайней мере, — что, однако, не мешало ему регулярно обзаводиться триппачком. И тем не менее славный юноша; его эмоциональная хрупкость как раз и притягивала к нему большинство людей.
У Дика была большая, хорошо обставленная квартира в районе Марсова поля, вблизи метро «Дюплеи», и он предложил Генри пожить у себя. Генри с радостью согласился. Он, конечно же, знал, что я готов был оплачивать его номер в отеле «Сентраль» сколь угодно долго, но квартира на Марсовом поле куда лучше задрипанного гостиничного номера.
У Осборна жила его русская подруга Ирина. Кажется, княгиня или, может, только графиня, но у нее был большой красивый рот. Все трое отлично уживались друг с другом. Вечерами, возвратившись из банка, где он разыгрывал стерильного американского служку, Дик преображался в невротическую личность, причем делал это с наслаждением человека, облачающегося в смокинг. Процесс преображения всегда спрыскивался vin blanc. Стаканчик-другой — и, задолго до того как вставал вопрос о еде, Дик разражался запутанной речью, сплошь состоящей из длинных сентенций, позаимствованных им из своей юридической практики и служивших удовлетворению его литературных амбиций. Во время этих представлений Генри всегда по максимуму «оказывал пособничество и подстрекал».
Ирина плохо понимала, о чем говорили два этих психа, но скучать ей не приходилось. Дика она обожала, да и Генри, по-моему, тоже: русские, с их природным мистицизмом, обладают могучей способностью любить — что аристократ, что простолюдин. Вечерами у них довольно часто собирались гости — это либо знакомые Осборна по Монпарнасу, либо его сослуживцы по банку; пирушки, как правило, продолжались чуть не до рассвета и обычно завершались оргиями. Рано утром Дику надо было уходить в присутствие, а Генри с Ириной могли валяться в постели сколько душе угодно. Я не знаю, чем они занимались, пока Дик трудился в поте лица, потому что ни Генри, ни Ирина не имели обыкновения распространяться о такого рода вещах. Мне лишь известно, что у Ирины был большой красный рот, а Генри обожал большие красные рты. Она была русская, а он был самим собой: «мировым парнем», гением — Дик в этом уже убедился, — святым, который умел быть клоуном и который всегда помнил, с какой стороны намазан его бутерброд.
Живя на Марсовом поле, Генри не знал ни забот, ни хлопот. Арендную плату ему вносить не приходилось, в доме всегда водилась какая-то еда, и, кроме того, уходя утром из дому, мучимый похмельем Осборн с присущей ему деликатностью оставлял на камине несколько франков. И все-таки Генри не был до конца счастлив. Он по-прежнему пытался найти себя, распаляясь день ото дня все больше и больше. Он уже почти готов был взяться за дело — почти. Он весь бурлил. В перерывах между встречами с друзьями Генри писал акварели и много читал. Его французский был гораздо лучше, чем могло показаться по его жуткому американскому акценту, так что читал он вполне бегло. Я никогда не встречал его без книги под мышкой. Он как раз открыл для себя Эли Фора{66} и просто ошалел от восторга, прочитав его «Mon Périple»[43].
В тот период мы виделись каждый день — либо у Осборна, либо у меня на Рю-дю-Мэн. Вдвоем мы совершали паломничество в «Америкэн экспресс» — проверить, не прибыл ли пресловутый мифический чек на десять долларов. Если чека не обнаруживалось — а это было в порядке вещей, — мы выгребали всю свою наличность, пытаясь наскрести на бутылочку и casse-croûte[44].
«Трибюн» в воскресных выпусках печатала страничку приложения с построчной оплатой авторам — выходило не так много: франков по пятьдесят за колонку. Но к участию допускались лишь штатные сотрудники, так что Генри оставался за бортом. Чтобы дать ему возможность чуть-чуть подзаработать, я иногда предлагал ему написать заметку, подписавшись моим именем. Так мы выходили из положения. Некоторые зарисовки уличных сцен, которые он таким образом публиковал, были настоящими бриллиантами. Будучи влюбленным в Париж, Генри часто совершал долгие прогулки по городу, отдавая предпочтение глухим закоулкам трущоб и окраин: «Отель-де-Виль», 13-й аррондисмент, окрестности Виллеской скотобойни. Не расставаясь с блокнотом, он попутно делал кое-какие записи — о красках, впечатлениях, происшествиях, — которые впоследствии перекочевывали в его малые шедевры, заслуживавшие, надо сказать, оправы более благородной, нежели страницы «Чикаго трибюн».
Стиль Миллера отличался чрезвычайной красочностью, лиричностью, призматоидальностью. В качестве примера его прозы «дотропического» периода я приведу один из таких набросков, извлеченный из потрепанного альбома со старыми газетными вырезками. Я воспроизвожу его полностью, так как не слишком уж часто ранние миллеровские вещи попадали в печать. Этот рассказец был озаглавлен
Улица Лурмель в тумане
Поселился я как-то в одном странном местечке, производившем впечатление потустороннего мира. Называлось оно «Hôtel de l’Espérance» — «Отель надежды». Мне очень хорошо запомнился этот отель, потому что какое-то дикое отчаяние охватывало меня всякий раз, как на глаза мне попадалось его название — на редкость идиотское название: наверняка какой-нибудь тупой жизнерадостный рахит уцепился за него в порыве пьяного вдохновения. Сама же улица казалась гноящейся язвой. Отель находился неподалеку от «Vel’d’Hiv» — зимнего велодрома, так что во время шестидневных гонок стекла в оконных переплетах неистово дребезжали от грохота и громыхания вертящихся блюдищ.
В Париже есть улицы, на которых Парижем и не пахнет.
Их надо разнести в пух и прах, разметать по ветру и забыть. Есть и другие, те, например, что носят имена прославленных мертвецов, — это и вовсе гнусное надругательство. Их надо переименовать. Но есть улицы вроде той, что не выходит у меня из головы, — я говорю об улице Лурмель, чей подлинный характер проявляется лишь в определенных атмосферных условиях.
Я жил тогда в промежутках от полуночи до рассвета. Из своего чердачного окна я слышал перезвон колоколов, удары гонгов; я слышал каждый деревянный башмак, каждое проклятие, каждый любовный вздох. Свесившись с балкона, я даже мог услышать музыку канализационных труб — то еле уловимое булькающее побрякивание бегущей воды, что слышится в тишине парижских ночей. С постели мне было видно, как искрится, ударяя в голову брызгами огней, Эйфелева башня, как искрится шампанское, как искрится «Ситроен», как искрятся номера домов и электрические кружева.
Я был чужой этой улице. Она никогда мне не нравилась. Со всех сторон меня окружали треугольные крыши пакгаузов и заводских корпусов, примыкая одна к другой с холодным, методичным коварством этих омерзительных фигур геометрии Евклида. В сочетании с мрачной, чахоточной атмосферой квартала они пробуждали во мне воспоминания о первых трагедиях. Словом, с этой улицей все получилось как с каким-то чужим тебе человеком, к которому инстинктивно испытываешь неприязнь и которого стремишься вычеркнуть из памяти сразу же после знакомства.
Но вот ты вновь сталкиваешься с тем самым типом, что вызвал в тебе такую резкую неприязнь, и ты вдруг открываешь в нем недюжинную натуру, незаурядную личность, может, даже единственного человека в мире, с которым у тебя есть что-то общее… все общее.
Как-то ночью меня выгнал из дому приступ бессонницы. Мне было абсолютно безразлично, куда несут меня ноги. И хотя я зорко следил за происходящим, это вовсе не означает, что я намеренно привел себя в состояние напряженной бдительности и внимания, как порой бывает, когда отправляешься на прогулку. Нет, в голове я прокручивал бездну всякой всячины, вынашивая один из тех блестящих внутренних разговоров, которые, когда их переносишь на бумагу, оседают на ней в виде сплошной глупости и банальщины.
Вдруг до меня дошло, что я кардинальным образом переместился — в пространстве, во времени, в мыслях. Воздушной струи из попавшегося на пути вентилятора оказалось достаточно, чтобы враз изменить направление потока идей, так яростно одолевавших меня какое-то мгновение назад. Словно внезапно очнувшись посреди глубокого сна, я понял, что существует два мира: тот, что смутно различает глаз, и тот, над которым ты все еще склоняешься, стоя на балконе, и куда тебе снова хочется нырнуть, но только, чтобы это сделать, необходимо усилие извне — какой-нибудь толчок, подсечка.
В церебральном и эмоциональном отношении у меня произошел сдвиг, как бывает при выходе из анестезии, и на волне этого сдвига я ощутил, что улица плывет в тумане. По асфальту растекалось наркотическое сияние фонарей, а от домов исходило влажное зловоние — удушливая смесь запаха отсыревшей штукатурки и овощной гнили. Люди в капюшонах и деревянных башмаках, с поблескивающими сквозь белую изморозь лицами, крадучись пробирались вдоль стен. Я миновал еще открытый бар. Свет едва проступал сквозь его запотевшие окна. Все дышало влагой и паром, казалось, даже сам асфальт разжижается, приобретая текучесть расплавленной галошной резины. В лиловато-синюшном свечении улицы, в этом воздухе, тяжелом и порой губительном для легких, я ощутил пульсацию города, биение неуловимого ритма, так похожее на биение сердца, только что вынутого из неостывшего тела.
Я оглянулся назад, на «Отель надежды», и увидел, что с его обветшалых, покрытых плесенью стен осыпается штукатурка и окна его гноятся. Мелькнули своими блестящими макинтошами двое полицейских. Угрюмые и молчаливые, они проскользили в тумане, словно гонимые рассветом призраки. Уличные фонари то вспыхивали, то гасли и, покачиваясь, разбрасывали мерцающие блики. Вонь сгущалась и становилась более едкой — горящие химикалии, вывариваемые дезинфекторы, пары лизола и карбида. В боковых улочках, заставлявших меня содрогаться, когда я их пересекал, огни слабеющими судорожными вздохами меркли в засасывающем тумане. На глаза мне попадались скрюченные фигуры, ползком пробирающиеся вдоль стен, — то ли калеки, то ли юродивые, а может, любовники, от скуки пытающиеся придушить друг дружку.
Улица тянулась и петляла, представляя с каждым поворотом и изгибом все новые и все более отвратительные гримасы. Казалось, она не ведет никуда и проникает всюду. Временами она разражалась ревом и визгом, а потом вновь умолкала, оглушая замогильной тишиной. Туман густел. Стены стали потеть обильнее. Я миновал кладбище, а за ним — скотобойню. И вот наконец вышел к Сене, которая зловеще колыхалась, сплошным потоком раздвигая берега и унося с собой грязь и безысходность одиночества. Когда я стоял, вглядываясь в воронки водоворотов, у меня появилось ощущение, будто я склоняюсь над клоакой страстей человеческих, а все те мерзкие гротескные здания, что, едва удерживая равновесие, балансируют у нее на краю, — это бойни, где совершается заклание любви.
Я вспомнил о дурацком названии моего отеля и механически направил стопы в его сторону. Назад я проследовал тем же маршрутом. Все изменилось. Будто я прошелся вверх тормашками или заглянул в телескоп не с того конца. Вместо вони я уловил музыку, если музыкой можно назвать то, что выделывала гармошка. Там, откуда доносились звуки, прислонившись к стене, стоял человек. С ампутированными по запястья руками. Он порывался наиграть вальс. Инструмент ходуном ходил в его культях — словно мешок со змеями. Вальс оборвался пронзительным стоном. Калека бросил гармонь и заковылял прочь.
У меня было такое чувство, будто я бреду во сне. Улица превратилась в стену, а вдоль стены, заложив руки за спину и понурив голову, шел человек. Во всем этом не было бы ничего сверхъестественного, если бы только стена не отливала тошнотворным потусторонним светом. Стена была, наверное, футов восемь-девять высотой. Мне бросилось в глаза, что человек был без пальто, с закутанной толстым шерстяным шарфом шеей. Вдруг я заметил, что он поднял голову, повернулся лицом к стене и замедлил шаг. Так он проследовал вдоль всей стены. Это собственная тень заставила его сбавить темп. Вон она, фантасмагорический гигант, распростершийся на стене парящим орлом. Наверное, он каждую ночь ходит на нее смотреть — дойдет до определенного места, замедлит шаг и затем, повернув голову, прошагает до конца стены. Даже если бы он стал это отрицать, я бы все равно остался при своем мнении. У него был вид человека, преследуемого собственной тенью. Какой-нибудь одержимый — другого объяснения я не нахожу.
Да и вся улица была одержима, а комната, где я жил, располагалась в загробном мире. Название отеля было вроде шутливой надписи на могиле. Дверь — кровожадной пастью на злобном лике. Как я выяснил, в соседнем доме изготовлялись гробы, а фабрика через дорогу производила дезинфекторы, которые потом доставлялись к черному ходу «Фоли-Бержер» и прочих увеселительных заведений.
Вдобавок мне стало известно, что хозяин был родом с Мальты и на нем лежит печать сатаны. Ветер дул большей частью с кладбища, и его порывы были как дыхание египетской чумы. Что-то неповторимое было даже в окрестных жандармах — все они одинаково косолапили при ходьбе. Но когда спускался туман, улица и впрямь обретала свой характер. И даже пульс.
Через день или два после появления материала в печати я получил от Сирила Конноли{67} письмо, где он поздравлял меня с восхитительным очерком и приглашал отобедать в его компании. Я послал ему pneumatique[45], поблагодарив за приглашение, которое я, однако, отклонил на том основании, что работаю по ночам и никогда не просыпаюсь к обеду. Полагаю, он остался недоволен моим отказом и некоторое время не давал о себе вестей. Возможно, он решил, что успех вскружил мне голову. Откуда было ему знать, что все дело в моей чрезмерной щепетильности в отношении незаслуженной похвалы. Не мог же я признаться, что это не я писал, — по крайней мере, на тот момент. Но мне было жаль хорошего обеда. В отличие от большинства моих друзей Сирил не страдал истощением кошелька; взыскательный гурман, он вполне мог позволить себе питаться в самых роскошных «обжираловках» Парижа. А обедать с ним — это было что-то! Даже просто наблюдать, как он совещается с метрдотелем и sommelier[46], было сущим наслаждением. Сирил знал, какие хорошие вещи можно купить за деньги, и, как правило, он их покупал. Меню и карту вин он изучал столь же скрупулезно, как генерал изучает план местности перед началом сражения. Помнится, однажды Конноли пригласил нас с Генри в ресторан «Пьер» на улице Гужон, по соседству с другим знаменитым рестораном — «Друан», где Гонкуровское общество вручало свои ежегодные премии. Это был один из самых незабываемых обедов в моей жизни. Я как сейчас слышу голос метрдотеля, подающего землянику и приговаривающего: «Le citron fait sortir le parfum de la fraise»[47].
Автор «Врагов обета» был, пожалуй, первым из популярных английских критиков, кто распознал в «Улице Лурмель» первозданную мощь Миллера. Моя подпись под очерком наверняка его озадачила. Он знал, что во мне и намека не было на первозданную мощь — для этого я чересчур цивилен. Я всего лишь художник, littérateur[48], Миллер же — ЧЕЛОВЕК! Вот в чем разница. Миллер ни во что не ставит искусство и литературу и жаждет от них избавиться. «С каждой написанной строчкой я уничтожаю в себе „художника“. Каждая строчка — это либо убийство первой степени, либо самоубийство». Такова позиция Миллера — яснее некуда. Я же чересчур культурен, испорчен культурой, чтобы совершать убийство или самоубийство. Я готов быть его учеником, но не могу следовать его примеру. «Ученик неизбежно предает учителя», — сказал где-то Миллер. Вероятно, так оно и бывает. Может, я и сам его предам, может, прямо в этой книге, хотя и написанной с любовью. Но даже если я это сделаю, я знаю — он меня простит.
Для такого знаменитого критика, как Конноли, Миллер — сила слишком необузданная, слишком необъятная, чтобы оказывать ему финансовую поддержку или отстаивать его интересы. Я вполне, и даже с чувством солидарности, могу себе представить, как Конноли презрительно воротит нос при одном упоминании некоторых книг, перечисленных Миллером в его эссе «Книги в моей жизни», в особенности когда тот разливается соловьем в адрес «одного романиста» вроде Райдера Хаггарда{68}. Понятно, что на официальном уровне ему придется откреститься от Миллера, хотя где-то в глубине души он наверняка чувствует колоссальную целостность Миллера и отдает ему должное. Это не значит, что я считаю Конноли неискренним. Напротив, он и искренен, и беспристрастен — два благородных качества, которыми должен обладать каждый критик. Не столько эклектизм и интеллектуальная независимость Конноли, сколько именно его беспристрастность обеспечила беспрецедентный успех возглавляемого им журнала «Горизонт». В Англии Миллер всегда был чуточку табу, и Конноли прекрасно сознавал это, когда опубликовал вызывающее эссе о нем Лоренса Даррелла. Тут потребовалась немалая доля мужества, которым обладает лишь незаурядный редактор.
Из-за вечного безденежья Генри не пренебрегал возможностью время от времени публиковать свои вещи под чужими именами. Как-то он признался мне, что в Нью-Йорке Джун довольно часто ухитрялась пристраивать его статьи и эссе под своим именем — Джун Мэнсфилд. Она успешно сбывала его продукцию — сам он никогда бы на это не сподобился. Ему было в высшей степени наплевать на восторженные отзывы, слава тоже его не прельщала: слава может и подождать, а вот очередной обед — вряд ли!
Если ему когда и удавалось сделать какие-то деньги, они все равно у него не залеживались. Он буквально бросал их на ветер. От случая к случаю кто-нибудь из его «публикаторов» приносил ему чек на приличную сумму. Но деньги не успевали даже согреться у него в кармане. Ему всегда казалось, что окружающие терпят гораздо большую нужду. Генри не был ни щедр, ни великодушен — просто он напрочь забывал о своих собственных нуждах. Он всегда мог выцыганить у кого-нибудь несколько франков на обед или бутылку вина. О себе он не особенно беспокоился. Да и о других тоже. Ему гораздо легче было позволить деньгам утечь сквозь пальцы, нежели зажать их в кулачке! Он избрал для себя путь наименьшего сопротивления. Расставаясь с деньгами, он никогда о них не жалел и раздавал с той же легкостью, с какой в детстве делился игрушками со своими бруклинскими друзьями. Бог дал, Бог и взял{69}.
5
Желая обеспечить Генри хоть какие-то денежные поступления на текущие расходы, я пристроил его в «Трибюн». В качестве корректора. Он умудрился вылететь оттуда в мгновение ока. Рассказывая о неудавшейся попытке добраться до Англии «маршрутом Дьепп — Ньюхейвен», он объясняет свое увольнение тем, что американскому гражданину якобы не разрешалось работать во Франции. Чушь, конечно: в то время в «Трибюн» числилось немало и американских граждан, и чужеземцев других национальностей (я и сам из таких). Почувствовав малоубедительность такой причины (он привел ее представителю Британской иммиграционной службы), Генри присовокупил, что вдобавок к своему американскому гражданству он еще и никудышный корректор. Звучит вполне правдоподобно, но в таком случае я тоже был никудышным корректором. Почему же тогда меня не увольняли?
Суть в том, что в действительности Генри не нужна была штатная должность. На пике финансовой безысходности он брался за любую работу, чаще всего поденную или почасовую. В короткой автобиографической заметке, венчающей английское издание «Космологического ока», он приводит длиннющий перечень специальностей, которыми ему довелось овладеть в прошлом: посудомой, половой, разносчик газет, посыльный, могильщик, расклейщик афиш, книгопродавец, коридорный, буфетчик, торговец спиртными напитками, переписчик, оператор счетных машин, библиотекарь, статистик, приютский служка, мастеровой, страховой агент, шафер, секретарь миссионера, портовый рабочий, трамвайный кондуктор, спортивный инструктор, молочник, билетер etc.
Понятное дело, такой мастер на все руки не годится в серьезные труженики. Генри ни в грош не ставил все эти лозунги на тему трудовой доблести. Работа, по его представлениям, способствует деградации, унижает и убивает — любая работа, кроме, конечно, работы по призванию. В этом он убедился еще задолго до того, как понял, в чем состоит его собственное призвание. Миллер испокон веку был посвященным, только ему понадобилось не одно десятилетие, чтобы понять, чему именно он посвящен.
Те дни, когда мы работали корректорами в «Чикаго трибюн», я всегда вспоминаю как самый благодатный период нашей парижской жизни. Дружба наша окрепла и превратилась в некий альянс. Что бы ни происходило, все было существенно и жизненно важно. Осмелюсь заметить, соотношение трин и секстилей{70} наших гороскопов оказалось как нельзя более благоприятным. Генри был как вулкан. Голова его так и бурлила идеями. Люди и идеи липли к нему, как пиявки. А размножались, как амебы. Он расцветал, приближаясь к пределу возможного. Ангел уже стал его водяным знаком{71}. Он познакомился с мадемуазель Лианой де Шампсор[49] и Анаис Нин — cet être étoilique![50]{72}
И еще он всерьез начал писать. «Мадемуазель Клод» вышла в третьем номере путнамовского «Нового обозрения» и имела колоссальный успех среди его семидесяти трех подписчиков. Генри стал весьма популярной личностью на Монпарнасе. Эва Адамс, приторговывавшая в монпарнасских кафе порнографическими изданиями и интеллектуальными журналами, представила его своим клиентам. Журналы продавались плохо — она использовала их главным образом для прикрытия порнографических книжек от недремлющего ока полиции. Но теперь у нее даже появились заказчики на «Новое обозрение». Генри Миллер — важная персона, решила она: не зря же о нем заговорили в прессе. Под этим она подразумевала тот факт, что Уэмбли Болд не обошел его вниманием в своей колонке.
Для Уэмбли Болда «Новое обозрение» было благом, так как оно означало возможность обогащения его дистрофичной колонки питательными веществами. Сэмюэль Путнам был другом Болда и использовал его в качестве бесплатного пресс-секретаря. Что в свою очередь было тому на руку, поскольку позволяло ему подбросить в свою колонку несколько имен ранга Эзры Паунда{73}, Ришара Тома, Джорджа Риви{74}, Сэмюэля Беккета{75}, Унамуно{76}, Джеймса Фаррелла{77}, Питера Нигоу{78}, Дона Брауна{79}, Роберта Штерна et alii[51]. Все, что он написал о «Мадемуазель Клод», фактически ограничивалось следующим (я снова цитирую из старого альбома с вырезками): «Исследование Генри Миллера о maquereau[52] уникально тем, что он использует в целях эксперимента простейшего червя. Неукоснительная объективность этого исследования гарантирует ему — как научному достижению — колоссальный успех». Не ахти как много, но и этого было достаточно, чтобы произвести впечатление на бесхитростное создание вроде Эвы Адамс. Она души не чаяла в Генри, который относился к ней с огромной нежностью и всегда позволял поплакаться себе в жилетку. Эва была стареющая лесбиянка, — по-моему, русская; несколько лет прожила в Америке, откуда ее в конце концов выдворили за анархизм, причем обвинение было основано на том, что она состояла в личной дружбе с Эммой Гольдман{80}. Эву радовала возможность поговорить об Эмме, потому как Генри тоже был большим ее поклонником. С Эммой Гольдман он познакомился в Калифорнии, в Сан-Диего, и это знакомство стало, по его словам, самой важной встречей в его жизни. «Она открыла для меня целый мир европейской культуры и дала очередной импульс моей жизни, равно как и направление», — писал он где-то.
У Эвы всегда можно было разжиться деньгами, за что Генри ее и ценил. Она охотно раскошеливалась на несколько франков, случись ему заявиться в «Дом» без гроша. Он никогда не занимал, вернее, даже и не пытался занимать большие суммы денег — пять — десять франков, не более, ну, может, когда и сотню, если чувствовал, что грядут добрые времена. Вот он и обхаживал тех, у кого можно было разжиться деньгами. Хороша была в этом плане, по его словам, dame du lavabo[53], например, или еще венгр, торговавший в «Доме» арахисом.
Кажется, «Мадемуазель Клод» — это его первый рассказ, напечатанный во Франции, во всяком случае первое литературное произведение, написанное им после того, как на нем начал сказываться парижский образ жизни. Вещь была написана легким, свободным, гладким слогом, изобиловала юмором и фантазией. Жаль, за неимением экземпляра не могу процитировать. Я даже забыл, в чем там суть. Помню только, что мадемуазель Клод была шлюхой. Подчеркивая и даже усугубляя данный факт, Генри, однако, умудрился вывести героиню настоящей леди, чуть ли не герцогиней. Его симпатия и сострадание не имели границ: он принимал на веру все, что ему рассказывали, и мастерски схватывал трогательное и пикантное в человеке, каким бы низким и жалким он ни был. Что меня особенно поразило, так это легкость, с которой он обелял мадемуазель Клод, превращая ее чуть ли не в святую. Уэмбли Болд и большинство покровителей Эвы Адамс видели лишь пикантный сюжет, что же касается тонких духовных ответвлений профессии проститутки, то это напрочь ускользнуло от их внимания.
Когда Сэмюэлю Путнаму пришлось отбыть в Америку по делам бизнеса, общую редактуру следующего номера «Нового обозрения» он оставил на нас с Генри. Номер был уже собран, и все, что мы должны были сделать, — это проследить, чтобы он вышел, как положено по инструкции. Путнам представил нас типографским служащим, потом, почти на бегу, надавал всякого рода рекомендаций, которые мы, как водится, выслушали вполуха.
Мы ликовали. Едва Путнам благополучно устроился в вагоне поезда, который должен был доставить его к пароходу, как мы кинулись перекраивать содержание нового номера в пандан к нашему игривому отношению к печатному слову. Отчего же не позволить себе такую дерзость, если мы абсолютно ничем не рисковали, кроме дружбы с Путнамом? Первое, что мы сделали, — это выкинули длинный, скучный рассказ Боба Макамена{81} и нудную, запутанную статью то ли о мировой революции, то ли о чем-то еще в этом роде. Не помню, кто автор, — может, и сам Путнам. На этой статье Путнам особо заострял наше внимание и предупреждал, чтобы в отношении ее мы проявили максимум аккуратности. И мы с максимальной аккуратностью исключили ее из оглавления. Я как раз тогда вернулся из Лондона, где провел коротенький отпуск, и привез в кармане стихотворение одной моей знакомой, Иды Грейвз. Я решил во что бы то ни стало поместить его в номер, даже если для этого придется пожертвовать чьими-то другими стихами. Великим знатоком поэзии я не был, и, возможно, стихотворение Иды не представляло собой никакой ценности, но у Иды была восхитительная грудь, а в подобных вещах я кое-что да смыслил.
Как бы то ни было, нам удалось превратить занудное, претендующее на интеллектуальность детище Путнама в живой, читаемый журнал, который Эва Адамс без труда могла бы сбагрить американским туристам. Мы уже собрались было нести номер в типографию, как вдруг нам пришло в голову, что мы могли бы вдобавок предоставить нашим читателям возможность тряхнуть мошной, предложив им бесплатное приложение к журналу. На пару с Генри мы написали манифест под названием «Новый инстинктивизм» и вознамерились бросить его в лицо ничего не подозревающему обществу. Это был фантастический, сумасбродный, проникнутый анархическим духом памфлет, написанный не столько в подражание предшествующим манифестам (дадаизма, сюрреализма etc.), сколько в качестве пародии. Кроме того, мы пообещали читателям грядущее издание «Новой инстинктивистской библии». Помимо первых «Писем Гамлета», «Новый инстинктивизм» — это единственная вещь, над которой мы с Генри трудились сообща. Ну и обхохотались же мы с ним тогда! Манифест открывался напыщенной ходульной декларацией независимости, долженствующей быть воспринятой как «смачный плевок в лицо человечеству» etc., вослед ей, страница за страницей, шли догматические пронунсиаменто{82}, аксиомы, диктумы, максимы и эпиграммы касательно всего, что есть под солнцем, — от шнурков ботинок до les maladies des voies urinaires[54]. Изъяснялись мы, естественно, не в самых изысканных выражениях: не довольствуясь злобными выпадами и обличением всего, что есть святого, священного и неприкосновенного, мы прибегали к тому, что принято деликатно называть «площадной бранью».
Когда в типографии увидели нашу разбухшую рукопись, там пришли в недоумение и послали серию оттисков Путнаму в Нью-Йорк. Это нанесло по «Новому инстинктивизму» смертельный удар. Путнам телеграфировал в типографию указание рассыпать набор манифеста. Он без колебаний уничтожил бы весь номер, но опоздал: тираж был отпечатан — все семьдесят три экземпляра. То, что мы выкинули рассказ Боба Макамена и «Мировую революцию» — особенно последнее, — он счел беспардонной выходкой. Как сейчас вижу его похоронную мину, когда мы встретились с ним по его возвращении из Штатов. Он уже не брызгал слюной. Он глубоко скорбел.
Что касается «Нового инстинктивизма», то от единственного экземпляра его пробного оттиска не осталось и следа, исчезла даже рукопись, что прискорбно вдвойне, так как я охотно процитировал бы один из наиболее показательных пассажей. Не то чтобы «Новый инстинктивизм» представлял собой что-то значительное — это была шутка, и только так мы его и воспринимали; в нем не было ни малейшего намека на тошнотворную серьезность, столь характерную для манифестов литературных течений. Все там упиралось в вопрос «за» или «против». Долой нейтралитет! Долой умеренное соглашательство! Долой серединную позицию между фанатичной поддержкой и ярым неприятием! Единственное, чем мы пренебрегли в нашем памфлете, — это политика. Политика — штука скверная, политика нам ни к чему.
Вся социально-политическая структура дебильна, ибо она основана на том, чтобы жить ради других, — утверждает Миллер в коротеньком эссе под названием «Мир! Что может быть лучше!». — Нормальному человеку не нужны ни правительства, ни законы, ни морально-этические кодексы, не говоря уже о линейных кораблях, полицейских дубинках, мощных бомбардировщиках и прочих глупостях.
То, что Генри так быстро вышвырнули с работы, не отрицает его необычайной популярности в «Трибюн» — как среди представителей высшего эшелона издательского отдела, так и среди типографских служащих и линотипистов низшего звена. Вообще-то сам он благоволил к последним — они ведь были французами и начисто лишены литературных амбиций. Его приводили в восхищение линотипные машины, особенно звук, производимый литерами, когда их загоняли в строку, — «как хруст серебряных запястий». После работы, то есть где-то в полтретьего ночи, мы обычно отправлялись закусить к «Жилло» на улице Ламартен, через дорогу от «Трибюн». «Жилло» — это ночное бистро, где кормились главным образом труженики ночи: газетчики, шлюхи со сводниками, а также прочий обязательный элемент опоры нашей социальной структуры. Но как велика разница между «Жилло» (не сомневаюсь, что бистро существует и по сей день) и «Черным» и «Белым» молочными барами на Флит-стрит!{83} У «Жилло» подавали поистине изысканные блюда: при одном лишь воспоминании о бифштексах, которые мы уписывали в три часа пополуночи, у меня слюнки текут — посмертно, так сказать. По ходу дела мы, естественно, выпивали несколько литров вина, как и полагается на банкете. Миллер во время этих маленьких сабантуйчиков был просто великолепен. Он так и блистал — особенно в легком подпитии — и завязывал дружбу и со шлюхами, и с их сводниками, и даже с представителями «высшего эшелона».
Отужинав и подкрепившись вином, мы, продолжая болтать без умолку, шли пешком до самого дома. Иногда к нам присоединялся и Уэмбли Болд, который тоже жил тогда на Монпарнасе. По пути к предместью Монмартра мы притормаживали еще в каком-нибудь из ночных кафе, чтобы пропустить очередной стаканчик, потом не спеша двигались по улице Ришелье к реке и пересекали ее по мосту Карусель. Случалось, что, когда Уэмбли пребывал в особенно любвеобильном настроении и не мог дотерпеть до Монпарнаса, мы шли в обход через рынок — Ле-Алль, чтобы дать ему шанс «подхалтурить» с одной из представительниц «женской бригады ночного патрулирования», как он величал их в своей колонке. А это подразумевало, что мы с Генри должны были принять в ближайшем бистро еще по чуть-чуть vin rouge[55] в ожидании, пока Уэмбли, отдавая дань природе, не посеет пару горстей дикого овса. Когда он воссоединялся с нами после своей мрачной авантюры, мы возобновляли шествие к дому, потчуемые живописными и довольно непристойными подробностями, на которые Уэмбли никогда не скупился, даже если ему просто случалось угодить в лапы какой-нибудь старухе-branleuse[56].
До Монпарнаса мы зачастую добирались не раньше шести утра. К этому часу мы уже созревали, чтобы слегка перекусить в «Доме» или «Куполи»: по парочке бараньих отбивных, по кусочку камамбера и по стопке блинов сверху. Ну и разумеется, еще по бутылке pinard[57], чтобы как следует выспаться.
6
Я так до конца и не понял, с какой, собственно, стати Анаис Нин понадобилось вступать в какие бы то ни было отношения с Осборном, — едва ли у них было что-либо общее. Познакомились они, надо полагать, на каком-нибудь светском сборище, и, зная, что Анаис принадлежит к артистической среде, Осборн, вероятно, не преминул козырнуть перед ней своим другом Генри Миллером. Ей решительно необходимо с ним познакомиться — скорее всего убеждал ее Осборн, а она скорее всего улыбалась и помалкивала. Вряд ли она ожидала от Генри чего-то особенного. Раз уж его рекомендовал и нахваливал Осборн, который был жутким занудой, то Генри наверняка просто очередной «мировой парень» американского образца — тип людей, так хорошо знакомый Анаис и, как правило, мало приятный в общении.
Я не присутствовал при их первой встрече, но, как потом выяснилось, сблизились они моментально. Эти двое являли собой два совершенно обособленных мира. Однако Генри сразу же атаковал Анаис, и она, податливая и послушная, потянулась к нему, безоговорочно приняв его лидерство. В одно мгновение они стали неразлучны, как Кастор и Поллукс. Иными словами, они еще не один счастливый год просуществовали порознь, сблизившись при этом настолько, насколько только могут сблизиться два существа, — за вычетом тех периодов страсти, когда секс совершает чудо биохимического синтеза. Стоит лишь мне подумать о Генри и Анаис, как в голове у меня возникает образ Кастора и Поллукса — звезд-близнецов, которые, когда смотришь на них издали, накладываются одна на другую, и кажется, что это одна звезда — только как бы в монокле.
Анаис была женщиной весьма неординарной. Не американка, хотя отчасти американского происхождения; не испанка, хотя отчасти испанского происхождения; не француженка, хотя отчасти французского происхождения, — она не была даже космополиткой, хотя объездила и все европейские столицы, и Новый Свет. То, что она родилась в Нейи, было чистой случайностью и француженкой делало ее ничуть не больше, чем испанкой. Пожалуй, она без ущерба для своего духовного облика могла бы родиться в любой точке земного шара.
Ее отец Хоакин Нин{84}, концертирующий пианист с мировым именем, постоянно находился в разъездах, гастролируя по столицам Европы и обеих Америк; семья сопровождала его повсюду. Сколько Анаис себя помнила, ее жизнь протекала в международных вагонах высшего класса, в которых она исколесила вдоль и поперек всю Европу; в роскошных отелях континента, где они зачастую останавливались лишь на одну ночь, чтобы следующим утром сесть на очередной поезд, уносивший ее прославленного отца в очередной город, к очередному триумфу. Хоакин Нин был великий артист, но и великий эготист в придачу — деспотичный муж и взыскательный отец. Анаис обожала его всем сердцем, и, когда, в возрасте девяти лет, ее с ним разлучили, она начала вести свой знаменитый дневник, посвященный отцу.
Она с первого взгляда распознала истинную сущность Генри Миллера. Ее интуиция граничила с ясновидением: от нее ничего нельзя было утаить. Временами Анаис больше поражала меня как колдунья или ведьма, нежели как женщина. Жестокая разлука с отцом причинила ей в детстве и отрочестве неимоверные страдания, и, очевидно, именно эти страдания и обострили ее интуицию, именно в них и выкристаллизовалось ее магическое летучее обаяние, которым она так успешно пользовалась в общении с людьми и даже с самой собой — в дневнике.
К тому времени как Анаис взошла на сцену, ее дневник разросся до сорока двух томов. Безусловно, это самый необычный из существующих документов подобного толка. На каждой странице она обнажает свою внутреннюю жизнь с такой откровенностью, какой не встретишь ни в одном из знаменитых женских дневников, да, впрочем, и мужских. Начав писать по-французски и по-испански, она впоследствии перешла на английский. Но коль скоро у Анаис не было определенной национальности, то она не владела ни одним конкретным языком. Она знала их с полдюжины, но ни один не был для нее родным. Не суть. Все равно она всегда изъяснялась на некоем супралингвальном {85}языке — единственно возможном для саморазоблачения. Генри был очарован.
Там есть строки, обреченные на бессмертие, — пишет он Анаис в письме, датированном «Клиши, 1933», — и не только строки, но и целые пассажи. Есть пассажи, совершенно, на мой взгляд, не поддающиеся толкованию, балансирующие на грани галлюцинации, безумия, дикого хаоса. Среди них есть настолько жестокие и отталкивающие, что начинаешь сомневаться в их человеческой природе: это уже не мысли и чувства — это голая сущность боли и злобы. Весь текст — как кровавая поллюция, оргазмический выплеск неведомого монстра, замешанный на змеях, алмазах, желчи, мышьяке. — (Миллеру был понятен супралингвальный характер ее языка.) — Даже если он звучит порой не по-английски, — пишет он в том же письме, — все равно это язык, и чем больше в него вчитываешься, тем очевиднее становится, насколько он уместен и необходим. Такое насилие над языком соотносимо с насилием над мыслью и чувством. Этого и нельзя было бы написать на том английском, которым с легкостью оперирует любой одаренный писатель. Тут понадобился твой собственный внутренний код, личное клеймо, и в той же мере, в какой понимают и ценят тебя, поймут и оценят тот странный язык, на котором ты пишешь. Вот почему, дочитав до определенного места, я счел затруднительным вносить в текст какие-либо кардинальные изменения. Если ты иногда и выражаешься туманно, то лишь потому, что те вещи, которые ты пытаешься облечь в слова, лежат за гранью языковых возможностей: твоя мысль не стала бы менее туманной, даже если бы ее попытался сформулировать Анатоль Франс.
Никогда еще не встречала она человека, который понимал бы ее так же хорошо, как, наверное, понимал ее Миллер; и его похвалой, и его критикой она упивалась, как божественной амброзией. В Генри Анаис нашла человека, которого искала всю жизнь. Раньше она часто обманывалась в людях; разочарование постигало ее всякий раз, как дело доходило до решающей проверки на вшивость. Она обманулась даже в собственном отце — человеке, вдохновившем ее на дневник. Тот, кого она почитала за Бога, в последнюю, решающую встречу проявил себя как старый педант, последний эгоист, полубольной, капризный Дон Жуан в отставке.
Тогда же появилась Лиана де Шампсор, щедрая, отзывчивая женщина, вскоре ставшая ангелом-хранителем Генри. Когда он познакомился с Лианой, она была хореографом в театре на Елисейских Полях, где проходили балетные сезоны. Этот вид искусства всегда притягивал Генри своим чарующим обаянием, и он был глубоко потрясен работой Лианы.
Однако ему казалось, что ее истинное призвание скорее в танце, нежели в режиссуре. Он разглядел в ней все данные прирожденной балерины и на первой стадии знакомства изо всех сил старался доказать ей, что у нее есть шанс стать выдающейся танцовщицей. В итоге она влюбилась в него как безумная.
Была ли она красива? Пожалуй, да, но чувствовалось, что ее подлинная сила не в красоте; красота была лишь побочным продуктом ее существа, точно так же как смоляная обманка является побочным продуктом дегтя. Мое чисто физиологическое воспоминание о ней — это томность, хрупкость, элегантность. Внешне она выглядела très femme du monde[58]: всегда изысканно одета и надушена; ее манеры, умение себя держать были безукоризненны. Правда, почему-то создавалось впечатление, что и духи, и одежду она использовала в качестве своего рода «дымовой завесы» — не для того, чтобы что-то скрыть, но чтобы себя обезопасить: без маски светской львицы она чувствовала себя обнаженной и уязвимой.
Генри моментально вскружил ей голову. Она страстно полюбила его со всем его писательством, с его отношением к жизни. Она подстраивалась под него в любой тональности и отдавалась ему с бесстыдством и непринужденностью, граничащими с самопожертвованием.
Генри наполнил ее до краев. С беззаботностью резвящегося демиурга он вдыхал ей в ноздри новую жизнь до тех пор, пока она не начала светиться белокалильным светом. Все это пока что оставалось аморфным и размытым в ее кристаллизующейся воле. Она напоминала те удивительные японские чудо-семена, которые, если бросить их в вазу с водой, на ваших глазах превращаются в деревья. Она росла, набирала вес — и новое достоинство. Генри оплодотворил в ней каждую артистическую яйцеклетку.
Как это ему удалось? Никто не знает. Да он и сам не знал. А знал бы, так, вероятно, ничего бы у него не вышло. Как будто бы сама природа наделила его некоей таинственной и пока еще не до конца понятой силой — своего рода магнетизмом, — манипулировать которой был способен только он один, потому как был оснащен специальной антенной, настроенной на прием волн особой длины. Это было такое же чудесное явление, как левитация{86}, но в то же время и такое же простое — для посвященных, разумеется.
Миллер, как я уже говорил, умел быть блистательным и искрометным оратором, но, что странно, его чудодейственная сила, которой я только что посвятил несколько строк, в такие минуты никак не проявлялась — она затухала, глохла, как мотор на холостых оборотах. Словно сама природа — или то, что ею управляет, — противилась его попыткам светить за счет собственной силы света. Чудо происходило, когда он с неотрывным и сосредоточенным вниманием выслушивал, как другие рассказывали ему о своих страданиях, когда, прослушав довольно длительное время, он снимал очки, чтобы смахнуть набежавшую слезу (глаза его при этом сожмуривались в две узенькие щелки), когда затем протирал очки, прежде чем снова их надеть, когда своим мягким, мелодичным голосом произносил лишь «так-так-так» или довольствовался басовым ритмичным «хм!», а то и вовсе ограничивался простым прихрюкиванием. Вот тогда-то и свершалось чудо. «Хм!» было важнейшим элементом его речи: этим «хм!», как нотный стан — ключом, открывалась чуть не каждая его фраза. Он никогда не говорил: «Скверно!» или «Недурно!», но непременно: «Хм… Недурно!» или «Хм… Скверно!». Чародейство Генри балансировало между его вниманием и звучанием его голоса. Он был кудесник, шаман. Какой-нибудь Распутин, но Распутин, ставший на истинный путь, Распутин скорее китайского образца, нежели русского, Распутин с прививкой «дао»{87} в крови.
Генри и Лиана виделись часто, почти каждый день, и каждый день подолгу говорили — об искусстве, о книгах, о любви, а когда, припозднившись, расставались, то обнаруживали, что предмет разговора еще далеко не исчерпан, и срочно кидались писать друг другу длиннющие письма. Но ни письма, ни беседы не могли восполнить той магии, что таилась в миллеровских «хм!» и «гм!», в его по-клоунски серьезном лице, когда он кивал головой на манер китайского мандарина или одного из «Двух болванчиков»{88}.
Лиана так и лучилась счастьем. Она, как бенгальский огонь, шкварчала и искрилась новой жизнью, инъекцию которой ей сделал Генри. И ее ответный élan[59] был отмечен щедростью и величием души, оказавшимися как нельзя более под стать его собственным. Ибо она тоже обладала талантом отдавать, и что бы она ни отдавала, преподносилось с грацией и непринужденностью, отделяющими экстравагантность даяния от даяния как такового. Сразу появлялось смутное ощущение необходимости за что-то поблагодарить, но было непонятно, за что. Ибо вам бы и в голову не пришло, что вас облагодетельствовали ценным подарком, — так скромна и изысканна была манера Лианы преподносить дары. И никакой показухи! Ни бантиков, ни золотых шнурочков, ни оберточной бумаги! Лиана умела вручить подарок с поцелуем или окутать его неуловимой нежностью, вложить в невысказанное слово — или подложить, как боб в рождественский пирог.
Мне никогда не забыть ее рук — самых прекрасных и выразительных рук на свете, рук, которые всегда «аккомпанировали» ей, когда она жестами прокладывала себе путь в своей собственной, личной вселенной. У нее были руки балерины, кем она, в сущности, и являлась, и они были живые, словно языки пламени. Они говорили с сердцем и никогда не оставались в покое; если же они не говорили, то мечтали. Это были руки, живущие самостоятельной жизнью. Руки, которых не заслуживало ни одно земное создание, руки, чересчур прекрасные, чтобы воздевать их в молитве.
Своими руками и сердцем она отдавала Генри все, что могла. Она почти унижалась в своем повиновении его воле — унижалась и возвеличивалась. Отныне ему принадлежала вся ее жизнь. Лиана посвятила ему все свои чувства, все надежды, свое возрождение и родовые муки, все травмы и потрясения прошлого и будущего. Она преподнесла ему себя во всей своей полноте. На золотом блюде, причем без всякой задней мысли. Она даже давала ему деньги.
Он все принял с присущей ему беспечной простотой. Без всяких там «merci», «благодарю» или «а вас это никак не ущемит?». Он всегда без колебаний принимал все, что ему предлагали. Он бы и сам, разумеется, точно так же повел себя по отношению к ней, поменяйся они ролями. Он вообще никогда не разводил церемоний, принимая или вручая подарки. А уж о его отношении к деньгам и говорить не приходится — оно было в высшей степени естественным. Какой смысл, когда сидишь без гроша, отказываться от денег, даже если их предлагает женщина? В этом отношении он был весь в отца, которого так нежно любил.
Меня всегда восхищало в моем отце его отношение к деньгам, — пишет Миллер в трогательном рассказе «Воссоединение в Бруклине» — оно было ясным и честным. Когда имел, он давал — причем мог не оставить себе ни цента, а не имел — занимал, если мог. Он, как и я, никогда не мучился угрызениями совести, когда приходилось просить, потому что сам всегда первым приходил на помощь, если кто-то попадал в беду. Да, финансист он и впрямь был никудышный; да, дела у него и впрямь шли из рук вон плохо. Но я рад, что он был таким, и, пожалуй, ненормально было бы считать его миллионером.
Любить — это значит брать и отдавать, ибо брать так же важно, как и отдавать, и наоборот. Суть в том, как брать и как отдавать. Что касается Генри и Лианы, то они были одинаково хороши и как берущие, и как дающие, хотя делали это каждый по-своему. Лиана просто бросилась в его объятия и вверилась его уму, предоставив обладать собой на всех уровнях бытия. Но она преподнесла себя как личный дар — дар, переданный одним человеком другому; она любила Генри, как это и полагается женщине, — в первую очередь на личном уровне. Ее любовь была вещью осязаемой, почти столь же осязаемой, как мне иногда кажется, сколь и те дорогие игрушки, которые в детстве Генри так запросто раздавал своим маленьким бруклинским друзьям. В любви Лианы было что-то от фетишизма: все, что она отдавала, всегда принадлежало ей лично.
Генри же, наоборот, отдавал то, что, строго говоря, ему не принадлежало, — то, чем он владел только как хранитель. От него акт даяния не требовал такого порыва щедрости, как в случае с Лианой. Имеющимися у него силами он распоряжался не как собственник, а только как доверенное лицо. Конечно же, он обладал pleins pouvoirs[60]: природа, так сказать, избрала его своим личным представителем. То, что он делал для Лианы, не стоило ему ни труда, ни затрат — это было так же элементарно, как сотворить чудо. На то оно и чудо, чтобы его сотворение не предполагало никаких усилий, — то есть если ты кудесник, разумеется. Все, что Лиана сделала для Генри, она не сделала бы ни для кого другого. Генри же не сделал для Лианы ничего такого, чего не сделал бы для любого другого, будь это даже случайный прохожий.
Это различие было важным моментом их отношений, потому что оно несло в себе семена последующих страданий. Женщины, даже столь выдающиеся в своем совершенстве, как Лиана де Шампсор, — это лунные создания с ярко выраженным хватательным рефлексом. Генри же был существом солярным — сплошной свет и тепло. Его безразличие происходило из врожденной пресыщенности; ее любовь — из элементарного недоедания. Она нуждалась в нем больше, нежели он в ней. Расхождение имело место не только в ценности преподносимых даров, но и в силе эмоций, с которыми они принимались. Причем расхождение это гораздо острее проявлялось на низшем уровне сознания. В духовном плане Генри с Лианой могли общаться вполне на равных, но когда дело доходило до более приземленных чувств и непосредственного контакта, то тут совпадение их взаимных претензий сводилось к минимуму.
Грубо говоря, в Лиане ему не хватало сучизма. Она была слишком хороша для него и слишком безупречна в своем отношении к нему. Ни ее привлекательность, ни утонченность, ни безудержная страсть не могли заменить Генри тех особенных мук, которых он постоянно жаждал и которые были для него незаменимым ингредиентом счастливой любви. Лиана же, в силу своей природы, была в принципе не способна причинять страдания. Я не хочу сказать, что Генри был страдальцем в невротическом смысле, — отнюдь нет. По-моему, он вообще не страдал от своих страданий. Генри был счастливчик — прирожденный счастливчик, он сам постоянно об этом твердит. Однако ведь и впрямь надо родиться в рубашке, чтобы выжить после всего, через что он прошел. Страдание не идет во благо, если не уметь ему противостоять, но оно приносит неоценимую пользу, когда выходишь из него победителем. Генри это всегда удавалось. Он жил, чтобы ему было что рассказать. Продукт его жизнедеятельности — это, помимо всего прочего, повесть о юдоли человеческой.
Лиана отлично знала о страсти Генри к Джун, да он и не пытался что-либо от нее скрывать. Более того, он ее мучил — невольно, без всякого намерения причинить боль, — посвящая ее в самые интимные подробности его отношений с Джун. Было что-то сатанинское в его откровенности и naïveté[61]. Лиана не питала иллюзий по поводу его привязанности к Джун и в своей доброте готова была даже отпустить его к ней. Джун по-прежнему оставалась в Нью-Йорке, и Лиана не сочла для себя зазорным оплатить ее путешествие в Париж. Я, разумеется, делал все возможное, чтобы ее отговорить.
7
Помню свою первую встречу с Лианой на вокзале Сен-Лазар. Если быть точным, я и раньше виделся с ней пару раз, но тогда оркестр, с позволения сказать, еще только настраивал инструменты. Она назначила мне свидание в просторном зале под стеклянной крышей. Мне предстояло сопровождать ее в «Галереи Лафайета»{89}, где мы собирались подобрать портьеры, или что-то в этом роде, для квартиры в Клиши, куда мы с Генри должны были вот-вот въехать.
Ее поезд задерживался, и, когда она наконец прибыла, я сразу же понял, что в «Галереи Лафайета» мы сегодня не пойдем. Она с ходу заговорила о Джун. Лиана еще ни разу не видела жену Генри, но уже всецело была в ее власти. Она знала всю ее подноготную — тут уж Генри расстарался, — особенно в отношении постельных сцен.
Лиана казалась несколько взбудораженной. Ее лицо, обычно счастливое и безмятежное, принимало порой выражение боли и обиды, словно у ребенка, ожидающего наказания непонятно за какие грехи. Говорила она мало и довольно сбивчиво; ее голос был непривычно атонален. Зачастую она спотыкалась посреди фразы, будучи не в состоянии ее закончить. Страсть Генри к Джун явно причиняла ей беспокойство.
Я старался ее утешить. Поскольку я узнал Джун гораздо раньше, мне не стоило труда разобрать ее по косточкам. Я изобразил ее лгуньей и тупицей. Я представил ее одной из бесчисленных Monas Païvas[62]{90} из Восточной Европы и Малой Азии, которые при любых обстоятельствах умеют отлично устроиться на Западе. Femme fatale [63] из грошового романа ужасов. Крысиные мозги при красивой груди. Еще бы Генри на нее не клюнул! Она наставляла ему рога направо и налево и даже не удосуживалась это отрицать. Конечно, она еще и привирала, но только потому, что не могла не лгать. Ложь была ее стихией. Она лгала всем и каждому, включая самое себя. Она была так же зависима от лжи, как проститутка — от грима. Разумеется, во всем этом Генри видел особый шик. Ведь на том и стоит le grand amour![64] В ее лжи он как раз и усматривал вернейшее доказательство ее любви. «Больше всего мы лжем именно тем, кого любим, а может, и только им». Он откопал эту строчку у Пруста, чем и утешился.
Лиана слушала с весьма характерным для нее выражением внимания на лице, вмещавшим в себя столько боли, столько надежды, столько благодарности. У нее было изящное, маленькое личико, имевшее форму чуть скривленного овала, отличающего портреты модерна. Участливая заинтересованность придавала ее облику какую-то декоративно-нервозную привлекательность. Она взяла сигарету и закурила, часто затягиваясь. Курила она только в состоянии беспокойства и чрезмерного возбуждения.
— Да как он мог забыть о той жизни, что они прожили вместе, ту горечь счастья, что ощущаешь на пределе страдания! — воскликнула она. — Если Джун была таким чудовищем, как ты говоришь, то как же тогда он мог так сильно ее полюбить?
— Не знаю. По-моему, Генри и сам не знает. Дело в том, что мы никогда не имеем четкого представления о человеке, которого любим. В противном случае мы бы, вероятно, не так легко влюблялись. У меня есть подозрение, что его Джун в действительности не существует, — в смысле, он сам ее создал, из пустой раковины.
— То есть как это «не существует»?! — выкрикнула Лиана, сопровождая вопрос нетерпеливым жестом. — Она вполне реальная женщина — ее вовсе не надо изобретать!
— Вот и Генри так считает, но он ошибается, — сказал я, любуясь ее прекрасными руками с длинными, нервными, интеллигентными пальцами, оканчивающимися малиновыми ногтями, похожими на танцующие капли крови. — Понимаю, это не слишком тебя утешит, но я все-таки попытаюсь кое-что объяснить. Видишь ли, Генри совсем не так прост, как мы порой склонны полагать. У него очень богатое воображение, сложная эмоциональная организация. Джун просто посчастливилось придать его прихотливому воображению конкретную направленность — именно потому, что она есть нечто несуществующее, пустая раковина. Эта ее пустота как раз и позволила Генри ее вылепить. Она была как чистый лист бумаги, заправленный в его пишущую машинку, ну а нам ли с тобой не знать, на что он способен, когда у него под рукой есть хотя бы один чистый лист и пишущая машинка? Ее пустота дала ему возможность развернуться, а с тобой, дорогая Лиана, у него бы это не прошло — хотя бы потому, что ты уже существуешь в праве своем: ты преисполнена собственной индивидуальности, ты — самоценна. Что касается Джун, то она никогда не представляла и не представляет самостоятельной ценности.
— Оригинально! — рассмеялась она. В обыденной речи голос Лианы приобретал свойство странной атональности, словно в ее речь была вовлечена только часть голосовых связок, но смеялась она во все горло — точно целое гнездо щебечущих птиц. — Ты рассуждаешь, как Стендаль. Ну и каким же образом, скажи на милость, Генри творит свою женскую половину? — добавила она с легким сарказмом.
— Самым обычным — вдыхая жизнь в ноздри, как сказано в Библии. Это, конечно, палка о двух концах: играя с творческим гением, всегда можно нарваться на неприятности. Ведь даже сам Господь Бог, сколь бы всемогущ и всеведущ Он ни был, подвергал Себя определенному риску. Библейские сказания, представляющие Господа Бога жестоким старым деспотом, неубедительны. Какое же удовольствие может извлечь создатель из того простого факта, что его детище всецело остается в его власти? Да никакого! Он должен идти дальше. Создав творение, создатель должен устраниться. Цель акта творчества — дарить жизнь, не более. Перерезав пуповину, необходимо предоставить своему детищу дальше следовать своим ходом. Но ведь как он, создатель, поступает в том случае, если все идет не как по писаному? Всякий уважающий себя создатель должен отпустить свое потомство на все четыре стороны, иначе какую славу он может снискать у замаринованных в раю херувимов? Ты ведь понимаешь, Лиана, к чему я клоню? В глубине души Генри наверняка сознает, что Джун — последняя сучка, но он не в силах ее изменить. Он жертва собственного детища!
Лиана с нетерпением дослушала мои пространные разглагольствования.
— Все, что я знаю, — это что у меня голова идет кругом! — воскликнула она. — Тебе известно, что он по-прежнему присылает мне копии всего, что пишет? Вчера вечером пришла очередная порция — тридцать страниц в один интервал о страсти к другой женщине! Я читала и перечитывала их всю ночь. — Слезы показались в ее глазах, когда она снова заговорила срывающимся голосом. — Для меня такая пытка читать всю эту писанину, и все же я читаю с удовольствием. Он употребляет слова, которые режут меня по живому. У него есть строчки, отравляющие мои мечты, — мелкие интимные штрихи ее поведения, ее манерность. О боже, Фред…
Она расплакалась прямо посреди просторного salle des pas perdus[65], a мне нечего было сказать ей в утешение.
— Да полноте, Лиана, полноте, полноте, — твердил я, как идиот.
— И все, что ты мог придумать, — это сказать мне, что он ее выдумал! — в сердцах крикнула она, задыхаясь от рыданий. — Какая разница, любит он реальную женщину или всего лишь проявленный женский образ, если ни одна из них не я?
— Разницы никакой, — согласился я.
— Странно, что я не могу заставить себя ее возненавидеть, — мрачно продолжала она. — Можешь ты понять, что на самом деле я сама в нее влюбилась?
— Лучше бы ты влюбилась в меня, — ответил я шутливым тоном. — Хотя бы чуть-чуть, чтобы проучить этого олуха. Заставить его ревновать… глядишь, он бы и опомнился.
В ответ на мое предложение Лиана рассмеялась и заявила, что на ее вкус это чересчур банально.
— Я бы скорее воплотила все это в танце, — присовокупила она с самоуничижительной улыбкой.
Ее дом в Шантильи{91} был тих и прекрасен, словно заколдованный замок. Вижу, как она сидит за письменным столом на узком, в стиле Людовика XIII, стуле с высокой спинкой, устремив взор в глубину того самого личного мира, в котором все видится в ином свете — свете не очень реальном, окрашенном безымянным цветом. Необыкновенной белизны руками она украшала свое эфирное существо для бракосочетания, которому так и не суждено было состояться. Даже ее мысленные образы приобретали какой-то магический аспект — как те предметы, что существуют лишь отраженными в спокойной глади водоема. Из чистой деликатности она могла самой себе говорить вещи, которых, из чистой же деликатности, не могла сказать никому другому.
8
Все тот же каменный мешок…
Надежда — штука скверная. Значит, ты еще не стал кем хотел. Значит, что-то в тебе мертво — если не все. Значит, ты тешишь себя иллюзией. Это какой-то духовный триппер, я бы сказал.
Мудрость эта извлечена из эссе «Мир! Что может быть лучше!», и я привожу ее здесь, поскольку у меня всегда было подозрение, что Генри умышленно культивировал ситуацию «каменного мешка»: видимо, она отвечала той любопытной мазохической струнке в его духовной структуре, о которой я уже имел случай упомянуть. Или, может, он просто чувствовал облегчение, когда упирался в стену: значит, дальше все пойдет на лад. Ему никогда не приходило в голову, что рядом, напротив стены, может оказаться взвод стрелков, снаряженный для приведения в исполнение смертного приговора; он бы и ухом не повел при звуке команды «пли!». В глубине души он был таким отчаянным оптимистом, что не терял надежды даже в безнадежности.
Так, стало быть, каменный мешок — но теперь уже каменный мешок иного сорта! Каменный мешок с шелковисто-резиновым подбоем, уютный, как роскошное чрево, с мягкими канапе и тростями, ночниками и «Словарем XX века» Шамбера, кофемолками, галошами и часами с кукушкой. Ну а трехразовое питание было ему почти гарантировано.
Генри разрешил наконец проблему кормежки, и, между прочим, весьма хитроумным способом. На все сто. При том, что он был американцем, ему хватало германских атавизмов, чтобы устранять проблемы методично и раз и навсегда. Он заключил уговор с друзьями и занес их имена в картотеку — по карточке на каждого, по двое в день: один — на обед, другой — на ужин. В случае двухразового питания (с завтраком он и сам мог справиться) ему требовалось всего четырнадцать друзей, при условии что каждый будет обеспечивать ему кормежку раз в неделю. К этому времени друзей у него набралось гораздо больше четырнадцати, так что ему не стоило труда произвести среди них отбор наиболее сведущих в изысках cuisine bourgeoise[66]. Затем он установил график очередности и уведомил всех, с кем решил делить трапезу, о дне и часе своего визита. Все оказалось элементарно. С четырнадцатью друзьями он управлялся, как Белоснежка с семью гномами. И все были необычайно рады видеть его у себя за столом. Генри был отличной компанией: за кормежку он щедро расплачивался разговорами, а иногда разыгрывал клоунаду или, как бы взамен чаевых, совершал маленькое чудо. Временами он даже гулял с детьми хозяев дома. Или же мыл посуду и делал уборку, а то и занимался любовью с хозяйкой. Он никогда не упускал случая сделать ответный жест.
Генри больше не жил у Осборна на Марсовом поле. Признаться, ménage â trois[67] оказалась совершенно неприемлемой. К тому же при своем неугомонном характере он постоянно нуждался в смене декораций. Адреса он менял, как беглый каторжник.
На данный момент ему повезло. Он снял вполне благопристойную квартирку на Вилле Сёра{92}. Иначе говоря, Майкл Френкель, которому принадлежал дом, выделил ему угол в собственной гостиной. Место было замечательное — просторная мастерская с примыкающими к ней спальней, ванной комнатой и кухонькой, оформленной в изящном вкусе.
Майкл Френкель был занятный тип, и мы с Генри любили его и ненавидели. Обращались мы с ним по-хамски: внаглую эксплуатировали, беззастенчиво обжуливали, оскорбляли, глумились над ним — словом, ни во что его не ставили. Он был идеальной добычей для такого пирата, как Генри. Надо, однако, заметить, причем теперь же и немедленно, что, несмотря на все те подлянки, что мы ему устраивали, он был Генри настоящим другом. Если Френкель когда-нибудь прочтет этот «протокол» той беззаботной, полной озорства жизни, когда мы были молоды, веселы и счастливы, — а он непременно это сделает, — я хочу, чтобы он знал, что где-то в глубине души — гораздо ниже уровня нашей бессердечности — мы питали к нему самые нежные чувства. Честно могу сказать: каким бы сложным, загадочным, невротичным, сварливым, перекошенным, перекореженным человеком он ни был, нас он все же покорил. Вне всякого сомнения, он полностью отдавал себе отчет в наших хулиганских выходках и плутнях. И то, что он потакал нашим слабостям и даже по-своему их поощрял, только делает ему честь.
Френкель был наиболее парадоксальной личностью из всех, кого я знал: будто бы он одновременно находился во власти Святого Духа и Аримана{93}; его в равной степени притягивало и бренное, и нетленное. Будучи натурализованным американцем русского происхождения, он сколотил себе скромное состояние, занимаясь книжной торговлей, а потом умножил его на фондовой бирже. Он был не из тех, кто безрассудно разбазаривает с трудом нажитое добро.
К тому времени как мы оказались в одной связке, его уже не заботила проблема приумножения капитала. Теперь все свое время Френкель посвящал философским исканиям. К этому он пришел сложным путем. Мальчишкой-иммигрантом он торговал газетами на улицах Нью-Йорка и без отрыва от работы умудрился закончить колледж, а затем, в довольно юном возрасте, получить место преподавателя английского языка в одном из тамошних учебных заведений. Он был прирожденный поэт и незаурядный ученый. В его крови жила вековая склонность к наукам и логике.
В настоящий момент главной темой философских изысканий Френкеля была смерть во всех ее проявлениях, но большей частью — смерть духовная. Он обладал поистине феноменальной способностью докапываться до мелочей, и, если ему удавалось ухватить кого-нибудь за пуговицу на часок-другой, он чувствовал себя самым счастливым философом на свете. Генри подходил для этой цели как никто другой. С Генри Френкель мог копаться в мелочах сколько душе угодно. Разделяя его пристрастие, Генри возился с ним, как нянька, подзуживая и подстрекая его, как последний подлец. В отсутствие Генри ему приходилось довольствоваться менее подходящим спарринг-партнером. Иногда он снимал проститутку в районе Порт-д’Орлеана, затаскивал ее к себе и, заплатив по сходной цене, о которой они сговаривались после долгих препирательств, совершенно забывал о ее женских прелестях и пускался в пространные разглагольствования на свою любимую тему. Проститутка, разумеется, не могла взять в толк, куда он клонит, и, возможно, принимала его за извращенца нового типа, но раз уж она приняла от него плату вперед, то профессиональная честность обязывала ее повиноваться прихоти клиента и принять на себя все тяготы этого эксцентричного жанра половых сношений.
В дополнение к многотомной громаде своей поэтической продукции Френкель написал несколько книг, одна из которых как раз тогда вышла в свет. Называлась она «Младший брат Вертера»{94}; вслед за ней должна была выйти еще одна, под названием «Незаконнорожденная смерть». Младшим братом Вертера, разумеется, был сам Френкель, совершающий духовное самоубийство — в противовес своему старшему брату, гётевскому Вертеру, который скромненько удовольствовался тем, что пустил себе пулю в лоб. Написаны книги были изумительно: четкий, сжатый язык отлично сочетался с изяществом стиля, чего почти не наблюдается при непосредственном общении с подобными субъектами. Не один вечер провели они с Генри за обсуждением всех этих психонекрофилических тем. Целыми часами Генри критиковал, анализировал и суммировал тексты Френкеля, и зачастую их «прения» затягивались до первых лучей утренней зари.
Внешне Френкель был вылитый Троцкий{95} — только Троцкий в миниатюре. Тщедушное сложение, тонкое и невероятно белое лицо, бледность которого усугублялась за счет эспаньолки{96} и косматой гривы черных как смоль волос. Дома — а дома он проводил большую часть дня — Френкель носил замызганный коричневый халат со следами пищевых отходов, в котором был похож на ученого монаха-отшельника аскетического толка. Вечерами же, выходя из дому, он надевал полосатые брюки и черное пальто, и тогда его можно было принять как за финансового магната, так и за ученого-талмудиста.
В то время он доводил до ума окончательный вариант длинного эссе под условным названием «Сводка погоды». Тема, конечно, обычная — еще чуть-чуть смерти, еще чуть-чуть духовного самоубийства. Тут уж он вволю покуражился — распоясался, как подгулявший пьянчужка. Не знаю, было ли это эссе — а в действительности целая книга, поделенная частей на двадцать семь, — когда-нибудь опубликовано и под каким названием. Зато я с уверенностью могу сказать, что «Сводка погоды» стала нашей коронной шуткой. От нее даже попахивало идеологией. «Как сегодня погода!» — с озорной искрой в глазах говорили мы друг другу при встрече вместо обычного «Как поживаешь?» — под стать тогдашним неонацистам, молодцевато приветствовавшим друг друга возгласом «Хайль Гитлер!».
Что касается денег, то Френкель, как я уже вскользь упоминал, был на редкость прижимист. И тем не менее мы с Генри как-то ухитрялись извлекать материальную выгоду из нашего интереса к его погоде. Едва ли он мог рассчитывать, что мы будем на голодный желудок проявлять энтузиазм в отношении климата его души. Надо сказать, он жутко страдал, когда ему приходилось в ответ на притворную лесть, которой мы щедро его потчевали, обеспечивать нам бесплатную кормежку. Миллер был крайне необходим Френкелю для обсуждения наиболее острых спорных моментов «Сводки погоды», и тут из нас двоих он обычно предпочитал Генри, хотя я-то уж больше подходил для этой цели, чем порт-д’орлеанская шлюха. Если я не всегда вникал в его заумные теории, то у меня хотя бы хватало ума делать вид, что я все понимаю. А так он жил полноценной жизнью. Временами ему даже удавалось казаться веселым и создавать видимость спонтанности. Разумеется, до тех пор, пока мы не просили у него краткосрочной ссуды. В «Тропике Рака» Миллер дает выразительное описание такой ситуации:
Еда — это одно из тех удовольствий, которым я предаюсь с величайшим наслаждением. А на нашей восхитительной Вилле Боргезе — хоть шаром покати. Временами это просто парализует. Сколько раз я просил Бориса заказывать хлеб к завтраку, но он вечно забывает. Похоже, он завтракает где-то на стороне. Домой он возвращается ковыряя в зубах и с застрявшими в эспаньолке остатками яйца. Обедает он в ресторане — из уважения ко мне. Ему, видите ли, неудобно уплетать за обе щеки, когда я смотрю ему в рот.
В моем коротеньком рассказе «Всеми правдами и неправдами»{97} я касаюсь той же самой деликатной проблемы.
Нам понадобился целый день, чтобы проштудировать Пункт первый «Климата метафизики». Всего в книге было двадцать семь пунктов, каковые при разумном подходе могли бы обеспечить мне трехразовое питание в течение двадцати семи дней. А что, собственно, мешает растянуть процесс на двадцать семь лет? Борис готов был кормить меня, пока я способен расточать ему похвалы. Я быстро понял, что он не спешит заканчивать книгу. Все, что ему было нужно, — это лесть, панегирики, похвала. Если я шесть часов кряду нахваливал одну-единственную фразу из его гениального труда, с ним было все о’кей. Особенно он любил, когда я в подтверждение своего аргумента приводил его же собственные суждения. Его налитые кровью, ренегатски поблескивающие глазки всякий раз увлажнялись слезой благодарности, стоило лишь мне процитировать какое-нибудь его изречение. А цитировал я при каждом удобном случае, как, наверное, семинарист цитирует пассажи из Нагорной проповеди{98}. В те дни, когда мне слегка поднадоедало славословить, я получал свиные отбивные. А когда я был в ударе и без конца сыпал цитатами из «Климата метафизики», меня ждал заказной говяжий филейчик со спаржей. Потом уж я навострился цитировать Бориса, согласуясь со своим аппетитом и пропускной способностью пищеварительного тракта.
Генри всегда обращался с Френкелем с небрежным добродушием, порой даже довольно бесцеремонно. Он знал, как с ним себя вести, и знал, чего можно от него ожидать, а чего нельзя. В частности, денег. Это не значит, что Френкель не раскошелился бы, прояви Генри чуть больше настойчивости. Но Генри никогда не настаивал: он считал, что дешевле обойдется, если подсобрать ту мелочь, что валялась у Френкеля по углам, или даже пошустрить у него по карманам. В этом отношении Генри не испытывал ни малейших угрызений совести: он ведь не крал, как тать в ночи, а просто заимствовал по крайней нужде — на проезд, на бутылку вина или на обед в ресторане без метафизики на десерт. Через некоторое время он даже стал находить удовольствие в том, чтобы почистить карманы своего друга, и продолжал «ходить на дело» уже просто из спортивного интереса, как иные ходят пострелять уток. Иногда я «стоял на шухере», отвлекая внимание Френкеля восхвалениями его «Сводки погоды», пока Генри шустрил по карманам. Ему и в голову не приходило, что он делает нечто постыдное. А когда на него сваливалось непредвиденное богатство, он всегда изыскивал способ вернуть «награбленное». Операцию по возврату денег Генри называл «прикарманить наизнанку».
— Сегодня нам предстоит кое-что вывернуть наизнанку, — говорил он, получив неожиданный чек, и разъяснял план операции: с точки зрения спортивного интереса все должно было происходить действительно «наизнанку». Теперь Генри должен был заговаривать Френкелю зубы, приковывая его внимание к «Сводке погоды», в то время как в мою задачу входило извлечь кошелек из нагрудного кармана пальто нашей «жертвы». Только вместо того, чтобы выпотрошить его как обычно, я должен был сунуть туда пару сотенных купюр.
— Ну, Джои, как тебе моя идея? — улыбался он во весь рот.
Генри всегда называл меня Джои, хотя у меня другое имя; да я и сам частенько называл его Джои, хотя у него тоже другое имя. Мы взяли эту привычку у Уэмбли Болда, который называл так всех подряд. Генри считал, что это упрощает дело и к тому же приучает быть скромным. Ума не приложу, каким образом то, что тебя называют Джои, может «упростить дело» или приучить кого-то к скромности, но я легко поддавался чужому влиянию и тоже ввел это в свой обиход.
— Если честно, Джои, то никак, — отвечал я. — Может, хватит с него? Почему я должен подвергать себя риску угодить на полгода в каталажку ради того, чтобы подсунуть в кошелек этому мерзавцу кругленькую сумму?
— Да, но ведь мы кое-что ему задолжали?
— А хоть бы и так, только он-то все равно этого не знает.
— Может, и не знает, не в этом суть. Мы ободрали его как липку, так что теперь самое время слегка его подлатать. Ты же не хочешь зарезать гусочку, несущую золотые яички? Или я не прав, Джои? К тому же я хочу заставить его поверить в чудо. Вчера вечером он растратился подчистую. Говорил, что сегодня придется заглянуть в банк. Мне жутко хочется увидеть его лицо, когда он достанет кошелек и обнаружит там деньги.
Мы постучались к Френкелю. На нем, как всегда, был засаленный коричневый халат, в котором он был вылитый Франциск Ассизский{99}.
— Привет, Генри! Привет, Фред! — воскликнул он елейно-скрипучим голосом. — Приятно видеть вас вместе в такой ранний час. Что делать будем?
Генри был в игривом, жизнерадостном настроении и расположен к шалостям. Он довольно ощутимо похлопал Френкеля по спине — этот шибздик даже закачался, — после чего стал выплясывать вокруг него, как краснокожий вокруг тотемного столба, а затем, подступив к нему спереди, схватил его на руки и стал подбрасывать вверх, как ребенка. Невесомый, почти бесплотный Френкель покорился шутовским выходкам Генри со смирением узника совести в нацистской камере пыток.
— Ну и как сегодня погода?
— Отличная сегодня погода, — признал Френкель, смущенно улыбаясь. Он только что сделал потрясающее открытие: что погода — то есть то, что лично он подразумевает под погодой, — для нас в самый раз. То, что ему открылось, не было необъяснимым явлением — это было нечто такое, что имеет начало и конец и может быть отслежено, проконтролировано и откорректировано. Текст содержит некие основополагающие принципы, каковые он собирается особо выделить в fermata[68], прилагаемой к его трактату.
— Вернемся к нашим баранам, — предложил Генри, увлекая Френкеля подальше от стула, на спинке которого висело его пальто. — Давай присядем сюда, к окошечку. Ну-ка, где твой манускрипт? На чем мы там остановились? Если честно, я что-то не в большом восторге от твоего толкования предмета, где ты ссылаешься на… — Тут он пустился в одно из тех путешествий в дебри метафизики, в предвкушении которых у Френкеля аж слюнки текли.
Они опять принялись за свое, совершенно игнорируя мое присутствие. Мне приходилось то и дело поглядывать на часы, иначе мы могли пропустить ланч, а это было бы настоящим бедствием. Я, как скептик на спиритическом сеансе, решил время от времени отпускать реплики, дабы заставить дискутирующих как следует прочувствовать мой антагонизм.
— А мне что прикажете делать, пока вы тут погружаетесь в умилительный метафизический транс?
— Можешь заняться генеральной уборкой, — фыркнул Генри. — Возьми тряпку и сделай полезное дело. И не забудь — наизнанку!
— Есть наизнанку, шеф!
— Что значит «наизнанку»? — поинтересовался Френкель.
— Просто — наизнанку, — объяснил Генри. — Вот вернемся сейчас к главе семнадцатой «Сводки погоды» и рассмотрим вопрос с изнанки. Твой ход, Микки.
Микки пошел. Он обладал удивительной способностью в мгновение ока погружаться с периферии светского трепа в глубокий омут метафизических проблем. Я не мог не восхищаться его ловкостью и сноровкой в манипулировании эмпирическими представлениями и абстрактными понятиями, связанными с работой подсознания, с процессом созревания мысли в хтонический{100} период инкубации и т. д. и т. п. В какие-то считанные секунды он умудрялся приплести к своим умопостроениям и Канта{101}, и Спинозу{102}, и Шопенгауэра{103}, и Шпенглера, и Уильяма Джемса{104}, и Талмуд{105} с Каббалой{106}. Его манера излагать мысли отличалась изрядной педантичностью: он не пренебрегал ни единой запятой, ни даже точкой с запятой. Когда он говорил, руки его постоянно находились в движении, — казалось, он прибегал к их помощи, чтобы подчеркнуть отдельные слова, оттенить образ или усилить метафору. Порой он пытался ухватить гипотетическую суть, замысловато, на какой-то полувосточный манер прищелкивая пальцами.
Генри сиял от счастья. Уж не знаю, успевал ли он улавливать смысл педантичных Френкелевых умопостроений, но что до меня, то я чувствовал себя полным профаном. Каждое слово, каждое изречение, взятые в отдельности, вроде бы имели какой-то смысл, однако мысленные ассоциации, которые, словно некий «ментальный клейстер», связывали его теории воедино, делали подобные монологи совершенно для меня непостижимыми. Генри же был очарован. Он по максимуму воздавал Френкелю должное за tour de force[69] в словесных баталиях, и его восхищение было искренним, хотя он наверняка понимал, что Френкель просто играет на публику. Но это была отличная игра, а Генри был самой благодарной публикой, о какой только может мечтать артист.
Френкель сиял, как медный таз.
— Господи, Микки! Да твоими бы устами… — воскликнул Генри, снимая очки и осушая слезу умиления. — Нет, ну такое загнуть! Я еще как-то поспеваю за твоей мыслью, да и то через пень-колоду. Клянусь съесть свою шляпу, если кто-либо еще сможет вникнуть в твою болтологию. Вот ты, Джои, сможешь?
— Я голоден, — ответил я. — Метафизика не идет мне на пустой желудок.
Я как раз извлек из кармана Френкеля его кошелек и помахал им, как боевым трофеем, у него за спиной. Френкель смутно догадывался, что происходит что-то неладное, однако Генри не дал ему времени разобраться, в чем дело.
— Надо сказать, ты разработал здесь все до мельчайших деталей, в смысле вот это — о хтонической деятельности подсознания, — изрек он, тут же срываясь по касательной, — но, Микки, говоря как человек человеку, позволь полюбопытствовать, кому какая разница, верна эта твоя абсурдная теория или неверна? Все это теория, догма, предположение. Где тут жизнь? — И Генри еще некоторое время продолжал в том же ключе, то издеваясь над ним, то нахваливая. — К чему все это? Ни тебе мертвеца рассмешить, ни дурака научить! — заключил он. — Ты методично выжимаешь из мысли все ее составляющие, пока от нее не останется лишь крошечное облачко пара, которое ты затем припорашиваешь метафизическим снежком. А в результате насущный, животрепещущий вопрос замораживается под наслоениями абстрактных возможностей и психоклинических презумпций… Ты готов, Джои?
— Обожаю психоклинические презумпции, — ухмыльнулся я, возвращая Френкелев бумажник с двухсотфранковым сюрпризом в карман его пальто. — Готов, готов. Не пойти ли нам поесть?
— Наш маленький Джои только о еде и думает, — заметил Френкель. Он только было начал входить во вкус, как я наступил ему на любимую мозоль, затронув столь прозаическую струнку. — Ведь не станешь же ты отрицать, что душа превыше желудка?
— Брюхо глухо: словом не проймешь, — отрезал я.
— Покормиться тоже иной раз не помешает, — согласился Генри, у которого давно уже сосало под ложечкой. — Почему бы тебе, Микки, не составить нам компанию в «Эскарго»? О «Сводке погоды» мы можем поговорить и после обеда.
— У меня нет при себе денег, — попытался отбояриться не успевший еще проголодаться Френкель. Сегодня он якобы слишком поздно встал, чтобы наведаться в банк.
— Пусть деньги тебя не волнуют, Микки. У тебя солидный кредит. Чем бы нам сегодня полакомиться, Джои? Цыпленком или бифштексом? А может, цыпленком и бифштексом? С порцией нежного швейцарского сыра в придачу?
Когда Генри заговаривал о еде, голос его становился ласковым, как у влюбленного, и взгляд узких бирюзовых глаз особенно прояснялся.
— Только не швейцарского, Генри, — поучал я его исподволь. — Не станешь же ты портить себе удовольствие от изысканнейшего блюда, заедая его швейцарским сыром! Это варварство, Генри. Боковушечка рокфора — это еще куда ни шло, или, на худой конец, мизерный треугольничек камамбера, если угодно, но уж никак не швейцарский! Лично я предпочел бы пару крошек брынзы, залив ее глотком густого бархатного бургундского. У брынзы восхитительный острый привкус. Советую попробовать, Джои.
Для Френкеля изысканная пища — не в коня корм. Ему все равно было, где обедать — хоть в походной кухне, хоть у Ларю. Еда была для него простой кормежкой, лишенной всяких прелестей. И все же его как-то задевало, когда другие загорались энтузиазмом в отношении тех радостей бытия, которые оставляли его холодным.
9
Жизнь Миллера на Вилле Сёра распадалась на два периода: первый — когда он гостил у Френкеля в мастерской, а второй — когда, два года спустя, переселился с помощью Лианы в апартаменты этажом выше, теперь уже как полноправный квартиросъемщик. В промежутке он жил у меня в Клиши, о чем речь еще впереди.
С течением времени между этими двумя совершенно непохожими душами — Френкелем и Миллером — установилась крепкая дружба. Генри был весь спонтанность, огонь, энтузиазм, Френкель же — сплошной интеллект, анализ, теория. И эти их качества странным образом дополняли друг друга. Ярче всего из тех времен мне запомнилось, что всякий раз, как я заскакивал к Генри (по меньшей мере раз в день), я заставал его в разгар одной из бесконечных дискуссий с Френкелем, которыми последний так искренне дорожил.
За игрой Генри отводил душу. Тарабарский язык Френкеля он принял en bloc[70]. Когда Генри позволял себе зацепиться за какую-нибудь идею — любую идею — или какой-нибудь спорный вопрос — любой спорный вопрос, он подвергал его детальнейшей разработке, пускаясь в пространные разглагольствования о тончайших оттенках мысли, растекаясь и блуждая по их же многочисленным ответвлениям, уходящим в бесконечные сферы и под сферы, пока вопрос не «замыливался» до такой степени, что ни один из спорщиков, спроси его в лоб, не смог бы толком объяснить, о чем весь сыр-бор. И все же в этих словопрениях ни тот, ни другой упорно не желали уступать. Что тоже было частью игры. Это как на одном из тех занудных, тягомотных политических совещаний, которые успели уже навязнуть нам в зубах, когда государственные мужи одной державы ни в какую не желают уступать своих позиций государственным мужам другой державы, хотя результат известен заранее — это оттягивающий развязку пат.
Пат — именно его и добивались Френкель с Миллером, поскольку тупиковая ситуация гарантировала продление спора до бесконечности. В словесных баталиях они черпали гораздо большее наслаждение, нежели в разрешении спорного вопроса. Генри, который всегда помнил, с какой стороны намазан его бутерброд, не был заинтересован в логическом завершении дискуссий: Френкель давал ему приют, а за гостеприимство надо платить.
Генри по-прежнему кормился у друзей — «этих благодетелей по подписке», как он называет их в «Тропике Рака».
Меня не просто кормили — мне закатывали пиры. Каждый вечер я приходил домой подшофе. На большее их не хватало. Кому какое дело, что со мной происходит в другие дни. Кто подогадливее, подкидывали при случае то сигарет, то какую-нибудь мелочь «на булавки». Наверняка все вздохнули с облегчением, узнав, что будут видеть меня только раз в неделю. А уж когда я произносил: «Больше в этом нет необходимости», они просто сияли от счастья. И даже не спрашивали почему. Поздравляли, и все. Зачастую я прекращал столоваться у одних, потому что находил более хлебосольных хозяев и мог позволить себе вычеркнуть из списка тех, кто надоел мне хуже горькой редьки. Но они об этом даже не подозревали.
От избытка энергии Генри в то время мог горы свернуть. Теперь, в ретроспективе, я просто ума не приложу, как у него на все хватало времени. Одни заботы о кормежке отнимали чуть не полдня, поскольку некоторые из его друзей жили на довольно-таки почтительном расстоянии от Виллы Сёра. Да и не мог же он по-быстрому прибежать, набить брюхо и тут же убежать — надо было и хозяевам воздать, попотчевав их диалектикой, а к исполнению этой задачи он подходил с максимальной скрупулезностью, отлично сознавая, что следующий обед или, по крайней мере, качество следующего обеда будет целиком и полностью зависеть от его способности внушить хозяевам любовь к себе.
Худо ли бедно, Генри всегда умудрялся отбарабанить свои пятнадцать — двадцать страниц. Как раз тогда он лихорадочно доделывал первый «Тропик». Он печатал слепым методом, причем с такой бешеной скоростью, что иному писателю и не снилось. Генри прекрасно обходился без всяких там черновиков или набросков. Все, что он хотел сказать, само собой складывалось в совершеннейший текст, не требующий последующей шлифовки. Сидя за машинкой, он курил, не вынимая сигареты изо рта (обычно это были «Gauloise» bleue — trente sous le paquet de vingt[71]). Иногда ставил какую-нибудь пластинку и печатал под музыку. А иногда под собственное пение. Словом, работал он с песнями.
Во второй половине дня Генри регулярно устраивал себе тихий час, но это отнюдь не значит, что он просто дремал в кресле. Он разоблачался, надевал пижаму и укладывался в постель, как Уинстон Черчилль{107}. Сон шел ему на пользу — «бархатит позвоночник», говорил он. Сон не был для него пустой тратой времени: пока он спал, с ним происходили невероятные вещи. Нормальный занятой человек весь истерзался бы угрызениями совести, проведи он полдня в постели, — с Миллером же все обстояло иначе. Сон никак не нарушал его распорядка дня, весьма гибкого и эластичного.
Если у Генри почему-либо срывался обед, он иногда выходил на прогулку. А потом ее описывал. «Тропик Рака» весь испещрен блестящими коротенькими зарисовками уличных сценок из парижской жизни. Цитирую наугад:
Солнце в зените, а я стою тут несолоно хлебавши у слияния всех этих кривеньких улочек, по которым вовсю гуляет съестной дух. Напротив — отель «Луизиана». Мрачный, видавший виды постоялый двор, хорошо знакомый в старые добрые времена хулиганам с улицы Бюси{108}. Отели, еда… а я брожу, как лепрозный больной с изъеденным вошью нутром. <…> Рю-де-л’Ешоде гудит, как улей. Улицы петляют, извиваются, и на каждом углу — новый очаг активности. Длинные вереницы людей с пучками овощей под мышкой, образующие бесконечные завитки вокруг хрустящих и сверкающих предметов вожделения. И сплошь еда, еда, еда… Тут кто хочешь ошалеет.
Прохожу по Фюрстембергскому скверу. Сейчас, при свете дня, он кажется совсем другим. Когда я гулял здесь прошлой ночью, он был пустынным, призрачным и прозрачным. В центре сквера — четыре унылых, вскормленных булыжником дерева. Вроде стихов T. С. Элиота{109}. Если бы Мари Лорансен{110} вывела сюда своих лесбиянок подышать свежим воздухом, здесь им, ей-богу, было бы самое место. Très lesbienne ici[72]. Стерильное, гибридное, сухое, как сердце Бориса.
Генри часто подолгу гулял, даже когда не был голоден. Он прекрасно знал город и любил его. В Париже он давно уже чувствовал себя как дома — дома, как ни в одной другой точке земного шара. Париж стал его духовной родиной. Мысль о том, что когда-нибудь ему придется вернуться в Америку, была для него сущим кошмаром. В Париже он обследовал каждый квартал — как в фешенебельных районах, так и в глухих трущобах. «Необязательно быть богатым, — пишет он, — ни даже горожанином, чтобы найти себе место в Париже. В Париже толпы бедных людей, и это, как мне кажется, самые достойные и самые презренные нищие из всех когда-либо ступавших по земле. И все же при взгляде на них возникает иллюзия, что они у себя дома. Как раз это и отличает парижан от обитателей любой другой метрополии».
Но именно в описании наиболее убогих уголков Парижа талант Миллера сияет в полную силу. Некоторые из его страниц производят галлюцинаторный эффект. Процитирую еще один кусок из «Тропика Рака»:
В Сите-Нортье, где-то возле Плас-дю-Комба, я на пару минут притормаживаю, чтобы сполна испить всю мерзость этого зрелища. Прямоугольный двор, похожий на многие другие, просматривающиеся сквозь низкие подворотни, рассыпанные по бокам старых артерий Парижа. Посреди двора — бесформенная глыба ветхих строений, настолько прогнивших, что они заваливаются одно на другое в каком-то внутриутробном объятии. Земля в рытвинах и колдобинах, плитняк скользкий от слизи. Какая-то свалка человеческих отбросов вперемешку с золой и засохшими помоями. Солнце катится к закату. Краски меркнут. Пурпур переходит в цвет кровяной муки, перламутр — в бистр[73], холодные мертвые серые тона — в цвет голубиного помета. Чуть не в каждом окне — по скособочившемуся уродцу: стоят, хлопая глазами, как сычи. Назойливый детский визг — вот они, бледные, худосочные рахитики со следами родовспомогательных щипцов. От стен исходит зловоние — кислый запах заплесневелого матраса. Европа! Средневековая, гротескная, монструозная — симфония в си-миноре. А прямо через дорогу, в «Сине-Комба», достопочтенной публике крутят «Метрополис».
Как можно заметить, у Миллера налицо явное пристрастие ко всему нездоровому, ущербному, канцерогенному. Пристрастие это между тем обусловлено исключительно полярностью его натуры, поскольку сам он являет собой диаметральную противоположность и нездоровому, и ущербному, и канцерогенному. В Миллере нет ни намека на ущербность — он самый чистый, самый радостный, самый бескорыстный человек на свете. Влечение к противоположному — вот в чем секрет очарования, внушенного ему сточными канавами, выгребными ямами и жалкими трущобами, не указанными ни в одном бедекере{111}. Его походы в эти районы города были настоящими экспедициями, порой даже чуть ли не уголовными расследованиями, после которых он возвращался посвежевшим и воодушевленным, с горящими от ужаса глазами.
Во время таких вылазок он всегда заводил сомнительные знакомства. И снова это были больные и убогие, грешницы и бандиты, утюжившие тротуары трущоб, — неприкаянные души, к которым он причислял и себя самого. Но особенно его привлекали откровенные безумцы, потому что сам он отличался отменным психическим здоровьем.
Он каждого видел насквозь, и его невозможно было одурачить, хотя он постоянно позволял водить себя за нос, причем делал это умышленно: он поддавался на обман добровольно, даже, можно сказать, сладострастно. В особенности это касалось его взаимоотношений с женщинами — шлюхами, стервами, femmes honnêtes[74]. Тут врожденный мазохизм Генри побуждал его принимать надувательство по полной программе. Быть обманутым женщиной, которую любишь, и тем не менее продолжать ее любить — вот венчающий триумф мазохиста.
Рискуя показаться назойливым, я все же должен еще раз вернуться к их отношениям с Джун, чтобы прояснить картину его унизительной любви к этому созданию. Хотя он видел ее в истинном свете, он все равно ее любил. Я хочу привести здесь кусок из «Тропика Козерога», в котором он мазохически упивается своей низменной страстью к ней.
Она менялась, как хамелеон. Никто не мог сказать, какая она на самом деле, потому что с каждым она выступала в совершенно новом обличье. Как потом выяснилось, этот процесс метаморфозы начался у нее задолго до встречи со мной. <…> Она часами просиживала перед зеркалом, изучая каждое движение, каждый жест, каждую наиглупейшую гримасу. Она полностью изменила манеру говорить, дикцию, интонации, акцент, фразеологию. Она подавала себя столь искусно, что совершенно невозможно было докопаться до исходного материала. Она постоянно была начеку, даже когда спала. <…> Слепая к своей исконной красоте, своей исконной индивидуальности, своему исконному обаянию, не говоря уже об идентичности, она направила весь арсенал своих возможностей на сотворение некоего мифического существа — этакой Елены, этакой Юноны, — перед чарами которого не могли бы устоять ни мужчина, ни женщина. Механически, без всякого намека на знание легенды, она мало-помалу начала создавать онтологический фон, мифическую последовательность событий, предшествовавших ее сознательному рождению. Ей не было нужды помнить свои лживые выдумки — ей надо было просто вызубрить роль. Не было ни одной бредовой идеи, которую она сочла бы излишне монструозной для того, чтобы пускать ее в оборот, потому что в пределах усвоенной роли она всецело оставалась верна себе. Ей не надо было изобретать прошлое — она помнила прошлое, ибо оно было частью ее самой. Ее совершенно невозможно было обить с толку вопросом в лоб, потому что она никогда не представала перед противником иначе как вполоборота. Она предъявляла лишь верхушки вечноиграющих граней — слепящие призмы света, поддерживаемые в состоянии непрерывного вращения. Она вообще не была живым существом, которое рано или поздно можно было бы накрыть врасплох, — она была настоящей машиной, без сна, без отдыха манипулирующей мириадами зеркал, призванных отражать сотворенный ею миф. В ней напрочь отсутствовала какая бы то ни было сбалансированность, и ее вечно заносило высоко за пределы собственной многоликости, в вакуум ее подлинного «я». <…>
Именно это змеиное совокупление во мраке ночи, именно эта двусоставная, двунаправленная смычка и загнала меня в смирительную рубашку сомнения, ревности, страха и одиночества. <…> Пожалуй, она начала с того монстра, что ее изнасиловал, — если, конечно, ее история мало-мальски правдива… <…> Имея лишь отрывочные представления о ее жизни, располагая лишь ворохом лжи, домыслов, небылиц, маниакального бреда и навязчивых идей, пытаясь совместить обрывки цветистых фраз, кокаиновых видений, грез, незаконченных предложений, взбалмошной туманной болтовни, истерических бредней, болезненно искаженных фантазий, нездоровых желаний, то и дело натыкаясь на имя, ставшее плотью, невольно прислушиваясь к случайным обрывкам разговоров, перехватывая украдкой брошенный взгляд, сдерживаемые на полпути жесты, я бы с легкостью мог причислить ее к… etc., etc.
Прошу прощения за «etc., etc.», но окончание предложения в данном случае придется опустить в силу его нецензурности. Подведем черту следующим абзацем:
Мы сошлись под покровом ночи, каждый со своими полками, и с противоположных сторон приступили к штурму цитадели. В нашей кровавой бойне не было ни победителей, ни побежденных, мы никого не молили о пощаде и сами никого не щадили. Мы сошлись, утопая в крови: кровавое, мутное примирение в ночи при угасших звездах, всех, кроме одной — неподвижной черной звезды, скальпом зависшей над дырой в потолке. Бывая изрядно накокаиненной, она выблевывала это из себя, как пифия, — все, что происходило с ней в течение дня, вчера, позавчера, позапрошлым годом — все вплоть до дня ее появления на свет. И в этом не было ни слова правды, ни единой правдивой детали! Она не замолкала ни на миг, потому что замолчи она, и вакуум, образовавшийся при взлете ее фантазии, вызвал бы взрывную волну такой силы, что весь мир раскололся бы на части. Она была генератором мировой лжи, действующим в пределах ее микрокосма и приводимым в движение все тем же извечным разрушительным страхом, который побуждает людей все свои силы бросать на создание инструмента смерти.
Генри отнюдь не заблуждался относительно Джун. Он видел ее такой, какова она есть, и любил такой, какой видел, а это почти то же самое, что и любить ее такой, какова она есть. В ходе настоящего повествования я как-то вскользь упоминал уже о неких «исцелениях», осуществленных Генри в кругу его друзей и знакомых, и теперь должен признать, что Джун он так и не исцелил. Почему? Может, у нее все слишком далеко зашло? Не думаю. Разве можно назвать человека чудотворцем, если он не способен избавить калеку от увечья даже в самом безнадежном на первый взгляд случае? Грош цена тому чудотворцу, который поджимает хвост, когда дело доходит до воскрешения полутрупа!
Раз Генри не исцелил Джун, значит, он, надо полагать, и не собирался ее исцелять. Такой, какая она была, Джун была совершенна — для него, разумеется. Этот генератор лжи, этот ворох небылиц был необходим ему для собственного благополучия. Не будь она такой стервой, она не удовлетворяла бы его сложной чувственной организации. Более того, в попытке ее исцелить он подверг бы себя риску увидеть, как она растворяется в тонком эфире. О чудесном исцелении не могло быть и речи. Когда фокус любви сужается и концентрируется на единичном предмете, когда любовь перестает быть вселенской и становится сугубо личной, чудо лишается всякой возможности осуществления. Иными словами, как только любовь становится эгоистичной, она уже не может быть пособницей чудесного.
Но вернемся, однако, к миллеровским экспедициям на les bas-fonds[75]. Каких только невероятных персонажей он там не откапывал! Некоторые из голодранцев и пьянчуг являли собой зрелище поистине ужасающее. Был, например, один француз, называвший себя поэтом, хотя, возможно, так оно и было. Генри подцепил его в каком-то притоне в окрестностях Бастилии. Я в жизни не встречал более омерзительного существа за пределами свинарника. И руки, и лицо его были буквально «инкрустированы» грязью, лохмотья заскорузли от блевотины; он всегда был вдрызг пьян, и из его беззубого рта постоянно текла слюна. Зато у него была страсть к словотворчеству. Генри, который и сам был мастер ковать неологизмы, был потрясен, что кто-то способен проделывать подобные штучки с французским языком. «Comment ça va?»[76] — спрашивал он обычно при встрече с этим ханыгой, на что тот неизменно отвечал: «Ça va malement»[77]. Этот неологизм вызвал у Генри бурю восторга. «Ça va malement, ça va malement», — твердил он, как помешанный. До меня как-то не сразу дошло. Почему именно «malement»? Почему бы тогда не «mauvaisement»[78] если уж тебе так приспичило ввести в обиход избыточное наречие? Наверное, «mauvaisement» этому бедолаге было просто не выговорить, не имея во рту ни единого зуба, да к тому же насквозь пропитавшись vin blanc[79]. Генри тащил его на себе до «Трех мушкетеров» на Авеню-дю-Мэн аж от самой Бастилии, только чтобы мне его показать. Меня это не впечатлило. Не будучи таким добровольным лохом, как он, я вмиг разглядел всю убогость воображения этого забулдыги и не пожелал выдавливать из себя ни улыбки, ни слезы. Ça allait malement mal[80].
Еще был Макс. Тот самый Макс. Макс из «Макса и белых фагоцитов»{112}. С Максом он познакомился в районе гостиницы «Отель-де-Виль». Генри был потрясен атмосферой гетто, царившей в квартале, напомнившем ему улицу Деланси и 14-й округ в Бруклине. Макс был польским евреем, и совершенно непонятно, зачем ему понадобилось перебираться в Париж. Он ничего не добился экспатриацией из Польши — просто поменял польское гетто в Польше на польское гетто на Рю-де-Розье. Эта перемена никак не сказалась на его образе жизни. Он был нищ, нервозен, всегда на грани самоубийства. Даже палец о палец не ударил, чтобы найти себе достойную работу, оправдывая это тем, что не мог раздобыть разрешение работать во Франции. Жил он случайными заработками, кое-как перебиваясь за счет туристов, которых водил на экскурсии по самым занюханным борделям улицы Сен-Дени.
Вероятно, он ошибочно принял Миллера за туриста — еще и американского! Потому-то, наверное, он к нему и приблудился. Во всяком случае поначалу. А Генри и не возражал. Макс вызывал у него восхищение, смешанное с неприязнью. Снова все то же влечение к противоположному. Гой Миллер попался на удочку бедному еврею. Макс был довольно жутким типом — безобразный, вздорный, полный жадного коварства. Миллер же был человек сострадательный и, пожалуй, единственный во всем Париже, кто пожелал выслушать жалобы Макса. А уж когда Миллер кого-нибудь слушает, пусть даже самого презренного лжеца, как правило, что-нибудь да происходит. В данном случае произошло вот что: Макс совершенно потерял самообладание — он весь как-то обмяк и расплакался.
Макс плакал — в этом и состояло чудо. Грубый, ожесточенный, хамоватый хапуга-еврей из гетто плакал на груди своего, с позволения сказать, искупителя, и впервые в жизни его слезы, его печаль и отчаяние были искренними. Слезы принесли ему облегчение, очистили его. Он почувствовал себя слегка обновленным, а также слегка очистившимся. И еще немного поплакал. Миллер дал ему выплакаться, и это все, что он для него сделал. Из рассказа о Максе, написанного Генри впоследствии, мы узнаем, что он покупал ему еду, давал одежду — даже шляпу, от которой Макс, впрочем, отказался, но Максу все это было не нужно: все, что ему требовалось, — это хорошенько выплакаться, и Генри предоставил ему такую возможность. От Макса, наверное, жутко воняло, когда он плакал (обливаясь слезами, люди всегда пахнут острее), но Генри не обращал на это внимания, он не подгонял его, не останавливал, и если даже испытывал некоторое отвращение, то виду не показывал; он дал Максу столько времени, сколько тому требовалось, а может, и больше.
В случае с Максом я лучше всего мог наблюдать оздоравливающую энергию Миллера в действии; мне даже удалось ощутить эту его мистическую силу, которую, за неимением более подходящего слова, я просто назову его душевным магнетизмом. Миллер был чист сердцем — вот почему он мог позволить себе идти на прямой контакт с людьми менее чистыми, нечистыми и даже с такими стервятниками, как Макс, не рискуя подцепить «заразу»; он мог позволить себе вываляться в грязи — и остаться чистым; в отличие от Макса, которого приводила в ужас сама идея «поработать руками», он не боялся в процессе запачкать руки. Когда ты чист сердцем, ты становишься уязвимым, но в духовном плане уязвимость — это отнюдь не слабость.
Чего только не натерпелся Миллер, якшаясь с Максом, однако в конечном счете сломался не он — сломался Макс! Из стыда? Или сознания собственного ничтожества? Не нам судить. Все, что мы знаем, — это то, что он расплакался. Должно быть, в глубине души Макс понимал, что от Миллера он получил гораздо больше, нежели ему обычно перепадало от людей, которых он зачумлял. Надо сказать, Миллера он тоже зачумлял, поскольку он и впрямь был чумой. Генри сам об этом говорит в своем рассказе. Но, противостоя чуме одной лишь силой величия души, Миллер оказался сильнее ее: он посулил ей больше, чем она могла бы унести, будь ей позволено опустошать все подряд.
Признаться, Миллер, с его знаменитым даром карикатуриста, несколько преувеличил как пороки Макса, так и его добродетели. В угоду литературе Макса пришлось выставить последним отребьем, очистившимся от скверны; аналогичным образом мадемуазель Клод в другом рассказе пришлось выставить чуть ли не герцогиней. Однако и чума, и шлюха вполне реальны, Миллер лишь усилил основные черты их характеров. В обоих случаях совершенное им чудо было чудом очищения.
Но тут необходимо сделать маленькое mise au point[81]. Читателю не следует обольщаться, полагая, что на добрые дела Миллера толкало исключительно величие души. У него действительно было доброе сердце, и он действительно был «мировым парнем», по выражению нашего друга Осборна, но помимо этого Генри был еще и большой шутник и никогда не отказывал себе в удовольствии от души повеселиться. Он не собирался улучшать мир — это удел политических деятелей и реформаторов; он собирался улучшать собственное «я». И с каждым новым достижением на ниве самосовершенствования он становился чуть более независимым, чуть более самим собой. Макс и прочее отребье, появляющееся и исчезающее на страницах его книг, были для него неиссякаемым источником удивления. Он наблюдал за ними почти с научной беспристрастностью, изучал их реакции, выслушивал исповеди — и не предпринимал ни малейшей попытки переделать этих людей. Если они все же изменялись — а так всегда и бывало, — то именно потому, что они скорее открывались для нового опыта, нежели ему подвергались.
Миллер Макса на дух не переносит и не сопереживает ему в его страданиях, потому что он по себе прекрасно знает, что значит страдать — страдать так глубоко и радостно, как Максу и не снилось. В действительности он его презирает, смеется над ним и в любой момент готов послать его к черту. Да он этого и не скрывает и уж подавно не льет пьяных слез по поводу всех его тридцати трех несчастий.
Сегодня я вознесу тебя до небес, а завтра — сброшу, как грузило. Черт с ним, угроблю на этого мерзавца еще один день — и амба! Неужели я наконец смогу от него отделаться! Сегодня я еще послушаю тебя, мудака… выужу всю твою подноготную. Выжму из тебя последние соки — и за борт, а там пропадай ты пропадом!
Вот так Генри занимается спасением Макса. Завтра — «пропадай ты пропадом!». Но завтра Макс будет тихо свыкаться с новой жизнью, вливание которой сделал ему Миллер. Завтра будет завтра, но сегодня Максу позволено оросить жилетку своего гуру[82] этими невидимыми слезами исцеления. Перекроенный шиворот-навыворот, Макс уже не обитатель гетто, вызывающий омерзение своими хищническими замашками, — теперь Макс человек. Миллер же отныне — друг; не потенциальный клиент (каково тебе, Миллер?), ни даже друг-клиент, а просто друг — друг tout court[83]. Макса не волнуют больше ни Миллеровы деньги, ни его бутерброды с ветчиной, ни даже его рубашки и шляпы — ему нужен только он сам.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ «Тихие дни в Клиши»{113}
1
Квартиру в Клиши мы сняли осенью 1932-го, на третий год пребывания Миллера в Париже. Этот переезд ознаменовал поворотный пункт в его жизни. Впервые со дня прибытия в Париж Генри обзавелся собственным углом — domicile fixe[84]. Французы произносят это словосочетание с изрядной долей гордости. Время скитаний от отеля к отелю — от maison garnie к maison garnie[85]— подошло к концу. До того как мы поселились в Клиши, Миллеру, наверное, пришлось сменить не одну дюжину меблирашек самого низкого пошиба.
Обеспечить себе крышу над головой — задача не из легких, проблема почти столь же важная, как и проблема питания, но разрешить ее гораздо труднее. Боюсь, я слегка схалтурил, освещая эту сторону первого периода парижской жизни Генри. Где бы ты ни жил, три года — срок солидный, если не имеешь ни кола ни двора. Не считая короткого периода, когда он жил на Елисейских Полях у Осборна, и еще более короткого, когда наслаждался сравнительной безопасностью и комфортом жилища Френкеля, Генри только и делал, что менял отели.
Он знал лишь самые занюханные, самые дешевые ночлежки Монпарнаса. Зачастую он проводил там только одну ночь, а иногда и ночи не выдерживал, потому что клопы гнали его на улицу задолго до рассвета. Когда его таким образом выдворяли из какой-нибудь убогой конуры, ему ничего не оставалось, кроме как всю ночь бродить по мрачным, зловещим улицам, не имея в кармане даже на чашечку кофе. (Генри еще в Америке узнал, что такое не иметь крыши над головой.) Обычно ему удавалось найти пристанище засветло. Не думаю, чтобы он когда-либо опускался до ночевок под мостами Сены или прибегал к помощи Армии спасения, предоставлявшей ночлег в «плавучем доме», пришвартованном у моста Карусель. Там давали тарелку овсяной размазни и гамак на ночь — при условии, что ты споешь пару гимнов во славу Господа. Генри не имел ничего против пения, но атмосфера «плавучего дома» была до того удручающей, что он скорее уж предпочел бы провести ночь под мостами в компании clochards[86] и tireurs de pieds de biches[87].
Когда дела шли из рук вон плохо, Генри отдавался на милость случайных знакомых, которых заводил, таскаясь по улицам; это были преимущественно иностранцы, причем все больше богатые.
Последние несколько недель я вел общинный образ жизни, — пишет он в «Тропике Рака». — Мне приходилось делить себя с другими — большей частью с несколькими сумасшедшими русскими, вечно хмельным голландцем и болгаркой по имени Ольга. Из русских это главным образом Евгений и Анатолий.
Они его кормят и выделяют спальное место на полу. Простые и бедные люди всегда рады оказать помощь. Пища, однако, прескверная, пол обычно кишит тараканами, а смрад человеческого горя превосходит всякие границы.
Каждая трапеза начинается с супа. Луковый это суп, томатный, овощной или еще какой, на вкус он всегда одинаков и вечно отдает не то кислятиной, не то плесенью, не то помоями — будто в нем долго варили посудную тряпку. Я вижу, как Евгений каждый раз после обеда прячет суп в комод, и он стоит там и киснет до следующего приема пищи. Туда же в комод убирается масло: через три дня оно приобретает вкус большого пальца на ноге трупа.
Генри ни при каких обстоятельствах не теряет чувства юмора. Даже оказавшись «на обочине жизни»{114} — а ему пришлось покруче, нежели другу Оруэллу{115}, — он все равно продолжает смеяться. И распевать русские песни с русскими, а болгарские — с болгарами. Когда он об этом пишет, выходит весело, в реальности же веселого было мало. А что может быть веселого в том, что ты голоден и нищ! «„Жизнь, — пишет Генри, цитируя Эмерсона{116}, — определяется тем, какие мысли занимают человека в течение дня“. Ежели это так, то моя жизнь не что иное, как одна большая кишка. Я не только целыми днями думаю о еде — я брежу ею по ночам».
Вынюхивая однажды, чего бы поесть, он встречает у служебного входа «Фоли-Бержер» еще одного русского, Сержа. Серж — бывший капитан бывшей императорской гвардии и, как водится, пьет «горькую». На настоящий момент он добывает себе нехитрое пропитание, развозя на грузовике дезинфекторы по многочисленным парижским мюзик-холлам. Генри моментально заводит с ним дружбу — друзьями он обзаводится так же просто, как это бывает в романах Достоевского, — и Серж приглашает его к себе домой. Живет он в районе Сюрен. Генри может оставаться у него сколько душе угодно. Платить не надо. Серж полагает, Генри не будет возражать, если он устроит его спать на полу на матрасе. Серж в полном восторге. Он давно мечтал выучить английский, а Генри мог бы давать ему уроки. В качестве платы за уроки Серж готов раз в день кормить его сытным русским обедом. Генри обожает сытные русские обеды и ничего не имеет против матраса на полу, — даже в Сюрене, хотя это и далековато от «Америкэн экспресс». Сюрен так Сюрен, почему бы и нет?
Жизнь Генри в Сюрене продолжалась ровно одну ночь. Дольше он вынести не мог. Серж подкинул будущему постояльцу на проезд, и тот прибыл незадолго до обеда, чтобы дать своему хозяину первый урок. В доме уже был народ, — похоже, русские всегда едят, собираясь большой компанией. Привожу отрывок из «Тропика Рака», где Миллер описывает один из таких обедов:
За столом мы восьмером — плюс три собаки. Собаки едят первыми. Они едят овсянку. Потом начинаем мы. Мы тоже едим овсянку — на закуску. «Пища квакеров!{117} — подмигивая, говорит Серж. — Chez nous c’est pour les chiens. Ici pour le gentleman. Ça va»[88]. После овсянки — грибной суп с овощами, затем яичница с грудинкой, фрукты, красное вино, водка, кофе, сигареты. А недурен обедец-то по-русски! За столом все говорят с набитыми ртами. К концу обеда жена Сержа, ленивая, неряшливая армянка, плюхается на диван и принимается за конфеты. Она роется в коробке своими жирными пальцами, надкусывает одну конфету за другой, чтобы проверить, какая там начинка, и бросает на пол собакам.
Отобедав, гости спешно уносят ноги. Бегут, как от чумы. Остаемся мы с Сержем и собаки — жена заснула на диване. Серж безучастно переходит с места на место, бросая объедки собакам. «Собаки очень люблю, — говорит он на ломаном английском. — Который маленькая собака, он имеет черви… совсем еще молодой». Серж наклоняется и рассматривает белых глистов на ковре между собачьими лапами. Пытается объяснить мне что-то о глистах по-английски, но ему не хватает слов. «А! — восклицает он, глядя на меня торжествующе, — „Паразиты“!» Реагирую я не самым интеллигентным образом. Серж в замешательстве. Он опускается на четвереньки, чтобы получше рассмотреть глистов, берет одного и кладет на стол рядом с фруктами. «Хм, его не самый болшой, — бормочет он. — Следующий урок ты учишь меня черви, да? Ты гороший учитель. С тобой я делаю прогресс…»
Какой там следующий урок! Генри худо. Он пытается заснуть на своем матрасе, но сон как рукой сняло.
Меня мучит отрыжка — «пища квакеров», грибы, сало, печеные яблоки. Перед глазами снова этот маленький «паразит», лежащий рядом с фруктами, а с ним все многообразие червей, которых Серж рисовал на скатерти, пытаясь объяснить мне, что происходит с собаками. В памяти всплывает опустевшая оркестровая яма «Фоли-Бержер», где изо всех щелей лезут вши, тараканы, клопы; вижу, с каким остервенением чешется публика в зале: чешется, чешется, чешется, раздирая кожу до крови. Вижу, как черви ползут по декорациям, словно полчища красных муравьев, все пожирая на своем пути. Вижу, как хористки сбрасывают газовые туники и в чем мать родила бегут по проходам между рядами; вижу, как зрители срывают с себя одежды и скребут друг дружку, точно макаки.
Стараюсь успокоиться. В конце концов, теперь это мой дом и здесь меня каждый вечер будут кормить. Серж, конечно, душа-человек — на этот счет никаких сомнений. Но спать я не могу. Попробуй тут усни — лежишь, как в морге. Матрас насквозь пропитан бальзамическим составом — ну чем не морг для клопов, тараканов, вшей и глистов! Не могу больше терпеть. И не буду! Я, в конце концов, человек, а не вошь.
Наутро он попросту сбегает.
Потом появляется индус Нанантати, торговец жемчугом с улицы Лафайет, и на некоторое время дает ему приют. Еще одно погружение в бездну дискомфорта. Теперь Генри у нас домработница. За горсть риса индус заставляет его пахать, как китайского кули[89], и еще смеет придираться, заметив какую-нибудь пылинку в одном из закутков своей пятикомнатной квартиры. Нанантати выделил ему две колючие лошадиные попоны, чтобы было во что завернуться ночью на полу. По утрам Генри удается кое-чем перекусить — при условии, что на обед он готовит овощи. Нанантати — вегетарианец, так что Генри тоже поневоле превращается в вегетарианца; главное в его жизни — еда, а в отношении еды Генри всеяден, плотояден и даже человекояден. Ради еды он готов на все. Еда — превыше всего. Нанантати по натуре скорее надсмотрщик, нежели хозяин. «Сумасшедший индус — другого такого не сыщешь! — говорит о нем Миллер в „Тропике Рака“. — Скуп, как бобовый стручок. То-то я посмеюсь, когда вырвусь из его когтей, но пока что я пленник, человек без роду без племени, неприкасаемый…»
Тексты Миллера, когда он описывает многочисленные перипетии того периода, пышут жизненной силой и здоровым раблезианским смехом. Страницы «Тропика Рака» стали нишей бессмертия и для индуса, и для голландца, и для русских, и для болгар. Миллер пишет о них бодро, весело, ярко, и у читателя складывается впечатление, что, несмотря на голод и неустроенность, Генри переживал поистине чудесные времена. Но как я знаю по собственному опыту, чудесными они представляются только в ретроспективе.
Я забыл сказать, что до переезда в Клиши Миллер провел некоторое время в Дижоне, где он нашел себе место учителя английского языка — répétiteur d’anglais — в лицее Карно. Это было его первое знакомство с французской провинциальной жизнью, и, учитывая, что его контакты ограничивались преподавательским составом, протекала она довольно уныло. Этот период пришелся на зиму, а зима не лучшее время года для жизни в скучном, маленьком городишке в департаменте Кот-д’Ор, что в переводе означает «Золотой берег»! Здесь французский провинциализм проявился во всем его непотребстве. Дижон, как известно, славится своей превосходной горчицей, и, разумеется, Генри, давясь в столовой безвкусным «общепитом», мечтал о роскошных ресторанных бифштексах, которые так славно пошли бы с этой самой горчицей. Еда в Дижоне была, наверное, не так уж плоха по сравнению с откровенной бурдой, которой его потчевали русские и индусские друзья. Во всяком случае, на аппетит Генри не жаловался и никогда не получал отказа, выпрашивая на rabiot[90] немного pot-au-feu[91], тушеного мяса или чего-нибудь еще из скудного меню лицея Карно. Ну и неизменный стаканчик божоле на запивку — Дижон ведь славится не только горчицей, но и вином (как и соседний Шато-Неф-дю-Пап).
Живя в Дижоне, Генри постоянно поддерживал обширнейшую переписку с парижскими и американскими друзьями. Лиана получала от него по письму в день, мне он писал два-три раза в неделю. Джун, разумеется, он тоже писал часто, хотя каждое письмо стоило полтора франка — столько же, сколько по тем временам литр вина.
Конечно же, Генри и здесь обзавелся массой друзей. Поскольку из всего преподавательского состава он был единственным американцем, то всякий любопытствующий француз смотрел на него, как на экзотическое животное. И если склонные к обобщениям французы увидели в нем типичного американца, то они наверняка были приятно удивлены. Лучшего «посла», чем он, Соединенные Штаты и желать не могли, по крайней мере в окрестностях лицея Карно.
Среди друзей, которых Миллер завел в Дижоне, был один молодой француз по имени Жан Рено — pion[92], метивший в профессора. Английским он не владел, но его все равно тянуло к Генри, — наверное, в силу того, что в химии называется избирательным сродством, и когда, по прошествии семи месяцев, Рено приехал в Париж, Генри пригласил его к нам в Клиши, где мы втроем провели несколько незабываемых вечеров.
По возвращении Миллера из Дижона я с удивлением обнаружил, что его французский стал лучше не на одну сотню процентов. Большинство его друзей были англосаксами или хотя бы англоязычными, поэтому Генри не было нужды изъясняться по-французски; ну а в Дижоне по-английски не говорил никто. Так что он хорошо поднаторел во французском, особенно разговорном, и поднабрался разных насущно необходимых слов и выражений вроде этого «rabiot», что означает добавочную порцию еды. Кроме того, он посетил несколько лекций. В тот год как раз отмечался юбилей Гёте, и Миллер позволил своему другу Рено привлечь себя к участию в этом мероприятии.
В том же самом альбоме с вырезками, из которого я уже кое-что цитировал, я обнаружил программку вышеупомянутого торжества, присланную мне Миллером, с его же пометами на полях. Вот его комментарий по поводу «La Vie de Goethe»[93] — речи университетской преподавательницы мадемуазель Бьянки: «…гораздо менее интересна, чем жизнь мухи!» И еще: «Не хотите ли вы иметь фотографии комнаты, в которой скончался Гёте? Их можно получить бесплатно по почте, сделав предварительный заказ. Также могу предложить вам новый прейскурант на консервированные овощи Бохака».
В отличие от французов, свято чтущих традиции, даже если это чужие традиции, Генри никогда не делал реверансов прошлому. В этом отношении он если и не истинный американец, то уж, во всяком случае, истинный представитель Нового Света. Великие имена для него ровно ничего не значат, если творения их обладателей не берут его за живое. Генри отнюдь не идолопоклонник. Он будет отпускать самые богохульственные комментарии по адресу общепризнанных канонов и национальных героев — независимо от их национальной принадлежности, — если в данный момент они не вызывают отклика в его душе. Я намеренно говорю «в данный момент», потому как ему свойственно время от времени менять свои взгляды. Он может выудить в «Вильгельме Мейстере»{118} или второй части «Фауста» какую-нибудь строчку, которая заставит его задуматься: а такой ли уж Гёте болван, в конце-то концов? И тогда он пойдет на попятный и будет рассыпаться дифирамбами в адрес Гёте — или Шекспира, или Платона, или даже Плотина{119}, смотря по ситуации.
2
Но вернемся в Клиши, где нам предстояло провести вдвоем более двух лет. В то время Клиши был оплотом коммунистов, хотя надо отметить, что французский коммунизм был и, безусловно, по сей день остается скорее розовым, нежели красным. Население квартала составляли фабричные рабочие и мелкие предприниматели, которые жили относительно спокойно, уютно и без поэзии.
Наш дом стоял на авеню Анатоля Франса — номера я не помню. В эссе «Помнить, чтобы помнить» Генри приписывает авеню Анатоля Франса сходство с аристократической частью нью-йоркской Парк-авеню{120}. В моем представлении звукосочетание «Парк-авеню» несет в себе некие атрибуты роскоши и элегантности, которых и в помине не было на авеню Анатоля Франса. Если в этой улице и присутствовала какая-то доля романтики, то исключительно благодаря нам.
Наша квартира состояла из двух комнат, кухни и ванной. Комната Генри была отделена от моей холлом, так что мы могли входить и выходить, равно как и принимать гостей, не причиняя друг другу неудобства. Общими были только ванная и кухня. Но это нам не мешало, так как занимались стряпней и кормились мы обычно сообща на кухне.
Кухня была светлая и просторная. Из единственного окна открывался вид на сиротский пейзаж парижского предместья, к которому мы долго не могли привыкнуть. Глядя на эту панораму, чувствуешь себя пассажиром, взирающим из окна вагона третьего класса на унылые картины городской окраины: кругом дымящие заводские трубы, покореженные железные крыши уродливых пакгаузов, железнодорожные пути, телеграфные столбы, радиовышки; повсюду расклеен один и тот же чудовищный плакат, рекламирующий какие-то коммерческие ремонтные мастерские и заправочные станции — страшные и невзрачные. И все же пейзаж этот постепенно нас покорил; панорама стабилизировалась, словно поезд прибыл на конечную станцию. По утрам мы испытывали муки радости, обнаруживая себя на том же месте, что и прошлый день: мы узнавали отдельные лица, встречавшиеся нам в предыдущие дни, мусорный бачок с отбитой крышкой, белье, развешанное над пожухлой лужайкой, мальчугана из дома напротив, забавляющегося с пасущимся во дворе козлом, мы узнавали хозяина велосипедной лавки, доктора, входящего в свой кабинет, на двери которого красовалась табличка: «Petite chirurgie et stomatologie»[94].
Я так много говорю о кухне, потому что она была святая святых нашей квартиры. Там мы проводили прекраснейшие, счастливейшие часы. Это была самая незабываемая кухня в мире. Во-первых, кладовка там всегда ломилась от яств: мясо, масло, яйца, сыр, ветчина, сардины — всего вдоволь: беспрецедентное положение вещей для пары «полевых лилий»{121} вроде нас с Генри. Нам больше не надо было беспокоиться ни о следующем обеде, ни о последующем. Наши съестные припасы никогда не истощались до критического уровня. Наш бакалейщик месье Птидидье — это имя я вспоминаю с attendrissement[95] — был душа-человек и строго следил за тем, чтобы мы были хорошо обеспечены провизией и вином. Даже когда мы сидели в финансовой яме, он все равно аккуратно снабжал нас предметами роскоши первой и не первой необходимости. Репутация у нас была отличная. А отчего бы ей быть иной? Или мы, в конце концов, не американцы? Еще какие американцы! Даже я, у которого вообще не было никакой национальности, тоже был американцем, по крайней мере для месье Птидидье. Vive l’amitié franco-américaine![96]
Эта магическая кухня в Клиши сослужила добрую службу не только нашим телам, но и умам. Слезы наворачиваются мне на глаза, когда я уношусь воспоминаниями к тем долгим «посиделкам», которые зачастую продолжались чуть не до самого утра, когда заря окрашивала черный воздух ночи в красновато-серый цвет пушечной бронзы и птицы за окном затевали сумасшедший шум-гам. Не было на свете такой темы, которой нам не довелось обсудить на этой кухне. Мы были веселы и беспечны, и вдохновение не покидало нас ни на минуту. Мы читали друг другу вслух написанные за день страницы и уверяли один другого в их неподражаемой прелести. А они и впрямь были хороши; нам не приходилось прибегать ко всяким там уловкам вроде поощрительного похлопывания по плечу, бытующим среди писателей одного кредо. Большую часть времени мы пребывали в творческом экстазе, а бесчисленное количество бутылок вина «оказывало пособничество и подстрекало», так сказать, нашу каталепсию{122}.
Впрочем, мы не всегда сидели одни. Улучив минутку, к нам из театра забегала Лиана. Изредка заходила и Анаис. И тогда мы втроем уютно располагались на кухне и предавались застольным беседам, обильно сдобренным едой, вином и веселой шуткой. Анаис оказалась превосходным кулинаром: она явила нам чудеса la cuisine espagnole[97], и, когда готовила испанский омлет или paella à la valenciana[98], нам казалось, что вместе с ними мы откусываем кусочек Испании.
Часто бывали у нас в гостях и друзья Миллера, которых он оставил в Париже, — начинающие поэты, начинающие художники, кретины, неврастеники, невротики, алкоголики и прочий сброд. Чаще других показывался Дик Осборн. Русская княгиня (или графиня) ушла от него, оставив ему в качестве отступного солидную порцию гонореи. Дик ничего не имел против гонореи — для него, при всей его «американской стерильности», гонорея была делом привычным. Он в неимоверных количествах поглощал vin blanc, свято веря в него как в панацею от всех болезней, включая триппер, и если бы в то время можно было без труда достать пенициллин, он бы брезгливо отворотил от него нос.
Зачастую Дик приводил с собой своего приятеля — коллегу по банку. Это был куривший трубку американец по фамилии Фримен, человек довольно ограниченный и вполне terre-à-terre[99], однако он моментально «снимался с передка», стоило ему немного залить derrière la cravate[100]. Обычно они заваливались с парочкой девиц, «снятых» ими по дороге, — хотя, возможно, девиц приводили мы сами и держали их наготове для этих гавриков. Потом начинался пир горой. Ели мы самое лучшее, что было нам по карману, а пили только отборнейшие вина. Сам Петроний{123}, пожалуй, едва ли едал вкуснее. Пока еще артикуляционный аппарат Осборна (Филмора из «Тропика Рака») не был окончательно парализован вином, он громогласно и многословно витийствовал на темы литературы и искусства или же углублялся в дебри юриспруденции. На радость Генри, у него всегда имелась в запасе парочка «сесквипедальных» слов, хотя ни Генри, ни, вероятно, он сам толком не знали, что они означают. Тут девочки начинали проявлять нетерпение. Нам отнюдь не в тягость было оказывать им знаки внимания, коих требует куртуазность. Вечеринка обычно завершалась на оргиастической ноте, когда Осборн разгуливал по пояс голый, с бокалом в одной руке и бутылкой анжуйского (его любимого вина) — в другой.
Все эти гульбища не отличались особой цивильностью, зато удавались на славу. Расставаясь с нами, гости всегда вели себя так, будто покидали spa-cum-cathedral-cum-bordello[101]. Естественно, наутро кухня напоминала поддон птичьей клетки. Как сейчас вижу Генри — в быту он был скорее германцем, нежели китайцем, — на четвереньках, с тряпкой в руках: пока я занимаюсь приготовлением крепкого кофе, он драит пол.
Единственным другом Генри, ни разу не навестившим нас в Клиши, был Френкель. Если точно, однажды он все-таки приехал, но остался недоволен визитом. Место было совсем еще новое и не настолько загаженное невротическими флюидами, чтобы заслуживать его одобрения. Смерть, даже «незаконнорожденная», в этом левацком предместье воспринималась как нечто абсурдное, выходящее за рамки здравого смысла. Вдобавок на тот момент мы успели уже создать свойственную нам атмосферу — атмосферу жизни и радости: мы развили бурную деятельность, а в минуты отдохновения пускались в загул. Нам было не до расщепления философских истин. На авеню Анатоля Франса Френкель явно был не в своей стихии. Отмотав несколько кадров назад, я, с вашего позволения, процитирую его письмо Миллеру, относящееся к данному периоду. Это письмо почти in toto[102] воспроизведено в «Тропике Рака».
Между нами, во всяком случае в том, что касается меня, произошло следующее: ты меня растормошил, перевернул всю мою жизнь, то есть — в той единственной точке, где я пока еще жив, — мою смерть. Под воздействием эмоционального потока я пережил очередное крещение. Я ожил, я снова живу. И уже не воспоминаниями, как с другими, а наяву.
И в таком ключе — страница за страницей, «небрежным бисерным почерком с помпезными завитками, на разграфленных листах, вырванных из конторской книги». И все о смерти, умирании и суициде. А не ломает ли он, часом, комедию? Еще чего! Такими вещами Френкель не шутит. Миллер, питавший удивительную склонность ко всякого рода завиральным идеям, всегда с огромным удовольствием слушал разглагольствования Френкеля о смерти, в особенности когда тому ассистировал его закадычный друг и compère[103] Уолтер Лоуэнфельз, выступавший в этом представлении в качестве суфлера. Эти двое составляли уникальный тандем.
Оба они говорили на языке математических формул, — пишет Миллер в «Тропике Рака». — Сплошная высшая математика и ни намека на плоть и кровь — все фатально, призрачно, абстрактно до омерзения. Когда они переходили к вопросу о смерти, разговор становился более конкретным: в конце концов, у топора или тяпки тоже должна быть ручка. Я был в полном восторге от этих словопрений. Впервые в жизни смерть показалась мне обворожительной — то есть все эти абстрактные «смерти» с бескровной агонией. Временами друзья выражали свое восхищение тем, что я живой, но делали это в такой форме, что мне становилось неловко. Я сразу ощущал себя пришельцем из девятнадцатого столетия, каким-то атавизмом, романтической ветошью, одушевленным pithecanthropus erectus[104]. Похоже, Борису особенно нравилось до меня дотрагиваться: он хотел, чтобы я жил, потому что в этом случае он мог бы сколько угодно «умирать» в свое удовольствие. Он так на меня смотрел, так меня ощупывал, что можно подумать, все эти толпы людей на улицах — простые говяжьи туши.
Письмо Френкеля рассмешило Генри до слез. Он все так же хохотал и икал от восторга, когда уселся за машинку настучать ответ. Как и Френкель, Генри с ходу проникает в сущность вещей, только, в отличие от Френкеля, у него это сопровождается гомерическим хохотом. Один был прирожденным клоуном, другой — прирожденным букой. Как мне порой кажется, у Френкеля тоже есть что-то от клоуна, но в нем это свойство побуждает людей смеяться не вместе с ним, а над ним.
В отдельных текстах шутовство Миллера проявляется с безудержной силой. Если он давно не ел или не имел женщины, он становился чуть более серьезным, хотя даже тогда мог писать об этом с невероятным комизмом. Но если уж он откопает какой-либо чуждый ему абстрактный предмет, вроде личного хобби Френкеля, то клоун берет в нем верх, и тут ему достаточно лишь с рекордной скоростью пробежаться подушечками пальцев по клавиатуре пишущей машинки, чтобы его юмор и остроумие, зачастую граничившие с абсурдностью, хлынули весенними ручьями.
Сейчас мне вспоминается небольшой памфлетец под названием «Деньги и как они работают», обязанный своим возникновением пари с Френкелем, утверждавшим, что в области финансов Генри полный профан. Было условлено, что памфлет должен быть написан языком, свойственным профессиональным экономистам, и при всей своей бессмысленности производить впечатление, будто его автором является один из непререкаемых авторитетов в данной сфере. Эта уловка имела такой успех, что Генри даже как-то получил письмо от управляющего Английским банком, которому он в шутку послал один экземпляр; в этом письме управляющий изложил ряд серьезных соображений по поводу его уникального подхода к этой проблеме.
Поскольку труд этот надо было кому-то посвятить, Генри решил посвятить его Эзре Паунду, присовокупив следующее предуведомление:
Около года назад, прочитав «Тропик Рака», Эзра Паунд прислал мне открытку, написанную в обычном для него каббалистическом духе. Его интересовало, задумывался ли я когда-нибудь о деньгах: откуда они берутся и как работают. Признаться, до того, как мистер Паунд задал мне этот вопрос, я действительно никогда не думал о деньгах. Однако с тех пор я думаю о них денно и нощно. Результат моих размышлений и ночных бдений я и предъявляю миру в виде этого скромного трактата, который если и не решает проблемы, то может хотя бы не решать ее.
Не знаю, почему Генри решил избрать мишенью бедного Эзру Паунда. Возможно, потому, что Паунд всем плешь проел разговорами о вещах, которые с поэзией и рядом не лежали, как, например, социальный кредит и прочие шарлатанские методы исцеления нашей больной экономики. Миллер ничего не понимал в финансах, — впрочем, в то время в этом вообще никто ничего не понимал, а уж финансовые воротилы и подавно. По его мнению, к проблеме денег нужно подходить исключительно с позиций клоуна. Эзра Паунд клоуном не был — он был эрудитом, эксцентриком и великим поэтом, но в отношении крупных финансовых операций он был таким же профаном, как и Генри Миллер.
Вот выбранный наугад пример его клоунской диалектики:
В современном мире есть люди, которые под воздействием убедительной логики марксистской диуретики {124}осмеливаются уповать на то, что в один прекрасный день деньги исчезнут из сознания человечества. Многие из них — и это ясно как день — денег никогда не имели, а потому у них отсутствует всякое представление о колоссальном чувственном удовлетворении, которое подразумевает простое прикосновение к деньгам, даже если означенные деньги вам не принадлежат. Какое же еще может быть оправдание служащему бухгалтерии или китайской предрасположенности к денежным ящичкам, или ростовщику, или крупному финансовому воротиле, которым едва ли часто приходится держать в руках собственные деньги — все больше чужие? Иметь деньги в кармане — одна из маленьких, но неоценимых радостей жизни. Иметь деньги в банке — не совсем то же самое, но получать деньги в банке — радость неоспоримо великая. Наслаждение, стало быть, состоит в прикосновении к деньгам, но уж никак не в том, чтобы их тратить, как пытаются убедить нас иные экономисты. Вполне возможно, разумеется, что чеканные или бумажные деньга возникли в целях удовлетворения именно этой человеческой потребности, ибо хотя человек, имея достаточно терпения, и мог преуспеть в приумножении своего богатства — исчисляемого рабами, поголовьем скота, драгоценностями, хмелем, пшеницей etc., — ласкать сами деньга или мешки с деньгами куда удобнее и даже приятнее. Потому как с изобретением всеобщего эквивалента почти моментально обнаружилось, что деньга делают деньги. Любая попытка вникнуть в сущность денег не порождает ничего, кроме путаницы. Только соприкосновение с деньгами приносит изобилие, а следовательно, больше денег. Это такая же простая истина, как и та, что, не будучи финансистом, провозгласил Сам Христос, сказав: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет»[105]. Насколько ясен и точен этот язык по сравнению с замусоленными сюсюкающими шибболетами{125} биржевых маклеров: «Курс стоял твердо… курс покачнулся и упал… резина поползла вниз… олово взлетело… акции обвалились…»
Любой идиот способен стать опытным экономистом, но только Бог может сделать из тебя клоуна. Чтобы стать клоуном, не нужен талант — нужна мудрость: знание человеческих прихотей, сует, иллюзий, пороков, слабостей и идиосинкразии. Да и одного этого знания еще не вполне достаточно — надо уметь принимать несовершенство и хрупкость человеческой природы, порочность, развращенность и распущенность человечества и при этом понимать, что еще не все потеряно. Вот что вызывает улыбку на лице великого клоуна — «улыбку у нижней ступени лестницы»{126}.
У Генри всегда было некоторое подозрение, что он был одним из богоизбранных клоунов. В эпилоге «Улыбки у нижней ступени лестницы», наверное, самого трогательного из его рассказов, он пишет:
Размышляя о жизни и творчестве Руо{127}, оказавшего на меня сильное влияние, я задумался о клоуне, который во мне сидит — всегда сидел. Я подумал о своей страсти к цирку, в особенности к cirque intime[106], о том, как глубоко, должно быть, укоренились в моем сознании все те переживания зрителя и молчаливого участника. Я вспомнил, как по окончании школы меня спросили, кем я собираюсь стать, и я ответил — клоуном. Перебирая в памяти своих старых друзей, я обнаружил, что большинство из них вели себя как клоуны, — их-то я больше всего и любил. А впоследствии я с удивлением узнал, что самые близкие мои друзья и на меня всегда смотрели как на клоуна.
3
Однако не надо полагать, что Генри был только литературным клоуном и вся его клоунада исчерпала себя в его книгах. Отнюдь! Точно таким же клоуном он оставался и в обыденной жизни. Помнится, одно время у меня в Клиши жила девушка — Полетт, юная потаскушка пятнадцати лет (хотя она врала, что ей восемнадцать). Генри, видимо, раздражало ее присутствие. Нельзя сказать, что он ее на дух не переносил. Напротив, она показалась ему достаточно привлекательной, чтобы попытаться пробудить в ней определенные литературно-артистические наклонности. Но затея эта оказалась напрасной. Полетт либо ни слова не понимала из того, что он говорил, и открыто издевалась над его американским акцентом, либо понимала (вернее, ей казалось, что понимала, а это было стократ хуже), к чему он клонит, и тогда несла в ответ такой наивный бред, что Генри вскоре от нее устал. Между ними не было абсолютно ничего общего, и они отличались друг от друга, как, скажем, паук от сверчка, а я полушутя-полутревожно скакал от одного к другому, как заправский энтомолог.
Полетт очень любила Генри — за то, что, как она говорила, c’est un admirable clown[107]. Почти ни дня не проходило, чтобы они не ломали комедию.
Наша кухня располагалась под прямым углом к комнате Генри, так что из кухонного окна виднелась часть его комнаты. По утрам, встав с постели, Генри первым делом поднимал шторы и выглядывал в окно посмотреть, что с погодой. Если Полетт случалось в этот момент оказаться на кухне, они обменивались приветствиями и заводили беспредметный разговор на манер прислуги или двух матрон, встретившихся на лестнице или переругивающихся через двор. Генри, стоя у окна по пояс голый, наслаждался этой маленькой забавой, а Полетт всегда с удовольствием ему подыгрывала. Говорили они, естественно, по-французски, и Полетт до слез смеялась над попытками Генри с его американским акцентом копировать французских кумушек, подражая их выговору и жестам.
— Bonjour, М. Henri, comment ça va?[108] — кричала Полетт.
— Pas mal, Mme Perles, et vous-même? Et votre petit mari comment va-t-il? Fait pas chaud aujourd’hui, hein? — звучал из окна рокочущий бас Генри. — Est-ce que vous avez par hasard déjà déjeuné? Ça serait dommage, car je prendrais bien une tasse de café avec vous[109].
Акцент у него был зверский, как я уже отмечал, но в остальном все было в полном порядке. Он обожал использовать разговорные выражения, но при этом прекрасно схватывал на слух тончайшие грамматические изыски. В то время Генри зачитывался Прустом, и в результате, пытаясь имитировать речь femme de ménage[110], он, к вящей радости Полетт, заставлял прислугу изъясняться исключительно языком престарелой герцогини, таинственным образом подцепившей бруклинский акцент.
Полетт, рассмешить которую не составляло труда, уже загибалась со смеху.
— Mais bien sûr, М. Henri, il y a toujours une tasse de café pour vous, vous le savez bien. Dites un peu, qu’est-ce que vous allez faire aujourd’hui?[111] — подзуживала она Генри.
— Ah! Mme Perlés, le boulot me tue, vous ne vous rendez pas compte! — восклицал он с подобающей случаю интонацией. — Je vais encore être obligé de faire le ménage moi-même. C’est que ma femme de ménage est malade depuis trois jours déjà — paraît que c’est une méningite. Alors, vous pensez! …A propos, ne pourriez-vous point me prêter un peu d’eau de Javel?[112]
В роли кумушки Генри был неподражаем. Он был отличным знатоком характеров, судя по тому, как проникался духом этой маленькой комедии дель-арте. Только истинной кумушке могло прийти в голову попросить взаймы un peu d’eau de Javel[113]. Правда, «l» в «Javel» все же его подвела: опять она, эта американская герцогиня, воспитанная на Прусте!
— De l’eau de Javel? Mais tant que vous voudrez, M. Henri[114], — воскликнула Полетт. Пора было переводить разговор на что-нибудь более пикантное. Она умолкла на секунду в ожидании какой-нибудь блестящей идеи, и вот, пожалуйста:
— A propos, M. Henri, savez-vous ce qu’on chuchote dans le quartier au sujet de la fille de M. Petitdidier, notre épicier?[115]
— Chuchote? Chuchote? — повторял Генри озадачившее его на мгновение слово. — Qu’est-ce que cela veut dire, au juste? Je n’ai pas un dictionnaire sur moi[116].
— Bien sûr que vous n’avez pas de dictionnaire sur vous-puisque vous êtes nu comme un ver, — смеялась она. — Alors, vous ne savez pas ce que ça veut dire, chuchoter? Attendez, je vais vous expliquer…[117]
— Pas la peine, je me suoviens à présent. Chuchoter, c’est «бормотать» en anglais. Alors, qu’est-ce qu’on «бормочут» dans le quartier?[118] — зарокотал Генри, к восторгу Полетт и других жильцов дома, уже занявших позицию каждый в своем окне.
— Il paraît que la petite a accouché de jumelles![119] — завопила Полетт во всю глотку.
— Jumelles? — повторил Генри в сомнении. Еще одно слово, значение которого было ему неясно. — Sûrement, vous ne voulez pas dire des «бинокль». Voyons, on n’accouche pas de «бинокли»![120] — Эта мысль привела его в некоторое беспокойство.
Я крикнул из ванны, что «jumelles» означает и «бинокль», и «двойню».
— Более вероятно, что у нее все-таки двойня, — присовокупил я.
— Ah, des jumelles! — быстро нашелся Генри, — Fallait le dire tout de suite. Mais elle n’est même pas mariée, la garce![121]
— Justement, — подтвердила Полетт. — Qu’en pensez-vous?[122]
— Je pense que c’est dégueulasse! — заорал он, даже не подозревая, насколько смешно в его устах звучали эти просторечные выражения. — C’est vraiment dégueulasse! — повторил он. — Mais cette trainée n’a que quatorze ans! Quelle honte, en effet! Que deviennent-ils, les moeurs du quartier![123]
— Que voulez-vous? C’est jeune et ça n’sait pas[124], — произнесла Полетт тоном солидной матроны.
— Je voudrais bien voir la figure qu’il fait, son père, l’épicier. Tiens, ça me fait penser que je lui dois encore quarante sous, je n’avais pas assez de monnaie en faisant mon marché, l’autre jour… Alors, c’est des jumelles, vous dites? Mats elle charrie, la petite! Personne ne dirait rien si ce n’était qu’un, mais des jumelles à son âge, vraiment c’est trop fort! Personnellement, je m’en fiche, que voudriez-vous que cela me fît qu’elle accouchât de jumelles?[125]
Боюсь, даже сам Пруст не стал бы употреблять столь избыточное сослагательное наклонение, так что, выбившись из сил, Генри поставил точку. Но спектакль явно доставил ему удовольствие. Он взял себе за правило по мере возможностей не избегать сослагательного наклонения, считая его верхом лингвистического изящества.
Полетт не могла понять Генри и по этой причине считала его загадочной личностью. Он всегда относился к ней с безграничной нежностью — даже когда махнул на нее рукой, убедившись в ее безнадежной бездарности. Она тоже безмерно его обожала, даже восхищалась — как дитя восхищается проделками каких-нибудь огромных животных в зоопарке. В то же время он внушал ей уважение и благоговейный страх. Она всегда обращалась к нему «месье Анри» и прибавляла «месье», даже когда говорила о нем в третьем лице.
— А чем месье Анри зарабатывает себе на жизнь? — допытывалась она у меня снова и снова. Я объяснил, что ничем не зарабатывает, зато он великий писатель, и в один прекрасный день, может статься, авеню Анатоля Франса переименуют в его честь.
«Тропик Рака» был закончен в Клиши, но из-за задержки с изданием книга вышла фактически только по возвращении Миллера на Виллу Сёра. Генри не спешил; он спокойно ожидал реакции публики на книгу и между делом в бешеном темпе дописывал «Черную весну». Никогда еще он не бывал так активен. И никогда так близок к тому, чтобы стать признанным писателем. Однажды он показал мне рукопись «Одуревшего петуха» — книги, написанной им в Америке. Книга была из рук вон плохая и редактуре не подлежала. Ни формы, ни порядка, ни достойного сюжета не просматривалось в его диких перескакиваниях с предмета на предмет — сплошная ожесточенность, подавляемая ярость, какая-то целенаправленная бесцельность, анархия во всей ее бессмысленности. Некоторые из перечисленных «ингредиентов» присутствуют и в «Тропике Рака», и в кое-каких из его последующих книг, но тут есть некоторая разница. В «Тропике Рака» он как бы нашел свой стиль. При всей бесформенности этой книги и хаотичности ее содержания в ней присутствует изначальная целостность. Так или иначе, Генри, хотя и с опозданием, понял, что он — посвященный. И всегда им был, однако ему потребовалось немало времени, чтобы это осознать. Теперь он уже не колеблется — теперь он подобен человеку в бушующем море, вооруженному собственным гироскопом. Он знает, куда идет, и идет уверенно. Ему уже не интересно писать книги — теперь он просто рассказывает свою собственную историю.
— На вид он такой придурок — месье Анри, — то и дело повторяла Полетт.
— Что ж, ты должна сделать скидку на то, что он гений.
— Гений? А что это значит? — спрашивала она.
Полетт ждала объяснений, но я был не в состоянии дать ей исчерпывающий ответ. Ей можно было объяснить это только на живом примере, но такового в запасе у меня не имелось. Никому еще не удавалось добиться успеха в изображении гения, даже Достоевскому. Можно лишь набросать контуры, оттенить несущественные детали — капризы, идиосинкразии, эпилептические припадки, чудачества. Сам гений постижим только по отдаленным приближениям — суть постоянно ускользает, можно очертить лишь расплывчатый образ благоговения.
— Месье Анри иногда говорит прямо как лунатик, — как-то снова сказала Полетт, и мне, конечно же, пришлось согласиться. — Что за книги он пишет?
Шутка ли дело, подумал, я, объяснить ребенку смысл Миллеровых сочинений! Я сказал ей, что нет никакой разницы между этим человеком и его творчеством, но для нее это как горох об стенку.
— Месье Анри печатает намного быстрее тебя, — заметила как-то Полетт, — и когда сидит за машинкой, часами стучит не переставая. Ему что, не надо думать?
Неплохое наблюдение! Достаточно было одного взмаха магического жезла, чтобы слова хлынули стремительным потоком, словно каскад родниковой воды, переливающейся всеми цветами радуги. Конечно же, ему не надо было думать! Ведь разве какому-нибудь Тосканини{128} приходится думать, когда он дирижирует симфонию? Генри умел писать — точно так же как люди умеют дышать. Потому-то он и мог выдавать страницу за страницей, не дожидаясь того, что второстепенные писатели называют вдохновением. Вдохновение было частью его умения. Он никогда не утруждал себя поиском «хорошего» слова — так искусный пловец сходу определяет «хорошую» воду. Его слова ложились естественно верным порядком.
В текстах Генри и впрямь присутствует какое-то сезонное качество: слова и предложения дают почки, распускаются, цветут и плодоносят — в назначенный час. В этом смысле его книги суть явления природы, но природы девственной, без всяких там теплиц или искусственных ирригационных систем. Каждая его фраза — как дикий сад на какой-нибудь дружественной планете. Его творчество — это нечто живое, живое и цельное, как солнечная система — с ее собственным, только ей присущим тяготением, только ей присущим магнетизмом, — вращающаяся вокруг собственной оси. Миллер пишет и живет вспышками, но эти вспышки непрерывны, как цепь электрических разрядов. Он весь горючее, весь горение, и при этом — никаких отходов, разве что немного пепла[126]. Его страницы — как блестящий драгоценный металл, усыпанный драгоценными каменьями, — тропические страницы, обдающие обжигающим дыханием джунглей, арктические страницы, хранящие седой иней морозных узоров на деревьях и сталактитах.
4
Джек Каган{129} был основателем и владельцем «Обелиск-Пресс» — парижской фирмы, специализировавшейся на издании книг, которые, в силу существования в Англии и Америке специфических законов о непристойности в искусстве, могли иметь хождение только на зарубежном рынке. Я не хочу сказать, что Каган имел дело исключительно с порнографической литературой, — отнюдь. Но у этого пронырливого англичанина был нюх на книги, способные обеспечить гарантированный спрос. Романы эротического характера в соблазнительно оформленных суперобложках, обернутые для надежности в желтый целлофан, как магнит притягивали орды англосаксонских туристов, наводнявших в ту пору Париж.
В период становления «Обелиск-Пресс» Каган обнаружил, что не так-то легко раздобыть подходящий для издания материал, поскольку он собирался выпускать книги особого характера — легкие, увлекательные, рисковые, балансирующие на тонкой грани, отделяющей эротику от грубой порнографии. Порнография была табу даже во Франции, правда судебная машина запускалась в ход только при наличии жалоб со стороны властей. Чтобы преодолеть первые трудности, Каган набрался решимости и собственноручно написал несколько романов. Я забыл их названия, но отлично помню, что он использовал два псевдонима — Безил Карр и Сесил Барр. Эти книги были написаны им без особого энтузиазма и без особого таланта, но именно в том жанре, который, по его твердому убеждению, обеспечивал отсутствие проблем с их раскупаемостью. Продукция этой «парочки акул пера» — Сесила Барра и Безила Карра — послужила залогом дальнейшего успеха «Обелиск-Пресс».
Не надо тем не менее полагать, что Каган с полным безразличием относился к литературным ценностям и преследовал чисто коммерческие интересы. Он был в состоянии распознать хорошую книгу, если таковая попадалась ему на глаза, но при этом прекрасно понимал, что хорошая книга вовсе не обязательно будет хорошо продаваться. Одним из лучших бестселлеров, изданных им до того, как Миллер стал его grande vedette[127], был «Моя жизнь и любовь» Фрэнка Харриса. Впоследствии он выпустил также «Скалистый пруд» Сирила Конноли и «Черную книгу» Лоренса Даррелла — это в качестве примера его сугубо литературной продукции. Кагана отлично знали в англо-французских литературных кругах, а в числе своих друзей он упоминал Стюарта Гилберта{130} и Джеймса Джойса{131}.
Словом, он был симпатяга, этот бирмингемец, наполовину ирландец и, по-моему, наполовину еврей, хотя мне он казался англичанином до мозга костей. Он обладал всеми добродетелями и странностями чистокровного британца. Всегда ходил в элегантном деловом костюме клерикально-серого цвета и, как правило, с гвоздикой в петлице; был осторожен и осмотрителен в речи, демонстрировал слегка ироничную улыбку, пил бутылочное пиво «Басс» в баре «Кастильоне» неподалеку от его конторы, имел вставные зубы и, вероятно, характерный душок изо рта. Un vrai Anglais, quoi![128]
О Миллере он узнал от Уильяма Эспенуолла Брэдли{132}. Брэдли, ныне покойный американский литературный агент, которому Миллер показал свою рукопись, был покорен моментально. Тут я должен уточнить, что это был первый вариант «Тропика Рака». (Читателю, возможно, интересно будет узнать, что за три года, истекшие прежде, чем «Тропик Рака» увидел свет, Миллер много раз переделывал и переписывал эту книгу. В результате осталась лишь треть ее первоначальной версии. Черновик первого варианта бережно хранится в Лос-Анджелесе, в библиотеке Калифорнийского университета.) Потрясенный напором этой книги, Брэдли был вынужден признать, что найти для нее издателя — дело почти безнадежное. Прокручивая в голове возможные варианты, он вспомнил о Кагане, с которым уже имел дела в прошлом. Представляю себе диалог между американским агентом, с энтузиазмом взявшимся пристраивать книгу своего соотечественника, и недоверчивым и подозрительным англичанином.
— Послушай, Джек, тут у меня есть для тебя книга — это как раз то, о чем ты всегда мечтал. Ты можешь сделать на ней целое состояние.
— Да? — произносит Каган, насмешливо глядя на собеседника сквозь очки в роговой оправе.
— Это покруче Фрэнка Харриса.
— Да? — произносит Каган, поскучнев.
— Это круче «Фанни Хилл»{133}, де Сада{134} и даже Рабле.
— К чему все эти преамбулы? — говорит Каган, манерно растягивая слова и нюхая гвоздику в петлице. — Почему бы тебе просто не показать мне книгу?
— Это динамит, Джек.
— Ну и что? Мне и раньше приходилось держать в руках динамит.
— Не такой динамит, Джек.
— В твоих устах, Уильям, это звучит довольно интригующе, — тянет Каган, приправляя ответ слабой улыбкой, в которой угадывался сарказм. — Надо посмотреть. А кто автор?
— Некто Генри Миллер.
— Не слыхал о таком.
— Еще услышишь, Джек. Он — гений!
— Замечательно. А халтуру он писать умеет?
— Послушай, Джек, — продолжает Брэдли с угрожающей серьезностью, — я тебя не разыгрываю. Это правда динамит! Я знаю, ты наиздавал уйму рискового хлама, слывущего ходким товаром. Возможно, он и хорошо идет — весь этот дразнящий, щекочущий нервы, возбуждающий бред, издавая который ты ничем не рискуешь. Но книга Миллера не чета всей твоей макулатуре. Это круче, чем все, что я когда-либо читал. Это не граничит с непристойностью — это непристойность в чистом виде. Точки и тире тут не спасут. Это надо печатать так, как есть, либо не печатать вовсе. Я подумал-подумал и понял, что, кроме тебя, никто на это не отважится. И ты не прогадаешь, если возьмешься ее издать.
Джек Каган, как я уже говорил, в первую очередь был дельцом, и к тому же весьма расчетливым. Он никогда не шел на поводу у своего литературного энтузиазма. Книгу он, естественно, захотел, и захотел немедленно; однако ему понадобилось довольно много времени, чтобы свыкнуться с мыслью ее издать. Он понимал, что Брэдли прав: это не та книга, чтобы в ней что-то вымарывать или заменять, — тут вопрос стоял ребром: либо все, либо ничего; тот грубый язык, которым она написана, был как нельзя более совершенен и существен — убрать «неприличные» слова или заменить их точками было бы равносильно удалению чеснока из провансальского блюда. Каган был достаточно умен, чтобы это понимать.
Я отлично помню тот день, когда книга вышла в свет. Именно в этот день Генри вернулся на Виллу Сёра. Каган специально зашел к нему, чтобы вручить экземпляр. Генри ликовал. Он лихорадочно доделывал вторую книгу — «Черную весну», которая была готова к моменту выхода «Рака»{135}. Новый манускрипт Каган отложил, так сказать, в долгий ящик, решив посмотреть, куда подует ветер. Он принял все необходимые предосторожности, чтобы сохранить выход «Рака» в секрете, так как не хотел привлекать к этой книге излишнего внимания, — похоже, он вообще не собирался ее продавать. Цена была назначена по пятьдесят франков за экземпляр, что делало книгу почти недоступной, к тому же в первое время ее не выставляли в витринах книжных магазинов. Нет нужды добавлять, что «Тропик Рака» появился не только без рекламных фанфар, но даже чуть ли не тайно.
Отдельные экземпляры, однако, попали в Британию и Соединенные Штаты, где книга моментально была запрещена. У Кагана отлегло от сердца, когда она, несмотря на все его усилия ограничить продажу, выдержала второе издание без каких бы то ни было осложнений с законом. Задолго до того, как книгу заметили в литературных кругах, ее расхватали жадные до сенсаций туристы из англоязычных стран.
«Тропик Рака» подействовал на нашу современную литературу, как подкожная инъекция, эффект которой, однако, сказался не сразу. За исключением одного-двух отважных критиков в Англии и Америке, никто как будто и не подозревал о существовании Миллера. Язык Генри обеспечил ему табу в изысканном литературном обществе: он стал чуть ли не salon-faehig[129]. Ситуация оставалась неизменной, пока французы не провозгласили его гениальным писателем: тогда, и только тогда разглядели Миллера и господа из лондонских и нью-йоркских литературных кругов.
«Се volume ne doit pas être exposé en vitrine!»[130] — такое указание Джек Каган дал владельцам нескольких парижских книжных магазинов, взявшихся продавать «Тропик Рака». Дело доходило до смешного. Странно было бы, если бы жокей, скачущий на фаворите в решительном заезде, стал нарочно придерживать коня.
«Эту книгу в витринах не выставлять!» — и это в той же рекламке, где сказано, что «Тропик Рака» — «первое, напечатанное без купюр произведение гениального писателя, достойное сравнения с „Путешествием на край ночи“ Селина»! Далее — цитата из предисловия Анаис Нин: «В мире, окончательно парализованном самоанализом и страдающем запором от изысков духовной пищи, это грубое обнажение живого человеческого тела равносильно оздоровительному кровопусканию. Брутальность и непристойность оставлены без прикрас — как демонстрация тайны и боли, всегда сопутствующих акту творчества». Это пишет Анаис Нин. «Обелиск-Пресс» добавляет для затравки: «„Тропик Рака“ поэтому представляет собой крепкий орешек и не предназначен для незрелого интеллекта… До сих пор еще ни в одном произведении нельзя было найти такого откровенного обнажения тела и духа, такого безжалостного описания подавляемых аппетитов и безудержных желаний». И тут же внизу жирным шрифтом: «Се volume ne doit pas être exposé en vitrine».
5
Что беспокоило Кагана? Конечно язык. Порнография — вещь колкая. В английском языке — да и в любом другом, коли уж на то пошло, — имеется лишь с полдюжины слов, против которых возражает цензура. Миллер употребляет их, но это не делает его порнографом. Непристойным — да, но только не порнографом. Суть в том, что сами по себе слова не имеют отношения к порнографии. Указывая на кого-то конкретно, легко попасть пальцем в небо, однако с уверенностью можно сказать, что в литературе и в искусстве вообще порнография, как правило, подразумевает наличие умысла. Произведение искусства — будь то живопись, скульптура или книга, — каким бы грубым и откровенным оно ни было, не может быть признано порнографичным, если автор умышленно не сделал его таковым. Но даже этого недостаточно: умысел автора должен вызвать ответную вибрацию читательского воображения, в противном случае даже самая откровенная попытка порнографии не возымеет успеха.
Разумеется, на рынке имеет хождение некоторое количество грязных книжек, написанных профессиональными порнографами с явным намерением пробудить у читателя эротические мысли и образы. Я очень сомневаюсь, чтобы в качестве носителя порнографии и непристойности можно было бы использовать язык как таковой. Сами по себе слова безобидны — только высвобождаемые ими мысленные ассоциации порождают порнографию. Самые грязные ругательства в устах торговца рыбой прозвучат совершенно естественно, но те же слова, произнесенные герцогиней, бесспорно, возымеют шокирующий эффект. Ведь не вызывает же отвращения кавалерист, не способный сформулировать ни единой мысли без помощи полдюжины грязных эпитетов, — так и автор, который вкладывает эти эпитеты в уста кавалериста. О попытке порнографии можно говорить лишь в тех случаях, когда автор употребляет определенные фразы или образы с единственной целью — пробудить вожделение и похоть.
Чтобы этого добиться, автору нет нужды прибегать к непечатным выражениям. Напротив, в равной, если не в большей, мере его цели скорее послужат ловко завуалированный образ, double entendre[131] или целая строка точек и даже пустое пространство. По правде сказать, профессиональный порнограф чересчур умен, чтобы использовать грубые слова: когда называют пику пикой, она утрачивает всякую двусмысленность, а это никому не нужно. Цель профессионального порнографа — пробудить в вас дремлющую сексуальную брутальность, тайные, постыдные желания. Стало быть, он взывает к низменным инстинктам; его метод основан скорее на аллюзии, нежели на точности изображения: скрытый образ окажет более сильное воздействие на подсознание, нежели прямое описание полового акта, когда ничего не остается на долю воображения.
Генри Миллер чересчур здоров, чересчур целостен, чтобы быть порнографом. В непристойности нет ничего предосудительного, равно как не может быть ничего предосудительного в религии или даже в политике, если только ты не одержим ими с чрезмерной однобокостью фанатика. Миллер ничем не одержим: он принимает все подряд — легко, со смаком, с удовольствием и здоровым аппетитом. Его всегда как-то удивляла щепетильность тех, кто в своей кровавой резне хладнокровно пускает в ход самые непристойные орудия уничтожения и тем не менее проявляет столько раздражения, обнаружив в печатном издании какие-то полдюжины безобидных коротеньких слов.
Он не поклонник цензуры. «Единственное, чего добилась цензура в попытке пресечь распространение „Тропика Рака“, — это то, что она загнала его в подполье, ограничив продажу, но обеспечив ему тем самым лучшую из реклам — слово устной рекомендации, — пишет Миллер в памфлете „Обсценность[132] и закон отражения“. — Книгу можно найти в библиотеках почти всех крупных колледжей, профессора часто рекомендуют ее студентам, и она уже заняла свое место в ряду других скандально известных литературных произведений, которые, будучи аналогичным образом однажды запрещены и преданы поруганию, теперь признаны классикой. Она обращена в первую очередь к людям молодого поколения, и, судя по тому, что я узнаю прямо и косвенно, она не только не губит их жизнь, но даже делает их нравственно чище. Эта книга — живое доказательство несостоятельности цензуры. Она еще раз подтверждает, что теми немногими, кого якобы защищает цензура, являются сами цензоры, и это лишь благодаря закону природы, известному всем, кто слишком много на себя берет».
Без сомнения, есть люди, которые покупают (по ценам черного рынка) запрещенные книги Миллера в надежде получить эротическое наслаждение. Люди такого сорта скорее достойны жалости, нежели презрения, потому как они сами себя обманывают; они, так сказать, обращаются к Миллеру по ложному поводу, рассчитывая получить от него то, чего он дать не может — по той простой причине, что у него этого нет. Ничего такого, что наводит на похотливые мысли, нет даже в самых грубых пассажах «Тропика Рака» — да и в любой другой из его книг, если уж на то пошло. Существует несколько причин, в силу которых читатель, ищущий порнографии и ничего кроме, будет непременно разочарован книгами Миллера. Во-первых, Миллер — человек страстный, но не эротоман: в высшей степени осознавая важную роль секса, он не концентрируется на нем в ущерб всему остальному. Он является одним из самых великих лирических писателей, которых англоязычный мир дал за последние несколько столетий. Острая прямота и поэтическое богатство его языка сравнимо разве что со стилем отдельных авторов елизаветинской эпохи и ранних мастеров французского Возрождения.
Есть одна очень важная причина, почему профессора ведущих американских колледжей настоятельно советуют студентам читать Миллера. Чистота, лиризм, мощь его голоса в равной мере и побудительны, и неотразимы. «Они дают представление о том, что еще можно сделать — даже в наше позднее время — с английской прозой… ей возвращен эпитет. Это рельефная, пышная проза, проза, обладающая ритмом, это нечто совершенно отличное от вошедших сейчас в моду осторожных, плоских формулировок и диалектов буфетной стойки», — цитирует Джон Эллиот Джорджа Оруэлла в коротком эссе о Генри Миллере «Голодный взгляд» («Читательское обозрение». T. 1. № 4).
Верно, все это присутствует в текстах Миллера, но есть и кое-что еще, о чем Оруэлл не упоминает в данном контексте, — нечто, что убивает потенциальную радость любителя порнографии, вознамерившегося пощекотать свою чувственность, убивает столь же надежно, как распылитель ДДТ убивает тучи москитов, и это нечто — его чувство юмора! Чувство юмора не сочетается с сексом. Секс — дело жутко серьезное, и вот в каком смысле: совершая половой акт, вы действуете как бы от лица Господа. Бог, по моему твердому убеждению, очень серьезно относится к Своему творению. Нигде в Священном Писании нет ни намека на Его чувство юмора. И когда Бог делегирует человеку полномочия сделать Его дело, человек тоже теряет чувство юмора. Вы не смеетесь и даже не улыбаетесь, когда пробуждается ваше эротическое чувство. Попробуйте подумать о сексе как о чем-то смешном — и у вас даже не возникнет эрекция. Сексуальность и эротизм с сопутствующими элементами непристойности, брутальности и порнографии просто-напросто исключают и устраняют смех. Секс и смех несовместимы — по крайней мере были несовместимы, пока не появился такой человек, как Генри Миллер!
Самые грубые, самые непристойные пассажи его книг пронизаны чувством юмора, которое освобождает эротизм от всего нездорового. Достаточно обратиться хотя бы к Рабле, чтобы убедиться, что подобное лечится подобным. В его книге тоже есть некий очистительный фактор, дезинфицирующее средство, снимающее всякий налет грязи.
Цитирую — по необходимости — отрывок из французского перевода «Тропика Козерога», дабы проиллюстрировать мою точку зрения:
…Elle avait l’air tellement idiote que je ne fis tout d’abord pas attention à elle. Mais elle aussi avait un con, comme toutes les autres, une sorte de con personnellement impersonnel dont elle était inconsciemment consciente. Plus souvent elle descendait chez nous, plus elle devenait consciente, à sa façon inconsciente. Un soir qu’elle était dans la salle de bains, et où son séjour se prolongeait de façon suspecte, je vins ainsi par sa faute à penser des choses. Je décidai de jeter un coup d’oeil par le trou de la serrure et de voir par moi-même de quoi il retournait. Or voici! Voici qu’ elle est debout devant la glace, choyant et caressant son petit chat. Lui parlant presque, ma parole. J’étais si excité que je ne sus que faire, tout d’abord. <…> Je défis ma braguette, histoire de laisser mon truc prendre le frais de la nuit. Du divan où j’étais, j’essayais de la mésmeriser, ou du moins de faire que mon truc la mésmerisât. <…> Je ne crois pas avoir, de toute ma vie, fourré la main dans une fourche aussi juteuse. De la colle de pâte, ruisselant sur ses jambes; si j’avais eu des affiches à portée de main, j’aurais pu en coller une douzaine pour le moins. Au bout de quelques instants, aussi naturellement qu’une vache qui baisse la tête pour paître, elle se courba et le prit dans la bouche. Pour moi, j’y allais à quatre doigts dedans elle, battant le tout en neige. Et elle, la bouche pleine, les jambes ruisselant de jus. Pas un mot de part et d’autre, ai-je dit. Rien qu’un couple des paisibles maniaques faisant leur boulot dans le noir comme des fossoyeurs. C’était un paradis, de baiser ainsi, je le savais et j’étais prêt, archiprêt à y faire passer toute ma matière grise s’il le fallait. Jamais encore je n’avais baisé comme avec cette fille. Pas une seule fois elle ne l’ouvrit — pas plus cette nuit que la nuit suivante ni aucune autre nuit. Elle descendait et se coulait furtivement dans le noir, dès qu’elle flairait que jétais seul, et me recouvrait de son comme d’un emplâtre. Et il était énorme, ce con, quand j’y repense. Dédale obscur et souterrain doté de divans et de cosy-corners, de con dents de caoutchouc et de seringues, de niches moelleuses et d’édredons et de feuilles de mûrier. J’y piquais de nez comme un ver solitaire pour m’y ensevelir dans une étroite fente ou régnait tant de silence, de douceur et de repos que je m’y couchais comme un dauphin sur des bancs d’huîtres. Un léger spasme et j’étais en Pullman, en train de lire mon journal, ou au fond d’une impasse aux pavés ronds et moussus, aux petites barrières d’osier s’ouvrant et se fermant automatiquement. Ou encore c’était comme au water-fall: un brusque plongeon, puis un embrun de crabes mordillants, le balancement fiévreux des joncs et les branchies de minuscules petits poissons me lappant doucement et jouant un clavier d’harmonica. Dans l’obscurité de cette grotte immense résonnait une musique d’orgue, noire glissante, savonneuse comme la soie, quand elle y allait pleins gaz et pleins jus, il en jaillissait un pourpre violacé, une tache sombre de mûre écrasée, pareille à un crépuscule, un de ces crépuscules ventriloques qui sont la joie et l’apanage des crétins et des nains au temps de leurs menstruations. Cela me faisait penser à des cannibales qui mâcheraient des fleurs, à un délire de Bantous, à un rut de licornes vantrées sur de lits de rhododendrons[133].
Ну и что же тут такого непечатного, в этом дивном пассаже, который я принужден цитировать на чужом языке, чтобы напечатать его в такой цивилизованной стране, как наша? Я готов чуть ли не извиняться перед интеллигентным читателем за то, что предъявляю ему отрывок из классической английской литературы в искаженном переводном виде. Я не говорю, что перевод плох, — отнюдь! Быть может, где-то излишне буквален, если уж наводить критику. Слова все на месте — те самые, внушающие ужас односложные слова, которые без содрогания, кажется, способны воспринимать одни лишь французы. Вероятно, у переводчика были веские основания обозвать жизненно важный мужской атрибут словом «le truc»[134] вместо «la bite» [135], хотя мне они сей миг не видны: что плохого в «la bite» — разве это так уж неблагозвучно? Впрочем, я не намерен придираться по пустякам — даже скверный перевод лучше, чем никакого вообще. Плохо то, что этот блестящий фрагмент приходится приводить в переводе!
Какие ассоциации вызывает роскошная, пышная грубость этого пассажа? В поисках соответствий моя память проносится сквозь века. Позвольте, простого сопоставления ради, процитировать — опять же на французском, но на сей раз французском шестнадцатого века — отрывок из прославленного шедевра, известного каждому школьнику:
…Je voy que les callibistrys des femmes de ce pays sont à meilleur marché que les pierres: d’iceulx fauldroit bastir les murailles, en les arrangeant par bonne symmeterye d’architecture, et mettant les plus grans aux premiers rancz, et puis en taluant à dos d’asne arrenger Les moyens, et finablement ies petitz; puis faire un beau petit entrelardement à poinctes de diamans, comme la grosse tour de Bourges, de tant de bracquemars enroiddys qui habitent par les braguettes claustrales. Quel diable defferoit telles murailles? Il n’y a metal qui tant resistast aux coups; et puis, que les couillevrines se y vinssent frotter, vous en verriez (par Dieul) incontinent distiller de ce benoist fruits de grosse verolle menu comme pluye. Sec, au nom des diables! Dadvantaige, la fouldre ne tomberoit jamais dessus: car pourquoy? ils sont touts benists on sacrez. — Je n’y voy qu’un inconvenient. Ho, ho! ha, ha (dist Pantagruel)! — Et quel? — C’est que les mousches en sont tant friandes que merveilles, et s’y cueilleroyent facilement et y feraient leur ordure; et voylà l’ouvrage gasté. — Mais voicy comment l’on y remediroit: il fauldroit très bien les esmoucheter avecques belles quehuës de renards, ou bon gros vietz dazes de Provence. Et, à ce propos, je vous veulx dire (nous en allans pour souper) un bel exemple que met frater Lubinus, libro De compotationibus mendicantium[136].
Здесь рассказчик приводит в качестве отступления длинный анекдот из тех времен, когда животные еще умели говорить («а это не давесь было»). Он рассказывает о происшествии, приключившемся с одним злосчастным львом в лесу Фонтенбло: угольщик, сидевший на дереве и обрубавший сучья, случайно уронил топор и сильно ранил в бедро проходившего мимо льва. Вскоре лев встречает плотника, и тот промывает рану, затыкает ее мхом и наказывает своему «пациенту» старательно отгонять от раны мух. Немного погодя лев ненароком чуть не до смерти испугал старуху, собиравшую хворост в том же лесу. Бедняжка со страху грохнулась навзничь, а лев, подбежав посмотреть, не сильно ли она ушиблась, обнаруживает нечто, что он тоже принимает за рану от топора. «О, бедная женщина! Кто же это тебя так?» Тут он видит лиса и подзывает к себе, прося об одолжении:
Compere, mon amy, l’on a blesse ceste bonne femme icy entre les jambes bien villainement, et y a solution de continuité manifeste; regarde que la playe est grande depuis le cul jusques au nombril, mesure quatre, mais bien cinq empans et demy. C’est un coup de coignie; je me doubte que la playe soit vieille. Pourtant, affin que les mousches n’y prennent, esmouche la bien fort, je t’en prie, et dedans et dehors; tu as bonne quehue et longue; esmouche, mon amy, esmouche, je t’en supplye, et ce pendent je vay quérir de la mousse pour y mettre: car aussi nous fault il secourir et ayder l’un l’aultre. Esmouche fort, ainsi, mon amy, esmouche bien: car cette playe veult estre esmoucheé souvent: aultrement la personne ne peut estre à son aise. Or esmouche bien, mon petit compere, esmouche; Dieu t’a bien pourveu de quehue: tu l’as grande et grosse à l’advenent; esmouche fort et ne t’ennuye poinct. Un bon esmoucheteur qui, en esmouchetant continuellement, esmouche de son mouchet, par mousches jamais esmouche ne sera. Esmouche, couillaud; esmouche, mon petit bedaud: je n’arresteray gueres[137].
Лев, далее, углубляется в чащу за мхом для раны бедной женщины, оставив ее заботам лиса. Когда лев наконец вернулся, притащив более восемнадцати вязанок мху, он…
…commença en mettre dedans la playe avecques un bas-ton qu’il apporta; et y en avoit jà bien mys seize basles et demie, et s’esbahyssoit: Que diable! ceste playe est par-fonde: il y entrerait de mousse plus de deux charrettees! Mais le regnard l’advisa: О compere lyon! mon amy, je te prie, ne metz icy toute la mousse; gardes en quelque peu, car y a encores icy dessoubz un aultre petit pertuys qui put comme cinq cens diables. J’en suis empoisonné de l’odeur, tant il est punays. Ainsi fauldroit guarder ces murailles des mousches et mettre esmoucheteurs a gaiges[138].
Отрывок этот взят из пятнадцатой главы книги второй сочинения Рабле, которая называется «О том, как Панург учил самоновейшему способу строить стены вокруг Парижа».
Франсуа Рабле и Генри Миллер… Они принадлежат к одному племени людей: полные жизни и вожделения, оба они — гиганты здоровья, обладающие отменными аппетитами, распространяющимися и на предметы духа, и на земные блага; если уж они чего-то хотят — а хотят они всего, — то хотят с неимоверной силой и безотлагательностью, и, что характерно, у них есть желудок, способный усвоить все, что они поглощают. Вот потому-то они и посвятили себя карикатуре и гротеску, а если короче — восхвалению Божьих даров. В чем разница между идеей Миллера о «соп énorme» как «dédale obscur et souterrain doté de divans et de cosycomers, de dents de caoutchouc et de seringues, de niches moelleuses et d’édredons»[139] и «раной от топора» у Рабле, размером, наверное, в четыре, а то и все пять с половиной пядей, вмещающей шестнадцать с половиной вязанок мху? Да ни в чем! Так кто же из них более непристоен? К непристойности per se[140] ни тот, ни другой отношения не имеют. Если что и делает Рабле и Миллера непристойными в глазах книжников и фарисеев, так это то, что они не чураются крепкого словца; как раз полнотой жизни, избытком энергии они и шокируют. Оба говорят на одном языке, у них один и тот же фокус, один и тот же предел видимости.
Уже не раз высказывалось мнение, что искусство — это субститут жизни, что писатель уходит в литературу, потому что не способен полностью реализовать себя в жизни; иными словами, писатель подвержен своего рода психологическим комплексам или моральным слабостям, побуждающим его писать о той жизни, которая, в силу тех или иных причин, ему недоступна. Я никогда особо не симпатизировал этой теории, хотя не исключаю, что есть писатели, к которым она применима. Разумеется, Генри Миллер не из их числа. С ним все как раз наоборот: Миллер пишет не потому, что не может жить полноценной жизнью, а потому, что писательство заставляет его жить еще более интенсивно. В его случае жизнь и работа переплетены и нерасторжимы гораздо в большей степени, нежели у любого другого из ныне здравствующих писателей, чьи имена приходят мне сейчас на ум. Я уже упоминал где-то о том, с какой невероятной легкостью он может до завтрака настучать десять-пятнадцать страниц — даже невинную крошку Полетт поразила его способность часами барабанить на машинке «не думая», как она выражалась, «даже не глядя на вставленный в машинку листок». Все дело в том, что Генри никогда не бывает рабом своей работы: в первую очередь его интересует жизнь, а жить и писать — это для него одно и то же. Процесс творчества не отдаляет его от жизни, а стимулирует аппетит к жизни более насыщенной. Если в «Тропике Рака», равно как и в других его книгах, Миллер придает особое значение сексу, то лишь потому, что «в своей сексуальной жизни современный человек почти уже мертв», как он пишет в «Мире Секса». У него самого сексуальных проблем нет, как нет проблем религиозных, политических, интеллектуальных, психологических, культурных или космологических. У полноценного человека не бывает проблем — разве что незначительные, разрешающиеся день ото дня. Миллер имеет полное представление о глобальных мировых проблемах, но он не желает быть затянутым в водоворот. Он знает, что нельзя спасти мир. Он даже сомневается, возможно ли спасти самого себя и разумно ли к этому стремиться.
6
Не будем, однако, опережать события. Пока что мы еще в Клиши, и почти два года отделяют нас от издания «Тропика Рака». В этот благословенный период жаловаться нам было не на что — погода, как сказал бы Френкель, всегда стояла отличная.
Миллер жил и писал как сумасшедший, да еще умудрялся выкраивать время для чтения. Читал он запоем: заглатывал Пруста и Лоуренса, Кайзерлинга и Джойса, попутно делая выписки и заметки, которые лягут в основу его будущих книг. Генри никогда не довольствовался работой над какой-то одной книгой. Доделывая «Черную весну», он параллельно собирал материал для предполагаемого исследования о Лоуренсе{136} — «Мир Лоуренса». Кипа заметок и выписок на эту тему достигла между делом таких размеров, что он путался в материале, как в джунглях. Хотя сей грандиозный труд так и остался незавершенным, несколько его внушительных фрагментов все же появились в некоторых из его последующих книг. Это «Космологическое око», «Мудрость сердца» и «Воскресенье после войны».
Порой меня ошеломляла рекордная скорость, с которой он прочитывал и переваривал толстенные тома. Перед завтраком он обычно раскрывал какой-нибудь фолиантище Шпенглера или Отто Ранка{137} и начинал читать натощак. А читатель, надо сказать, он был предобросовестный: ни единой пропущенной строчки; и почти каждая страница тщательно проштудированного им тома ин-кварто была испещрена маргиналиями, заметками и комментариями.
Здесь же, в Клиши, мы пристрастились к езде на велосипедах. В «Черной весне» есть замечательные пассажи о велосипедных прогулках Генри вдоль Сены — к Сюрену и Сен-Клу, а иногда и к Версалю, — вдохновенные страницы, полные дивных, красочных зарисовок Иль-де-Франс, перемежающихся и сопоставляемых с картинами его прошлой жизни в Америке. На такие велосипедные экскурсии Генри отправлялся, как правило, не раньше, чем выработав свою дневную норму листажа, потому что всякий раз, когда он предавался развлечениям, не сделав дела, его не покидало легкое чувство вины — «перед потомками», говорил он шутя. Но если все же погода стояла отличная, а настроение его располагало к прогулке, он без колебаний посылал потомков ко всем чертям.
Иногда мы катили на наших драндулетах до самого Лувсьена, где в большом доме, бывшем когда-то частью поместья мадам Дюбарри, жила Анаис Нин. Это место, навевавшее воспоминания об обители сна из «Le Grand Meaulnes»[141]{138}, обладало каким-то магическим свойством. Издали вилла, расположенная в глубине огромного парка и со всех сторон заросшая плющом и лишайником, производила впечатление некоторой запущенности, но вскоре посетителю становилось ясно, что такое впечатление создавалось намеренно — для усиления очарования. На первый взгляд в этом обширном парке не было ничего à l’anglaise[142]: никто не мешал ему разрастаться — в разумных пределах — и сохранять свою первозданность. Однако полностью воцариться природе не позволяли — ее, так сказать, держали в узде. Буйство ее поощрялось ровно настолько, чтобы поддерживать атмосферу царства Спящей красавицы — не более. Но эффект ирреальности был столь впечатляющим, что, если бы вдруг, откуда ни возьмись, появился фавн или эльф, никто бы даже не удивился.
Входя в дом, ты из сказочной страны переносишься в испанские владения. Более половины комнат обставлены в теплом мавританском стиле; повсюду — обилие тонкого хрусталя и украшений из чеканной меди.
Приезжая в Лувсьен, мы, естественно, оставались там на целый день, а бывало, и на ночь. Раз или два мы брали с собой Полетт, которая души не чаяла в Анаис. Хозяйкой Анаис была чрезвычайно радушной и принимала нас по-царски. Генри отводилась лучшая комната в первом этаже, рядом с кабинетом Анаис. Смежная с моей комната Полетт во втором этаже всегда была убрана свежими цветами, а на столе не переводились вино и фрукты. Анаис позаботилась даже о том, чтобы книжный шкаф был заполнен литературой, подходящей для глупенькой девчушки, но меня не могла не умилить прелестная ирония хозяйки дома, когда, просматривая заглавия на корешках книг в «детской», я, к своему вящему изумлению, заметил томик «Les Cent-Vingt Journées»[143], невинно притулившийся между «Питером Пэном» и «Алисой в Стране чудес». Божественный Маркиз показался до странного неуместным в детской библиотеке.
Обеды обычно имели блестящий успех: кухня — испанская до мозга костей, щедрая на соусы и приправы. После трапезы Анаис переводила кухарке на испанский язык наши восторженные изъявления признательности: старая кастильская крестьянка, прожив во Франции более двух десятилетий, была не в состоянии ни вымолвить, ни понять ни слова по-французски. За обедом больше всех говорил, естественно, Генри. Говорил он с набитым до отказа ртом; меня восхищала его манера ворочать пищу во рту — его челюсти работали, как бетономешалка. Кофе обычно подавали в кабинете Анаис, куда мы перемещались после обеда, вновь попадая в сугубо испанскую атмосферу: теплые махагоновые панели, витражи, как в Гранаде, мавританские фонарики, низкие диваны с шелковыми подушками, инкрустированные столики, мозаичные узоры из камня и стекла, турецкий кофе на чеканных медных подносах, горько-сладкие испанские ликеры. В затемненном уголке курились благовония.
Дневник Анаис произвел на Генри глубочайшее впечатление. Было много разговоров о том, как бы его напечатать. В то же время Генри считал, что для Анаис вести дневник — затея не самая удачная, потому что, как он выражался, «лучше жить, чем писать о жизни». Как-то он высказался даже более резко: «В этом твоем дневнике ты не живешь — ты просто замораживаешь собственную жизнь по своему, так сказать, бортовому лееру, превращаешь ее в некое подобие усиленных заградсооружений, из-за которых ведешь обзор своего существования. Это не жизнь. Твой дневник как кокон, которым ты себя оплела, а теперь лежишь в нем связанная и беззащитная».
Эта последовательность метафор, стремительно сменяющих одна другую, заставила Анаис рассмеяться, но в то же время и слегка разозлиться. Ее задела грубая прямота Генри, тем более, она чувствовала, что он не так уж и не прав. Она признавала, что дневник с недавнего времени стал занимать слишком большое место в ее жизни.
— Но ты ведь не хочешь, чтобы я его уничтожила? — спросила она.
— Ну вот еще! Уничтожить — значит сохранить навсегда. Уничтожение никогда не приносит ожидаемых результатов и не решает дела. Самый верный способ освободиться от текста — это его опубликовать. Только тогда ты сможешь жить, а не караулить дневник. А ведь именно этим ты и занималась все последние годы, продолжая пасти его, как частный детектив, вынюхивающий подробности своей же собственной личной жизни. Дневник такого размаха, как твой, заставляет тебя жить en marge[144], тогда как твоя настоящая, основная жизнь хранится под замком — надежно, как фамильные драгоценности в банке или труп в фамильном склепе.
Я живо помню наше велосипедное путешествие по загородным замкам. До Орлеана мы везли свои драндулеты на поезде, а оттуда проследовали по берегу Луары, заезжая почти в каждый замок. Поездка была дивная, но, хотя путешествовали мы налегке, сильный встречный ветер несколько замедлял наше продвижение вперед. Спешить нам было особенно некуда, так что мы часто притормаживали в придорожных трактирах, растягивая наши завтраки далеко за полдень. Центральная Франция славится своими кулинарными изысками, и мы перепробовали кучу замечательных блюд. Генри особенно полюбился rillettes de Tours[145]— один из местных туреньских деликатесов, так хорошо идущий под восхитительное тамошнее vin rosé[146]. Местность большей частью была равнинная, ну, может, чуточку холмистая, отчего катить по ней было сплошное удовольствие. Сильный встречный ветер, однако, доконал Генри: он доехал со мной только до Блуа, а там сел на поезд и вернулся в Париж. Я же через Тур и Лимож проехался аж до Перигё.
7
Среди гостей Миллера, навещавших его в Клиши, был Жан Рено, с которым он свел знакомство в период своего недолгого пребывания в Дижоне. Рено был уроженцем Бургундии и в столицу приехал впервые. Лучшего гида по Парижу, чем американец ранга Генри Миллера, он бы и пожелать не мог. Английским Рено не владел, и меня приводила в восхищение манера Генри раскрывать перед французом, да еще и на его родном наречии, тайные красоты Парижа, каковые в противном случае непременно от него бы ускользнули. Не будь Миллера, Рено узнал бы лишь тот Париж, каким его видит всякий провинциал; Генри же, как и полагается, привел его в самое сердце города.
Конечно же, об осматривании достопримечательностей в общепринятом смысле не было и речи. Вместо этого Генри совершал с Рено долгие прогулки по самым удаленным и труднодоступным кварталам: Пантен, Менильмонтан, Виллет, Бют-Шомон и старый Монмартр, где пейзаж теряет свой парижский характер и становится до странного провинциальным, почти чужим. Генри был чудесным вожатым: он постоянно открывал новые картины, новые места, незнакомые грани любимого им города; он мог показать парижанину тот Париж, которого сам парижанин в жизни не видывал и о существовании которого даже не подозревал.
Обходясь какой-то парой слов на своем зверском французском, он то всеохватывающим взглядом, то просто движением руки представлял своему другу так полюбившиеся ему виды: забавные хибарки, выкрашенные в красный и зеленый цвет, казавшиеся скорее уголком Чехословакии, нежели Парижа; развешанное за окнами белье — белое и розовое, как в Неаполе; внутренние дворики, заполненные нелепыми, похожими на игрушечных, цыплятами; импровизированные кузницы под брезентовыми тентами, где истекающие потом гиганты из Шварцвальда выковывали анахроничные подковы; множество торговцев кониной; всюду плющ, лишайник, висячие сады, писсуары, лавки древностей, кривые деревца, бордели. Куда как далеко бедекеровскому Парижу до Парижа Миллера! И француз Рено — разумный, внимательный, уравновешенный, проникнувшийся миллеровским энтузиазмом, захваченный его ликующим динамизмом — съедает все это с потрохами.
Перегнувшись через парапет, они в молчаливом общении обозревают раскинувшийся внизу город. С ними заговаривает какая-то монахиня, торгующая свечками и образами святых. «Нимб Иисуса засияет, как чистое золото, если потереть его кусочком сухой фланели», — прошелестел ее ласковый голос. Еще она продает водицу из реки Иордан местного разлива. Из охрипшего граммофона доносятся обрывки изъеденной молью мелодии: «…quand on est sous les draps — quatre pieds et quatre bras»[147]. Это ларингитным менильмонтанским голосом поет Морис Шевалье{139}. И вот чары рассеиваются. Улица Лепик. Крутой спуск. Снова торговцы кониной. Генри зигзагом, словно на роликах, стремительно скользит вниз. Крошечные беленые домишки — мечты Утрилло{140} и Ван Гога{141}; узкие польские коридоры; саарские селяне{142}; антикварные лавочки; зеленные лавки, терракота, marchands de quatre saisons[148]; красные фонари борделей, поблекшие от солнца… Mise en scène[149] из Оффенбаха{143}.
По возвращении в Клиши мы закатываем на кухне грандиозный пир. Закуски поистине variés[150], яйца под майонезом, креветки, байонская ветчина, оливки — черные, зеленые и фаршированные, сельдерей с ремуладом, огурчики, помидорчики, картофельный салат и отборная cochonnade d’Auvergne[151]. За сим, на entrée[152] — нежнейшая poulet de Bresse[153]. Далее — plat de résistance[154]: châteaubriant[155], тающий во рту при одном прикосновении языка, гарнированный золотыми pommes alumettes[156] и зеленью. Потом салат, щедро сдобренный приправами (n’oubliez pas la gousse d’ail)[157]. Потом entremet[158] — воздушное суфле по-арманьякски. Потом сыры, фрукты и орехи. И конечно же, приличествующие такому обеду вина: пара pichets[159] арбуасского — к закускам, несколько бутылок мутон-ротшильда — к мясцу, по стаканчику виттеля — к салату и, наконец, этот бьющий в голову, этот бархатный жевре-шамбертен — к fromage de chèvre![160]
Неужели мы вконец оскотинились? Никоим образом! Генри, восседающий во главе стола, держится как йог, устроивший себе выходной. А почему бы нам, собственно, не повеселиться? — словно выражает весь его вид. Нищие среди вас{144} всегда найдутся, — казалось, говорит он (понятное дело, без слов), — я же не всегда буду с вами. Есть что-то назарейское в наших кухонных посиделках в Клиши. Да нет же, вовсе мы не оскотинились. Едим мы и пьем, разумеется, гораздо больше, чем положено, но иной раз можно себя и побаловать. Ясно же, что чем изысканнее вина и яства, тем утонченнее застольные беседы. Жаль только вот, не было у нас своего Эккермана{145} — хотя бы механического, чтобы записывать наши разговоры! Так трудно посмертно реконструировать подобные сборища! Беседа текла легко, и не надо было напрягаться, чтобы ее поддерживать. Даже глупые реплики Полетт, которая большей частью сидела молча, никого не могли сбить с панталыку. Одно присутствие Генри действовало как некий метроном, ритмизующий наше общение. Поскольку Рено не понимал по-английски, Генри приходилось изъясняться на французском, а этот язык оказывал невероятное воздействие на его ораторские способности. Я уже не раз проходился по поводу американского акцента Генри. Что правда, то правда — акцент у него действительно был зверский, но французского языка Миллер никогда не коверкал: казалось даже, будто сам язык — а язык вещь живая, — понимая, что Генри его любит, охотно предавался извращениям, не теряя своей выразительности. Когда Генри не удавалось подобрать нужное слово, он придумывал свое собственное французское слово, которое, при всей его нефранцузскости, было понятно всем. Он всегда умудрялся высказать именно то, что хотел, даже если для этого ему приходилось либо прихрюкнуть, либо негодующе взмахнуть рукой, либо напрячь мышцы шеи. Рено был ошеломлен и восхищен; его природное чутье помогло ему постичь глубины духа этого странного американца. На него, как и на Полетт, сильное впечатление произвела та чудесная сила, что исходила от Генри, но, в отличие от глупой девчушки, которую проявления этой силы только забавляли, Рено был порядком ошарашен. Его французская логика, может, и отвергала всякую мысль об игре эзотерических сил, зато эмоционально он не мог не отозваться на эту неизъяснимую сверхпросветленность, обязанную своим происхождением не интеллекту, а Богу и только Богу.
8
На следующий день нежданно-негаданно из Америки приехала Джун. У меня есть подозрение, что к ее возвращению приложила руку Лиана; не могу сказать наверняка, но я бы вряд ли удивился, узнав, что это она вытащила Джун в Европу. Если так, то это было сделано из лучших побуждений: Джун должна была стать ее очередным подарком Генри.
В те дни Генри работал над «Тропиком Козерога», первой из его автобиографических книг, рассказывающих о жизни с Джун. Как я уже говорил, Генри завел обычай посылать Лиане по почте новые куски «Козерога» по мере их написания. Те, кто знаком с творчеством Миллера, знают, что литературное жеманство не по его части. Когда он писал о Джун, он целиком окунался в свою стихию. И хотя обычно он работал над несколькими книгами одновременно, я всегда мог сказать, когда он сидит за «Козерогом». Я знал это, потому что в такие часы он запирался у себя в комнате, с головой уходя в работу, и стук машинки, слышный даже внизу на улице, и безостановочное курение сигареты за сигаретой, и, наконец, тот внутренний монолог, что постоянно раскручивался у него в мозгу, тут же начинали приносить плоды. Но что ни говори, процесс «материализации» Джун был для него сладостной мукой, которую он не променял бы ни на какие горы китайского риса Страдание и экстаз идут рука об руку. Генри испытывал жестокие схватки роженицы, но разрешение от бремени неминуемо. Чтобы дать жизнь Джун, он должен был вырвать ее из собственной плоти, должен был искалечить себя, лишь бы она могла жить — хотя бы на бумаге. Он не брезговал никакими мазохическими изысками и временами напоминал какого-то духовного гинеколога, делающего себе кесарево сечение без применения анестезирующих средств.
Разумеется, его непотребное поведение причиняло Лиане неимоверные страдания. В том рвении, с которым Генри отдавался работе над «Козерогом», Лиана видела рецидив его страсти к Джун, страсти, грозившей после столь долгого тления вновь разгореться с непреодолимой силой. Я пытался ее убедить, что ей не о чем беспокоиться. Если мужчина начинает писать о женщине, которую любит, значит, он уже освободился от всепоглощающей страсти к ней: всякая любовная история неизбежно кончается эпитафией.
Впрочем, я оказался не вполне прав. Вернулась Джун, а с ней — горячка и лихорадка прошлого. Сразу стало очевидно, что Генри еще не вырвался из ее когтей. Его безотчетная страсть была сродни эндемической лихорадке, при которой бывают долгие периоды, когда болезнь протекает в скрытой форме. Внезапный приезд Джун повлек за собой острый кризис.
Прощайте, тихие дни в Клиши! Двое суток после ее приезда меня не покидало ощущение, что я нахожусь в психиатрической лечебнице. Джун болтала без умолку, и от ее болтовни даже я, человек как-никак посторонний, сам чуть было не лишился рассудка. Она всюду распространяла атмосферу перманентной интоксикации, как будто постоянно накачивалась наркотиками. С тех пор как я видел ее в последний раз — семь лет назад, — она совсем не изменилась, разве что, пожалуй, стала чуть бледнее лицом, а ее иссиня-черные волосы немного отросли и стали еще темнее. Все тот же театральный макияж, все те же актерские замашки, все та же длинная, ниспадающая свободными складками накидка, в которой она была при нашей первой встрече — в кафе «Дом», в обществе Джин Кронски.
Жизнь в нашей квартире стала невыносимой. Повсюду валяются ее вещи, полочки в ванной комнате заставлены ее кремами и косметикой, солями для ванн и туалетной водой, флакончиками с раствором магнезии и сельтерской водой, зубными щетками, белилами, духами и пуховками. Вначале у них с Генри еще возникали отдельные всплески страсти, и тогда они сутками не вылезали из своей комнаты и даже обедали у себя. Они вели себя как парочка ошалевших попугаев. Понимая, что долго это не продлится, они действовали по принципу: коси, коса, пока роса. Произошло уже несколько яростных стычек — не очень серьезных: настоящие конфликты были не за горами.
Без слов ясно, что писать Генри бросил. За день до ее приезда у него все было готово к встрече. Он знал, что она будет совать нос в его записи, и, дабы избежать бурных сцен, предусмотрительно уничтожил некоторые из наиболее «компрометирующих» набросков, сделанных им для книги. Рукопись он отдал на хранение Анаис Нин, которая надежно спрятала ее вместе со своим дневником. Что же до Лианы, то ей было довольно-таки не по себе, хотя наедине с Джун она чувствовала себя прекрасно. Возникла ситуация весьма необычного треугольника, и было бы несколько рискованно слишком увлекаться анализом ролей, взятых на себя каждым из трех персонажей. Вспоминая о двусмысленных отношениях Джун с Джин Кронски, я всегда чувствую себя неловко, видя, как она заигрывает с Лианой, хотя последняя, насколько я понимаю, была человеком в высшей степени уравновешенным.
В первые несколько недель пребывания Джун в Париже Лиана, к вящему горю Полетт, которая обожала ее безмерно, посещала нас гораздо реже обычного. В этой связи я должен заметить, что Полетт почти моментально воспылала ненавистью к Джун, что было тем более странно, что Джун изо всех сил старалась понравиться девушке и в отношении к ней всегда проявляла максимум доброты. Единственное объяснение этой ненависти я вижу в том, что Полетт с ее куриными мозгами чувствовала людей инстинктивно, как это бывает, например, у собак.
В один прекрасный день, по той простой причине, что его давно ждали, разыгралось настоящее светопреставление. Даже не знаю, с чего все началось. Возможно, тут не обошлось без ревности, хотя для стороннего наблюдателя вроде меня не так-то легко было определить, кто кого к кому приревновал: по мне, так у каждой из трех «сторон» треугольника были все основания для ревности. Между Генри и Джун разгорелся настоящий бой. Лиана оставалась в глубине сцены; мы с Полетт — на галерке. Все началось как-то ранним утром: яблоком раздора стала какая-то незначительная реплика, оброненная, как горящий окурок в засушливых джунглях. Пожар можно было бы потушить в мгновение ока, и тогда бы снова воцарился мир или хотя бы временная передышка, вооруженное перемирие, но оба они, похоже, всерьез вознамерились не покидать поля брани до победного конца. Они сошлись, чтобы ранить друг друга, чтобы унизить и истребить, чтобы биться не на живот, а на смерть, без всякой надежды на пощаду. Это была яростнейшая схватка двух разных темпераментов, двух разных миров, и ее резонанс потряс всю будничную, мирную атмосферу авеню Анатоля Франса.
Джун собралась вернуться в Америку, и я решил, что настал конец страданиям моего друга. Как бы не так! В прошлом, по словам Генри, у них уже бывали подобные стычки, даже более яростные. Тот скандал, свидетелем которого мне довелось стать, был скандалом лишь среднего накала, неминуемо грозящим достигнуть апогея в таком же среднего накала примирении. Несмотря на их расхождения в отношении чего бы то ни было, эти двое, видимо, где-то на промежуточном уровне между сексом и чувственностью были накрепко связаны какой-то пагубной мистической силой: сколь бы они ни пытались, им ни в какую не удавалось отделаться друг от друга — они зависели один от другого, как некое гермафродическое целое.
Джун внезапно выехала из квартиры, но всего лишь на Монпарнас, где она на некоторое время поселилась у друзей. Это не решило проблемы, не восстановило мира в Клиши. Генри постоянно был начеку — тревожный, нервозный, взбудораженный. Он хотел завершить работу и в то же время хотел Джун. Лиана не смогла занять место Джун, равно как и шлюхи из кафе «Веплер» и с Авеню-де-Клиши. Без сомнения, здесь действовала все та же химия любви, что делала этих двоих незаменимыми друг для друга. В царстве секса они были дьяволом с дьяволицей, одержимыми демоническими силами одинаковой природы. И до тех пор, пока Джун оставалась на сцене, можно было ожидать любых сюрпризов. Назрела необходимость во что бы то ни стало выдворить ее из Франции. В случае неудачи — осенило вдруг меня — Генри придется хотя бы на время эвакуировать из Парижа.
— Джои, почему бы тебе не смотаться в Англию? — предложил я. — А что, дивная страна, тебе там понравится. Лондон — отличное место для отдыха, и люди там прекрасные. Говорят на том же языке, что и ты, даже более красивом, да и пища там не так уж плоха, как ты, вероятно, себе представляешь. Ну а в случае запора тебе надо будет только добавить в утренний чай щепотку солей Крушена, и порядок. Небольшое развлечение пойдет тебе на пользу.
Как ни странно, мое предложение заинтересовало Генри. Он и сам чувствовал потребность сменить обстановку и декорации. Напряжения последних недель хватило ему за глаза и за уши. Ко всему прочему ему не привыкать спасаться бегством в неловкой ситуации: его врожденный оптимизм и отношение к жизни по принципу laisser-faire[161] вселяли в него надежду, что стоит лишь устраниться из зоны бедствия, как все само собой образуется и вернется на круги своя.
— А как с деньгами, Джои? — поинтересовался он.
— С этим проблем не будет, — заверил я категорически. — Совместными усилиями на дорогу мы всегда наскребем. Если ты двинешься маршрутом Дьепп — Ньюхейвен, а это самый дешевый способ добраться до Англии, на все про все тебе понадобится каких-нибудь три сотни франков, ну четыре, так что приедешь ты не с пустым карманом: на первые день-два тебе хватит. Еда в Лондоне стоит недорого — пара шиллингов, и ты сыт. С голоду ты у меня не опухнешь. Еду, сигареты «Плейерз», слабое горькое и восхитительные фруктовые соли Эно я тебе гарантирую. Вдобавок в день выплаты содержания я обещаю тебе в качестве дополнительной услуги необременительный разовый «спарринг» с одной из красоток «бригады ночного патрулирования» с Олд-Комптон-стрит{146}. Тебе не придется беспокоиться ни о какой ерунде. А когда буря утихнет, ты вернешься назад.
— Хм, — пробасил Генри.
Не знаю как, но нам удалось собрать почти тысячу франков на первые дорожные расходы. Мы купили в конторе Кука{147} билет до Лондона и обратно, а остаток денег перевели в английскую валюту. Получилось где-то четыре фунта и десять шиллингов. Паспорт у Генри уже был, а виза в Соединенное Королевство американцу не требовалась. На следующее утро ему предстояло отбыть в туманный Альбион.
Не тут-то было. В тот же вечер в Клиши вновь заявилась Джун. Вероятно, ей наскучил Монпарнас и ее монпарнасская компания — парочка голодающих тапеток[162]. Целью ее визита было прозондировать почву и оценить перспективы возможного примирения. К несчастью, в момент ее прихода меня не было дома (я все еще работал по ночам в «Чикаго трибюн»), и Генри пришлось общаться с ней один на один. Вернувшись с работы около трех утра, я застал его в полном одиночестве: он сидел на кухне за бутылочкой божоле и что-то невнятно бормотал себе под нос. На столе — остатки ужина tête-à-tête. Рассказывая о том, что произошло, он явно был в приподнятом настроении. Будучи слегка подшофе, он говорил не вполне связно, но я понял, что у них с Джун снова все тип-топ. Надо же, как трогательно — просто слов нет! Джун не осталась, потому что ей надо было позаботиться о своих гавриках — они переживали тяжелый финансовый кризис. Джун и сама-то была на бобах. Не знаю уж, как ей удалось выудить из Генри правду, но она быстро сообразила, что он собирается в Англию. Он продемонстрировал ей билет и английские банкноты. В те прединфляционные дни английский фунт был еще в цене. Джун давно уже не приходилось видеть столько денег. Зачем, недоумевала она, ему понадобилось бежать в такую глушь, как Лондон? И он откровенно признался, что так ему удалось бы от нее отделаться. Когда Генри припирали к стенке, он бывал обезоруживающе и жестоко откровенен. Джун заявила в ответ, что ему нет необходимости из-за нее уезжать из Парижа, потому что она в любом случае намерена вернуться в Штаты. Скорее всего между ними состоялась небольшая стычка — не слишком яростная: было бы непредусмотрительно закатывать грандиозный скандал при наличии на столе такой кучи английских банкнот. Подозреваю, что эти двое отлично поужинали с одной или двумя бутылками вина и рюмочкой бенедиктина с кофе. А к исходу ужина они, конечно же, подобрели и рассентиментальничались.
Как бы Джун ни нуждалась в деньгах, я убежден, у Генри она бы просить не стала. Наверняка он всучил их ей насильно, хотя на следующее утро, когда я пытался вытянуть из него подробности, он это яростно отрицал. Несчастный болван отдал ей все до последнего пенни. Мало того, убедив его отказаться от поездки в Англию, она забрала еще и билет в надежде, что бюро путешествий возместит ей его стоимость.
Я немного запаниковал. Раз уж Генри, который всегда идет по пути наименьшего сопротивления, пустил все на самотек, Джун точно рано или поздно вернется и возобновятся сцены и скандалы. Что делать? Пришлось срочно пораскинуть мозгами. Альтернатива следующая: либо предоставить Генри вариться в собственном соку, либо, пусть даже в принудительном порядке, отправить его в Англию.
Я взял под мышку свою пишущую машинку и отнес ее в Креди-мюнисипаль — тот самый муниципальный ломбард, что в самом лучшем виде описан Джорджем Оруэллом в его книге «На обочине жизни в Париже и Лондоне», — и получил за нее триста франков. На них я приобрел новый билет до Лондона и обратно. Вернувшись домой, я нашел Генри в мрачном расположении духа. Он признался, что уже предвкушал удовольствие от своей увеселительной поездки в Лондон, и теперь, кажется, впервые в жизни сожалел о своей щедрости. Когда я помахал у него перед носом вновь приобретенным билетом, он только что не запрыгал от счастья. Мы быстро упаковали вещи и пошли ловить такси. По дороге на вокзал Сен-Лазар мы притормозили возле редакции «Трибюн», где я выпросил в счет будущей зарплаты еще двести франков. Поезд был готов к отправлению и пускал пары, так что на прощальный кубок времени у нас не оставалось. Мы торопливо распрощались, и, когда поезд тронулся, я сунул Генри только что раздобытые франки.
Последующие детали этого приключения хорошо известны тем, кто удосужился прочесть рассказ Миллера «Маршрутом Дьепп — Ньюхейвен»{148} в сборнике «Космологическое око». Хотя рассказ получился на редкость смешным, при столкновении с Британской иммиграционной службой Генри было совсем не до веселья. По прибытии в Ньюхейвен он тут же вызвал недовольство чиновника этого ведомства. По идее Генри должны были пропустить беспрепятственно, так как уже один вид американского паспорта служил достаточной гарантией состоятельности его обладателя. Но случилось так, что Америка к тому времени утратила свою былую популярность у англичан. Мы, англичане, только-только выплатили Америке значительную часть нашего военного долга — сколько-то миллионов фунтов золотом, не помню точно. (Кроме финнов мы были единственными из союзников, у кого хватило глупости это сделать.) Когда чиновник иммиграционной службы обнаружил, что за душой у Миллера всего лишь горсть франков, его патриотизм полез наружу и он решил отыграться на Генри. Короче говоря, Миллера следующим же утром отправили назад во Францию. В ходе жестокого и продолжительного допроса (воспроизведенного в упомянутом рассказе), предшествовавшего высылке, Генри врал как сивый мерин и постоянно сам себе противоречил, а в итоге признался, что он людоед, ловелас, беглый муж, садист, мазохист и автор порнографических книжек.
На следующий день Генри снова был в Клиши.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Вилла Сёра
1
И снова Вилла Сёра.
Метро «Алезиа» — маленький carre-four[163], — там церковь, куда в первые месяцы весны всегда стекается рой молоденьких Христовых невест, а прямо напротив — кафе «Зейер», увеселительное заведение, с аляповатой роскошью декорированное красным плюшем, зеркалами, до блеска начищенной медью и насквозь провонявшее choucroûte garnie, gauloises bleues и fine à l’eau[164]. Кафе «Зейер» (ныне «Ле-Болеро») мы «оказывали частную финансовую поддержку», когда бывали при деньгах. Fine à l’eau стоил франк семьдесят пять стакан, а поговорить Генри был горазд: кто бы какую тему ни подкинул, ему годилась любая; запас же их был неиссякаем и охватывал и минеральный, и растительный, и животный миры.
На противоположной стороне Авеню-д’Орлеан находилось менее претенциозное и не такое большое bistrot «Букет д’Алезиа»; туда мы заглядывали по случаю перехватить после обеда или перед кино стаканчик vin blanc cassis либо café anosé rhum[165]. Особенно мне запомнилась тамошняя кассирша — скорее всего сама patronne[166], — на высоком табурете восседавшая за кассовым аппаратом и без конца считавшая франки; она производила впечатление законченной психопатки, хотя просто-напросто была без ума от франков: складывала их стопочками, пересчитывала взад-вперед, заботливо разглаживала, разделяла на кучки, перебирала словно четки, бормоча при этом слова, звучавшие как литания{149}; изредка она их даже украдкой целовала.
Причина, в силу которой я упоминаю метро «Алезиа», состоит в том, что оно, можно сказать, представляло собой передний край круговой обороны Виллы Сёра. Если идти по Рю-д’Алезиа и свернуть потом направо, на Рю-де-ля-Томб-Иссуар, то Вилла Сёра, фактически cul-de-sac[167], будет вторым поворотом налево; первый же поворот — это Рю-де-л’Од. Эта часть 14-го аррондисмента имела довольно-таки трущобный вид: пьянчуги, нищие, проститутки и беспризорники попадались тут чуть не на каждом шагу, однако Вилла Сёра стояла как-то особняком; даже в физическом плане она несколько выбивалась из общей картины квартала Оштукатуренные или кирпичные домики были окрашены в розовый, зеленый и красный цвет, и в них присутствовала этакая «пряничность» — как в сказке «Ганзель и Гретель». Оборудованы эти дома по парижским стандартам были совсем неплохо: хорошо освещенные просторные мастерские с центральным отоплением, ванные комнаты, кухни, кладовки. Среди наиболее известных художников, в разное время квартировавших на Вилле Сёра, были Сальвадор Дали{150}, Люрса{151}, Громмер{152}, Сутин{153}, Хана Орлофф{154} et alii.
Генри Миллер засветился в номере восемнадцатом. Именно «засветился» — точнее не скажешь. Он воссиял оттуда словно некое атмосферное явление, распространяя вокруг этакий принудительно-кихотский дух. На подступах к дому Генри, наверное, даже наименее чувствительные из его гостей начинали ощущать присутствие чего-то исключительного. Даже я, знавший его уже без малого шесть лет, даже я, поднимаясь на второй этаж в его мастерскую, не мог не испытывать странного чувства экзальтации и душевного подъема. Я редко входил к нему, не постояв минуту-другую за дверью, прислушиваясь к знакомым миллеровским шумам. В первую очередь я обычно улавливал стук пишущей машинки. Дверь в святилище пестрела записками и avis importants[168]. «Раньше одиннадцати утра не стучать!», «Меня не будет весь день, а может, и две недели», «La maison ne fait pas le crédit», «Je n’aime pas qu’on m’emmerde quand je travaille»[169].И так далее в том же духе. Он прикалывал все эти записочки, потому что терпеть не мог, когда ему докучали во время работы. Но меня обдурить ему никогда не удавалось: я всегда знал, когда его действительно не было дома, я это носом чуял.
Джун отбыла в Нью-Йорк, так что эмоциональные встряски и срывы у Генри временно прекратились. «Тропик Рака» вышел наконец из печати и относительно успешно расходился из-под полы, а также в монпарнасских кафе, где Эва Адамс продавала его вместе со старыми номерами «Нового обозрения» и лимериками{155} Нормана Дугласа{156}. Она должна была заказывать книги в «Обелиск-Пресс» по обычной отпускной цене, но Миллер, как правило, снабжал ее более дешевыми экземплярами, купленными им у Кагана по специальному авторскому тарифу — якобы для раздачи друзьям. Так что в «Доме» ему всегда была гарантирована кое-какая наличность, если он появлялся там без гроша.
Монпарнас менялся на глазах. К власти пришел Гитлер, и, хотя подавляющее большинство обитателей Квартала по-прежнему составляли американцы, наблюдался уже мощный приток немецких беженцев — «просачивание в тыл противника», набиравшее месяц за месяцем все большую количественную мощь. Их печальные, озабоченные лица все чаще мелькали на террасах «Дома» и «Куполи». Спустя несколько лет, к тому времени когда Миллер, via[170] Грецию, вернулся в Штаты, Монпарнас почти целиком был «захвачен» немцами.
Денег по-прежнему не хватало, несмотря на то что Лиана помогала Генри с оплатой квартиры, да и Каган обычно с готовностью приходил на выручку. Осторожный и ловкий делец не успел еще сколотить состояние на книгах Миллера, но он любил Генри и никогда не отпускал его с пустыми руками, если тот подъезжал к нему с просьбой выдать небольшой авансец. И Генри вполне мог рассчитывать более или менее регулярно получать от него сотню-другую франков. Он никогда не просил больше и мог бы удовлетвориться и пятьюдесятью. Пятидесяти франков было достаточно — более достаточно, нежели пяти тысяч. Пять тысяч разлетелись бы так же быстро, как и пятьдесят: на следующий день Генри все равно бы уже сидел на мели.
Помню, как однажды утром я сопровождал его в контору Кагана на Фобур-Сент-Оноре. Было свежо, и мы весь путь проделали пешком, так как пустых бутылок на транспорт нам в тот день не хватило. Только мы добрались, как Генри вдруг приспичило и ему срочно понадобилось в уборную.
— Где тут у тебя курсальник, Джек? Скорее, Джек, — дело не терпит! — пророкотал он вместо приветствия, ничуть не смущаясь присутствием секретарши, хорошенькой новенькой девушки с рыжими волосами, которой Каган диктовал письмо. Ни Каган, ни секретарша не поняли, что значит «курсальник», и обменялись недоуменными взглядами.
— Давай-ка, Генри, изъясняться на нормальном языке, — изрек Каган.
— Курсальник, Джек! — объяснил Генри. — Ну, это — куда ты бежишь, когда тебе надо продристаться, — сортир, туалет, lavabos, les cabinets, les waters[171] ну! Да говори же скорее, еще минута — и я не выдержу!
Подобного рода выходки Миллер позволял себе не для того, чтобы шокировать окружающих. Просто он был естествен. И в этой его естественной беспардонности не было ни намека на позерство. А что, собственно, ужасного в том, чтобы спросить, где находится туалет? Почему это в таких вещах обязательно надо проявлять щепетильность? Разумеется, он отлично знал, что есть люди, которым легче умереть, чем в присутствии леди поинтересоваться, как пройти в туалет. Но почему? Почему? Ведь никому же из них не придет в голову стесняться или смущаться, спрашивая, как поскорее добраться до ближайшего полицейского участка, пункта скорой помощи или психбольницы.
Упомянутый эпизод я привожу здесь потому, что он дает ключ к пониманию натуры этого homo naturalis[172]. Именно в этой его детской непосредственности и обвиняют Миллера некоторые из критиков. Способность говорить без обиняков, называть вещи своими именами всегда вызывает подозрение у извращенных, искалеченных умов. Генри слывет среди них порнографом. Но порнограф никогда не будет называть вещи своими именами! Подлинно эротический прием требует косвенного, периферического подхода. Если Миллер употребляет какое-нибудь крепкое словцо, что случается довольно часто, то это происходит именно из его детской непосредственности и способности называть вещи своими именами, тем более что иногда, мне кажется, пропуски всех этих «страшных» слов могут произвести неизмеримо более шокирующий эффект, нежели их употребление. У него каждое лыко в строку — каждое слово на своем месте. В устах ребенка, святого или инопланетянина те же слова прозвучали бы с тем же эффектом и с той же степенью невинности.
2
Френкель по-прежнему жил в своей роскошной мастерской в первом этаже и усердно работал над пресловутой «Сводкой погоды». Работа продвигалась медленно, но удовлетворительно: к возвращению Генри он приступил уже то ли к шестой, то ли к седьмой главе. У Френкеля появилась сожительница — англичанка по имени Дафна. Довольно милая особа, и хотя явно не первой молодости, но приветливая и обходительная. Она занималась хозяйством, готовила Френкелю еду, а в свободное от забот время любила его всей душой. Дафна обожала музыку, особенно оперу, и дважды в неделю посещала «Опера-Комик». В первую фазу их lune de miel[173] раз или два ей удалось уговорить Френкеля сопровождать ее в театр, хотя он не отличался особой музыкальностью и на дух не переносил оперы. В ответ на смиренный интерес Дафны к его «Сводке погоды» он позволял ей вытащить себя на представление «Тоски» или «Cosi fan tutti»[174]. Словом, прекрасно было все в саду.
Естественно, Френкель был вне себя от счастья вновь иметь при себе Генри, которого ему дико не хватало в течение тех двух лет, что Генри просидел в Клиши. И если у него возникала потребность обсудить какой-либо спорный вопрос — чересчур «спорный» для интеллекта Дафны, — Миллер снова был под боком, и к нему можно было обратиться в любое время дня и ночи. Генри теперь всегда ждали к обеду. Еду готовила Дафна, а готовила она отнюдь не дурно — сам едал, знаю. Меня ведь тоже приглашали к столу, когда случалось заглянуть к ним в обеденное время. Могу засвидетельствовать, что ее cuisine anglaise[175] была не только пригодна к употреблению, но и съедобна. Не забывала Дафна позаботиться и о хороших винах — их всегда было в достатке. После бутылочки-другой яблочного бургундского, когда, повеселев, все мы приходили в благостное расположение духа, Дафна расставалась со своей английской застенчивостью и выдавала пару тактов из ее любимой оперы «Фауст»: «Lais-se-moi, lais-se-moi con-tem-pler ton vi-sa-ge»…[176] Более одной строчки Френкель вынести не мог.
Как я уже где-то мимоходом говорил, Френкель обладал отточенным умом и в обществе Миллера блистал в полную мощь. Слушать его было сплошным наслаждением, даже если его речи представляли собой одни лишь перепевы все той же мономаниакальной темы смерти. К смерти он мог свести что угодно, даже «Тропик Рака». Он считал, что Генри должен почитать его, Майкла Френкеля, как человека, якобы вдохновившего его на эту книгу, и яростно отстаивал данную точку зрения, интерпретируя «Рака» в свете своей философии смерти. Послушать его, так Миллер никогда бы не написал свой первый «Тропик», не подфарти ему circa[177] 1930–1931-м познакомиться с Майклом Френкелем.
Миллер имел обыкновение слушать Френкеля с тем сосредоточенным вниманием, которое было так ему свойственно и позволяло собеседнику чувствовать себя как рыба в воде. Он никогда не скупился на похвалы. Стоило Френкелю коснуться чего-то жизнеутверждающего, и Миллер тут же признавал, поддерживал и одобрял его философскую trouvaille[178]. Что до Френкеля, то у него не возникало ни малейшего сомнения, что Генри является сторонником теории смерти, ну а тот простой факт, что в подтверждение этой теории его друг в срочном порядке не умер, не совершил самоубийства и не сделал себе духовного харакири, — это не более чем нелепая случайность.
Когда оба спорщика пребывали в благостном расположении духа, они отправлялись в кафе «Зейер», чтобы спрыснуть свои философическо-метафизические бредни рюмочкой-двумя fine à l’eau[179], предоставив Дафне мыть посуду и штопать носки своему богу и господину. Именно там, в кафе «Зейер», и возникла идея о «книге Гамлета» — я это знаю, потому что сам присутствовал при ее зарождении.
Как-то после одного из затянувшихся чуть не на сутки завтраков на Вилле Сёра мы втроем зашли в кафе «Зейер» поправить здоровье. Делать там было особенно нечего, разве что попивать fine à l’eau да чесать языком, чем мы и занимались. При цене франк семьдесят пять за порцию можно было быстро повысить тонус за весьма умеренную плату, то есть менее чем за десять шиллингов на троих мы умудрялись допиться до той самой кондиции, которая способствует мощному приливу вдохновения. По курсу Френкеля это составляло примерно два бакса, а в переводе одной валюты в другую он был таким же докой, как и в сопоставлении Спинозы с Кантом и Шопенгауэром. Поскольку угощал он, то мы с Генри подкорректировали наш ментальный фокус под его излюбленную тему. Это было просто замечательно — хотя и не вполне вязалось одно с другим — с таким наслаждением предаваться радостям жизни и в то же самое время по уши утопать в смерти. Тут вдруг один из нас — скорее всего Генри — заявил, что довольно глупо, с нашей стороны, попусту сотрясать воздух разглагольствованиями на тему смерти, когда гораздо проще было бы взять и написать об этом книгу.
— Тем самым мы могли бы убить двух зайцев сразу: и вдоволь позабавиться, и сотворить шедевр. Втроем мы накропаем тысячу страниц в один присест.
— Именно тысячу! — возопил уже слегка захмелевший Френкель.
— Тысячу, и ни одной меньше!
— Но и не больше, — сказал я.
— Остынь, Джои. Мы сделаем ровно тысячу, и ни строчкой больше, даже если придется закончить на середине фразы, — успокоил Генри, знавший о моем отвращении к roman fleuve[180] и толстым книжкам вообще. — Тысячу страниц обо всех разновидностях смерти!
Френкель, который заводился с полуоборота, мигом приступил к разработке методики нашего сотрудничества.
— Слушайте, — воскликнул он, — у меня идея! Я уже все себе отлично представляю. Это же ясно как день!
И он объяснил, что единственный способ добиться успеха в нашем деле — это написать книгу в форме писем.
— Подача будет моя: я пишу первое письмо тебе, Генри, а копию отправляю Альфу. Затем вы оба отвечаете мне независимо друг от друга, так что не пройдет и недели, как мы сможем ухватить суть проблемы.
— Какой проблемы? — поинтересовался я.
— Смерти, разумеется! — воскликнули Генри с Френкелем в один голос.
— Смерть — вещь слишком абстрактная, — возразил я, просто чтобы потянуть время. — Нам нужно нечто более ощутимое, какая-то конкретная тема, чтобы смерть могла виться вокруг нее, как плющ вокруг дерева. Официант, три fines à l’eau!
— Три двойных fines à l’eau, официант! — послал вдогонку Френкель с видом заправского кутилы.
Наш друг становился не в меру расточительным.
— Да, Альф прав, — продолжал он. — В кои-то веки прав! Нам действительно нужен конкретный предмет, от которого можно было бы начать плясать.
— Но он не должен быть чересчур конкретным, — сказал Генри, разгорячившись. — Зачем себя ограничивать? Нам понадобится много места для локтя, когда мы как следует раскочегаримся. Так какой же предмет вы предлагаете?
Френкель на мгновение задумался, а затем разразился жутким смехом.
— Это совсем не важно. Подойдет все, что угодно, потому что когда докапываешься до сути любого предмета, там всегда оказывается смерть. Мы с тобой, Генри, все это знаем, а вот наш маленький Альфик блуждает в потемках. Чтобы облегчить ему задачу, мы предоставим право выбора ему. Ну так что, Альфик? Назови первое, что придет в голову.
У Френкеля была манера разговаривать со мной в уничижительном тоне, чем он всегда умудрялся вызвать во мне раздражение. Не думаю, что он и на самом деле меня недолюбливал, хотя нас мало что связывало, — скорее всего он считал меня если не полным придурком, то слегка недоразвитым, и никогда не упускал случая поучить меня уму-разуму, то есть, иными словами, заставить меня смотреть на вещи его глазами. И хотя я до некоторой степени любил нашего друга, его снисходительное отношение действовало мне на нервы.
— Пусть будет Веселая вдова, — предложил я, отчасти потому, что был почти уверен в полной непригодности данного предмета для разработки темы смерти, а отчасти — из местечкового патриотизма: как-никак Веселая вдова родом из тех же краев, что и я.
— Великолепно! — воскликнул Френкель.
— Восхитительно! — воскликнул Генри.
— А вы знакомы с Веселой вдовой? — спросил я, немного расстроившись.
— С Веселой вдовой знакомы все! — Френкель торжествовал. — Что может быть лучше Веселой вдовы!{157} Само имя источает смрад смерти. Ты гений, Альфи, — правда, Генри? Взяв эту тему в качестве отправной точки, мы можем исследовать всю вселенную и выстроить новую космогонию. Лейтмотивом будет смерть.
— И воскресение, — присовокупил Генри.
— И полное обновление, — добавил я, чувствуя себя с этими маразматиками как за каменной стеной.
— И новая смерть! — воскликнул Френкель. — Официант, fine à l’eau!
Мы докопались до самой сути. Миллер с Френкелем были так поглощены задуманной книгой, что могли бы совсем позабыть об обеде, если бы я поминутно им об этом не напоминал. Френкель злился на меня за то, что я встреваю с такой прозаической нотой, однако в Генри я имел союзника. Ни один нормальный человек не может выпить полдюжины fines à l’eau, не нагуляв себе аппетит, — то ли дело Френкель! Чтобы сэкономить время и не охладить наш пыл, он тут же заказал нам по choucroûte garnie[181], и мы продолжили беседу за трапезой. Сам он по-прежнему пил fine à l’eau, мы же с Генри отступнически предпочли бутылочку более подобающего закуске траминера. Мы разрабатывали проект книги, которая приняла должную форму еще до того, как была написана первая из тысячи задуманных страниц. Мы подбрасывали друг другу варианты разных подходов к тому или иному аспекту темы, приберегая лучшие идеи каждый в своем рукаве. Мы с таким жаром и пылом обсуждали ход предстоящей работы, что к тому моменту, когда появился официант с камамбером{158}, от Веселой вдовы не осталось и следа: мы ее разоблачили, изнасиловали и умертвили, а когда тело было предано земле, предоставили ей разлагаться и начисто о ней забыли, — да оно и к лучшему, поскольку бедняжка была существом недостаточно невротичным, чтобы выдержать то обращение, которому она подверглась бы со стороны Генри и Френкеля. Мы немного всплакнули о ней за кофе, а затем стали подыскивать ей достойную замену. Перед нами выстроилась длинная череда персонажей, претендующих на ведущую роль. Генри ткнул пальцем в небо и попал в Гамлета. Гамлет так Гамлет. Зря время терять не стали. На следующее же утро я обнаружил в почтовом ящике два первых гамлетовских письма: одно от Френкеля, другое — от Миллера. Я довольно длинно ответил на оба и вдобавок написал одно самому себе — для полного счастья, так сказать. Но надолго меня не хватило. Я и так протянул чуть дольше, чем казалось возможным на первый взгляд, — неделю, ну, может быть, две, — но потом вышел из игры. Меня обвинили в непозволительном легкомыслии за попытку установить родственную связь между Гамлетом и автором «Confessions de Minuit»[182]{159}. Я чувствовал, что между принцем Датским и Салавеном существует определенное невротическое сходство, и решил, что должна быть какая-то эзотерическая связь между hameau[183], du hameau[184], Дюамелем и Гамлетом. Вероятно, я не вполне ясно изложил свою точку зрения. Френкель даже обиделся: уж не пытаюсь ли я саботировать тему смерти? Миллер с места в карьер принялся доказывать, что с точки зрения этимологии Гамлет — это просто-напросто кусок ветчины, что тоже было весьма легкомысленно, правда он потом выкрутился. Френкель остался в гордом одиночестве: он относился к книге чересчур серьезно. У него были собственные идеи, и он вымучивал их до последнего; Френкель был скорее занудой, нежели оригиналом, и чем полнее ему удавалось раскрыть свои самые сокровенные мысли, тем более занудными и нечитабельными становились его длинные эпистолы. У меня есть сильное подозрение, что он никогда не читал писем Миллера, прежде чем на них ответить. Да ему и нужды в этом не было: когда человек одержим idée fixe[185], его нельзя ни отвлечь от нее, ни сбить с толку. Он мог бы и в одиночку запросто написать тысячу страниц. Для читателя это, конечно, было бы сущим наказанием, но Френкель никогда не жалел читателя. Наша переписка предоставила ему уникальную возможность заняться казуистикой и поцапаться по пустякам, к чему он приступил с таким небывалым остервенением, что даже забросил свою любимую «Сводку погоды».
Как было сказано, я сошел со сцены после первого обмена письмами, Миллер же продолжал превосходно подыгрывать Френкелю. Написать после завтрака послание в восемь — десять страниц, так сказать одной левой, не стоило Генри ни малейших усилий. Тогда он работал одновременно над «Тропиком Козерога» и эссе «Макс и белые фагоциты», так что одно письмо раз в день или в две недели служили ему лишь в качестве разминки. Генри делал это играючи — в отличие от Френкеля, который мертвой хваткой вцепился в свою хиленькую темку и добивал ее повторением и многократным воспроизведением. Гамлетовская переписка производит на меня впечатление какого-то сумасшедшего дуэта, когда один из исполнителей постоянно играет одну и ту же мелодию на скрипке с единственной струной, а другой скачет и гарцует вокруг него, намеренно испуская одну фальшивую ноту за другой, используя для этого любой инструмент, который подвернется под руку: саксофон, тромбон, губную гармошку, поющую пилу или кухонные ложки-плошки.
Френкелю так не терпелось увидеть переписку опубликованной, что он не стал дожидаться, пока будет написана тысячная страница. Первая часть первого тома объемом 234 страницы вышла в свет в июне 1939 года в издательстве «Каррефур» (Нью-Йорк — Париж). Издательством заправлял сам Френкель (на пару со своим «шурином» по смерти Уолтером Лоуэнфельзом). Книга была напечатана в Бельгии, на отменной бумаге — чуть ли не de luxe. Должно быть, это обошлось ему в кругленькую сумму, но возможно ли для гения найти лучшее применение своим деньгам, чем подарить миру шедевр — пусть даже в ущерб собственному материальному благополучию? C’était un triomphe![186] Френкель поместил рекламу книги в парижско-американские газеты, а затем улегся на диван в своей просторной мастерской, в сладком томлении ожидая поздравительных телеграмм и писем от поклонников из внешнего мира. Сам будучи рекордсменом по книжной торговле и зная, что покупает публика, он, разумеется, не видел ни малейшего повода для беспокойства. В качестве пробного шара было издано пятьсот экземпляров. Но даже такой незначительный тираж оказался избыточным. Книга была распродана лишь после того, как Миллер стал знаменитостью. Второй том переписки вышел в 1941 году, и снова под маркой издательства «Каррефур»; он насчитывал 464 страницы, напечатан был в Мексике. Тираж в пятьсот экземпляров разошелся довольно быстро, и в июле 1943-го «Каррефур» выпустило пересмотренное и исправленное издание первого тома, представлявшее собой перепечатку мексиканского варианта с включением недостающих страниц (с 47-й по 218-ю), изъятых Френкелем при первом издании.
3
После своего полузатворнического существования в Клиши Миллер стал центром притяжения множества новых друзей, и его окружение создавало вокруг него некое подобие расплывчатой ауры. Узкий круг оставался прежним: Анаис Нин, Майкл Френкель, Лиана, ну и, пожалуй, я, то есть его ближайшие соратники. Из тех, кто просачивался извне, кое о ком мне хотелось бы упомянуть особо. Прежде всего это немецкий художник Ганс Райхель{160}, в чьих руках кисть превращалась в магический жезл, человек, которого постоянно и без всякого перехода бросало из одной крайности в другую — от крутого запоя, например, к раскрытию мистического смысла болотных ноготков. Следующий персонаж — Дэвид Эдгар, милейший из всех невротиков, когда-либо произведенных на свет Америкой; именно он посвятил Миллера в тайны «Бхагавадгиты»{161}, оккультные тексты мадам Блаватской{162}, дух дзэна[187] и доктрины Рудольфа Штейнера{163}. Затем астролог и bon viveur[188] Конрад Морикан{164}, чей дэндизм восходит аж к самому Барбе д’Оревильи{165}. Еще была американочка Бетти Райан, девушка исключительного очарования и проницательности, занимавшая квартиру-мастерскую в первом этаже напротив Френкеля, — ей Миллер посвятил эссе «Макс и белые фагоциты». Также были братья Клейн, Жак и Роже; первый из них, многообещающий драматург, во время войны попал в плен к немцам и был убит при попытке к бегству. Ну и Реймон Кено{166}, французский романист, который только начинал делать себе имя и, кстати, писал рецензии на «Тропик Рака» и «Черную весну» для «Нового французского обозрения». (Сейчас Кено член Гонкуровской академии.)
В числе друзей, обретенных Миллером в этот период, были два человека, оказавшие на него огромнейшее и живительнейшее воздействие. Это Блэз Сандрар{167} и Лоренс Даррелл{168}. Сандрар, известный поэт, романист и путешественник, был одним из первых маститых французских писателей, признавших талант Миллера. Он восторженно отозвался о «Тропике Рака» в статье «Un Ecrivain Américain nous est né»[189], появившейся в «Orbes» [190] спустя несколько месяцев после выхода книги. Лоренс Даррелл, англо-индийский поэт и романист, жил в то время на острове Корфу в Греции и состоял с Миллером в переписке. Когда «Рак» попал к Дарреллу, книга так его захватила, что он позабыл обо всем на свете и ни благословенная Греция, ни эгейские волны не смогли удержать его на месте. В один прекрасный день он нагрянул на Виллу Сёра, прорвался сквозь «кольцо обороны» и тотчас же был допущен в узкий круг, где так навсегда и остался. Но об этом после.
Между тем, пока «ставка» Генри размещалась на Вилле Сёра, я влачил существование в крысиной дыре в тупике Дю-Руэ неподалеку от кафе «Зейер» и в пяти минутах ходьбы от Генри. У Райхеля была самая примитивненькая мастерская в первом этаже того же дома, а Эдгар занимал комнату двумя пролетами ниже меня. Я забыл, сколько мы платили, но это было недорого — да и не могло быть дорого. Парижская редакция «Чикаго трибюн» свернула свою деятельность, и моя работа приказала долго жить. Это положило конец и пребыванию в Париже Уэмбли Болда: вскоре после закрытия газеты он уехал в Штаты, и с тех пор о нем не было ни слуху ни духу.
Еще слово об Эдгаре. Если мы с Райхелем жили в тупике Дю-Руэ из суровой необходимости, то Эдгар, который запросто мог позволить себе гораздо более роскошные апартаменты, жил там из прихоти. Его убогонькая комнатенка всегда казалась теплой и уютной из-за испарений, выделяемых его бесчисленными неврозами, придававшими остроту его и без того недюжинному интеллекту: умом Дэвид мог охватить что угодно, однако его знания не помогали ему сглаживать грандиозные противоречия собственной души. Мы с Генри нежно его любили. Я помню нашу первую встречу на какой-то попойке на Монпарнасе. Генри тоже там был, и я отлично помню, как мы издали наблюдали за Эдгаром. Он стоял в окружении американских студенточек, изучающих историю искусства, и вещал им что-то о четвертом измерении. По его теории, четвертое измерение — это отношение пространственного времени к временному пространству, субабстракция абстракции, Вечность, которая является стихией универсума подсознания. Он говорил ровным, размеренным голосом, словно подстраиваясь под ритм некоего метронома. С его лица не сходило выражение необычайной кротости, и таким оно оставалось всегда. Слова его были начисто лишены какого бы то ни было смысла, но звучали в высшей степени убедительно. Затем он сделал отступление о сюрреализме — и как нельзя кстати: сюрреализму также присуще свойство четырехмерности, но только в совершенно ином плане. Сюрреализм, говорил он, — это явление металепсии, причем безусловно травматического происхождения. Четвертое измерение per se[191] имеет характер абсолюта, это проекция реально существующего пространственно-временного объекта в супралапсарной плоскости… И он продолжал в том же духе, щедро пересыпая свою речь никому не известными словами типа «метэмпиризм», «прекогнитум», «энтропия» и проч. и лавируя между ними с маневренностью невротичного угря — беспечно и беззаботно. Женщины его просто обожали: он умел их очаровать, но любовь была слишком проста, чтобы его вдохновлять. «Влюбиться может любой идиот, — казалось, говорил он всем своим видом, — и почти каждый идиот может завести роман». Ну а если уж он влюблялся, то непременно в какую-нибудь юную искусствоведочку, которая была еще большим невротиком, чем он сам.
Эдгар был человеком милым и эксцентричным — и совсем пропащим. У него были шизофренически бледно-голубые глаза и плюс к тому — полный распад личности, причем не на две, три или семь, а на составные части, каждая из которых жила своей собственной таинственной жизнью — поодиночке, группами, коллективно; их было такое множество, что он никогда не мог собраться с мыслями. И когда ему надо было принимать какое-то простое решение — какой, например, выбрать галстук у галантерейщика или какое блюдо предпочесть среди наименований ресторанного меню, — он чувствовал себя совершенно парализованным. Кому в нем предстояло решать, что ему съесть и что надеть? Его было так много, что ему приходилось проводить референдум с самим собой — этакий единоличный плебисцит.
На свое счастье, Эдгар имел приличный доход и ему не надо было зарабатывать на жизнь. Хотя в конечном счете, может, это и не на счастье. Окажись он перед необходимостью регулярно выходить в холодный и враждебный мир, чтобы добывать пропитание, он бы уже из одного недостатка времени и сил не смог позволить себе роскошь быть таким законченным невротиком. Ведь именно отсутствие повседневных, будничных проблем и толкает людей вроде Дэвида Эдгара в лапы неврозов. Мелких проблем у Дэвида не было — одни глобальные: мировые проблемы, вселенские проблемы, космологические, религиозные, исторические, психологические, метафизические, эзотерические и оккультные, — и, будучи существом разумным (не слишком разумным), он полагал, что все эти проблемы, которые в процессе прогрессирования его скоротечного невроза становились его личными, можно разрешить посредством обсуждения. И чем больше он о них думал — чем разумнее к ним подходил, — тем более непостижимыми и неразрешимыми они ему казались. В чем смысл жизни? Какова его, Дэвида, роль в жизни? Какая миссия на него возложена? Кто он? Откуда? Куда идет? И зачем? Что важно, а что нет? В чем ценность искусства? Временами ему казалось, он это знает: у него была тьма идей о живописи, но все, что он написал за последние три года, — это одно-единственное довольно странное полотно, изображающее крючковатые корни старого дерева. Картина висела на стене над туалетным зеркалом, и во время бритья он безотчетно на нее пялился — вот вам еще одна проблема.
Эдгар был человек тонущий{169} — он тонул непрерывно: плавно, грациозно и неторопливо. Он размышлял об абстракциях в терминах абстракций — не так, как Френкель, видевший в них цель per se, а скорее как утопающий, отчаянно ищущий веревочную лестницу, которая сможет вывести его на твердую почву. К утопанию Дэвид относился очень трепетно: он каждый день начинал тонуть примерно с десяти утра, когда приступал к бритью. Намазывая крем, позволявший обходиться без помазка, он гляделся в зеркало, висевшее под изображением дряхлеющего дерева, и улыбался своему отражению вымученной кроткой улыбкой; еще он совещался с самим собой — со своими «я» то бишь, — и это было похоже на утренние заседания правительственного кабинета.
Друзья любили его безмерно. Были у него и подруги, и они тоже души в нем не чаяли. Внешне он не производил впечатление человека сладострастного — его потребность в сексе была весьма умеренной. Как я уже говорил, обычно он выискивал себе какую-нибудь невротичку, хотя изо всех сил старался избегать женщин этого типа. Но влечение было таким сильным, что он не мог ему противостоять, поскольку «он» слишком редко оказывался «в большинстве». Среди подружек Эдгара были и сексуально озабоченные тихие извращенки, и лесбиянки, и безнадежные девственницы, а временами и нимфоманки, однако последних он остерегался и использовал в качестве слушательниц, добрых самаритянок, мамочек, а в редких случаях и эфемерных любовниц. Они вились вокруг него, как дружественные электроны и нейтроны вокруг близкого по духу атома, — они становились его сателлитами, что происходило в силу некоего психомагнетического притяжения.
Секрет его обаяния состоял в его невероятной беспомощности. Он был к тому же очень щедр и благороден, но нас в нем подкупала именно его беспомощность. Они с Генри стали большими друзьями, и их дискуссии по продолжительности и эзотеричности соперничали с теми, что велись между Миллером и Френкелем. С Эдгаром Генри проявлял гораздо больше терпимости, нежели с Френкелем, — возможно, потому, что Эдгар был из них двоих более интересен: Эдгар разнообразил темы разговоров, чего Френкель не делал никогда. Круг его интересов был бесконечно шире, и в нем напрочь отсутствовала какая бы то ни было банальщина и шаблонность. Мы часто проводили втроем целые дни или даже ночи в умозрительных беседах о жизни, о жизни после жизни, о жизни после «жизни после жизни», о лемурийской эпохе{170}, Атлантиде, о смысле легенд и мифов, об оккультных силах и божествах, условных сферах влияния Люцифера и Аримана, о жизни в Девахане и так далее в том же духе. Вскоре у нас появился особый жаргон, который для постороннего уха звучат, наверное, как китайская грамота.
Довольно странно, но эти долгие разговоры всегда начинались спонтанно. Генри никогда не договаривался с Эдгаром о встрече — это было бы заранее запланированной напрасной тратой времени. Он либо случайно сталкивался с ним на улице, либо подходил к нему, завидев за столиком на террасе кафе «Зейер», либо мы натыкались на него по дороге на Монпарнас. Одно невинное словцо цеплялось за другое, и, не успев понять, что происходит, мы оказывались в каком-нибудь кафе и сидели там, попивая перно или горькую настойку и обсуждая влияние планет на жизнь растений или что-нибудь еще в этом же роде. Обычно это начиналось с книги, которую в тот момент читал Эдгар. Его невозможно было представить без книжки в руке — он читал везде, куда бы ни направлялся, и если бы он был завсегдатаем борделей, он бы и там не расставался с книгой. Иногда он нес под мышкой сразу две книги, а иногда и полдюжины. Не все они были достойны чтения, но все содержали сведения о заумных, никому не известных вещах. (Я вообще сомневаюсь, чтобы он хоть раз в жизни прочитал обычный роман.) Он любил открыть какой-нибудь том наугад и зачитать попавшийся фрагмент вслух. Генри сразу напрягался, потому что этот тактический ход Эдгара неизменно означал гамбит{171}, открывающий один из бесконечных словесных турниров. Но ему ничего не оставалось делать, как принять вызов: Эдгара нельзя было заткнуть, как какого-нибудь простого зануду, — он был чрезвычайно чувствителен и толстокож одновременно, так что легче было его выслушать, чем отказать ему в этом удовольствии. Тем более что в какой-то момент до тебя доходило, что, о чем бы он ни говорил, слушать его было действительно интересно, даже увлекательно, — интересно, помимо всего прочего, хотя бы потому, что раньше ты и слыхом не слыхивал о предмете обсуждения.
Миллер неоднократно признавался мне, что отрывочное чтение Эдгаром выбранных наугад пассажей приводило его к исследованию совершенно новых лабиринтов мысли. Именно Эдгар косвенно подтолкнул его к более глубокому изучению дзэн-буддизма. Миллера всегда влекло к дзэну, хотя он этого и не осознавал. Когда Эдгар показал ему книгу Алана Уатса{172} «Дух дзэна», Миллер понял, что по-своему он всегда практиковал дзэн (иногда понимаемый как философия отсутствия философии). В своем невротическом лепете Эдгар порой бросал какую-нибудь оборванную фразу, которая, по мнению Миллера, попадала в самое яблочко, и тогда даже «Бхагавадгита» обретала смысл. Случайно ли Эдгар вошел в жизнь Миллера? Возможно. Но вполне вероятно и то, что его «пришествие» именно в этот момент было заранее спланировано, подстроено предуготованной ему судьбой. Постижение истины происходит вспышками — но лишь когда человек готов ее постичь. Генри был готов к этому всегда, так что Эдгар, насколько я могу судить, был лишь инструментом какой-то неведомой силы.
Где-то по ходу повествования я уже отмечал, что Генри Миллер обладал таинственной силой, оказывавшей целительное воздействие на всех, с кем он вступал в соприкосновение. Эта сила, вне всякого сомнения, исходила из некоего внутреннего источника незрелой религиозности, о которой сам он разве что смутно догадывался, а может, и вовсе не подозревал о ее существовании — вроде землевладельца, не подозревающего о наличии на его участке богатейших запасов нефти. Чтобы эту нефть извлечь, надо сначала пробурить скважину, а чтобы сделать ее пригодной для последующего использования, надо ее очистить. Миллер так и не сумел наладить разработку своего внутреннего источника энергии — он просто парил над ним, как некая «волшебная лоза» в человеческом облике, зависшая над подземным ручьем. Неосвоенной и невозделанной, скрытой энергии Миллера все равно хватало, чтобы облегчать страдания одних, восстанавливать равновесие других и собирать по частям третьих.
Но с Эдгаром это не прошло. Не то чтобы его случай был совсем уж безнадежен. Дэвид и впрямь катился по наклонной невроза, но катился плавно, грациозно — отнюдь не как человек, летящий в пропасть: его можно было бы и остановить, и удержать, будь подобный вид терапии предусмотрен в структуре вещей. Эдгару нельзя было помочь по двум вполне весомым причинам: во-первых, в глубине души он категорически не желал, чтобы ему помогали, — так или иначе, подсознательно он понимал, что, исцелившись, утратит все то, что делает его таким привлекательным в глазах окружающих: исцелившись, Эдгар превратился бы в очередного американского болвана, а все его существо восставало против перспективы пополнить ряды самодовольной посредственности. Вторая и, по моему разумению, главная причина, в силу которой Миллеру не удалось ему помочь, была связана с тайным сговором оккультных сил. Читателю, наверное, это покажется чересчур надуманным, но я твердо верю, что Дэвид Эдгар был эмиссаром, кем-то вроде невольного вестника иного мира, призванного доставить послание Генри Миллеру, причем он должен был передать его из рук в руки, как, например, предписание явиться в суд. Эдгару была присуща некая экстерриториальность, и Генри ничего не мог для него сделать — только любить.
4
Это был сезон звездных дождей — послания и предписания сыпались отовсюду. Очередным вестником был Ганс Райхель, но Ганс Райхель — это уже совсем другой коленкор; он открыл Миллеру еще одну грань того же самого, и мало-помалу все окончательно прояснилось и сфокусировалось. Ангел был его водяным знаком и Бог — в асценденте{173}, что указывало на возможность славно повеселиться еще и в заоблачных сферах. Если Эдгар передал Миллеру послание на словах, то Райхель вручил его, не прибегая к речевым средствам, — то же самое послание. С Миллером говорили изящные, но обладающие мощным воздействием миниатюры Райхеля, которые он писал на картоне, дереве или стекле, и Миллер понимал их язык, каковой тоже был нездешнего происхождения и существовал в разных базовых плоскостях бытия. А понимал он, в частности, то, что человек, не способный существовать во всех базовых плоскостях сразу, является калекой. Райхель почему-то вбил себе это в голову; сам он калекой не был, хотя и избыток любви, и излишняя чувствительность, и обостренное зрение создавали ему массу неудобств. Каждая из его картин, даже если размером она не превосходила игральной карты, была совершенно живой вещью, оснащенной живым оком — «космологическим оком», которое, хотя Райхель помещал его туда собственноручно, обладало, очевидно, гораздо более широким диапазоном зрения, нежели сам его создатель.
В общении Райхель был человек не самый легкий; он был слишком бесхитростен, чтобы стать хорошим невротиком, и постоянно метался между полнейшим безумием и состоянием слабой психической устойчивости; он был обуреваем противоречивыми страстями и наделен каким-то ужасающим сейсмографическим чутьем, заставлявшим его предощущать грядущие эмоциональные потрясения задолго до того, как они произойдут, как насекомое чувствует приближение бури. Бури эти были редкими и непродолжительными, но, когда они разражались, сама атмосфера словно наливалась кровью.
Впервые наведавшись к нему в мастерскую в тупике Дю-Руэ, Генри застал его в одном из лучших его состояний: он был тише воды, ниже травы. Я сказал «в мастерскую», но применительно к его маленькой каморке на солнечной стороне двора это, пожалуй, звучит чересчур выспренне. Райхель был на удивление гостеприимным хозяином, даже если все, что он имел предложить, — это засохшая корка хлеба и глоток вина. В его гостеприимстве сквозило что-то патриархальное, навевающее воспоминания об омовении ног и умащении волос. В периоды затишья кротость и смирение Райхеля могли растрогать до слез кого угодно. Стены его комнаты были увешаны картинами, среди которых он жил как аскет-анахорет. Когда к нему заходил кто-то из тех, кого он любил — да хоть Генри, к примеру, — он пускался в долгие рассуждения о собственном творчестве. О созданных им картинах Райхель говорил с гордостью матери, нахваливающей своих исключительных, не по летам развитых детей и время от времени указывающей на какой-нибудь незначительный недостаток вроде заячьей губы или дефекта речи. Это были его творения, это он произвел их на свет, сам, без посторонней помощи, из собственного геральдического чрева! Им передались его черты, его запах, отличительные свойства его личности. И ему не надо было ничего объяснять Генри, ценившему и видевшему в его картинах именно то, что они собой представляли — послания от дерева, цветка, камня, рыбы, луны, — фототипические послания, все как одна, и каждая отвечала ему немеркнущим взором своего «космологического ока».
Работы Райхеля никогда не переставали восхищать Миллера и оказывать на него магическое воздействие. «В каждой картине он (Райхель) создавал целый мир, даже если она была размером с пуговицу, — писал он в первом номере „Бустера“, журнала, который мы издавали и о котором я вскоре скажу свое слово. — Он разрастается на зыбучих песках, на астральных болотах, в саваннах, где расцветают рододендроны. Он и сам как тигровая лилия — местами желтый, местами черный как смоль, и если на него чуть-чуть нажать, то можно выдавить что-то вроде кактусового молочка, которое как нельзя лучше подходит для вскармливания рогатых жаб, ехидн, тарантулов и ядозубых ящериц».
Райхель был посвященным художником жертвеннической природы, он никогда не писал ради денег; это был тот редкий тип человека, который скорее предпочтет умереть голодной смертью, нежели отречется от того, что считает своей великой миссией, предначертанной ему свыше. Однако в отличие от Миллера, чьи «труды и дни» сливались в одно целое, между искусством Райхеля и его жизнью существовало болезненное несоответствие. В его натуре было нечто восходившее к феномену Джекила-Хайда{174}: казалось, он одержим какой-то демонической силой, зачастую побуждавшей его совершать дикие выходки, особенно когда он бывал пьян. И тогда ему не помогал даже его германский атавизм (имевшийся также и у Миллера, правда не в такой концентрированной форме); казалось, все противоречивые черты тевтонского мистицизма сталкивались в его душе в кровавой схватке. Он был большой любитель выпить и, когда запивал, становился совершенно непредсказуем: он мог ни с того ни с сего, так сказать на ровном месте, впасть в дикое бешенство и в такие минуты не щадил никого: на начальной стадии безумия особенно доставалось тем, кого он больше всего любил. Когда он впадал в амок{175}, что происходило довольно-таки регулярно, не обходилось и без кровопролития.
Генри, к которому в нормальном состоянии он относился с глубочайшим уважением, был более чем кто-либо другой подвержен нападкам Райхеля, когда демон брал в нем верх. Помню, у них не один раз дело едва не доходило до драки. Под влиянием винных паров в Райхеле неизменно просыпалась ревность: он начинал ревновать Миллера ко всем и вся; после бутылки-другой ревность перерождалась в особо опасную ненависть — лютую ненависть неимущих к имущим. В отрыве от творчества Райхель становился неимущим.
И Райхель, и Миллер питали самые нежные чувства к Бетти Райан: более того, у меня есть все основания полагать, что в действительности Райхель был в нее влюблен. Зная о его материальных затруднениях, Бетти иногда покупала его работы, чтобы хоть как-то ему помочь. Но если написанная им картина значила для него слишком много, он обычно настаивал, чтобы она приняла ее в дар. Отношение Райхеля к Бетти проявлялось во множестве тонких изысков, и ее трогала его преданность. Бетти была странным персонажем: довольно милое создание, окруженное ореолом чистоты, что находило подтверждение и в ее голосе — мягком, мистически убаюкивающем, ласкающем голосе, позаимствованном из фольклора какой-то забытой страны. При всей ее обворожительности и загадочном обаянии она обладала неким качеством, которое я совершенно не в состоянии определить и которое делало ее недоступной: все мы ее обожали, но ни один из нас даже и не мечтал затащить ее в постель — она вполне могла сойти за мадонну.
Бетти часто приглашала нас на обеды к себе в мастерскую. Хозяйкой она была и щедрой, и изобретательной. Но в этих маленьких празднествах присутствовала одна странность: ее гостями были одни мужчины; не знаю, может, у нее не было подруг, а если и были, то, может, на таких сабантуйчиках они ей были просто не нужны. Так или иначе, Бетти была единственным украшением этих сборищ: она восседала во главе стола, задавала тон в разговоре и в то же время следила, чтобы никто ни в чем не испытывал недостатка.
На том особом обеде, о котором я собираюсь сейчас рассказать, присутствовали Миллер, Райхель, Конрад Морикан, Дэвид Эдгар, Френкель и я. Еще там был молодой китайский студент Чоу Няньсянь, собиравшийся в скором времени вступить в ряды Народной армии для борьбы с японским агрессором. Обед начинался хорошо. За столом царила атмосфера праздничного веселья и радушия. В обхождении с гостями Бетти искусно избегала всякого проявления фаворитизма, а если кому-то и оказывала предпочтение, то тщательно это скрывала. Она так себя вела, будто на нее была возложена обязанность расточать благодать по всем направлениям, так же неизбирательно, как звезда.
Миллер сидел по правую руку от нее, Райхель — по левую, pour éviter des jalousies[192]. Я оказался вклиненным между Эдгаром и Френкелем, — вероятно, в качестве буфера между двумя враждебными неврозами. Морикану пришлось соседствовать с Няньсянем. Ученый-астролог втравил китайца в дискуссию о Ли Кэ{176}, авторе одной из пяти священных книг Китая{177}. Словом, рассадили нас весьма удачно. Бетти контролировала ход застольной беседы и по мере необходимости направляла ее в нужное русло посредством, так сказать, дистанционного управления, не беря на себя никакой инициативы. Она хотела, чтобы беседа была легкой и искрометной, и ловко ограждала ее от вторжения в глубокие воды философии; она как бы играла своими гостями, одним против другого, чтобы поддерживать угодный ей баланс. Принуждение было приятным и безболезненным; ей блестяще удавалось доставлять мужчинам удовольствие, манипулируя ими как марионетками: она дергала то за одну нить, то за другую, а время от времени позволяла кому-нибудь из ее «кукол» потянуть нить на себя, — в разумных пределах некоторые вольности допускались, но только если они не нарушали заранее выстроенной композиций. Стоило лишь со стороны Френкеля замаячить угрозе углубления в тему смерти дальше, чем, по ее представлению, было уместно, она быстро это пресекала, либо вызывая Эдгара на разговор об одной из его собственных излюбленных теорий, либо приглашая Няньсяня прочесть по-китайски что-нибудь из Ли Бо{178}. Это милое создание с ликом мадонны крепко держало в руках бразды правления, демонстрируя все свои таланты сразу: в ней сочетались и театральный режиссер, и маг, и стратег.
До середины вечера, пока с вином не стали обращаться вольнее, все шло прекрасно. Райхель сидел тихо, пил в меру и с удовольствием поглощал закуски. Бетти без всякого намерения потешить его тщеславие сказала, в каком восторге она от его творчества и как ей нравятся его работы; Генри тут же подхватил слова Бетти и стал с таким воодушевлением нахваливать его акварели, что Райхель аж чуть не прослезился. Весь мистицизм и чувствительность его тевтонской души вылились в целый поток изъявлений преданности и благодарности Бетти и Генри, двум большим его друзьям, двум добрейшим душам, понимавшим истинную природу его вдохновения и ценившим его творчество. Поднявшись со своего места и не выпуская из рук ножа и вилки, он кинулся обнимать Генри и расцеловал его в обе щеки, затем он расцеловал Бетти, затем поднял бокал и разом его осушил. Это было особо хмельное бургундское, которое вообще-то полагается пить не залпом, а мелкими глоточками. Райхель моментально раскраснелся, сел на место, но стало очевидно, что еда его больше не интересует. Он принялся бурно и бессвязно разглагольствовать о мотивации, вынашивании и рождении его картин. Те идеи, что он хотел до нас донести, нелегко было выразить на любом языке, а поскольку его английский был неадекватен, а французский оставлял желать лучшего, то речь его превратилась в некую смесь, в этакую языковую кашу, в которой, не сочетаясь и не сообразуясь с его английским и французским, плавали комья немецкого. Понимая, что ему никак не выразить свои мысли, чувства и ощущения, Райхель приходил все в большее волнение; выйдя из-за стола, он стал разыгрывать какую-то немую сцену: шевеля ушами, выпучивая глаза, строя фантастические гримасы, используя символические жесты и прочие позволительные и непозволительные средства коммуникации, способные хоть как-то прояснить его точку зрения, он пантомимически пытался выразить невыразимое.
Это была трагическая попытка прыгнуть выше самого себя — трагическая и в то же время до боли комическая. Генри неожиданно рассмеялся. Смех зарождался у него в ноздрях и с оглушительной силой вырывался наружу. Генри смеялся все громче и громче, и ударная волна его смеха все перевернула вверх дном. А что еще оставалось делать! Он ведь смеялся не над ним, а для него — смех был единственным противоядием.
Шутовская выходка Генри заставила Райхеля побледнеть — побледнеть не от упадка сил, а от прилива агрессивности: в нем проснулся воинственный дух. Он налил себе стакан бренди и залпом его опрокинул. Чувствуя, что надвигается гроза, Бетти быстренько прибегла к помощи Морикана, попросив его интерпретировать гороскоп Райхеля, который она недавно поручила ему составить. Но уже поздно было приступать к научным прениям — трина Плутон-Нептун-Уран проявила себя в действии прямо у нас на глазах. Генри еще тихо похохатывал, всхлипывая, как ребенок после приступа плача, когда Райхель накинулся на него как ошалелый.
Сначала он разразился длинным оскорбительным дифирамбом: на смеси английского, французского и немецкого Райхель рассказывал ему, какая он сволочь, затем стал обвинять его во всех мыслимых и немыслимых преступлениях, включая и гнусный грех против Святого Духа. Бетти попыталась вмешаться, но он резко осадил ее инвективой, подразумевающей, что она заодно с Генри. Ситуация стремительно выходила из-под контроля. Чем больше Бетти умоляла его утихомириться, тем яростнее он на нее нападал.
— Давай, иди к нему! Миллер — diable, un vrai Teufel[193], но ты любишь его, так что иди к нему и laisse-moi allein! Allein, allein! Вечно allein![194]
И по мере того, как он это говорил, им овладевало смешанное чувство пьяного одиночества и демонической ревности, он то рыдал, то вновь впадал в бешенство. Генри, которому все это было далеко не впервой, в тот момент совершенно растерялся. Он ничего не предпринял, чтобы его вразумить.
— Да уймись ты, Райхель, хватит тебе… — говорил он, пытаясь его успокоить. — Просто ты слишком много выпил. Что ты взорвался на ровном месте?
Но его слова не достигали ушей Ганса.
— Да, я saoul[195], потому я и буду глаголить истину… in vino veritas…[196] du bist ein Schuft…[197] un traître![198] В глотке у тебя все эти красивые слова, aber dein Herz ist eine Pfuetze[199], гальюн, tu es immonde, dégueulasse…[200] du machst mich brechen![201] Ни честности, ни чести — сплошной обман! Tàuschung, Trug![202] Бетти думает, что ты ее любишь, но du bist[203] нарциссист… ты никогда не любил никого, кроме себя. Eigenliebe, alles Eigenliebe![204]
И в таком духе Райхель продолжал выступать довольно долго; его голос, и без того глубокий и звучный, по мере того как он заводился, набирал все большую мощь. Никто не пытался его остановить. Френкель ушел, за ним последовал Морикан. Бетти укрылась в дальнем углу мастерской, где, в качестве телохранителя, к ней присоединился Няньсянь. Миллер остался молча сидеть на месте. Мы с Эдгаром с тревогой следили за развитием событий. Все мы и раньше видели Райхеля в подобном состоянии и могли только с опаской за ним наблюдать: он был силен как бык, и если уж впадал в амок, то справиться с ним не было никакой возможности, тем более парочке таких хилых невротиков, как мы с Эдгаром.
Никто из присутствующих ни единым словом не реагировал на его выпады, что, по всей видимости, распаляло его еще больше. Он мерил шагами комнату, ссутулившись и пригнув голову, словно ошалевший бык, готовый к нападению.
— Я все тут demolier — tout![205] — воскликнул он вдруг и, схватив со стола початую бутылку, со всего маху запустил ее в стену, едва не задев собственную картину.
— Alles will ich demolieren[206], tout le чертов bazar![207] — вновь дико заорал Райхель и с этими словами всерьез принялся крушить все подряд, обеими руками хватая со стола тарелки и стаканы и швыряя их во все стороны.
— Отлично, Райхель, вмажь еще, разнеси этот притон к чертовой матери! Все побей, если тебе от этого полегчает, — дружески подначивал его Генри тоном священника-миссионера, авансом отпускающего грехи варвару-дикарю во всех его злодеяниях. — И пусть только кто попробует тебя остановить! Посмотри-ка сюда — как с этой картиной? Не кажется ли тебе, что надо бы продырявить ее кулаком, разодрать в клочья, растоптать, заплевать?
— Du Hund![208] — взревел Райхель, дико вращая глазами. — Дождешься, что я придушу тебя собственными руками!
Он гонялся за Генри вокруг стола, но тот ловко увертывался от кулаков обезумевшего друга и всегда успевал вовремя отскочить, когда в него летел нож или стакан. В считанные секунды помещение стало похоже на разгромленный салун из ковбойского фильма.
— Ну Hund я, Hund, — прогундел Миллер в ответ с безопасного расстояния, подыгрывая Гансу, как психиатр — пациенту. — Однако, Райхель, ты схалтурил: мебель расколотить — это еще полдела. Вот бы посмотреть, как ты расправишься с этой вот картиной, твоей собственной, — вот она, с пьяным взглядом окосевшего космологического ока. Ну давай, я тебя благословляю! Можешь вилкой, а хочешь — я сбегаю на кухню и принесу тебе разделочный нож.
Должно быть, это ангел-хранитель надоумил Генри: только так и можно было привести Райхеля в чувство, хотя и не сразу, конечно. Ослепленный яростью, он как вкопанный застыл перед картиной, на которую указывал Генри, — это была одна из акварелей, написанных им специально для Бетти, — и, замахнувшись вилкой, уже готов был ее исполосовать. На какую-то долю секунды вилка зависла в воздухе, и тут выражение гнева на его лице уступило место неизбывной печали. Вилка звякнула об пол. Даже в пьяном остервенении он не мог разрушить то, что создавал с любовью. Истошный крик вырвался из его груди, и мгновение спустя наш друг уже лежал распластанный на полу, содрогаясь от рыданий. Кризис достиг высшей точки — теперь Райхеля можно было предоставить самому себе. Через пару минут он заснет сладким сном младенца, убаюкиваемый ласковыми нареканиями своего ангела. Так было всегда. Бетти это знала, мы все знали. Он умудрялся испоганить каждую вечеринку и ничего не мог с этим поделать. На самом деле его вины тут не было — всему виной был его демон, а поскольку демон на пару с ангелом составляли в нем единое целое, то какой смысл подвергать остракизму обоих? Они постоянно боролись друг с другом — яростно, как парочка головорезов. В конечном счете ангел побеждал — но только в конечном счете.
Когда на следующее утро Райхель заявился на Виллу Сёра, он выглядел побледневшим и подавленным, хотя, судя по всему, и думать забыл о том, что вчера натворил, — извиняться он, во всяком случае, не стал. Извиняться за свое пьяное безобразие было бы равносильно признанию, что он действовал осознанно, и подтверждению этого, так сказать, в здравом уме и трезвой памяти, а ангел ни за что бы на это не пошел. Обычно в таких случаях Райхель приносил какой-нибудь маленький подарочек — акварель для Бетти и букетик цветов для Миллера или наоборот — и никогда не задерживался надолго: убедившись, что никто на него не злится, он отправлялся восвояси. Если ему предлагали глоток вина, он решительно отказывался.
5
Если Эдгар и Райхель исполняли роли невольных вестников иного мира, то Конрад Морикан появился на сцене в качестве посланника еще из одного царства, представляя как бы планетную систему в целом. Трудно сказать, был он созданием Люцифера или же его субстанция выделилась из ангельских сфер: вполне вероятно, что он имел свои points de repère[209] и в царстве тьмы, и в царстве света. Это был курьезный, до некоторой степени беспутный персонаж, в системе взглядов которого явственно различалось слияние разных оккультных течений.
Он был обедневшим представителем в прошлом богатой и знатной швейцарской фамилии и большую часть жизни прожил в Париже. Несмотря на полунищенское существование, этот рослый сорокапятилетний господин с манерами денди всегда держался как подобает grand seigneur[210] и одевался исключительно щегольски и со вкусом. Порой ему было нечего есть, но он никогда не испытывал недостатка в туалетных водах и пудре самых изысканных сортов и ароматов.
Первой с ним познакомилась Анаис Нин с ее умением повсюду отыскивать нищих гениев. Она же и ввела его в орбиту Миллера. Морикан был блестящим рассказчиком с широким диапазоном тем и имел доступ во многие закрытые литературные и артистические крути. Близкий друг Макса Жакоба{179}, французского поэта, которому во время войны суждено было погибнуть в немецком концентрационном лагере, он также знал огромное количество интересных писателей и художников, когда-то состоявших с ним в близких отношениях. В круг его интимных друзей входили такие выдающиеся личности, как Мак-Орлан{180}, Блэз Сандрар, Франсис Карко{181}, Кислинг{182}, Модильяни, Кокто{183}, Жироду{184}, Теофиль Бриан, — и это лишь несколько имен. Значительное влияние на его развитие оказал эзотерический писатель Лотю де Пэни, которого он считал одним из посвященных.
Если бы Морикан сохранил статус не стесненного в средствах дворянина — роль, которая была уготована ему самим его происхождением, — он навсегда остался бы незаурядным и пристрастным дилетантом. Но так случилось, что ему пришлось зарабатывать на жизнь. Будучи совершенно непрактичным и не имея ни малейшего опыта в мире бизнеса, он в качестве способа добывания средств существования выбрал астрологию, предмет, который всегда приводил его в восхищение. Как астролог Морикан пользуется заслуженным авторитетом и стоит в одном ряду с достойнейшими из своих коллег, чьи имена навсегда вписаны в западную историю. Его мощь проявляется не в сфере творческой деятельности, а в области интуитивного толкования. Глядя на карту рождения, он может воспроизвести существенные черты характера и наклонности исследуемой личности с точностью, граничащей с медиумическим ясновидением.
Анаис в стремлении поддержать его материально заказала ему гороскопы почти для всех своих друзей, а затем препоручила его Миллеру. Морикану быстро удалось пробудить в Генри издавна дремавший в нем интерес ко всему новому и эзотерическому, и астрология, видимо, пришлась тут как нельзя кстати: он готов был часами выслушивать разглагольствования Морикана о свойствах и влияниях — как положительных, так и отрицательных — разных планет, о силе их воздействия в зависимости от расположения относительно друг друга и о множестве трудностей, с которыми приходится сталкиваться при толковании простейшего гороскопа. Миллер был весь внимание, когда его новообретенный друг в столь характерной для него легкой и блестящей манере подводил его к вратам неведомых ему миров. В астрологии он видел атавистические признаки древних учений, позволявших адепту{185} постигать законы судьбы. Его околдовывала поэзия и символика, которыми проникнута современная астрология.
У Миллера обострялась физическая зоркость: казалось, умственно и духовно он постоянно был начеку; он словно со сторожевой башни обозревал панораму жизни, угадывая отдельные тенденции или наслоения тенденций, которые ранее от него ускользали. Поскольку случайные события исключались, то «пришествие» Морикана именно на этой стадии становления Генри было воспринято им как нечто символическое. Морикан появился на сцене только потому, что он — или же другой такой же посланник — просто обязан был появиться.
Хотя Морикан страстно увлекался астрологией и написал о ней несколько книг — одну в соавторстве с Максом Жакобом, — астрология не была его единственным увлечением. Человек культурный и тонкий, он обладал изысканным вкусом и врожденным чувством прекрасного. В славные времена его благоденствия и финансовой независимости, продолжавшиеся вплоть до знакомства с Миллером, он имел возможность культивировать свои пристрастия к литературе и оккультным наукам. Макс Жакоб первым увидел в нем эзотерические наклонности и подвиг его на написание трактата «Miroir d’Astrologie»[211], снискавшего ему репутацию авторитетного астролога. Возникшая затем переписка между Максом Жакобом и Мориканом на эту тему была впоследствии приобретена отделом рукописей Парижской национальной библиотеки. Крах своей финансовой независимости Морикан предвидел, когда составлял собственный гороскоп. «Предупрежден — значит вооружен» — это одно из тех мудрых правил, следуя которым профессиональный астролог остается столь же беспомощным, как и все человечество. Морикан оказался не в состоянии предотвратить катастрофу. Стесненный в средствах, этот щеголь, этот Прекрасный Брэммель{186}, вынужден был селиться в дешевых меблированных комнатах отеля «Мондиаль» на Рю-Нотр-Дам-де-Лоретт, где он жил, когда познакомился с Миллером.
— Ты живой разрывной снаряд, вечно ищущий детонатор, — говорил он Генри, составив его гороскоп.
Он верно охарактеризовал Миллера и находился под впечатлением его динамичной индивидуальности. С течением времени между ними возникла крепкая дружба. Морикан ознакомил его с некоторыми эзотерическими аспектами французской литературы, в частности бальзаковских «Серафиты» и «Луи Ламбера»{187}, оказавших огромное влияние на дальнейшее развитие Миллера. Он был экспертом в выявлении фальшивостей, отделении зерен от плевел и извлечении смысла из самых туманных посланий. Миллер раскрывался перед ним, как цветок.
В то время Генри Миллер являл собой персонаж плутовской, вулканический, кихотский, — пишет Морикан позднее, рассказывая о первых встречах с Миллером. — Где-то «на полях» своего лихорадочного существования, результатом которого стали его «Тропики», Миллер, человек высокой культуры, недавно начал проявлять интерес к оккультизму, астрологии и маши — всем предметам, находящимся, так сказать, под моей юрисдикцией. В силу именно этой тройственной причины я и свел с ним знакомство, а вскоре мы стати большими друзьями. Раз в неделю Миллер наведывался ко мне на Монмартр, где я жил, и там я обучал его рудиментам ремесла (безвозмездно, разумеется). Я потерял счет гороскопам, которые по его просьбе составлял для его друзей (amis et amies[212]), — «фабрика гороскопов» работала на полную мощь и к тому же сверхурочно. Средь массы его друзей я отмечу лишь одного — это граф Герман Кайзерлинг; Миллер был с ним хорошо знаком, что сделало для меня возможным вступить в эпистолярные отношения с этим великим Викингом. Так появилась еще одна трансцендентальная переписка{188}.
Все это чистейшая правда; Миллер действительно часто навещал Морикана в его комнатенке в отеле «Мондиаль». Несколько раз я составлял ему компанию и был совершенно очарован тем, с какой легкостью Морикан рассуждал о самых заумных вещах, связанных с магическими арканами{189}. Точность и острота его мысли вызывала изумление. Его речь поражала своей прозрачной ясностью, а образы, в которых сквозило что-то дьяволическое, — новизной и оригинальностью. Любой вечер, проведенный в обществе Морикана, был не только приятным, но и полезным: мы всегда уходили от него в приподнятом настроении.
И все же мне как-то не по нутру это его замечание в скобках — «безвозмездно, разумеется», — когда он пишет, что обучал Миллера рудиментам ремесла. Генри, зная о стесненных финансовых обстоятельствах Морикана, больше думал о том, чтобы ему помочь, а не о том, чтобы платить за знания, которыми он или кто другой мог бы и так с ним поделиться. Миллер всегда по максимуму помогал ему из собственных весьма незначительных ресурсов. И я не могу не улыбнуться, когда Морикан говорит, что он «потерял счет гороскопам», заказываемым Миллером для своих друзей. Он так и не понял, что большинство этих гороскопов составлялись им для несуществующих людей! У Миллера просто не было столько «amis et amies», чтобы обеспечить Морикана достаточным количеством пудры и туалетной воды. Если он намеревался подбросить астрологу пару сотен франков, ему надо было придумать повод. И вот как это выглядело: Генри снабжал именем, полом, местом и датой рождения одного вымышленного персонажа за другим, а Морикан составлял по этим данным гороскопы — «безвозмездно, разумеется»! Чего уж проще, а? Морикан об этом даже не подозревал, хотя некоторые из составленных им таким образом гороскопов принадлежали, казалось бы, довольно странным личностям — юродивому, религиозному маньяку, отцеубийце. Морикан не раз изъявлял желание познакомиться с этими курьезными персонажами, которые, в свете его астрологических открытий, могли бы оказаться какими-нибудь Ландрю, Распутиным или да Винчи.
6
Однажды вечером, когда, в очередной раз обнаружив, что запасы наши заметно оскудели, мы сидели и думали, как быть с едой, в мастерскую вошел некто однорукий. Это был Блэз Сандрар, самый замечательный из всех парней, в свое время выступивших из джунглей на передний край французской литературы. Он был примерно одного возраста с Миллером — может, несколькими годами старше, — здоров как бык, с ярко-синими глазами на загорелом лице человека, привычного к жизни под открытым небом. Он был больше похож на мореплавателя, чем на писателя, — нет, скорее даже на пирата, только что получившего свою часть добычи и собиравшегося тряхнуть мошной и вволю повеселиться.
Еще в Америке, в пору его бессистемного чтения, Миллеру попалось несколько сандраровских книжек, а именно «Золото» и «Африканская антология», которые произвели на него неизгладимое впечатление. В Париже от откопал еще одну — «Мораважин», которая усилила это впечатление. Прочитав эту книгу, Миллер окончательно убедился, что Сандрар — его человек. А когда вышел «Тропик Рака», он оказался такой же находкой для Сандрара.
Эти два писателя, которым предстояло впоследствии стать большими друзьями, обменялись несколькими письмами, но впервые встретились лицом к лицу именно в тот день, когда Сандрар зашел к Генри в мастерскую. Мне посчастливилось при этом присутствовать, так что я могу дать полный свидетельский отчет об их первой встрече.
Это была встреча двух родственных душ: оба отличались безудержным энтузиазмом и буйством чувств, оба были отличными рассказчиками, хотя Сандрар мог дать Генри фору. После первого обмена сердечными приветствиями, сопровождавшимися обычной в таких случаях accolade[213], Сандрар заговорил о своих впечатлениях о «Тропике Рака». Он хвалил книжку взахлеб, пылко и страстно, чем тронул Генри до глубины души. Зная английский в совершенстве, Сандрар категорически отказывался на нем говорить. Возможно, все дело в том, что он воспринимал Миллера как писателя «de chez nous»[214], с чьей стороны было бы благоразумнее родиться во Франции.
«C’était pas malin d’être né en Amérique!»[215] — рокотал он своим громовым голосом, словно для того и предназначенным, чтобы оглашать собой широкие просторы четырех континентов.
Еда и вино незаменимы для скрепления дружбы. Небрежным жестом своей единственной руки Сандрар отвел стыдливые признания Генри о том, что у него нет денег. Он сделал вид, что как раз сейчас специально обналичил чек, чтобы доставить удовольствие l’auteur du Tropique du Cancer[216]. «Justement, je connais un petit marchand de vin…»[217]
На улице он поймал такси и назвал шоферу адрес его petit marchand de vin[218] — где-то на Монмартре, неподалеку от Плас-дез-Аббесс. Как только мы сели в такси, Сандрар начал говорить и не умолкал, пока мы не добрались до места. Мне показалось тогда, что он пребывал в необычайно возбужденном настроении, но потом выяснилось, что это его нормальное состояние.
Жаль, я забыл название ресторана, в который он нас привез, а то бы сделал этому заведению «посмертную» рекламу. Это действительно был marchand de vin, но marchand de vin особый. Посыпанный опилками пол, бумажные скатерти и салфетки. Но его patron[219] и patronne[220] принимали Сандрара с такими почестями, которым позавидовал бы и сам Ага-Хан при входе в «Риц»{190}. Наш столик был уже накрыт, вино — подано. Я даже не успел заглянуть в меню — а может, его и не было: зачем вам меню, если вы обедаете с принцем! Очевидно, все было приготовлено заранее — как для банкета.
Я не помню, какие деликатесы мы поглощали, не помню марок тех дорогих и тонких вин, что мы пили, — помню лишь, что этот обед был знаменательным событием моей парижской жизни. Еда и напитки, несомненно, были превосходными, но это, видимо, не имело для нас никакого значения, а если и имело, то лишь просто как фон. Мое внимание было полностью поглощено незабываемым персонажем по имени Блэз Сандрар. Сказать, что он был в ударе, было бы по отношению к нему несправедливо, ибо человеку его калибра всегда полагается быть в ударе. Но в нем явно чувствовался прилив вдохновения и общительности — это было одно из тех состояний, которые не возникают на пустом месте, — такое состояние порой приходится выжидать, и оно появляется в те очень редкие моменты, когда судьба сводит вместе две души одинакового происхождения и широты.
Сандрар никогда не казался будничным или небрежным, потому что все в нем было торжественно. Даже голос его звучал как набат. А если ему случалось коснуться какого-нибудь инцидента времен войны или своих стычек с африканскими аборигенами, приключений в Бразилии и Центральной Америке или событий десяти — двадцатилетней давности, то, благодаря особенностям его речи, может быть какой-то «лингвистической безотлагательности», все эти эпизоды из прошлого как бы транслировались в настоящее, и получалось, что ты реально переживаешь их вместе с ним СЕЙЧАС! Посредством этакой лингвистической левитации он переносил прошлое вперед, собирал его в фокус, и ты начинал видеть все это — видеть так же отчетливо, как лунный кратер сквозь мощный телескоп.
Нет, ну каков рассказчик! Мне вспомнилось сейчас, в каких красках Сандрар описывал один эпизод из своих злоключений с туземцами верховьев Амазонки. У меня до сих пор волосы дыбом встают. По доброте душевной, видите ли, они хотели его убить. Джунгли кишат клещами, гнусом и разного рода ядовитыми насекомыми, и эти бесхитростные индейцы искренне полагали, что гораздо гуманнее будет заранее избавить знатного гостя от пытки зудом, на которую он себя обрекал, будучи одноруким: ведь он не сможет даже как следует почесаться. И двух-то рук мало, чтобы справиться с этим бичом джунглей! Сандрар, потерявший правую руку в Первую мировую, с интересом слушает их разглагольствования и даже вступает в дискуссию, высказывая свои соображения «за» и «против» убийства из милости. Он совершенно беспристрастен и, оказывается, достаточно хорошо знает язык дикарей, чтобы выступить собственным адвокатом. Спор затягивается надолго, но Сандрар и не спешит его прекращать. Пока идет разговор, надежда остается. К тому же перед лицом смерти жизнь — то, что от нее остается, — начинаешь ценить на вес золота: каждое мгновение — как лишний карат к весу бриллианта. Сандрар снимает напряжение момента с изворотливостью прирожденного рассказчика. Его слова производят визуальный эффект индейского трюка с веревкой: вот ты уже в лесу рядом с ним, слышишь шелест листвы, жужжание и гудение насекомых, тихие голоса старейшин, решающих твою участь. И вдруг, забыв, что он сейчас не в дебрях Амазонки, а в ресторане, Сандрар вскакивает из-за стола и, как однажды индейцам, демонстрирует нам, с какой легкостью он может почесать любую часть тела своей единственной рукой. Индейцам приходится проделывать этот трюк обеими руками, да и шимпанзе одной лапой не обойтись, а уж европеец и подавно сразу бы растерялся — то ли дело он, Блэз Сандрар! И ведь он действительно смог почесать себя во всех местах одной левой! Это было не просто, и пару раз ему даже пришлось чуть не штопором изогнуться, чтобы дотянуться до отдельных мест на спине, но у него и это получилось! Он проделал это не только к нашему общему удовольствию, но и к удовольствию всех присутствовавших в ресторане, равно как и уличных зевак, пялившихся сквозь оконное стекло.
По окончании представления Сандрар с невозмутимым видом приказал патрону принести еще вина и вернулся к рокфору с маслом. Процесс поглощения пищи, однако, не мешал ему продолжать разговор. С Амазонки он одним махом перескочил в окопы Фландрии, а затем, сделав небольшой крюк через Италию и Россию, перенесся в самое сердце Африки. И хотя между этими эпизодами не было никакой связи, все они тем не менее каким-то таинственным образом переплетались один с другим, словно бусины опыта, нанизываемые на нить жизни. После трех-четырехчасового общения за обеденным столом у нас возникло ощущение, будто мы сами принимали участие в некоторых приключениях, ставших в его устах легендарными.
Миллер был околдован волшебными чарами Сандрара. Он признал в нем своего космического брата и потянулся к нему всем сердцем. Родство их душ подтвердило ту великую истину, что есть в мире вселенские братья — существа одной породы, одного калибра, диапазона и широты. Им не обязательно быть с одной планеты, но дом у них у всех один — где-то в районе Первопрестольной космоса. И здесь, в чуждом мире, скромная винная лавка неподалеку от Плас-дез-Аббесс представляется мне сейчас самым подходящим местом встречи для всех таких родственных душ.
Главное, что объединяет Миллера и Сандрара, — это их независимость. Ни тот, ни другой не приемлет стандартной, рукотворной модели бытия, но оба слишком заняты, чтобы размениваться на пустяки. В их планы не входит изменять мир к лучшему — они придерживаются восточной точки зрения на ход вещей и разделяют мнение восточных мудрецов о том, что, делая добро, порой потворствуешь злу. Не верят они и в политические революции. «Moi, je те révolutionne tous les jours» [221], — говорит Сандрар. Их независимость проистекает из внутренней свободы — свободы, которую каждый день необходимо провозглашать заново.
Человек, узнавший вкус свободы — а Сандрар именно таков, — не боится сбиться с пути, — пишет Миллер в статье, опубликованной во французском журнале «Риск». — Его путь всегда при нем, где бы его ни носило. У него всегда есть время, и он тратит его легко и беспечно… Даже когда он сидит, флегматичный и грузный, развалясь в удобном кресле и шевеля одними губами, этот наш Сандрар все равно умудряется приводить в движение миры. Достаточно только послушать, как он говорит о каком-нибудь осколке — если этот осколок в данный момент окажется его темой, — чтобы получить прекрасный урок искусства самовыражения. В этой своей необыкновенной способности включаться во все Сандрар раскрывается как один из самых сострадательных людей на свете.
То же самое можно сказать и о Миллере. Он тоже изведал вкус свободы; его путь тоже всегда был при нем, где бы его ни носило. Такое не всякому по плечу, да и неразумно предпринимать какие-либо шаги в этом направлении, если ты к этому не готов. Придерживаясь собственного пути, человек сворачивает с проторенной тропы, для него это — прыжок в неизвестность, который зачастую влечет за собой нестерпимое одиночество и обособленность от мира. Люди, подобные Миллеру и Сандрару, могут смело отважиться на такой прыжок: они знают, что их ждет впереди. Литература per se[222] не представляет для них интереса — литература как побочный продукт, я хочу сказать. Полное самосожжение — вот что, по их представлениям, требуется от писателя.
Разумеется, я говорю не о том, что в них проходит под именем литературы, — пишет Миллер в той же статье, подразумевая тексты Сандрара. — Разумеется, я говорю не об универсальном опыте. Я имею в виду возвышенно-пугающую природу уникального: думать не как все, поступать не как все, жить не как все, умирать не как все. Назовем это, если угодно, особым даром извлекать из каждого момента опыта нечто доселе неведомое и неслыханное, нечто настолько личное, что оно утрачивает всякое свойство сходства с чем бы то ни было и тем самым вновь возвращается к своей первоначальной сущности, этой неуничтожимой частице космического материала.
7
Политическая ситуация ухудшалась с неимоверной скоростью. Лига Наций приказала долго жить, будучи не в состоянии вынести двойного удара японо-китайского конфликта и вторжения Муссолини в Абиссинию. Гитлер прочно окопался в Германии, и жертвы нацистской тирании — те, кому удалось избежать концентрационных лагерей, — толпой хлынули в Европу и Америку. Началась массовая эмиграция. В Испании гражданская война бушевала с неослабевающей яростью — генеральная репетиция Второй мировой. Это был расцвет тоталитаризма, неминуемый конец демократии. Тучи войны сгущались.
Однажды утром в мастерскую Миллера вошел высоченный и худющий англичанин и представился Джорджем Оруэллом. Знакомство между двумя писателями состоялось не совсем так, как можно было ожидать. Казалось бы, у них должно быть столько общего: оба прошли суровую школу, оба побывали «на обочине жизни» в Париже и разных других местах. Но какая разница в мировосприятии! Почти такая же, как между Востоком и Западом. Миллер в своей полувосточной обособленности принимал жизнь, все ее радости и горести, как принимают дождь или солнце. Обособленность Оруэлла была не столько врожденной, сколько навязанной ему, так сказать, силой обстоятельств. Миллер был раним и анархичен и ничего не хотел от мира в целом. Оруэлл был вынослив, энергичен, политически ориентирован и по-своему старался во что бы то ни стало изменить мир к лучшему. Миллер был гражданином вселенной, но гордился этим не больше, чем зеленая маслина могла бы гордиться тем, что она зеленая, а черная — тем, что черная. Типичный англичанин, Оруэлл, при всем своем скептицизме и отсутствии иллюзий, все же верил в политические догмы, экономические доктрины, в возможность улучшения положения народных масс путем смены правительства и социальных реформ. Свобода и Справедливость, которые Миллер считал личными качествами, приобретаемыми только постоянным самосовершенствованием каждого индивида, являлись, по мнению Оруэлла, непременными атрибутами демократии. Оба были миролюбивыми людьми, но если Миллер выражал свою любовь к миру отказом от борьбы за всякое дело, то Оруэлл не имел ничего против участия в войне, если она, по его мнению, велась за правое дело.
Где-то в своем письме ты признаешь, что никогда не питал особой любви к войне, хотя и смирился с ней сейчас, — писал мне Миллер во время войны в пространном письме, которое впоследствии было опубликовано под названием «Убить убийцу». — По правде говоря, на самом деле войну не любит никто, даже те, кто в ней заинтересован. И тем не менее во всей недолгой истории человечества найдется не так уж много мирных передышек. Какой вывод напрашивается из этого явного парадокса? Мой вывод прост и очевиден: несмотря на вечный страх перед войной, человек никогда не желал мира по-настоящему горячо и искренне. Сам я всей душой желаю мира, и весь имеющийся у меня интеллект убеждает меня в том, что мир достигается не боевыми, а мирными действиями.
Для Миллера это было проще простого, как и должно быть для всякого, кто во что бы то ни стало решил добиться мира. Но одного нежелания войны еще недостаточно, равно как не слишком похвально быть воинствующим пацифистом — пацифистом, который борется за мир. «Не убий!» — отдавал ли кто-нибудь более простой и недвусмысленный приказ? Миллер воспринимает его буквально.
Конфликт порождает конфликт, война творит войну, и так до бесконечности, — пишет он в том же письме. — Даже если завтра грянет мировая революция, конфликт все равно не будет исчерпан. Но, не углубляясь в дебри абстракций, я хочу подчеркнуть, что исход войны скорее всего будет совсем не таким, какого ожидает каждая из противоборствующих сторон, и не оправдает их надежд и чаяний. Внешне будучи врагами, обе стороны автоматически становятся соратниками, создавая предпосылки для установления нового миропорядка. Я не говорю — лучшего. Я говорю — единственно необходимого. Мы изжили существующую модель, но нам не хватило мудрости создать новую мирным путем. Мы учимся через страдания. Война не является необходимостью — это лишь проявление нашей глупости и жестокости в поиске путей самовыражения.
Эти строки были написаны только в июне 1944-го, но примерно в том же духе Генри высказался, когда Оруэлл выступил в поддержку испанских республиканцев: то есть что свободу — ценность духовную — нельзя заполучить в войне, равно как обычная военная победа еще не может служить гарантией справедливости дела — любого дела, — за которое велась борьба. Миллер никоим образом не пытался навязать Оруэллу свою точку зрения или же отговорить его от поездки в Испанию. Каждый должен делать то, что считает правильным, даже если то, что он считает правильным, на самом деле неправильно, — таково было его убеждение.
Как я узнал позднее, в тот самый день Оруэлл признался Миллеру, что в бытность его в Индии опыт службы в полиции наложил на него неизгладимый отпечаток. Страдания, на которые он там насмотрелся и которым, так сказать, невольно потворствовал и споспешествовал, стали с тех пор источником непреходящей боли. И чтобы заглушить неизбывное чувство вины, он намеренно навлекал на себя лишения и унижения, так ярко и едко описанные в книге «На обочине жизни в Париже и Лондоне».
Разумеется, Миллер не только понимал стремление Оруэлла к самобичеванию — этим он и сам грешил немилосердно, — но и глубоко сочувствовал ему в его затруднительном положении. Так для чего, удивлялся он, для чего, после всего, через что он прошел, Оруэллу понадобилось подвергать себя еще большим наказаниям? Миллер никогда бы не стал говорить в таком ключе с простым волонтером, чей идеализм требовал испытания действием. В Оруэлле же, сполна, по его представлениям, искупившем свою вину — реальную ли, воображаемую, — он чувствовал личность, от которой в живом виде будет гораздо больше пользы для человечества, нежели в мертвом.
На это Оруэлл дал классический ответ, что в таких серьезных обстоятельствах, когда не только права, но и само существование целого народа поставлено под угрозу, не может быть и речи об отказе от самопожертвования. Он отстаивал свои убеждения так робко и так искренне, что Миллер прекратил дальнейшие увещевания и в срочном порядке дал ему свое благословение.
— Да, и еще, — сказал Миллер, поднимая свой бокал в финальном жесте одобрения, — я не могу допустить, чтобы ты отправился на фронт в своем роскошном костюме с Савиль-Роу. Знаешь, давай я подарю тебе вот эту вельветовую куртку — это как раз то, что надо. Конечно, она не спасет тебя от пули, но хотя бы защитит от холода. Прими ее, если угодно, в качестве моего вклада в дело борьбы испанских республиканцев.
Оруэлл категорически отрицал, что на нем был костюм с Савиль-Роу{191} (на самом деле он приобрел его на Черинг-Кросс-роуд{192}), но принял подарок Миллера так же просто, как он был преподнесен. Генри благоразумно воздержался от излишних комментариев и не стал уточнять, что куртка была бы пожалована Оруэллу даже в том случае, если бы он надумал сражаться на стороне противника.
8
Не было ни малейших оснований надеяться, что войны удастся избежать. Страсти накалились до предела, все ударились в политику. И великие державы, и страны-лилипуты единым маршем выстроились в боевой порядок. Достаточно было лишь крохотной искры, чтобы Европа взорвалась, как пороховая бочка. Надвигавшаяся гроза оказалась гораздо опаснее, чем того ожидали даже самые неисправимые пессимисты Вашингтона и Лондона.
Миллер сохранял независимость и держался в стороне от всей этой суматохи. Он продолжал работать. А что еще оставалось делать? Не ввязываться же в этот идиотский конфликт! Для него не могло быть и речи о том, чтобы занять в нем какую-то позицию или позволить себе поддаться мимолетной страсти к тому или иному режиму: ни фашисты, ни коммунисты, ни даже демократы не могли внушить ему нежных чувств к соответствующим идеологиям. Что ему было нужно — если ему вообще что-то было нужно, — так это явно не то, что лежало в их лягушачьей перспективе. Во всяком случае он твердо для себя решил не поддаваться ни одной из форм массового психоза. Он продолжал жить привычной жизнью, и, в то время как весь мир брызгал слюной и предавался истерии, его имя стало приобретать все большую известность.
Прямо перед самым началом войны «Тропик Рака» выдержал пятое издание, что было просто замечательно, учитывая обстоятельства, сопутствовавшие выходу книги, и опасения издателя в отношении возможного судебного разбирательства. Книге настолько очевидно суждено было стать классикой, что не слишком щепетильные издатели, воспользовавшись беззащитностью Миллера, предприняли пиратские издания в таких странных местах, как Вена, Будапешт, Амстердам и Шанхай, где книга распродавалась по ценам черного рынка. Так, в одном Китае разошлось несколько тысяч экземпляров. С этих продаж Миллер, естественно, не получил ни цента.
Как ни странно, первый перевод «Тропика Рака» был сделан в Чехии и в 1938-м вышел в Праге под названием «Obratnik Raka»[223].
«Черная весна» появилась в июне 1936-го и укрепила репутацию Миллера, которую он снискал себе после выхода первой книги. Как и «Тропик Рака», «Черная весна» была запрещена в Англии и Америке и все же привлекла внимание наиболее интеллектуальных критиков англосаксонских стран, где книга подробно анализировалась. Критики, рассматривавшие первую книгу Миллера как случайную вспышку гения, теперь сошлись на том, что Миллер состоялся. «Черная весна», посвященная Анаис Нин, — это еще один автобиографический труд, в котором напряженная, круто замешанная проза поддерживается на высоком уровне. В книге описываются события из жизни Генри во Франции и Америке. Его особая манера перемещаться во времени и пространстве придает этой книге (как, впрочем, и многим другим его текстам) видимость бесформенности, однако и прямота языка, и неотразимость стиля, и простота подхода к проблемам как души, так и тела накладывают на «Черную весну» печать шедевра. В этих воспоминаниях нет ни одной фальшивой ноты. Там есть королевские пассажи (как, например, в главе «Ангел — это мой водяной знак»), трогательные описания (как в «14-м квартале» или «Ателье мужского платья») и до умопомрачения комичные главки (вроде «Джебберуорла Кронстада»).
Второе издание «Черной весны» появилось в том же 1936 году, что и первое, — не говоря уже о воспроизведенном фотолитографическим способом недатированном пиратском издании, вышедшем в Шанхае вскоре после этого.
«Макс и белые фагоциты» включает собрание эссе, уже упоминавшуюся историю о Максе и несколько других вещей, в частности «Космологическое око» (о Гансе Райхеле), «Око Парижа» (где Миллер дал высокую оценку творчеству фотографа Брассе), а также «Маршрутом Дьепп — Ньюхейвен», «Открытое письмо сюрреалистам всего мира» etc.
С выходом «Тропика Козерога», выпущенного издательством «Обелиск-Пресс» в феврале 1939-го, Миллер сворачивает свою литературную деятельность на Вилле Сёра. На мой взгляд, «Козерог» — это лучшее из всего, что он написал, и, возможно, даже лучшее из всего, что когда-либо было написано на эту тему — отнюдь не новую, надо заметить. Сюжетным материалом «Тропика Козерога» была Джун или, скорее, женщина. Женщина — это нечто единое и неделимое, независимо от того, каким именем ее нарекают. Женщина, как и сама земля, — существительное собирательное, и все, что предшествует женщине, приводит к ней, готовит ее выход на сцену жизни, собрано в этой книге: Джун любят и поносят, ненавидят и возвышают, перевирают, убивают и воскрешают. В «Тропике Козерога» Миллер по максимуму выжимает из языка все его соки: там есть, например, словообразования-ангелы, а есть и другие, явно ведущие свое происхождение из самых темных глубин преисподней; единственный в своем роде гибрид горечи, тоски и страдания берет читателя за горло; трехмерная пластичность языка порой становится почти пугающей.
Как и другие запрещенные книги Миллера, «Тропик Козерога» был пиратски издан в Шанхае, причем это произошло еще до того, как появилась перепечатка оригинального парижского издания.
Перечисленные тексты составили, можно сказать, основной литературный продукт Миллера за время его пребывания на Вилле Сёра. Написал он, конечно, гораздо больше. В октябре 1935-го «Обелиск-Пресс» выпустил (за его счет) «Aller Retour New York»[224]. Эта книжонка, насчитывающая сто сорок девять страниц, в форме письма Альфреду Перле рассказывает о путешествии в Нью-Йорк и обратно, предпринятом Генри в том же году. Написана она в легком стиле, колоритным, острым языком, к которому его читатель давно привык, и представляет собой, в общем и целом, «пощечину» американскому образу жизни. «Сценарий»{193}, написанный под впечатлением книги Анаис Нин «Обитель инцеста» и иллюстрированный рисунками Абрахама Раттнера{194}, как самостоятельное издание вышел в том же «Обелиск-Пресс» в 1937 году, но позднее был включен в сборник «Макс и белые фагоциты». Публикация небольшого памфлетца «Деньги и как они работают», посвященного Эзре Паунду и уже упоминавшегося на этих страницах, также приходится на тот период (январь 1938-го).
Надо отдать должное и трогательно-комичному памфлету «Как вы думаете поступить с Альфом?»{195}, который был размножен Генри и разослан «всем и каждому» под мнимым предлогом создать своему другу Альфреду Перле благоприятные условия для завершения им в Ивисе{196} «Quatuor en Ré-Majeur»[225]. И что удивительно, этот призыв о помощи, изложенный в форме письма с просьбой о вспомоществовании, вызвал поток пожертвований от ряда ведущих европейских писателей. Об этих «пожертвованиях» я узнал гораздо позднее — когда у Генри случился очередной приступ исповедничества.
Между 1936 и 1939 годами, когда звезда Миллера только начинала восходить, он часто публиковал эссе и статьи в бесчисленных журналах и литературных обозрениях, включая «Транзисьон» (Париж), «Нью инглиш уикли» (Лондон), «Тянь зя мантли» (Шанхай), «Кайе дю сюд» (Марсель), «Критерион» (Лондон), «Волонте» и «Мезюр» (Париж), «Перпос» (Лондон), «Нью рипаблик» (Нью-Йорк) etc.
9
Среди упомянутых «эт цетера» необходимо, в частности, отметить «Бустер», впоследствии переименованный в «Дельту», — наш собственный журнал, с полдюжины номеров которого мы с неравными интервалами выпускали до последних дней нашей совместной жизни в Париже. История «Бустера» заслуживает отдельного пассажа.
Двумя-тремя годами раньше один богатый американец по имени Элмер Пратер приобрел старый заброшенный замок, возвышавшийся посреди участка земли площадью в несколько акров на краю деревеньки Озуар-ля-Феррьер в департаменте Сены-и-Марны, примерно в двадцати милях к востоку от Парижа. Он вложил значительную сумму денег в реставрацию и модернизацию поместья, а потом превратил его в гольф-клуб. Гольф во все времена считался во Франции весьма эксклюзивным видом спорта, и в окрестностях Парижа вряд ли можно было насчитать и полдюжины клубов.
С его сверхъестественным чутьем на выгодные сделки, Элмер Пратер моментально оценил положительные стороны подвернувшейся возможности и не преминул ею воспользоваться. Англо-американская колония в Париже быстро набирала количественную мощь, и основание гольф-клуба, обслуживающего в первую очередь англосаксонский контингент, но не пренебрегающего, разумеется, финансовой поддержкой постоянной клиентуры из наиболее снобистской части французского общества, было блестящим начинанием. И вот в почтенном возрасте шестидесяти девяти лет Элмер Пратер присвоил себе титул президента Американского загородного клуба Франции.
Будучи прежде всего бизнесменом, Пратер превратил клуб в первоклассное американское заведение. Клубная этика не позволяла ему извлекать какую бы то ни было прибыль, однако, вложив чуть ли не миллион франков в это предприятие, он не прочь был вернуть деньги обратно, не испытывая ни малейших угрызений совести. Для него это было все равно что играть в «блошки»[226] с самим собой. Кроме того, быть основателем и президентом фешенебельного гольф-клуба считалось весьма почетным.
Чтобы поднять престиж клуба, мистер Пратер надумал выпускать клубный журнал — ежемесячный бюллетень, который, по его представлениям, он мог бы издавать самостоятельно. Однако Пратер заблуждался. Он был первоклассным бизнесменом, но отнюдь не журналистом. Ему удалось достичь договоренности о публикации рекламных объявлений почти со всеми фирмами, снабжавшими клуб: магазинами спорттоваров, изготовителями мячей для гольфа, виноторговцами, поставщиками бакалеи и мясопродуктов, пивоварами и проч., — издательской же стороной дела жестоко пренебрегли. Пратер попросту заполнял страницы клубными заметками, спортивными материалами, надерганными из ежедневной прессы, случайными и не слишком грамотными статейками или сообщениями, состряпанными либо им самим, либо каким-нибудь членом клуба, имеющим литературные амбиции, ну и так далее. Журнал получился весьма дилетантским, и Пратер первым признал свою ошибку. Он обратился к одному знакомому газетчику, и тот рекомендовал меня на пост редактора «Бустера», как назывался клубный бюллетень.
Хотя Пратер и сознавал необходимость улучшения журнала в редакторском плане, он не считал подготовку номера к выходу в свет достаточно ответственным делом, чтобы это оставалось единственной нагрузкой редактора. Он бы охотно подрядил меня на постоянную работу, но тогда, помимо редакционной деятельности, мне пришлось бы функционировать еще и в качестве человека-рекламы, а также подрабатывать, агитируя людей со средствами вступать в клуб. Поскольку я сидел без работы с тех самых пор, как закрылась «Чикаго трибюн», то я тут же загорелся желанием послужить на благо Американского загородного клуба Франции.
Издавать «Бустер» (одно название чего сто́ит[227] — меня коробит при каждом его упоминании) было сущим удовольствием. Мистер Пратер не считал себя поклонником изящной словесности, и его вполне удовлетворяло все, что я набрасывал на бумагу. В итоге получилось не так уж плохо: изменение формата, более профессиональная компоновка материала, деление на рубрики и т. д. значительно улучшили облик журнала. Я почти ничего не смыслил в спорте, а в гольфе и вовсе был полный профан, а посему продолжал по примеру Пратера «тискать» подходящие статейки на эти темы из разных газет, слегка подправляя их на свой вкус.
Но выпрашивать рекламные объявления и морочить людям головы, зазывая их вступить в клуб, — это уже совсем другой коленкор. Я был абсолютно непригоден к такого рода деятельности и никак не мог понять, с чего это вдруг Пратер решил сделать из меня заправского торговца. У меня совершенно ничего не выходило, но Пратер относился ко мне с симпатией и долго колебался, прежде чем дать мне отставку. Когда же он все-таки меня уволил, то в качестве отступного подарил мне «Бустер»!
— И что я, по-вашему, должен с ним делать, — поинтересовался я, — чем расплачиваться с типографией?
— Это уже твоя забота, — ответил он, — и твоя ответственность. Клуб будет продолжать оказывать «Бустеру» моральную поддержку при условии, что ты отведешь под его материалы пару страниц в номере. Поскольку рекламодатели знают, что за журналом по-прежнему стоит клуб, тебе не придется беспокоиться об обновлении контрактов. Естественно, потребуются и новые — что ж, дерзай! Иди в народ и продавай рекламные площади. Подвернись мне в твои годы такая возможность, я бы ухватился за нее обеими руками и сколотил солидное состояние. Я не собираюсь тебе ничего продавать, — добавил он, зевая, — я предлагаю взять даром! Ты ведь писатель, верно? Так почему бы тебе не превратить эту жалкую брошюрку в первоклассный журнал?
— Вы хотите сказать, литературный журнал? — У меня аж дух захватило.
Пратер посмотрел на меня в недоумении — он понятия не имел, что такое литературный журнал.
— Я хочу сказать, что ты можешь сделать из него конфетку, — ответил он. — У тебя ведь куча друзей-писателей, так? Вот пусть они и пишут. Сделай из него действительно что-то стоящее!
«Сделай из него действительно что-то стоящее!» И тут до меня дошло. Знал бы Пратер, к чему он меня так наивно подтолкнул! Его бы кондрашка хватил при одной только мысли о том, что я могу позволить Генри вволю порезвиться на страницах «Бустера», а именно это я и собирался сделать.
Моя голова так и бурлила идеями, пока я проделывал свой путь от Озуар-ля-Феррьер до города. В кармане у меня лежало письмо Пратера, удостоверяющее, что отныне я являюсь единственным владельцем «Бустера». Я громко рассмеялся, когда представил себе первый номер нового «Бустера», и уже заранее жалел Пратера. Он вряд ли узнал бы свое детище. Я бы, разумеется, выделил две странички для клубных материалов — таково было условие контракта. Что как не клубные заметки может внести в журнал элемент сюрреализма! Рекламу же я бы печатал до тех пор, пока рекламодатели не сойдут с дистанции, что рано или поздно непременно произойдет. Продавать рекламные площади я, разумеется, не собирался: идея состояла в том, чтобы угробить «Бустер», а заодно и подгадить истории мировой литературы, оставив в ней свой грязный след.
Я добрался до Виллы Сёра почти бездыханный. У Генри сидел Лоренс Даррелл, только-только прибывший с Корфу. Симпатичный молодой человек лет двадцати пяти, с золотыми волосами и отроческим лицом, что делало его похожим на херувима. Они пили вино и мило общались. Жена Даррелла Нэнси что-то готовила в крошечной кухоньке позади мастерской. Она была высокая и стройная, изящная, как фламинго.
И Генри, и Ларри пребывали в весьма приподнятом состоянии духа. По-видимому, они моментально распознали друг в друге «древние души» — людей с одинаковыми атавистическими признаками, которых объединяет не многое, а всё. Они говорили, пили, веселились целый день и к моему приходу стали закадычными друзьями. Настоящая coup de foudre à la russe[228].
Первый вечер с Дарреллами (сколько их еще впереди!) был незабываемым. Нэнси приготовила на обед восхитительный бифштекс (не только англичане умеют поджарить бифштекс так, чтобы он не был ни недожаренным, ни пережаренным, а как раз à point[229], как всегда говорят, но никогда не делают французы), и, предвкушая удовольствие, мы в прекрасном настроении уселись за стол. Вино текло рекой, но пьянели мы не от вина — мы пьянели друг от друга. Слова лились, как музыка. Никто не стремился играть в застольной беседе первую скрипку: не было ни нудных монологов, ни мешающих пищеварению интеллектуальных пронунсиаменто. Ларри весь искрился и сиял счастьем. Он был первым поистине цивилизованным англосаксом, которого я встретил после знакомства с Генри, — цивилизованным настолько, что его культура и эрудиция никому не били в глаза, а это уже кое-что. Будучи, несмотря на юный возраст, известным поэтом, он только что закончил вторую книгу. Это была «Черная книга» — «хроника английской смерти», как он ее называл, — которая должна была через несколько месяцев выйти в «Обелиск-Пресс».
Я молчал о «Бустере», пока обед не приблизился к стадии рокфора с маслом, и только тогда обрушил на друзей эту новость. Генри не сразу понял, в чем дело: он и раньше видел несколько номеров, но журнал не произвел на него особого впечатления. Ларри же, который и слыхом не слыхивал ни о каком «Бустере», был просто потрясен открывающимися возможностями.
— Великолепная площадка для твоих текстов, Генри! — воскликнул он. — Это же сам Бог послал! Ты можешь «тискать» в «Бустере» все то, что не осмелится напечатать никакой другой журнал.
— Что-то не уверен, — сказал Генри с сомнением. — Этот американец, владелец клуба… Пратер… он ни за что не позволит выпускать такой журнал под своей эгидой.
— А что он нам сделает, — возразил я, помахав письмом, передающим мне право собственности на «Бустер», — он больше ничего не решает. Издательская политика целиком и полностью зависит от нас. Журнал наш — нам и карты в руки. Помнишь, что мы вытворяли в путнамовском «Новом обозрении», когда были всего лишь внештатными сотрудниками? Теперь мы уже не внештатные сотрудники — теперь мы издатели! Если уж мы в путнамовском журнале так поизгалялись, то неужели не можем позволить себе этого в своем собственном, тем более безнаказанно!
Мы были уже изрядно подшофе, когда составляли список потенциальных сотрудников. Будучи владельцем издания, я вел себя как какой-нибудь захмелевший президент республики, выдвигающий кандидатов в члены кабинета. Повеселились мы на славу. Как ни странно, первый вариант списка оказался последним. Я привожу его по первому номеру «Бустера», вышедшему в свет в сентябре 1937-го, примерно за год до «Мюнхена»{197}:
Редакционный состав
Главный редактор — Альфред Перле
Литературная редакция: Лоренс Даррелл, Генри Миллер, Уильям Сароян
Спортивный отдел — Карл Норден
Отдел светской хроники — Анаис Нин
Отдел путешествий — Хилер Хайлер{198}
Отдел скачек — Патрик Эванс
Отдел моды — Генри Миллер
Отдел искусства — Нэнси Майерс
Отделение метафизики и метемпсихоза — Майкл Френкель
Сальные новости — Уолтер Лоуэнфельз
Восточное отделение — Чоу Няньсянь
Акварели и гуаши — Ганс Райхель
Фотография — Брассе
Распространение и реклама — Дэвид Эдгар.
Уже по одному перечню имен можно догадаться, как мы развлекались, стараясь угробить «Бустер». Все писатели и художники из окружения Миллера были включены в состав редколлегии; в каком-то смысле журнал стал почти семейным изданием. Карл Норден — это псевдоним, под которым Даррелл напечатал «Паническую весну» («Фабер и Фабер», Лондон). Жена Даррелла Нэнси Майерс делала обложку для первого номера. Уильям Сароян пожертвовал для второго номера один из своих превосходнейших ранних рассказов «В горах мое сердце».
В качестве административного и редакционного адреса мы указали Виллу Сёра, 18, а телефон — Гобелен, 79–43. Чей это был номер, я не помню, — может, винной лавки на углу Рю-де-ля-Томб-Иссуар. На Вилле Сёра, насколько я знаю, телефона не было.
Появление первого номера «Бустера» не произвело в Озуар-ля-Феррьер особой сенсации. Хотя журнал даже отдаленно не напоминал своего клубного предшественника, номер получился сравнительно мягким — это был своего рода пробный шар, не содержащий ничего сомнительного: ни похабщины, ни площадной брани. Мистер Пратер, отнюдь не будучи шокирован, принес нам свои поздравления и походя поинтересовался, на что мы рассчитываем. Он почувствовал литературную направленность, что, разумеется, вызвало его неодобрение, но лишь в том плане, что на литературе не разжиреешь. Правда, он в пух и прах раскритиковал редакционную статью, в которой «редакторы» открыто продемонстрировали свое отношение к жизни, каковое, по мнению мистера Пратера, было в высшей степени безнравственным и угрожающе анархичным.
В отличие от большинства журналов «Бустер» не придерживается какой-то определенной политики, — говорилось в статье. — Ему предстоит быть эклектичным, гибким, живым — серьезным и вместе с тем веселым. В случае необходимости мы будем проявлять тактичность и деликатность — но исключительно в случае необходимости. В общем и целом «Бустер» должен стать контрацептивом от саморазрушительного духа эпохи. Нас не интересуют ни политические выверты, ни всякого рода панацеи от экономических или социальных бед. Мы считаем, что этот мир всегда будет испытательным полигоном для жизни, но он все равно прекрасен. Мы выступаем скорее «за» что бы то ни было, нежели «против». Но мы изменчивы, беспринципны и настроены донкихотски. У нас нет эстетических канонов, которые надо отстаивать или защищать. Мы предпочитаем высшее качество, когда можем его добиться, в противном же случае выбираем откровенную мерзость. Потому что плохое часто бывает гораздо лучше просто хорошего. Впрочем, мы не слишком категоричны — мы можем отступить, можем пойти на компромисс, если это продиктовано необходимостью. Словом, мы можем быть кем угодно, только не фанатиками. В мире так много людей, кричащих о своей правоте, что мы не видим ничего предосудительного в том, чтобы иной раз оказаться неправыми. Мы не стыдимся противоречить самим себе, не стыдимся совершать ошибки.
Как и ожидалось, эта étalage[230] пагубных настроений не вызвала у Пратера положительных эмоций. Осмелюсь утверждать, что этого добропорядочного солидного джентльмена, не лишенного чувства юмора, немного позабавили наши проказы, однако он не чувствовал себя обязанным потакать нам в подобных шалостях. Отсюда и его настоятельная просьба сбавить обороты в отношении священных чувств. «И уж будьте любезны, чтобы впредь ничего аморального! По-волчьи выть можно и не пренебрегая моральными принципами — так надежнее». Он сам сказал мне это при встрече — сказал и даже не покраснел.
Мы сохраняем название «Бустер», потому что оно нас устраивает, — разъясняли мы в первой редакционной статье, и здесь у Пратера возражений не возникло. — Мы намерены скорее защищать, нежели нападать, и в первую очередь потому, что это более здоровый принцип. А еще потому, что мы неисправимые романтики и энтузиасты. Каждая эпоха большинству живущих в ней людей кажется ужасной, нам же, напротив, она представляется чуть ли не Золотым веком. Наша эпоха — единственная, которую нам суждено узнать, и мы намерены наилучшим образом воспользоваться предоставленной возможностью. Мир такой, каков есть, а не такой, каким мы хотели бы его видеть. И мы, стало быть, даже более оптимистичны, чем сами оптимисты. Мы были и будем с Богом, защищая Его творение, содействуя Ему, протягивая Ему руку помощи. А как же иначе? Мы оставляем грязную работу по переустройству мира шарлатанам, набившим руку в подобных делах. Мы принимаем вещи такими, какие они есть. Ведь в этом мире прекрасно все — включая высококлассные бомбардировщики с холодильниками и прочую ерунду.
Всех вам благ и ни одного камня в почках!
Мистер Пратер был скорее озадачен, нежели обеспокоен. Зачем же я выкинул целую страницу рекламы Северобританской каучуковой компании? Но ему бесполезно было объяснять, что эта страница понадобилась нам для защиты Ганса Райхеля.
Бомба разорвалась после выхода второго номера. Даррелл откопал в составе антологии Гольма{199}, собранной им в 1884 году в Гренландии, прелестную эскимосскую легенду, и мы, конечно же, ее перепечатали. Возможно, в ней и присутствовал элемент непристойности, но необычный язык и поэтичность содержания перевешивали его с лихвой. У нас не было оснований полагать, что эта невинная маленькая поэмка в прозе может шокировать взрослого человека. Тот бум, который она произвела в Озуар-ля-Феррьер, оказался для нас большим сюрпризом. Рассказ назывался «Нукарпьяртекак» — он такой коротенький, что я возьму на себя смелость привести его целиком:
Это о старом холостяке, который так давно не чистил свой каяк[231], что тот у него совсем зеленый стал.
Высоко над фьордом один человек жил. Была у него дочь — писаная красавица.
И вот однажды утром поднялся холостяк ни свет ни заря и, пока все в иглу[232] спали, намыл голову, намыл член, соскреб зелень с каяка, да и в путь — к дому того человека, у которого дочь красавица.
Завидя его, люди закричали: «Бросай свою лодку!» — а потом: «Заходи!» — говорят… Девушка сидела в дальнем конце иглу. Да такая прелестница, что его аж в жар бросило. Чуть не умер — так захотел.
Сбросил шубу — наверх передать, и видит: красавица ему улыбается. Он весь так и обмер. А как очнулся, сразу на нее посмотрел, да как увидел, что она по-прежнему ему улыбается, так снова от желания всех чувств лишился.
И в этот раз, очнувшись от обморока, он заметил, что все ближе и ближе подступает к красавице. Но вот все улеглись, и увидел Нукарпьяртекак, что она стелит им общую постель, и только он это увидел, как снова лишился чувств и упал, громко стукнувшись головой о возвышение ложа.
Когда сознание к нему вернулось, он снова испытал это жгучее желание и снова приблизился к ложу, но, едва его коснувшись, рухнул на него ничком как подкошенный.
И вот лежат они друг на друге, а девушка под ним так прекрасна, что почувствовал он, что сейчас умрет. И тогда Нукарпьяртекак обнял ее. Потом начал в нее входить. Забрался он в нее сначала по колено, потом по локоть, потом по подмышки, вот уж и правую руку засунул, а вот и весь залез, по самый подбородок. И тут наконец испустил истошный крик и исчез в ней со всеми потрохами. Другие проснулись. Что, спрашивают, такое? Никто не ответил. Зажгли поутру огни, смотрят — а Нукарпьяртекака и след простыл, один каяк на реке качается.
Вдруг видят: выходит красавица из иглу воды набрать, а следом за ней — скелет Нукарпьяртекака.
На следующий день после выхода этого номера мы получили от мистера Пратера заказное письмо, в котором он заклеймил нашу публикацию как вопиюще безнравственную, грязную и порнографичную. Письмо было написано весьма нехарактерным для Пратера стилем, — вероятно, его составлял адвокат гольф-клуба. Нам грозило судебное разбирательство, в случае если мы посмеем и впредь использовать для своего журнала название «Бустер».
— Ну так и что же нам теперь делать? — загоготал Ларри, когда мы показали ему письмо.
Незначительные периодические издания бывают весьма недолговечны, если их издатели не могут позволить себе освободиться от денежной зависимости, но это не наш случай. О том, чтобы идти выпрашивать рекламные объявления, не могло быть и речи, однако мы все же предприняли кое-какие попытки заполучить новых рекламодателей подчеркнуто неделовыми методами. Мы разослали неимоверно витиеватые письма управляющим фирм, имеющих обыкновение рекламировать свою продукцию в крупном масштабе, в надежде, что не один, так другой купится на наши откровенные, не лишенные юмора эпистолы и не поскупится на рекламу в «Бустере». Результат оказался нулевым. Ни один из прозаичных, гребущих деньги бизнесменов, которых мы бомбардировали этими жемчужинами эпистолярного жанра, не проявил ни малейшего интереса к нашим финансовым затруднениям.
В результате эскапады с письмами один контракт мы все же заключили. Нашей клиенткой стала негритяночка, владевшая небольшим предприятием в районе Фобур-Сент-Оноре. Она была педикюршей с сердцем королевы и единственной деловой женщиной в Париже, которая от души посмеялась, читая «Бустер». Я забыл ее имя, но отлично помню, что она заказала рекламу на полстраницы. Денег у нее, к сожалению, не было, и она пообещала отплатить добром. От избытка благодарности за те жалкие крохи, что нам перепали, мы тут же выпустили тоненькую брошюрку под названием «Подиатрический[233] образ жизни» (за подписью Генри Миллера), которая прилагалась к следующему номеру в качестве бесплатной нагрузки.
Из-за финансовых трудностей третий номер «Бустера» (декабрь, 1937 — январь, 1938) вышел со значительным опозданием. Он назывался «Аэрокондиционированная утроба»{200}. Это был финальный номер «Бустера». Подчиняясь давлению извне, мы перекрестили журнал в «Дельту» и под этим названием выпустили с разными интервалами еще три номера. Первый выпуск «Дельты» (апрель, 1938) был посвящен поэзии, и большую часть материала подготовил Даррелл. В номер вошли стихи Антонии Уайт, Николаса Мура, Дэвида Гаскойна{201}, Кей Бойл{202}, Уильяма Берфорда{203}, Майкла Френкеля, Дилана Томаса{204}, Лоренса Даррелла et alii. Этот поэтический выпуск истощил все наши совокупные сбережения за многие месяцы. Несколько сотен подписчиков, давно подозревавших, что «Дельта» умерла естественной смертью, были приятно удивлены, когда в декабре 1938-го мы заявили о себе самым лучшим из всех сделанных нами номеров.
Вышедший сразу после «Мюнхена» рождественский выпуск «Дельты» был озаглавлен соответственно: «Специальный номер, посвященный миру и неприсоединению, с реквиемом в стиле шега{205} и джиттербага»{206}, а его обложка была обведена черной рамкой на манер извещения о похоронах. В него вошли фрагмент еще неопубликованного «Тропика Козерога» и отрывок из романа Анаис Нин «Зима обмана». Участвовали в нем и Карел Чапек, и Конрад Морикан, представивший астрологический портрет Нижинского{207}. Даррелл включил свое эссе «Гамлет, принц китайский», в котором дана тонкая оценка вклада Миллера в «гамлетовскую» переписку с Майклом Френкелем. Дилан Томас отдал в этот номер прекрасный образчик своей поэтической прозы «Пролог к одному приключению». Одной из самых блестящих публикаций стал знаменитый рассказ Антонии Уайт «Обитель облаков». Из других материалов надо отметить подборку текстов Майкла Френкеля и моих собственных.
Это была отличная «парфянская стрела»{208}, и мы могли бы поставить на этом точку. Но за несколько недель до начала войны вышел еще один, финальный, номер «Дельты», представлявший собой тоненькую поэтическую тетрадь. В те дни я уже был в Лондоне, но журнал печатался в Бельгии. К тому времени когда мы наскребли денег на оплату типографских услуг, бедняжка Бельгия была оккупирована, и о переводе денег на континент тогда не могло быть и речи.
10
Однако мне бы не хотелось заканчивать рассказ о жизни Генри в Париже этими дельта-бустеровскими реминисценциями. Пусть они будут просто интерлюдией{209} — веселой, но все же интерлюдией, хотя фактически история с журналом приходится на завершающий этап наиболее плодотворного периода в парижской жизни Миллера. Последний год этого периода был отмечен присутствием среди нас Даррелла, который внес в наше существование свежую струю; его дружба с Миллером обогатила и без того богатую внутреннюю жизнь Генри.
Его (Даррелла) появление в нашем кругу было не только сенсационным, но и физически ощутимым, — пишет Миллер в эссе «Помнить, чтобы помнить». — Он заряжал нас своей энергией. Заласканному средиземноморским солнцем, ему не терпелось поскорее окунуться в тот водоворот, который он считал декадентской жизнью Парижа. Однако вместо разврата и оргий Даррелл обнаружил царство раблезианского веселья. <…> Нашу жизнь на Вилле Сёра он воспринимал как бесконечное цирковое представление на трех аренах сразу.
С Юпитером в асценденте, Лоренс Даррелл был подлинным духом Солнца{210}. Все в нем радовало глаз и веселило сердце, он всех заражал своим оптимизмом и ощущением счастья. Он родился и вырос в Индии, в пределах видимости зубцов Тибетских гор, и, наверное, поэтому в его эмоциональном и духовном облике проступало что-то китайское; он с величайшим почтением относился к Лао-цзы{211}, которого любил и постигал с творческим энтузиазмом. Несмотря на свою молодость, он был человеком высокой культуры и эрудиции; в нем не было ничего от педанта или доктринера и ничего похожего на занудство, этот побочный продукт большой учености. В своей последней книге — «Черной книге», которую Каган как раз готовил к изданию, — он раскрывается как величайший знаток английского языка. Генри откровенно им восхищался.
Это не просто «хроника английской смерти», как ее называет автор, — это блестящий образец эмоциональной инженерии, обеспечивающей доступ в новое геральдическое царство, — пишет Миллер в короткой рецензии на книгу Даррелла. — Это не роман, не автобиография, не документ. Это — книга, черная книга, и она наносит последний удар по трепыхающемуся трупу ячествующей литературы, в которой мы погрязли за последние лет сто. Эта книга для тех, кто застолбил для себя новую утробу, чтобы продолжать в ней творческую жизнь. Она обеспечивает связь между здоровой богоначальной реальностью Нижинского и той человеческой сверхреальностью, которую поэты в самых неожиданных уголках нашего мира лоскуток за лоскутком выкраивают из собственной кожи и веры…
Даррелл видел в Миллере гиганта, в груди которого формируется амальгама[234] творческих сил, лишь частично реализуемых в писательстве. Огромная масса печатной продукции изготовляется людьми, открыто провозглашающими своей целью производить литературу, — это профессионалы своего дела. Большинство из них пишет потому, что у них что-то где-то не клеится, потому, что некий внутренний запрет мешает им жить полноценной жизнью. Некоторые из наших всеми обожаемых столпов мировой литературы являются фактическими мертвецами, культурными и образованными полутрупами. Совместными усилиями они создают целые «Кордильеры» литературы. Но в какой-то миг, примерно раз в сто лет, в литературе появляется как бы посланец открытого космоса. Если говорить о творческом духе Миллера, то его надо воспринимать как действующий вулкан, вечно таящий в себе угрозу извержения. Вулкан извергается не потому, что хочет, а потому, что должен. Когда Миллера прорывает, он изливается раскаленной лавой; его зрение порой затуманивается, но не ошибочными суждениями — судит он редко, — а противоречивыми чувствами, фантастическими аппетитами, беспорядочными мыслями, обильными предубеждениями, причудливыми ностальгиями и избыточным самопожертвованием. Подобно лучам какого-нибудь мощного светила, пронзающим толщу облаков, его дух прорывается сквозь иллюзорный мир и фокусируется на чем-то жизненно важном. Сырьевой материал Миллера — это бесформенность и хаос, но в его руках бесформенное превращается в жизнь, а хаос — в тот мир, где живем мы с вами.
Что касается меня, то я не могу воспринимать Генри иначе как человека, желающего дарить радость всем и каждому, чего бы ему это ни стоило. Всякий раз как в голове у меня промелькнет его образ, все мое существо охватывает чувство невероятной нежности и тепла. Не знаю, действительно ли его творчество заслуживает той высокой оценки, которую я ему даю, — пусть об этом судят критики будущего. Меня же, как друга, это совершенно не заботит — моя уверенность в его значительности намного превосходит мои критические способности. К тому же в присутствии этого человека как-то забываешь, что он писатель.
Война уже почти наступала нам на пятки, когда вышел «Тропик Козерога». К этому моменту за Миллером прочно закрепилась слава самого знаменитого автора издательства «Обелиск-Пресс», так что Каган платил ему авансом щедрые гонорары. Теперь для Генри было самое время устроить себе бессрочные каникулы — впервые за многие годы. Даррелл с его поэтическим красноречием месяцами расписывал красоты и прелести Греции, и Генри, который всегда был легок на подъем, решил посетить эту страну.
Я очень сблизился с Миллером, на протяжении десяти лет разделяя с ним все превратности судьбы, однако, когда наконец пробил час разлуки, расставание оказалось легким и безболезненным. Это событие ничуть меня не опечалило — даже наоборот: я ощутил прилив неимоверного счастья и приятного возбуждения. Мысль о том, что мы можем никогда больше не увидеться, на какое-то мгновение мелькнула у меня в голове, но не вызвала никаких эмоций. Меня вдруг осенило, что я абсолютно ничего не теряю, — частичка мудрости Миллера навсегда останется в моем сердце. Мысль о потере вселяет ужас лишь в тех, кто привязывается к вещам преходящим, тленным. Но как можно потерять друга? Я понял, что лишь бесчувственные люди льют слезы в минуту разлуки. Полноценный человек всегда остается веселым и безмятежным: для него грустить в момент расставания столь же абсурдно, как для верующего предаваться печали по поводу окончания мессы. Ведь Бог всегда с нами — даже после мессы.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Война — и воскресенье после…
1
Годы сменялись с унылым однообразием и, словно неуклюжие, злобные великаны, принимающие то один эфемерный облик, то другой, уходили в столь же эфемерное прошлое. Это была война. Она пронеслась по долинам и рекам Европы, Африки и Азии, ничего не решив, ничему не научив, ничего не доказав, кроме того, что мир населен расой дегенератов, которым суждено вечно вариться в собственном соку и довольствоваться этим. Близился предпоследний час торжества демагогии: лозунги ковались, истрепывались до дыр, выбраковывались ради новых, равно бессмысленных. Распространители различных идеологий трудились на последнем издыхании, опьяненные безумием своих вожаков. Герои производились в полубогов, полубоги — в богов, и только Сам Господь Всемогущий нес потери по всем фронтам.
Что же сталось с Генри Миллером? Я и сам часто задавал себе этот вопрос в те печально героические годы, когда, с отвращением облачившись в безликую военную униформу, «оказывал пособничество и содействие» этому массовому психозу. Путешествие Миллера в Грецию, в результате которого появилась одна из его замечательнейших книг «Колосс Маруссийский», было прервано войной, и ему пришлось распрощаться с древними красотами Эллады и вернуться на родную вересковую пустошь. В годы войны мы поддерживали переписку, и его письма были для меня приятной отдушиной. Но встретимся ли мы когда-нибудь еще? Перспектива воссоединения в этом мире представлялась тогда весьма отдаленной, несмотря на обещание Генри вернуться «в первое воскресенье после войны».
Во всяком случае Генри был жив и здоров. Он вернулся в Америку — ту самую Америку, что однажды уже «обласкала» его презрением и умолчанием и едва не уморила голодом. Америка оставалась прежней, но Миллер был уже не тот. Он обрел статус и силу, а подкожный эффект его текстов оказался важным стимулом для молодых писателей Франции и Америки. Америка по-прежнему не желала официально признавать Миллера одним из своих великих писателей, однако его это мало волновало. Признание — это как лишняя побрякушка на грудь в угоду тщеславию, без чего он вполне мог обойтись. Он быстрыми темпами продвигался к личным вершинам, таким же невидимым, как духовные Гималаи.
Среди его книг, вышедших во время войны, помимо «Колосса Маруссийкого», первое издание которого состоялось в 1941 году, были «Мудрость сердца» — собрание эссе, посвященных его старому другу Ричарду Осборну, обильно представленному в этой книге; «Воскресенье после войны», вышедшее в 1944 году и также содержащее эссе, частью уже публиковавшиеся в журналах; и, наконец, «Помнить, чтобы помнить» — этот том представляет собой главным образом серию трогательных, а порой и чрезвычайно комичных словесных портретов друзей, с которыми Генри сталкивался в дни своих странствований по Европе и Америке. Кроме того, он содержит пространное эссе, публиковавшееся ранее в форме памфлета, под названием «Обсценность и закон отражения»; здесь Миллер предпринимает попытку проникнуть в истинную природу обсценности и нащупать грань, отделяющую ее от порнографии. В этой же книге перепечатан проникнутый благородством памфлет «Убить убийцу», где лучше, нежели в любой другой вещи Миллера, проявляется его отношение к войне и обнаруживается его органическая и духовная неспособность принимать в ней участие.
Среди бесчисленных коротких вещей, вышедших в период между его отъездом из Парижа и окончанием войны, необходимо отметить «Мир секса». На восьмидесяти восьми страницах этой крохотной книжицы, изданной частным образом в Америке в 1940 году, он подробно и увлеченно говорит не столько о важной роли секса, пронизывающего все сферы бытия и вселенную вообще, сколько о философской подоплеке сексуальных побуждений, о страхе секса, смешении секса с любовью в условиях нового общественного уклада, приближение которого он предрекает.
Нарождается новый мир, складывается новый тип человека, — пишет Миллер. — Огромная масса людей, которым суждено сейчас страдать — возможно, более жестоко, чем люди страдали в прошлом, — оказались парализованы страхом, замкнулись в своих контуженных душонках и не слышат, не видят, не чувствуют ничего, что выходит за рамки круга, в котором они вращаются. Так умирает мир. Первой умирает форма. Но хотя мало кто это понимает, мало кто отдает себе в этом отчет, форма не могла бы умереть, если бы не был убит дух.
Теперь Миллер весьма сведущ в процессе умирания (что вполне соответствует взглядам Френкеля и в какой-то степени подтверждает его теорию, столь фанатично отстаиваемую им в его до занудства однобоких книгах), хотя он ни бельмеса не смыслил в этом, когда только начинал писать.
Я действительно начинал дважды, — продолжает он, — первый раз здесь, в Америке, и это было преждевременно, а второй раз — в Европе. Как мне удалось начать все заново, спросите вы? Отвечу честно: умерев. В тот первый год в Париже я в буквальном смысле умер, в буквальном смысле аннигилировал — и воскрес совершенно новым человеком. «Тропик Рака» — это своего рода человеческий документ, написанный кровью, подробный свидетельский отчет об агонии в утробе смерти. Стойкий аромат секса — это, если на то пошло, запах рождения, неприятный, даже отталкивающий в отрыве от того смысла, который в него вложен. «Тропик Козерога» представляет еще одну смерть и рождение — переход, если можно так выразиться, от сознательного художника к пробуждающемуся духовному существу, являющемуся высшей ступенью эволюции.
Секс играет огромную роль в жизни и творчестве Миллера, однако он вовсе им не одержим, как склонно полагать большинство его поверхностных читателей. Более того, он никогда не смешивает секс с любовью.
Любовь — это драма завершения и единения. Она является личной в самом глубинном смысле и ведет к избавлению от оков эгоизма, каковые суть корень всех зол. Секс же безличен и либо может, либо не может отождествляться с любовью. Он может служить укреплению любви, а может и разрушать — это вспомогательный механизм, инструмент добра или зла, смотря по тому как им пользоваться. Обычно то и другое смешивают, рождая тем самым драму вины и страдания, которые несут гибель современному миру. Сексуальная жизнь, как мне представляется, наилучшим образом проявляет себя в чисто физическом мире язычников, или, опять же, в религиозном мире, когда совокупляются священнодействуя, или, наконец, в примитивном мире, где она выражается посредством ритуала и магии. <…> В нашем чисто механическом мире нет места ни личному — эстетическому, ни катарсическому. Подобно машине — символу нашего образа жизни, — секс функционирует в пустоте: он стерилен и изолирован. Секс является архе-символом импотенции. Он порождает страдание, потому что вовлекает нас в эмоциональную зависимость, вследствие чего, как существа эмоциональные, мы превращаемся в калек. <…> Мы имеем промискуитет, а не раскрепощенность. <…> Несмотря на все проявления грандиозной сексуальной свободы, жизнь наша стала практически асексуальной. Секс оказался вытесненным, он функционирует самостоятельно. Растущее разнообразие извращений — красноречивое тому свидетельство.
Миллер явно обнаруживал философский склад ума. Я не хочу сказать, что он только сейчас начинал думать, — нет, этим он занимался всю жизнь. Но здесь, в Америке, когда первые озарения юности и чрезвычайная изобильность остались далеко позади, его просветленность мало-помалу приобретала новое свойство. Позднее рецидивы еще возникнут — когда он будет «сворачивать» свой объемный автобиографический труд в три финальных тома: «Сексус», «Плексус» и «Нексус» — дело, которое он задумал более двадцати пяти лет назад. Теперь он уже не перескакивает с пятого на десятое с той пленительной разнузданностью и лихачеством, что придавали остроту и пикантность его парижским книгам. Теперь, по всей видимости, над писательством возобладало созерцание, хотя книги, статьи и брошюры выходили одна за другой. Как и Анатоль Франс, чья первая книга была издана, когда тому уже перевалило за сорок, Миллер тоже относительно поздно увидел свое имя в печати. Но, однажды начав, он уже не мог остановиться. Опыт, накопленный им за годы бедствий и злоключений (каковые еще не закончились), обширный сырьевой материал, собиравшийся им с самого детства и пока лишь отчасти использованный в книгах, — всё это продолжало давать всходы, созревать и обрабатываться в его мозгу и подсознании. Цистерна наполнилась почти до краев. Он готовился к собственному «распятию розы»{212}.
Другие вещи, написанные в форме памфлетов, включают «Положение художника-творца в Соединенных Штатах Америки» (это брошюра объемом в тридцать четыре страницы, изданная в октябре 1944 года) и «Образы верного прошлого». Последняя вышла годом позднее. Она представляет собой роскошное издание объемом в шестьдесят четыре страницы и содержит отрывки из писем Миллера другу всей его жизни Эмилю Шнеллоку. Почти одновременно с ней появился миленький томик в пятьдесят четыре страницы — «Генри Миллер. Разное». Сюда вошло несколько ранее не публиковавшихся эссе и очерков, относящихся к периоду 20-х годов.
Тогда же, в военные годы, имя Миллера просочилось в английские журналы и другие периодические издания, в частности «Горизонт», «Модерн ридинг», «Поэтри-Лондон», «Кингдом кам», «Лайф энд леттерс тудэй» и др. То есть, задолго до того как книги Миллера стали выходить в Англии, его имя было уже прекрасно известно среди знатоков искусства, сумевших по достоинству оценить его творчество. Несмотря на это, «Тропики» по-прежнему оставались под запретом, и на снятие его в Англии надежды было не больше, чем в Америке, однако сами те, кто имел наглость запретить их или попустительствовал запрещению, считали Миллера одним из замечательнейших писателей, которых дала Америка.
У себя на родине Миллер тоже перестал быть «неизвестным солдатом», хотя как на писателя на него по-прежнему смотрели косо: он стал скорее ославленной знаменитостью, нежели прославленной. Суть в том, что он никогда не был в Америке персоной грата. Отчасти по собственной вине. Генри Миллер сделал почти все возможное, чтобы стать чужим в англосаксонском мире и особенно в своем отечестве. Понятно, что резкие инвективы в адрес США, разбросанные по всем его текстам, не могли не вызвать негодования соотечественников. И все же Генри совершенно бесхитростен. Он пишет смачно и сильно, даже грубо, но в его обличительных выпадах нет ни намека на подлость или вероломство. В лучшем случае он великий лирик, ну а в худшем… самое плохое, что можно сказать о его стиле, — это то, что он чем-то напоминает бред пьяного мессии — пьяного мессии, но не спившегося писаки!
В любом случае продажа его книг так и не принесла ему больших денег, по крайней мере в Америке. По возвращении из Греции в январе 1940 года Генри на некоторое время задержался в Нью-Йорке, а затем отправился к друзьям на юг; лето он провел с Джоном и Фло Дадли{213} в Виргинии, у Кэресс Кросби{214} в Боулинг-Грин. В тот же год он встретился с Шервудом Андерсоном{215}, к которому всегда относился с глубоким почтением, и с Джоном Дос Пассосом. Тогда же, в 40-м, он написал небольшой весьма фривольный сценарий «Тихие дни в Клиши», где отразил наиболее «непечатные» аспекты нашей разбитной жизни на авеню Анатоля Франса. Эта вещица либо затерялась на почте, либо просто куда-то запропастилась. Кроме того, он начал работать над «Распятием Розы».
В следующем году Генри предпринял широкомасштабное путешествие по Соединенным Штатам, чтобы подготовить нечто вроде путеводителя по Америке; какую-то часть пути он проделал в компании своего старого друга Абрахама Раттнера, американского художника, с которым он сблизился в парижский период. Во время этого путешествия Миллер встречался со многими выдающимися и интересными людьми, среди них были Альфред Штиглиц{216}, Свами Прабхавананда{217}, доктор Марион Сушон{218}, Дейн Радьяр{219} и французский художник Фернан Леже, вдохновивший его на «Улыбку у нижней ступени лестницы». В штате Миссисипи Генри настигло сообщение о смерти отца, и он был вынужден на несколько недель прервать путешествие.
По окончательном завершении своего грандиозного турне Генри около полугода жил в Нью-Йорке и за это время доделал черновой вариант «Сексуса». В июне 1942 года он уехал в Калифорнию, и теперь уже навсегда. Там он дописывал «Аэрокондиционированный кошмар».
Он принял предложение Маргарет и Гилберта Найман{220} погостить у них в Беверли-Глен на окраине Лос-Анджелеса, где счастливо прожил около двух лет. В этот период он продолжал литературную деятельность и написал бесчисленное множество эссе и рецензий, а также поддерживал обширную переписку с друзьями и знакомыми, разбросанными по всему свету.
Думаю, теперь самое время поговорить об одном из наименее известных пороков моего друга — я имею в виду его пристрастие к писанию писем, не оставлявшее его в продолжение всей жизни. Сколько я знаю Миллера, писание писем было его ежедневным занятием, к которому он всегда относился с особенной скрупулезностью, даже если ради этого ему приходилось жертвовать любимым делом. Жертвовать — это, конечно, слишком громко сказано: писание писем доставляло ему подлинное наслаждение. Помимо упоминавшейся уже интенсивной переписки с Эмилем Шнеллоком, он поддерживал эпистолярный контакт со всеми своими друзьями, а также с множеством неизвестных ему людей. В свой последний визит в Лос-Анджелес я получил возможность воочию убедиться в грандиозности этого его порока: в библиотеке тамошнего университета я обнаружил неимоверное количество стеллажей, заполненных письмами, полученными от тех, с кем он состоял в переписке. И это лишь за последние несколько лет!
Среди его английских корреспондентов были Клод Хоктон, автор книги «Я — Джонатан Скривнер», особенно дорогой друг У. Т. Саймонс, сэр Осберт Ситуэл{221}, сэр Герберт Рид{222} и Джон Каупер Пауис{223} — уэльский мудрец, в котором было что-то от Мерлина{224}, — его лекции стали для Миллера источником постоянного вдохновения.
В Беверли-Глен он обзавелся множеством новых друзей; один из них — греческий художник Джин Варда, чей удивительный портрет Генри представил в эссе «Помнить, чтобы помнить». Варда познакомил его с кинозвездой Джеральдиной Фитцджеральд, восхитившей его своей игрой в фильме «На семи ветрах»{225} задолго до встречи с ней.
2
Миллер, всегда любивший писать акварели, решил теперь заняться этим всерьез. Он был не ахти каким художником и едва умел рисовать, но обладал превосходным чувством цвета. В Беверли-Глен он произвел своими акварелями настоящий фурор. Об этом он рассказал мне, когда я жил у него в Биг-Суре, его нынешнем калифорнийском пристанище.
Как-то он свел знакомство с торговцем предметами искусства в Вествуде, другом пригороде Лос-Анджелеса, где к тому же располагался один из восьми или десяти филиалов Калифорнийского университета. Мистер Боуинкель — так звали торговца — снабжал Генри картоном и красками. Покупал Генри помалу и нечасто. Однажды он приглядел себе одну особенно тонкую кисть, которая, по его мнению, могла бы очень ему пригодиться. Мистер Боуинкель настоял, чтобы Генри принял ее в подарок. Генри жутко смутился, потому что, как он тщетно пытался объяснить, он всего лишь любитель. Прощаясь, Боуинкель выразил желание посмотреть его работы. Через несколько дней Миллер принес торговцу несколько акварелей, которые тот незамедлительно выставил в витрине своей лавки. Результат превзошел все ожидания. На следующее утро рисунки увидел продюсер киностудии «МГМ»{226} Артур Фрид.
— Уж не хотите ли вы сказать, что это акварели Генри Миллера — того самого Генри Миллера? — спросил он Боуинкеля, зайдя в лавку.
Когда тот подтвердил, что акварели действительно принадлежат кисти автора «Тропика Рака», Фрид без колебаний купил все до одной, хорошо заплатив, и попросил адрес Генри.
После своего первого визита в Беверли-Глен Артур Фрид, вероятно, развлечения ради стал наведываться к Генри в любое время дня и ночи. В каждый приезд он непременно покупал несколько работ. Было очевидно, что этот тип смотрел на Миллера как на диковинное животное. Когда Генри наконец посетил Фрида в его особняке в Бель-Эр, где могли себе позволить жить только знаменитости, его поразила коллекция современной живописи, собранная Фридом со знанием дела и с отменным вкусом.
Как ни странно — а может, как раз и не странно для тех, кто хорошо знал Генри Миллера, — Генри не воспользовался ситуацией должным образом и не извлек из нее всей выгоды. Фрид откровенно и искренне старался ему помочь. Он благоволил к Генри и, хотя ценил в нем талант акварелиста, считал, что он даром тратит время. Пригласив его как-то на студию, Фрид между делом предложил ему поработать у них в качестве сценариста. Зарплата, конечно, не ахти, какая-то тысяча (долларов) в неделю, зато работа — не бей лежачего!
Генри понял, что все, что от него требуется как от сценариста, — это убивать время и стричь жирные купоны. Он никоим образом не возражал против того, чтобы сидеть, закинув пятки на стол, и получать за это деньги. Но как и когда он будет заниматься своим делом? Сможет ли он работать над книгами в часы присутствия? Естественно, об этом не могло быть и речи. Убивать время — это нормально, но чтобы тратить его на любимое дело — это никуда не годится! Фрид, должно быть, решил, что Генри — гениальный кретин. Он еще не встречал таких писателей. У него в голове не укладывалось, как можно, находясь в здравом уме, отказаться от такой блестящей возможности. Он ни в какую не желал принимать отрицательный ответ и даже обратился к Людвигу Бемельмансу, чтобы тот объяснил Генри, что «МГМ» не слишком утруждает своих авторов. «Расскажи ему, Людвиг, как у нас тут. Ты же ведь не перенапрягаешься?» Бемельманс точно не перенапрягался. Он отнесся ко всей этой затее как к шутке и с удовольствием подыграл Фриду в его тщетной попытке заполучить для «МГМ» нового сотрудника. За ланчем предложение было отклонено окончательно. Произошло это между сыром и яблочным пирогом à la mode[235].
В этом был весь Генри Миллер. Он с легкостью отверг маленький подарочек судьбы и вернулся в свою хибару в Беверли-Глен, где продолжал заниматься своим делом, питаясь спагетти и случайным «вальком», как он называл апельсиновую падалицу. Единственная роскошь, которую он себе позволял, — это сигареты. В результате обращения с призывом о помощи, напечатанного им в «Нью рипаблик» (Нью-Йорк), где он предлагал свои работы в обмен на деньги, еду, предметы одежды и прочее, Миллеру пришлось «клепать» акварели дюжинами. Но ему это было не в тягость. Как-никак, это все-таки одна из форм творческой деятельности, которая на данный момент устраивала его больше всего: рисование позволяло ему говорить молча, позволяло высказать то, что не выразить словами; и еще оно позволяло ему приобретать все большее сходство с ребенком, не впадая при этом в детство.
В письме, датированном «6-е или 7-е марта 1943 года», он заявил, что стал художником и собирается вообще бросить писать. Это письмо вызвало у меня улыбку. Генри всегда был художником. Он начал писать акварели задолго до того, как его стали печатать, — еще в 30-м номере отеля «Сентраль» на Рю-дю-Мэн. Даже раньше — в Бруклине, вместе с нашими общими друзьями Эмилем Шнеллоком и Джо О’Риганом. Великий поборник релаксации, Генри обнаружил, что проще расслабляться, когда рисуешь, нежели когда пишешь. У меня сохранились яркие воспоминания о том, как он писал на Рю-дю-Мэн удивительные натюрморты с яблоками и апельсинами, прежде чем ими полакомиться или после того, как их съедал. Яблоки и апельсины, разумеется, были лишь предлогом. Равно как и деревья на треугольнике Дю-Мэн, на который выходили наши окна, — в те дни это был самый прекрасный треугольник на свете. Генри рисовал его во всех ракурсах. Он ни аза не смыслил в черчении, но был настоящим художником. Его работы были откровенно и неподражаемо генри-миллеровскими. Только у наивного художника яблоки и апельсины будут выглядеть как яблоки и апельсины. В свои картины, как и в книги, Генри вкладывал всего себя. И поэтому неудивительно, что яблоки и апельсины выходили из-под его кисти предельно неузнаваемыми и жутко обогащенными, даже, можно сказать, «витаминизированными»: было бы совсем не то, если бы они напоминали те дешевые апельсины и яблоки, что мы покупали на рынке Эдгар-Кине по тридцать су за кило. В том же письме Генри сообщал мне, что надеется вскоре «завязать» с писательством. «Писательство — это в лучшем случае неблагодарный труд. Будучи художником, ты живешь совершенно иной жизнью — ты становишься человеком».
Не думаю, что Генри Миллеру, чтобы стать человеком, надо было заняться живописью. Быть человеком — это величайшее достижение: ведь большинство людей всего лишь дроби человечества. Что касается Генри, то, если уж на то пошло, он приобрел статус человека задолго до того, как надумал стать художником или писателем. Генри — человек, и человек тонкий. Но назвать его утонченным было бы оскорбительно. Генри — грубый природный алмаз, играющий миллионами граней, отшлифованных приливами и отливами жизни. Ни позерства, ни манерности, ни притворства.
В феврале 1944 года в музее Санта-Барбары была организована выставка его работ — заведомо провальная. Директор музея, очевидно, не понял творчества Генри. Только идиот будет делать вид, что «понимает» живопись. Если бы акварели Миллера могли быть понятными в традиционном рассудочном смысле, он бы не счел необходимым заниматься живописью. Именно это, наверное, он и имел в виду, когда говорил, что собирается бросить писать и всецело посвятить себя рисованию. Писателю всегда приходится «выводить формулу», чтобы добиться предельной точности, и все равно максимум, на что он может рассчитывать, — это достичь лишь приблизительной адекватности.
У Генри потому и отпала необходимость в писательстве, что он превзошел своего медиума — то есть текст как средство самовыражения. Очевидно, ему так показалось, хотя лично я не думаю, что человек вроде Генри Миллера вообще способен перестать писать — разве что с последним вздохом. Это отнюдь не значит, что он «вырос» из литературы или ему стало в ней тесно, — нет, он просто-напросто ее перерос, и она оказалась в его тени. В живописи ему еще предстоит бороться: этот «медиум» предлагал новые возможности, новые методы, новые формулы.
Его книги, как я уже говорил, не принесли ему в Америке больших денег — лишь чуть-чуть славы и много мудрости сердца. Разумеется, на акварелях он тоже не разбогатеет. Ну и что? Такой человек, как Миллер, обогащается не за счет торговли — его обогащает собственно работа; Миллер был, есть и всегда будет самым нищим богачом и самым богатым нищим: у него есть его нагота и его крест, и он сам кует себе гвозди. Стоит лишь ему почувствовать, что настал момент повисеть на кресте, и он распнет себя собственноручно. Генри самый послушный, самый угодливый святой в анналах святости и мученичества. И да поймут меня правильно, сказано это без малейшей доли сарказма. Генри истинный святой, его прикосновение обладает поистине целительным свойством, он истинный мученик. Однако он — много кто еще, но в каком бы качестве он ни выступал, в любом из них он — истинный. И эта его истинность налагает печать гения на все, к чему он прикасается.
Когда я называю Генри святым, я вовсе не хочу сказать, что в этом плане он человек односторонний. Для начала, как я уже не раз говорил, он обладает мощным, и даже возмутительным, чувством юмора. Чтобы обладать чувством юмора, человек должен прежде всего быть человеком, ну, может, с легкой склонностью к вероломству. В Генри и это есть. У него множество лиц и ликов, и все они запечатлены на его душе как следы множества перенесенных им испытаний. Своим сердцем — и это самое главное — он может объять все, что угодно. Его кротость или, скорее, смиренность — это результат мудрости сердца. Именно эта мудрость и позволяет ему возвышаться или опускаться до любого уровня, смотря по ситуации. Генри может возвышаться и опускаться по собственному волеизъявлению и без ущерба для своей целостности, ибо возвышается и опускается он исключительно в самом себе.
Загадка Генри Миллера — ибо такая загадка существует и самому Генри никогда ее не разгадать — обязана своим происхождением некоей высшей силе. Генри, как я уже говорил, является посредником, «инструментом», и это его посредничество закреплено за ним свыше и извне; он получает указания отовсюду; каждое его действие — это деяние; он облечен исполнительной властью и является духовным fondé de pouvoir[236]. Он повинуется своим хозяевам, а имя им — легион. Если бы его единственным хозяином был Господь Бог, все было бы слишком просто. Не знаю, молится ли Генри в традиционном смысле, но я лично сомневаюсь. Он, конечно же, глубоко религиозен, как и подобает человеку его калибра, но он бы оказался в довольно затруднительном положении, если бы ему вдруг пришлось вознести молитву в обычной обывательской форме: он бы просто-напросто растерялся, не зная, к кому обращаться, и стал бы молиться «Тому, кто услышит», поскольку есть очень много сил и ангельских чинов, с которыми его связывает вассальная зависимость. Пока он здесь, на земле, Генри хочет подружиться со всеми обитателями духовного мира; его прельщает вся иерархия в целом: и архангелы хороши, и ангелы, но есть и некоторое количество довольно любопытных демонов, а также более коварных элементалей{227}, которыми тоже не стоит пренебрегать. Генри честно апробирует их всех, прежде чем окончательно вознесется на небеса.
3
Представляю, как ему наскучила и опостылела роскошь и пустота Голливуда, если он уехал из Беверли-Глен в Монтерей, где пару месяцев провел у Джина Барды. Монтерей с его окрестностями сразу же пришелся ему по душе, и он был околдован диким величием Биг-Сура. Генри принял предложение Линды Сарджент погостить у нее в Биг-Суре и оставался там до тех пор, пока бывший мэр Кармела Кит Эванс не уговорил его перебраться в свою пустующую избушку на Партингтон-Ридж. Должно быть, в этот сказочный край Миллера привела его счастливая путеводная звезда.
Да, 1944 год был очень богат событиями. За выставкой в Санта-Барбаре последовала другая — в Лондоне. Она была организована Тамбимутту, одним из его тамошних издателей, работавшим в «Поэтри-Лондон». Невероятное множество его текстов было опубликовано как в Англии, так и за ее пределами. Казалось, всем невзгодам пришел конец. Колесо фортуны раскручивалось с бешеной скоростью. Осенью того же года заболела его мать, и он спешно отбыл в Бруклин. К счастью, тревога оказалась ложной. В течение нескольких месяцев он разъезжал по учебным заведениям на востоке, и в итоге в Йеле состоялась очередная выставка его работ. Еще в Нью-Йорке он познакомился с Яниной Лепской, юной особой польского происхождения, и моментально в нее влюбился. Вскоре они поженились. Произошло это в Денвере, штат Колорадо. В феврале 1945 года Генри с молодой женой вернулись в Биг-Сур. И тут снова начались семейные неурядицы.
Становилось все более очевидным, что Генри обладает просто-таки фантастической способностью выбирать себе «не тех» жен. Ни один из его предыдущих браков не был удачным в общепринятом смысле слова. Его первая жена Беатриса, урожденная Уикенз, пианистка из Бруклина, на которой он женился в 1917 году, оказалась, по его собственному утверждению, сущей пуританской мегерой. Он расстался с ней в 1923-м, четыре года спустя после того, как она родила ему дочь Барбару. (С дочерью Генри увиделся вновь, только когда ей было тридцать пять лет.) Через год он оформил развод и женился на Джун, чей портрет я уже представил на страницах этой книги, и, надеюсь, мои «свидетельские показания» наглядно подтверждают, что Джун тоже была ему неподходящей женой, хотя как раз она-то, возможно, и обладала некоторыми регенерирующими свойствами, по крайней мере в отношении Генри. Спустя одиннадцать лет они заочно развелись в Мехико. Прекрасно было все в саду, пока он не встретил Лепску. Так завершился девятилетний период его хаотических любовных связей.
Причина, в силу которой разбилась очередная «семейная лодка», состоит, я полагаю, в том, что Янина и Генри были органически и эмоционально несовместимы. К тому же Лепской было всего лишь слегка за двадцать, тогда как Генри приближался к середине шестого десятка. Резонно предположить, что принадлежность к разным возрастным категориям только усугубляла их несходство.
Судя по тем сдержанным письмам, которые я получал от Миллера в годы его супружества с Лепской, счастлив он не был. Он лишь изредка в открытую упоминал о семейных неурядицах, но я достаточно хорошо его знал, так что многое прочел между строк. В течение трех лет Лепска родила ему двоих детей: Вэлентайн и Тони. Однако это не только не улучшило отношений между супругами, но даже обострило и ожесточило их. Хотя оба родителя были страстно привязаны к детям, их привязанность друг к другу постепенно сходила на нет. У них были совершенно разные представления о том, как надо воспитывать детей, что уже само по себе приводило к частым и болезненным скандалам. Как я узнал впоследствии, они закатывали друг другу жуткие сцены, из-за которых идиллическое местечко, где они поселились, превратилось в сущий ад. Трудно судить, насколько этот дисгармоничный союз повредил работе Генри, но, вне всякого сомнения, покой он обрел только после того, как Лепска от него ушла. Определенно одно: несмотря на постоянные ссоры, в этот период Генри написал невероятное количество вещей.
4
Итак, история Генри Миллера подошла к началу нынешнего десятилетия[237]. Чтобы полностью прояснить картину его творчества и понять, какое воздействие оно оказало на европейскую литературу, необходимо все же вернуться на несколько лет назад. На протяжении всей войны Европа была отрезана от остального мира, и через Атлантический вал как сюда, так и в Америку просачивались лишь скудные обрывки литературных новостей. И даже по окончании боевых действий в 1945 году здесь царил такой хаос и неразбериха, что задача введения свежей плазмы в кровоток истощенной Европы возобладала над литературой и делами культуры вообще.
Картина мало-помалу прояснялась. Когда Миллер в 1938 году покидал Париж, его имя только начинало приобретать известность во Франции. К концу войны его уже считали одним из величайших писателей, которых дала Америка. Джек Каган отправился в лучший мир — он умер в первый день войны, — и теперь делами отца заправлял его сын Морис. В преддверии немецкого вторжения он предусмотрительно поменял не по-арийски звучавшую фамилию отца на материнскую и продолжал вести дела издательства под фамилией Жиродиа.
Во время оккупации книги Миллера продавались очень хорошо. Что и говорить, немцы зорко следили за тем, что выставлялось на полки книжных магазинов. Любой француз подтвердит, что немцы во время оккупации были très corrects[238], по сути гораздо более корректны, нежели «освободители» несколькими годами позднее. Что было, то было. Немцы знали, как подольститься к французам, и делали это самым коварным образом. Это вовсе не значит, что французы попались на их удочку: движение Сопротивления, организованное под самым носом у захватчиков, — прямое тому свидетельство. Немцы стали применять к французам репрессалии только в качестве ответной меры на их сопротивление. В начале же оккупационного периода они довольствовались лишь «внушением» — это был пик антисемитизма, кислингизма{228} и коллаборационизма. Поскольку произведения Миллера не содержали ни того, ни другого, ни третьего, его книги не имели в глазах врага никакой пропагандистской ценности. Хотя тот факт, что они были запрещены в Англии и Америке, этих злейших иудео-плутократических врагах Третьего рейха, уже сам по себе был достаточным основанием для того, чтобы разрешить свободное хождение миллеровских книг в сфере влияния немецких оккупантов. За несколько месяцев были раскуплены все имеющиеся в продаже экземпляры. Гонорары Генри росли не по дням, а по часам.
После освобождения, когда власть перешла к ордам англосаксов, книги Миллера, спешно переиздававшиеся одна за другой, продавались, как свежие булочки. Наша солдатня в диком остервенении раскупала тираж за тиражом — только успевай печатать. «Тропики» имели беспрецедентный успех. Даже французы не остались в стороне от этого бума, хотя у них тогда были совсем другие заботы — d’autres chats à fouetter[239]. У меня есть свидетельства очевидцев о том, как откормленные военнослужащие рядового и сержантского состава дрались из-за миллеровских книжек под стать изголодавшимся гражданским, вырывающим друг у друга списанные за негодностью американские сухие пайки, найденные в сточных канавах.
В отличие от своего более осторожного отца, Морис Жиродиа не проявлял ни малейшей обеспокоенности по поводу законов, запрещающих обсценность в искусстве и литературе. Похоже, тогда вообще не было никаких законов. Да и Миллер, как-никак, был уже не просто «неизвестный порнограф», а «маститый американский писатель», как величала его французская литературная пресса.
Вряд ли Генри нуждался в столь грандиозной рекламной кампании, в которую вылилось «Affaire Miller»[240], возбужденное в 1946 году неким Даниэлем Паркером и поднявшее коммерческий успех его книг на небывалую высоту: их распродаваемость побила все рекорды, известные в анналах французской литературы. Хотя фамилия Паркера звучала на английский манер, он был француз и в качестве Président du Cartel d’Actions Sociales et Morales (президента Общества блюстителей гражданской и общественной морали) выступил с нападками против Миллера, его издателей и переводчиков. Он был типичным блюстителем нравственности, одним из тех близоруких, недалеких, фанатичных ханжей, что на каждом углу кричат о необходимости искоренения всех зол и пороков в мире.
Паркер имел бледный вид. Не успел он приступить к судебным процедурам, как вся литературная общественность Франции, «препоясав чресла», поднялась на защиту Миллера. Это был настоящий крестовый поход за свободу слова. По инициативе Мориса Надо, в то время литературного редактора газеты «Комба», которую возглавлял Камю, ведущие писатели Франции встали стеной и образовали «Комитет в защиту Миллера и языковой свободы». В этот комитет вошли такие солидные знаменитости, как Андре Жид, Эмиль Анрио, Жорж Батай, Жан-Поль Сартр, Андре Бретон, Жан Полан, Андре Руссо, Поль Элюар, Робер Камп, Жан Кассу, Альбер Камю, Макс-Поль Фуше, Франсис Амбриер, Жо Буске, Поль Жильсон, Пьер Сегер, Реймон Кено, Морис Ноэль, Фредерик Лефевр, Клод-Эдмон Маньи, Эмманюэль Мунье, Арман Хоог и Морис Надо.
С момента образования Комитета защиты не проходило дня, чтобы в прессе не появлялись статьи о Миллере. Такого еще не бывало. Газеты открывали свои страницы любому, кто имел что о нем сказать. Генри в одночасье стал героем. Некоторые корреспонденты заявляли, что были знакомы с ним в его тяжелые дни в Париже, и выдумывали истории, которые частью основывались на фактах, а частью представляли собой фантастические небылицы. В колонках новостей наиболее падких до сенсаций изданий появлялись довольно эффектные сообщения вроде того, например, что Миллер, стоя в чем мать родила на крыше нью-йоркского небоскреба, писал портрет умопомрачительной блондинки. Фигура Миллера вызвала феноменальный интерес. Помнится, как раз в это время я, будучи в Париже, зашел проведать своего старого друга фотографа Брассе; откуда ни возьмись появился репортер газеты «Комба» и тут же насел на меня с воспоминаниями о Генри. Он не ушел, пока я не набросал несколько страничек. Заметка вышла на следующий же день под названием «Генри Миллер на Вилле Сёра». Вся эта катавасия продолжалась чуть ли не целый год, а то и больше.
Реклама, сделанная таким путем, сработала, как инъекция камфары: продажа миллеровских книг достигла астрономического масштаба. Морис Жиродиа, к которому я заглянул как-то утром, был вне себя от счастья. Он ликовал. Оказывается, в банке на счету у Миллера уже четыре миллиона франков! Генри — миллионер, фантастика! Франковый, но все же миллионер! Валютные ограничения и другие сложности создавали препятствия для перевода в Америку такой крупной суммы. Почему бы Миллеру не приехать и не забрать их самому? Он мог бы прекрасно распорядиться ими здесь, sur place[241]: купить яхту, замок на Луаре! Да знает ли он вообще, что так разбогател?
Обстоятельства были таковы, что Генри об этом не знал. Он сидел в своем Биг-Суре один как перст, увязнув в семейных дрязгах и заботах о том, как расплатиться с бакалейщиком.
Что касается Даниэля Паркера, то стоит ли говорить, что он не знал покоя ни днем ни ночью, пока во всю гремели фанфары в честь Миллера. Паркер стал объектом постоянных издевок и насмешек, над ним потешался «Tout Paris»[242]. Пресса обрушилась на него со всей иронией и язвительностью, на которые способны только французские газетчики; дотошные радиожурналисты чуть не за уши притягивали его к микрофонам и заставляли отвечать на каверзные вопросы, задаваемые со знанием дела и с изощренной жестокостью инквизиторов. Бедный Даниэль был беззащитен перед едким остроумием и злобными выпадами своих гонителей: в ходе одной из радиопередач он не выдержал и буквально расплакался. Таков был конец «l’affaire Miller»[243]. Это «дельце» так и не дошло до суда — оно было аннулировано. Согласно официальному решению суда Миллер оказался «amnistié»[244].
В Англии его престиж тоже набирал высоту. Имя Миллера, уже отлично известное по статьям и эссе, появлявшимся в литературной прессе, получило еще большее признание после того, как одна за другой вышло несколько его менее «запретных» вещей. Это «Аэрокондиционированный кошмар», «Космологическое око», «Воскресенье после войны», «Мудрость сердца», «Колос Маруссийкий» (впоследствии также изданный в «Пингвине»), «Помнить, чтобы помнить» и «Книги в моей жизни».
В материальном отношении Генри мало что поимел в результате всей этой парижской кутерьмы. Любой другой писатель на его месте давно сколотил бы себе приличное состояние. Но Генри Миллер — случай особый: очевидно, ему на роду написано никогда не получать денежного вознаграждения. Думаю, поскольку он привык жить в бедности, для него оказалось не так-то просто адаптироваться к неожиданному повороту судьбы. Гонорарные накопления — применительно к нему — в практическом отношении значили не больше чем пустые цифири в приходно-расходной бухгалтерской книге. Как я уже говорил, в те дни было почти невозможно переправить деньги в Америку. Генри пришлось бы приехать за ними во Францию — он как будто даже собирался, однако плачевное состояние его семейных дел, о котором я лишь смутно догадывался, вынудило его отложить поездку. К тому времени как Жиродиа придумал способ обойти валютные ограничения, положение франка заметно пошатнулось: если в конце войны за фунт давали две сотни франков, то теперь французская валюта упала до тысячи за фунт, а уж сколько за доллар — не знаю. Миллеровские миллионы пошли прахом, прежде чем он прибрал их к рукам. Оставшихся денег хватило лишь на то, чтобы купить и обставить дом, в котором он живет сейчас в Биг-Суре. В довершение всего Жиродиа обанкротился, и Миллеру пришлось довольствоваться теми крохами, которые ему еще причитались.
5
Четырнадцать лет разлуки остались позади — мы с Генри не виделись с 1938 года. Наше первое «воссоединение», как ни странно, состоялось в Испании. Но об этом чуть позже. Я жил в Англии, когда он приехал в Париж с новоиспеченной молодой женой{229}. Это было в канун нового, 1952 года.
Прием, который ему оказали французы, поражал своей грандиозностью. «Henry Miller à Paris!», «Un Grand Ami de la France nous parle», «Un Esprit Immortel nous revient»[245] — гласили газетные заголовки, возвещавшие о его триумфальном возвращении в Париж, откуда более десяти лет назад он уезжал практически нищим. Генри таскали с приема на прием, люди выстраивались в очередь, чтобы пожать ему руку, обнять, осыпать поцелуями, пригласить на пирушку или банкет. К нему лезли с микрофонами, просили поделиться впечатлениями о Париже, сказать пару слов о себе, и так до бесконечности. Миллер, по сути человек скромный, сносил столь бурное проявление восторга, употребив весь свой такт и благожелательность, однако этот опыт, совершенно для него новый, был ему все равно что кара небесная.
После нескольких изнурительных недель они с женой поехали отдыхать на Ривьеру, но отдыха и там не получилось. Генри постоянно осаждали поклонники и охотники за автографами, газетчики не давали проходу. Молодожены нашли себе на пару месяцев убежище в Ла-Сьота{230}, где жил Мишель Симон, звезда французского кино, который любезно предоставил в их распоряжение свой дом. Из Ла-Сьота они отправились в путешествие по центральной Франции, затем вернулись в Париж, и все пошло своим чередом: снова приемы, пирушки, банкеты.
В Париже Миллер, однако, не задержался. Устав от необходимости играть роль непременного почетного гостя, он улизнул в Монпелье, к Жозефу Дельтею{231}, который, сделав головокружительную карьеру, тоже сбежал из Парижа и занялся разведением виноградников на родной вересковой пустоши. И здесь, впервые после своего приезда во Францию, Генри смог наконец насладиться тишиной и покоем.
В итоге мы встретились в Барселоне. О встрече мы договаривались впопыхах и в результате едва не разминулись. Ни Генри, ни я не знали, какой отель будет нашим пристанищем в этом каталонском городе, куда мы направлялись каждый своим путем: он — из Монпелье, я — из Лондона. Мы решили, что удобнее всего встретиться в «Америкэн экспресс»: в крайнем случае там можно будет оставить адрес отеля и таким образом связаться друг с другом.
Первым ударом, ожидавшим меня по приезде в Барселону, было известие о том, что в городе нет филиала «Америкэн экспресс». Чего-чего, а этого я никак не ожидал. «Америкэн экспресс» был для меня синонимом путешествия: отделения «Америкэн экспресс» имелись чуть не в каждом городишке Франции и Италии — даже в Испании, но только не в столице Каталонии! Просто абсурд какой-то! Я по всему городу рыскал в поисках этого злополучного заведения. Было начало мая, и испанское солнце палило нещадно. Отчаявшись, я зашел в какой-то банк и рассказал чиновнику информационного бюро о своей беде.
— На вашем месте я бы обратился во «Вьяхес Марсанс», — посоветовал он. — Это бюро путешествий, но иногда оно функционирует как корреспондент «Америкэн экспресс».
Первое, о чем я вспомнил, когда в полном изнеможении поднимался по лестнице в почтовое отделение, — это ежедневные увеселительные прогулки Генри в парижский филиал «Америкэн экспресс» за эфемерным чеком, который в итоге так и не пришел. И вот теперь я сам взбираюсь по этим бесконечным ступеням. Было всего десять часов утра, а немилосердное испанское солнце уже совсем меня доконало. Я снял шляпу и стал вытирать пот со лба, лысой макушки и шеи. У меня даже очки от жары вспотели; я снял их и стал протирать стекла. «Найду ли я там письмо от Генри?» — размышлял я без особого оптимизма, памятуя о бессмысленных вояжах в «Америкэн экспресс» во время оно. Ни чеков, ни писем — все впустую! Но когда я надел очки, я увидел, что он стоит на верхней площадке и таращится на меня, как на привидение.
— Джои! — воскликнул он.
— Джои! — эхом отозвался я.
То, что мы, как и двадцать лет назад, назвали друг друга «Джои», было в порядке вещей.
На протяжении долгого мгновения, одного из этих мгновений вечности, что существуют как бы в отрыве от времени, мы не сводили друг с друга ошеломленного взгляда. В течение стольких лет разделенные многими тысячами миль, мы уже потеряли всякую надежду на встречу. Ни он, ни я не двигались с места. Генри ничуть не изменился: казалось, годы никак не отразились на его внешности, он выглядел таким же юным и безвозрастным, как всегда, — ни похудел, ни растолстел; все тот же венчик серебристых волос вокруг лысины на его голове китайского мандарина, все та же — как «у подножия лестницы» — улыбка на лице.
На нем была серая вельветовая куртка, выцветшая красная рубашка без галстука и тряпочная кепка; на шее, на белой металлической цепочке, болталось нечто, оказавшееся древним йеменским талисманом. Генри запросто можно было принять за чудаковатого уличного бродягу.
Мы даже не заметили, как оказались друг у друга в объятиях. За стойкой информационного бюро многозначительно захихикала испанская сеньорита, наблюдавшая за нашими странными действиями. Еще бы ей не захихикать, если у нее на глазах обжимаются два заезжих перестарка!
— Джои! Джои! Джои! — это все, что я мог вымолвить. У меня подкашивались колени.
Только тот, кто знает человека Генри Миллера, может понять, какое благотворное воздействие он оказывает на людей. Я находился в полуобморочном состоянии, но уже через пару секунд ощутил приток его успокоительной силы. Снова все было как в старые добрые времена. В его присутствии ни с кем не может случиться ничего плохого: он брал на себя ответственность за всякого, кто пробивался в его «присутствие», как в какую-нибудь лурдскую лечебницу{232}, — и все грелись в изобилии его, словно под кварцевой лампой. И источались от него силы небесные и входили в них…
Когда улеглись первые волнения встречи, мы отправились в открытое кафе, где Генри дожидалась его свита, и тут начался vin d’honneur[246]. Теперь, в ретроспективе, мне кажется, этот vin d’honneur продолжался весь тот недолгий период, что мы провели вместе. Нас было много, но не толпа Прежде всего, среди нас была Эва, урожденная Маклюэр, — жена Генри номер четыре, из Беркли, штат Калифорния, — одно из тех пленительно живых созданий, которых умеют находить только такие матерые мужи, как Матисс, Анатоль Франс, Пикассо или Генри Миллер. Еще были сестра Эвы Луиза и ее муж Лиллик, родившийся и выросший в Палестине. Его полное имя — Безелил Шац, и это как раз тот человек, который несколько лет назад, применив особый метод шелкографии, изготовил феерическую книгу Миллера «В ночную жизнь». Замыкающими были упоминавшийся уже Жозеф Дельтей, его американская жена Кэролайн, урожденная Дадли, а также моя собственная жена Анна.
Беседа была веселой, но до ора не доходило. В нас бурлило нечто более крепкое, чем вино. Обошлось даже без лингвистических осложнений, хотя Дельтейль совсем не говорил по-английски. Мы с Генри ударились в воспоминания — личные воспоминания, но одинаково интересные всем присутствующим. Ключом беседы было веселье. Когда Генри смеялся, казалось, все кафе сотрясается от смеха.
Анна, самая благоразумная шотландка на свете, которой я за многие годы все уши прожужжал об этом товарище моей юности и которая ревновала меня к Генри больше, нежели к любой женщине, сама тотчас же подпала под его чары. Я до сих пор не могу понять, в чем секрет его обаяния. Его «хм!» и «гм!» по-прежнему разили наповал, его удивительно резонирующий голос звучал все так же по-бруклински. Никто не сомневался, что он мудрец, хотя его мудрость, будучи неотъемлемой частью его личности, редко проявлялась в разговоре. Он никогда не изрекал ничего особо глубокомысленного, но это делало его воздействие на окружающих только более чудесным. Пожалуй, я могу назвать лишь одного человека, способного добиться того же результата, — это герр Пеперкорн из «Волшебной горы»{233}.
Вскоре мы уже слушали его рассказ о новой жизни в Биг-Суре. Он вел еще более уединенный и безмятежный образ жизни; помимо писательства, его главной заботой были Вэл и Тони — дети от предыдущего брака.
Интересно, сохранилась ли в нем былая жажда странствий? Я живо помню наши долгие разговоры на кухне в Клиши, когда он с упоением рассказывал о тех местах, где уже побывал, и о тех, которые пока только собирается посетить: духовные дела звали его в Индию и Китай, а в Тибете он планировал завершить свое земное странствование и раствориться в тонком эфире. В душе Генри, пожалуй, по-прежнему оставался все тем же сентиментальным путешественником, но у него уже не было вечной тяги к перемене мест — в кои-то веки он открыл для себя ту простую истину, что само по себе перемещение в пространстве абсолютно ничего не дает. Важно — во все времена — быть в гармонии с миром и вселенной, и прежде всего — с самим собой. Что толку ехать в Тибет, если Тибет повсюду, если ты сам себе Тибет!
Анна стала расспрашивать его о йеменском амулете. Это была тоненькая прямоугольная пластинка с надписью на иврите, изготовленная предположительно четыре столетия назад. Этой вещице, подаренной ему другом и шурином Шацем, Генри приписывал магические свойства и говорил, что с тех пор, как он надел этот талисман, у него не было ни одного неудачного дня.
— Я никогда его не снимаю, — объявил он.
— Даже в постели, — уточнила Эва, криво улыбнувшись, — я вся в синяках.
— Что поделаешь — побочный продукт страсти, — со смехом подхватила Анна. — Так, значит, этот амулет еще и повышает мужскую потенцию!
Генри рассмеялся. Генри готов был смеяться над чем угодно, особенно над собой, а смеялся он заразительно. Именно этот элемент самоосмеяния и подкупает в его чувстве юмора. Он посмеивался над тем, что ему вскоре придется пользоваться слуховой трубой, поскольку за последние сорок лет он стал туговат на левое ухо; он посмеивался над своими маленькими слабостями и чудачествами; может, в глубине души он посмеивался и над пресловутым талисманом, хотя внешне относился к нему со всей серьезностью. Только ребенок может смеяться так безудержно, как смеется Генри Миллер, — да в душе он и есть ребенок. В его обществе невозможно долго оставаться грустным или подавленным. Он будет из кожи вон лезть, чтобы только тебя развеселить, используя для достижения своей цели самые странные способы: то возьмется изображать енота, то сымпровизирует похоронную речь, затем расскажет какую-нибудь фантастическую историю и будет уверять, что как-то давным-давно слышал ее собственными ушами, хотя в действительности сочинял по ходу дела. А если и этого будет мало, он перевоплотится в морскую выдру, а в качестве заключительного аккорда растянется на полу в grand écart[247].
— Не странно ли, — заметил как-то Дельтей, — что все мы так околдованы Миллером, хотя, в сущности, он просто американец?
Вопрос был чисто академическим и не предполагал никакого злого умысла. Но он заставил меня унестись мыслями лет на тридцать назад, к нашей первой встрече с Генри, когда я нашел его на террасе кафе «Дом», где он сидел и тихо допивался до ручки, так как ему нечем было расплатиться по счету. Именно тогда я впервые услышал его импровизированную речь об Америке. Я вспомнил, какой странный душевный подъем вызывало во мне одно лишь звучание заморских названий, которыми так и сыпал Генри. Покипси, Мемфис, Амарилло, Мобил, Таксон, Чикамуга, Санта-Фе, Шайенн, Каламазу. Эти названия и по сей день звенят у меня в ушах. В те дни мир не был еще полностью американизирован, и этот далекий континент завораживал своей таинственностью; «золотой запад» не стал еще притчей во языцех. В моем представлении Америка была сказочной страной, чем-то вроде Африки, только повыше рангом, — неизведанным краем фантастических возможностей. Экономика не стала еще единственной заботой мира, помешанного на Практичности. Были еще какие-то шансы у романтики, была жива поэзия, и можно было наслаждаться ею не таясь, — это сейчас она превратилась в абстрактную теорию, о которой говорят и которой занимаются как-то отвлеченно. И Генри Миллер с его безмерным, анархичным и «многоканальным» энтузиазмом был первым американцем, с которым я столкнулся: он казался мне олицетворением всего, чем манила к себе Америка: ее надежд, ее обаяния, ее тайны. Non, mon cher[248] Дельтей, не вижу я ничего странного в том, что мы так околдованы Миллером, этим «просто» американцем!
Забавно, что в своих яростных нападках на Америку Миллер проявляет себя как истинный американец. И его энтузиазм, и его избыточность, и его ребячливость — чисто американского происхождения. Так писать или говорить не способен ни один европеец. Да Генри и не пытается скрывать, что он американец, — думаю, подсознательно он даже этим гордится.
За годы нашей долгой дружбы мне довелось наблюдать бесчисленные проблески его восхитительного американизма. Наивность и щедрость Генри выдавали его с головой. Сколько раз на моих глазах он одаривал королевскими дарами случайных знакомых, приходивших к нему поплакаться в жилетку. Он редко мог пройти мимо какого-нибудь уличного попрошайки, чтобы не ошеломить его, вручив пятифранковую монету, — это когда на пять франков можно было чуть ли не по-барски закусить в ресторане, — даже если это были его последние деньги! Он никогда не делил нищих на заслуживающих подаяния и незаслуживающих. Господь дал, Господь и взял. Чего уж проще. Свой план аренды земли он разработал задолго до того, как на арене появились Рузвельт или генерал Маршалл{234}. Генри — американец до мозга костей, причем самый типичный, что бы там ни говорили его соотечественники.
Мы не тратили драгоценного времени, любезно отпущенного нам благосклонной судьбой, на обременительные заумные беседы. Признаться, я даже забыл, о чем мы тогда говорили, — помню только, что мы были вместе и были счастливы. В такие моменты хронологический элемент становится менее четким и время приобретает призрачный характер. Все события тех дней я вижу довольно смутно. Вот мы сидим в открытом кафе и пьем чинзано, вот греемся на солнышке на пляже в Ситхесе, милях в двадцати от города, а вот снова проедаем себе путь сквозь горы шедевров испанской кухни и снова попиваем послеобеденный кофе в каком-нибудь уличном кафе на Рамбла. Но все это было продолжение одной и той же словесной баталии.
Литературная тема практически не затрагивалась. У меня и в мыслях не было спрашивать, что он сейчас пишет. Да и что он мог писать, в конце-то концов? Книгу, разумеется, — очередную книгу. Литература как-то мельчает и бледнеет перед лицом Жизни.
Спору нет, Францию Генри покорил — Францию, где литературу любят и понимают. Но вот сможет ли он когда-нибудь завоевать англосаксонский мир? Не просто получить признание как писатель, но заставить себя уважать? Это зависит не столько от англосаксонского мира, сколько от него самого. Пока что он преуспел лишь в том, что и в родном отечестве, и в Англии вызвал по отношению к себе не презрение и безразличие, а возмущение и негодование. В процессе своей писательской карьеры Миллер положил на бумагу астрономическое количество слов — я, конечно, рискую занизить цифры, но, по моим скромным подсчетам, это свыше трех миллионов. И во всей его писанине нет ни одного лестного отзыва о своей стране, не говоря уже об Англии. О людях — да, и об американцах, и о британцах, но ни слова похвалы англосаксонскому образу жизни. Естественно, это вызвало возмущение. Но так ли уж и естественно? Неужели Миллер и впрямь такое чудовище? Или, может, он преследует корыстные цели? Так или иначе, его горечь по отношению к родной стране все же небезосновательна. Давайте посмотрим.
6
Стечение счастливых обстоятельств сделало для меня возможным дописывать последние главы книги в Биг-Суре. Это позволило мне не только проверить и уточнить основные фактические данные «биографии» Миллера, но и посмотреть, как он прижился на родной почве, понаблюдать за ним в домашней обстановке, выяснить его отношение к соотечественникам, но главное — проникнуться той атмосферой, в которой он теперь жил и работал.
Первое, что поразило меня по приезде в этот, пожалуй самый красивый, уголок Калифорнии, — это его уединенность и великолепие. Край первозданный, девственный и тихий. Чем-то напоминает северную Шотландию. Я нашел Генри в его «шкатулке» — так я назвал бы его дом на высоте нескольких сот футов над океаном. Позади дома примерно на сотню миль простирается ранчо Санта-Лусия — пустынное, но не запустелое, еще не изгаженное цивилизацией, поросшее шалфеем, хворостинником, юккой, люпином, кактусами и самыми разными душистыми травами, населенное оленями, ласками, горными львами, дикими кошками, лисицами и енотами. Холмы изрезаны широкими каньонами, из которых, словно гигантские свечи, возвышаются массивные стволы мамонтовых деревьев, диких дубов и эвкалиптов. Уж не знаю, что там в недрах, — наверное, золото, уран и уйма прочих бесполезных ископаемых. Доказательством богатства Америки служит тот факт, что столь обширные пространства земли могут оставаться неосвоенными и неиспоганенными. Если и есть рай на земле, то он именно здесь, — скажу я, используя изъеденное молью клише. Ни один рекламный щит не обезображивает этого обиталища богов. И нигде никакой вульгарщины, как повсюду на Ривьере. В ясные дни — а в ту теплую калифорнийскую зиму, кажется, не было ни одного пасмурного дня — из окон его дома открывается такой прекрасный вид, что дух захватывает: перспектива расширяется вдаль на многие мили, так что вся панорама приобретает ясность и пластичность стереоскопического изображения. И с высоты своего жилища Генри может любоваться практически необозримым океаном, устремляя взор к невидимому за горизонтом Китаю.
Как же протекает жизнь Генри Миллера в этом райском уголке, который он избрал своим пристанищем из-за его кажущейся уединенности? Что до уединенности, то, по-моему, в центре Лондона можно вести даже более замкнутый образ жизни — было бы желание. Наш воображаемый затворник делит свой рай с очаровательной женой Эвой — я уже имел счастье познакомиться с ней в Испании. Одного присутствия этой женщины достаточно, чтобы украсить и наполнить удовольствиями жизнь самого закоренелого отшельника. Дети приезжают сюда теперь только на летние каникулы, зато у Генри с Эвой есть два пса: один — большой, черный — помесь лабрадора с немецкой овчаркой, его зовут Пап, а второй — Джои — совсем еще малыш, с менее прослеживаемой родословной. Но хватит уже о Haus und Hof[249].
Есть у них и соседи. Странно, конечно, говорить о соседстве в условиях такой местности, как Биг-Сур: это и не городок, и даже не поселок — просто несколько более или менее изолированных хибарок, бревенчатых избушек и даже нормальных домов. Ближайшие соседи Миллеров Россы — Хэрридик и Шанаголден — живут в избушке примерно на расстоянии крика. Хэрридик — скульптор, а Шанаголден, известная во всем мире как Лилиан Бос Росс, — автор бестселлера «Чужой». Сразу над ними — жилище Мод Оукс; как антрополог, она не один год провела среди индейцев обеих Америк и написала по материалам своих исследований ряд блистательных работ. На расстоянии чуть меньше мили живут Дэвид и Бетти Толертон; Дэвид — довольно известный скульптор. В броске камня от них обитают Николас Рузвельт (из тех же Рузвельтов, что и президент) и его жена Терца; они занимают нормальный дом, охраняемый сворой свирепых венгерских овчарок. Затем идут Ринки, Уиткомы, Фелпсы, Хопкинсы, Моргенраты и Хили, живущие в домах, избушках и хибарках — кому как повезло — в радиусе пешего хода от домишка Генри. На расстоянии более четырех миль, в прославленной хибаре на шоссе № 1, соединяющем Аляску с Патагонией, обитает один из его любимых друзей Эмиль Уайт — оказавшийся, кстати, моим соотечественником, — с женой Пэт и их грудным ребенком Стивеном. Но живешь ты в хибарке, избушке или нормальном доме, тебе обеспечены все виды confort moderne[250], — как-никак, Америка! Правда, мне еще предстоит побывать в одном американском доме, где нет ни холодильника, ни качественного проигрывателя, ни прочих роскошеств, о которых в Старом Свете пока что и слыхом не слыхивали. И уж надо ли добавлять, что, богатые или бедные, — все обитатели Биг-Сура имеют автомобили, по крайней мере по одному.
Если и не все эти люди живут по-соседству, общаются они исключительно по-соседски. Местом их ежедневных сборищ служит площадка у почтового ящика примерно в миле от жилища Генри к югу по шоссе № 1. Туда Эд Калвер доставляет почту. Он привозит ее в специальном почтовом автомобиле, принадлежащем не почтовому отделению, а почтальону лично. Маршрут Эда — от Монтерея до Лусии — вынуждает его ежедневно проделывать сто пятьдесят миль. Эд, конечно, тот еще тип! Ничто в его поведении не напоминает британского почтальона. Он похож скорее на студента-спортсмена (а может, так оно и есть), к тому же он не носит униформы. Помимо доставки почты (кажется, Генри у него самый солидный клиент) Эд предсказывает погоду — обычно плохую, что никогда не сбывается, и свою ошибку в прогнозе он потом объясняет стеной высокого давления в Тихом океане. Попутно Эд снабжает своих клиентов разного рода бакалеей, домашней птицей, молочными продуктами, газетами и сигаретами. И все это, разумеется, в кредит. В кредит можно купить даже почтовую марку. Здесь, в стране, где правит доллар, вряд ли когда увидишь, чтобы сам он гулял по рукам. И, даже расплачиваясь наличными за гамбургер в какой-нибудь забегаловке, чувствуешь себя провинившимся школьником.
Как я уже сказал, соседи общались вполне по-соседски. Все называли друг друга по имени, и каждая встреча сопровождалась бурными проявлениями восторга. В ожидании Эда, который, очевидно, никогда не приезжал вовремя, они обсуждали войну в Китае, состояние дорог, свои последние выставки в Лос-Анджелесе или Сан-Франциско, летающие тарелки, которые кто-то из них видел на днях собственными глазами, смену владельцев серных бань, собачьи болезни, кулинарные рецепты и множество других вещей, так или иначе связанных с их повседневной жизнью.
Однако не надо полагать, что Биг-Сур — это колония писателей и художников. Здесь живет где-то около трехсот человек, и большинство из них — простые люди со скудным достатком. Так уж случилось, что ближайшими соседями Генри стали писатели и художники, но это всего лишь совпадение, — хотя вполне возможно, что в район Биг-Сура они стеклись, «примагниченные» его присутствием. Во всяком случае, Генри был одной из первых знаменитостей, поселившихся в этой местности.
Имя Генри отлично известно в Биг-Суре, он здесь самая популярная личность и, хотя порой на него посматривают с благоговейным трепетом, вполне доступен общению. Соседи, понимая важность его работы и считаясь с его идиосинкразиями, редко докучали ему визитами, по крайней мере не заваливались в любое время дня и ночи. Зато его постоянно осаждали многочисленные поклонники, приезжавшие в Биг-Сур автостопом из самых отдаленных уголков страны и даже мира, чтобы просто пожать ему руку. У Миллера было не меньше поклонников и почитателей, чем у кинозвезды, и, хотя он терпеть не мог, когда его отрывали от работы, двери его дома были открыты для всех, и каждого он встречал с распростертыми объятиями и приглашал разделить трапезу. Особо непонятливые из толстокожих оставались на несколько дней.
В общем, он живет простой и тихой жизнью. Работает он, наверное, не так напряженно, как в Европе, — все-таки теперь у него дом и жена, о которых надо заботиться (хотя жена, как выяснилось, вполне способна позаботиться и о доме, и о себе), — однако десять лет в Биг-Суре не прошли даром. Здесь был написан «Нексус» — третий и заключительный том грандиозного автобиографического труда (предыдущим был «Плексус»). Среди других вещей, написанных в Биг-Суре, надо отметить «Книги в моей жизни» (о ней я уже вскользь упоминал) и исследование о Рембо. Изначально Миллер намеревался исполнить вольный перевод его «Сезона в аду». То есть он задумал сделать английскую версию этой вещи, не сообразуясь с оригиналом, — иначе говоря, передать на своем языке эмоциональное и поэтическое содержание сочинения Рембо, представив таким образом собственную версию сезона в аду. Приступая к работе, он надеялся как можно ближе подступить к тому, что Рембо называет своим «негритянским» языком. Первая попытка провалилась, но Генри не отказался от своего намерения. В результате мы имеем его книгу о Рембо, которая, надо сказать, не в большей степени является биографией Рембо, чем моя книга — биографией Миллера. Но она гораздо ярче отражает сущность Рембо, нежели любая научная биография.
Влияние Миллера — теперь это можно утверждать со всей определенностью — становится все более и более ощутимым за рубежом. Говоря «за рубежом», я имею в виду — за пределами англосаксонских стран. Его произведения переведены уже почти на все европейские языки и, кроме того, на японский. Что верно, то верно: нет пророка в своем отечестве, и я не погрешу против истины, если скажу, что это изречение имеет самое непосредственное отношение к Генри Миллеру. Несмотря на огромное количество друзей и доброжелателей у него в Америке, официально он по-прежнему остается в опале. Если бы не его европейские и японские гонорары (в Японии он третий по популярности американский писатель после Хемингуэя и Стейнбека), ему бы так и не удалось свести концы с концами.
На фоне общеевропейского признания Генри Миллера писателем исключительного дарования как-то нелепо всерьез обсуждать «узколобую» позицию официального американского цензора, всякий раз появляющегося под видом чиновника почтового или таможенного ведомства. Как я уже говорил, и «Тропик Рака», и «Тропик Козерога» одинаково доступны в библиотеках большинства престижных американских колледжей, где эти книги считаются классикой и рекомендованы студентам в качестве обязательного чтения. Миллер просто завален письмами молодых американцев, избравших «Тропики» темой своих студенческих научных работ. Внимание, уделяемое «Тропикам» ведущими литературными критиками всего мира, полностью оправдывает читательский интерес. Однако власти делают все возможное, чтобы не допустить на книжные полки американцев именно эти две книги.
Время от времени чиновники почтовых и таможенных служб отслеживают и перехватывают экземпляры «Тропиков» при ввозе или пересылке через границу и проштамповывают их как подлежащие конфискации и уничтожению. Если адресат не согласен с подобными действиями властей, он имеет право отстаивать свои интересы в суде. В таких случаях выносится отрицательное решение: суд принимает сторону ответчика, в качестве которого всегда выступают Соединенные Штаты Америки. В ходе разбирательства председательствующий судья излагает собственные соображения и дает весьма вольные комментарии по поводу неугодной книги.
Трудно устоять перед соблазном сопоставить отдельные фрагменты обличительной речи судьи, направленной против «Тропиков», с отзывами о тех же книгах, прозвучавшими в разное время из уст наиболее уважаемых литературных критиков Европы и Америки. (Реплики судьи я привожу по копии стенограммы дела, слушание которого состоялось в Апелляционном суде США по 9-му округу. Истцом выступал некто Эрнест Дж. Бисиг, ответчиком — Соединенные Штаты Америки.)
Судья. С моей точки зрения, в содержании обеих книг-ответчиц («Рака» и «Козерога») преобладающим элементом является непристойность. Обе они перенасыщены возмутительными грязными пассажами, имеющими целью возбудить похотливые мысли и желания.
Сэр Герберт Рид (о «Тропике Рака»). Я заявляю, что это самая яркая книга со времен «Портрета художника в юности» Джойса. Это произведение искусства, достойное занять свое место в узком ряду величайших достижений современности.
Судья. Бесконечные грязные описания сексуальных опытов, техник и органов непристойны сами по себе. В качестве оправдания здесь приводится тот факт, что книги в целом представляют собой некую художественную структуру, в которую обсценные и скатологические{235} фрагменты входят как составные части единой литературной мозаики. Но я должен заявить, что это сплошная софистика. Грязные скатологические фрагменты написаны особым слогом, резко отличающимся от претенциозной рефлективно-метафизической манеры остального текста.
T. С. Элиот. Просто замечательная книга — особенно отдельные пассажи. Давно не читал ничего подобного.
Судья. …От большинства обсценных пассажей исходит такое зловоние, что если привести их здесь в качестве подстрочного примечания, то это судебное решение можно будет с полным правом объявить порнографичным.
Эзра Паунд. В кои-то веки нецензурная книжка, которую можно читать!
Судья. Если допустить ввоз в страну литературы подобного толка, то будут попраны достоинство человеческой личности и нерушимость семьи — эти краеугольные камни нашей общественной системы.
Пол Розенфельд.{236} …За последнее время это самое заметное явление на небосклоне американской словесности.
Судья. …Есть несколько пассажей, где женский половой орган и его функция представлены и описаны в таких подробностях и в таких вульгарных выражениях, что у читателя возникает чувство тошноты.
Сирил Конноли. Помимо блестящего рассказчика, помимо головокружительных перепадов стиля, с которым всегда в ладу его создатель, здесь (в книгах) чувствуется зрелость, не имеющая ничего общего с бравадой и духовной несостоятельностью почти всей американской беллетристики, — это скорее сродни уитменовскому философскому оптимизму, более глубокому и организованному, но так и не сломленному годами полной лишений жизни в городе, где даже голодать — наука.
Судья. Мне бы очень хотелось посмотреть, как мистер Бисиг (истец) будет читать своим молодым знакомым бесчисленные грязные пассажи этих книг. Если он человек высоких устремлений, каким я его считал, то можно надеяться, что у него тотчас же исчезнет всякая мысль и о «свободе слова», и о «гражданских свободах» вообще.
Джордж Оруэлл. …В некотором отношении он («Тропик Рака») с большим успехом, нежели «Улисс» Джойса, устраняет разрыв между интеллектуалом и человеком с улицы — в том смысле, что он не осложнен чувствами отвращения и раскаяния. <…> Позиция книги действительно сродни уитменовской, только без его американского пуританства. <…> Это замечательная попытка заставить интеллектуала спуститься с холодного «шестка» своего превосходства и соприкоснуться с человеком с улицы.
Судья. Ни одно грязное или безнравственное произведение живописи или литературы не станет чистым и высоконравственным только потому, что таковым его провозгласит какой-нибудь мнимый или так называемый критик.
Олдос Хаксли.{237} Жутковато, но сделано здорово. <…> Ваша книга вызвала у меня чувство такой раздвоенности, подобного которому не способен вызвать никакой Эль Греко.
Судья. Обсценность — это вопрос факта, который суд или присяжные смогут определить, прочитав данные книги.
Блэз Сандрар. «Тропик Рака» est profondément de chez nous, et Henry Miller un des nôtres, d’esprit, d’écriture, de puissance et de don, un écrivain universel comme tous ceux qui ont su exprimer dans un livre une vision personnelle de Paris[251].
Судья. …Оба «Тропика» обсценны — двух мнений здесь быть не может.
Эдмунд Уилсон.{238} …Это не просто блестящий образец литературы — это своего рода исторический документ, эпитафия всему нашему поколению, обосновавшемуся в Париже после войны.
Судья. На основании установленных фактов я объявляю «Тропик Рака» и «Тропик Козерога» обсценными. По этой причине просьба истца должна быть отклонена.
Чарльз Пиерс. По моему мнению, Генри Миллер — писатель исключительного дарования и в конечном итоге его признают и в этой стране (Америке).
Это сопоставление мнений, вызывающее в памяти словесные баталии, разгоревшиеся несколько лет назад между Даниэлем Паркером и защитниками Миллера, можно продолжать ad lib[252] хоть до бесконечности. Но толку-то что? Достаточно признать, что в Америке, как это ни прискорбно, победа в конечном счете остается за паркерами.
В качестве последнего «свидетеля защиты» я не могу предложить более подходящей кандидатуры, способной сказать свое веское слово, чем Джон Каупер Пауис, который более тридцати лет жизни посвятил «окультуриванию» Америки, разъезжая с лекциями по городам и весям всех ее сорока восьми штатов. Я привожу цитату из письма, адресованного им американскому студенту из Каира, штат Нью-Йорк:
Дорогой мистер Данте Т. Заккаджинини, я просто восхищен Вашим письмом — каждым его словом! Да, мы с Вами несомненно «братья по оружию» — как доблестные рыцари-крестоносцы, выступившие на защиту нашего единственного и неповторимого ГЕНРИ МИЛЛЕРА.
Итак, для начала обратимся к его «запретным» книгам. Любому интеллигенту, психологу и любому действительно грамотному читателю должно быть ясно, что введение Миллером в «Тропике Рака», «Тропике Козерога», «Черной весне» etc. всех этих коротких односложных школярских слов англосаксонского происхождения для обозначения наших половых и экскрементальных органов и отверстий ни в малейшей степени не является тем, что принято называть порнографией; это вполне обоснованная и давно назревшая Реформа общепринятой литературной традиции.
Сенсационная реформа, правильная и очень смелая… ибо, когда дело касается секса, фанатичное безумие пуританского духа (каковой сам является «предметом» психологии!) переходит всякие границы. Вряд ли кто-то может стать на «путь наслаждения» гибельным пороком только оттого, что прочтет несколько простых и грубых англосаксо-германских слов, обозначающих наши половые функции! Подлинно порнографические книжки совершенно иные, и это понимает большинство здравомыслящих людей. Что же касается Гения Генри Миллера, то он чисто европейской природы в самом широком и глубоком смысле слова! Он обусловлен идеальным Усвоением (как при переваривании усваивается пища, при поглощении — вода, при вдыхании — воздух) на космическом, эмоциональном, традиционном уровнях эстетики Древней Греции и Рима, а также итальянского Возрождения. В красноречии Миллера СЛИЛИСЬ В ОДНО ЦЕЛОЕ красноречие Еврипида{239} — в трагедийности и красноречие Аристофана{240} — в комедийности! Он «еврип-аристофанствует», адаптируя для своего времени слог, оставленный в наследство авангардистам сократовской эпохи более ранними предшественниками, чьи труды, за исключением отдельных фрагментов, насколько я знаю, безвозвратно утеряны.
Особенно велик Миллер, по моему убеждению, в двух вещах. <…> Во-первых, в описаниях случайных фантастических, гротескных, причудливых, эксцентричных, трогательных и трагически привлекательных человеческих персонажей, с которыми он знакомился и заводил дружбу по всей Европе и Америке. В описаниях этих чудаков он порой достигает почти шекспировской тонкости в восприятии смешного и образности в выражении сострадания. Во-вторых, в его глубоко мистической — иначе не скажешь — интерпретации отдельных пейзажей, отдельных городов и побережий, метрополий и провинций, в чьи души (а душа есть у каждого места!), одержимый безумной страстью и вдохновением исследователя, он погружается, то ныряя, как рыба, то зарываясь, как крот.
Затем, помимо этих двух главных особенностей или тенденций творчества Миллера, которые можно охарактеризовать как путь шекспировского шута в «Короле Лире» (первая) и путь гётевского Вильгельма, когда он пытается проникнуть в тайну Искусства, и гётевского Фауста, когда он пытается проникнуть в тайну Природы (вторая), существует еще и третий элемент — огромной важности, — почти всегда лежащий на поверхности в творчестве Миллера. Я говорю о его критической оценке некоторых мистических элементов и о том, что у других писателей можно было бы назвать пророческими элементами, — например, у Достоевского, Бальзака, Д. Г. Лоуренса и у многих, многих других писателей и художников, пробудивших в нем некую сейсмическую медиумичность и духовное ясновидение. И наконец, есть четвертый аспект Г. Миллера, и, возможно, именно он — но об этом вправе судить лишь глубоко духовная часть нашего существа, — возможно, именно этот аспект является наиважнейшим и наидрагоценнейшим элементом его творчества, который можно было бы назвать его «Посланием» нашему потерянному поколению. Суть его можно охарактеризовать так: каждый человек, кем бы он ни был, должен хранить верность самому себе, своей истинной природе, по-настоящему принимать жизнь как она есть, а Смерть — либо как стимул к более интенсивной Жизни, либо как способ отдохнуть от всех жизненных невзгод… Эта философская позиция ни в коей мере не является ни языческой, ни христианской, ни материалистической, ни спиритуалистической, — ближе всего она к китайскому «Дао», или «Пути». Да, этот элемент «Дао» в философии Миллера — (сам я не слишком сведущ в идеях и доктринах китайского «дзэна», чтобы о кем говорить, но, полагаю, без него тоже не обошлось, — а вот о «Дао» я говорить могу, тем более что именно «Дао» лежит в основе учения Миллера), — этот даосский элемент подразумевает определенную веру и доверие, просветленную покорность и смирение, а также текучесть — как текучесть воды или воздуха, — несокрушимые в духе, который по виду будто бы сдается и отступает, но на самом деле неизменно остается самим собой…
Миллер лишь покачивает головой и улыбается, когда начинают дискутировать о наличии в его книгах порнографического элемента Вероятно, это не вполне укладывается у него в голове. Все эти разговоры о порнографии и обсценности в его творчестве слегка его озадачивают и приводят в недоумение. Разумеется, он понимает, что дыма без огня не бывает, — значит, какой-то элемент обсценности и даже порнографичности в его книгах все-таки имеется. Но как он туда попал, — словно вопрошает Генри, — с чьей легкой руки? И ведь что интересно — хотя это покажется невероятным и его поклонникам, и его гонителям, — сам он считает себя в этом смысле совершенно невинным. Тут его невинность вплотную граничит с детскостью. Он может подобно ребенку погрешить против вкуса, против меры, против условностей, но против чувства — никогда! Он может разразиться непотребным дифирамбом, не смущаясь присутствием дам или школьниц, даже не подозревая, что он кого-то шокирует.
Что касается порнографии, то она не представляет для него ни малейшего интереса. Скучно! — это все, что он о ней знает. Не думаю, чтобы за всю свою жизнь он прочел хоть одну порнографическую книжку. По его словам, от порнографии его клонит в сон. Взять хотя бы маркиза де Сада. Генри считает его одним из самых значительных писателей восемнадцатого столетия, но читать все равно не может. О нем — да, но не его самого. Точно так же и с порнографией: о порнографии он читать может, но порнографию как таковую — нет. Книги психоаналитического толка — да, но только не порнографию ради порнографии! Вроде бы он читал Штекеля{241} и Хевлока Эллиса{242}. А вот насчет доклада Кинзи я не уверен, скорее даже сомневаюсь.
7
Хотя к чему строить догадки о том, чего Миллер не читал, если он сам взял на себя труд рассказать нам о том, что он читал? В сочинении «Книги в моей жизни»{243} он предпринял героическую попытку представить полный список книг, прочитанных им в течение жизни. Задача не из легких, поскольку он смог бы перечислить лишь те книги, о которых помнит, так что лакуны неизбежны. Генри утверждает, что работа над «Книгами в моей жизни» еще не завершена и он намерен позднее подготовить второй том, а возможно, и третий. Миллер, чьи тексты почти сплошь автобиографичны, обожает писать такого рода книжки, поскольку они позволяют расширить рамки автобиографического введением как литературных, так и разных других событий и влияний. Автобиограф всегда чуть-чуть эксгибиционист, и чем больше ему удается обнажить свое внутреннее «я», тем счастливее, должно быть, он себя чувствует. Сам Миллер так объясняет свое желание перечислить все книги, которые он читал:
Я люблю играть в игры, а это одна из самых древних игр — «погоня за дичью». Главная причина в том, что я ни разу не видел списка книг, прочитанных кем-нибудь из моих любимых писателей. Я бы все отдал за то, например, чтобы узнать названия всех книг, «проглоченных» Достоевским или Рембо. Но есть и более важная причина, суть ее вот в чем: людям всегда интересно узнать, что повлияло на того или иного автора, по образу и подобию какого великого писателя или писателей он себя моделировал, кто больше всего его вдохновлял, кто оказал самое сильное влияние на его стиль и так далее.
Список Миллера мог бы дать нам довольно полное представление об авторитетах, повлиявших на его творчество, будь этот список опубликован в вышедшем томе. (Этот список, насчитывающий более пяти тысяч названий, не был включен в первый том, поскольку дополнительный объем, по мнению его американских издателей, потребовал бы увеличения типографских расходов. Полный список издательство «Нью дирекшнз» предполагает дать во втором томе.) Осмелюсь, однако, сказать, что меня бы не впечатлил список даже в десять тысяч названий. «Всякое влияние дурно», — утверждает Оскар Уайльд, так как, поддаваясь чьему бы то ни было влиянию, человек отклоняется от собственной природы, насилует свою волю, кастрирует личность. Но он не предлагает способа избежать влияния — вот в чем загвоздка. Если ты родился и вырос в джунглях, на тебе всегда будет сказываться влияние джунглей. Даже если бы Миллер не удосужился прочитать ни одной книжки мадам Блаватской или Шпенглера, он все равно испытал бы на себе их влияние. Культура и традиция, характерные для нашей цивилизации, оказывают воздействие даже на самого непроходимого болвана и невежду, хотя и немногим более ощутимое, чем мертвому — припарки. Это как атмосферное давление: оно всегда присутствует и всегда ощущается — столько-то фунтов на квадратный дюйм в зависимости от того, на какой высоте над уровнем моря ты находишься. Не мы выбираем себе влияющие факторы — это они выбирают нас.
Если уж развивать тему влияний — пусть даже литературных, — то я позволю себе наглость заявить, что если говорить о моем старом друге Генри Миллере, то он не испытал на себе влияния ни одной из книг, приведенных в его безразмерном списке. Хотя бы потому, что его «влияющие факторы» совсем не книжной природы. На ученого, физика, философа-эрудита, исследователя могут оказывать влияние труды, представляющие собой сумму знаний и результатов научного поиска их коллег и предшественников. Книжные влияния для нас — как костыли и ходули, с помощью которых мы продвигаемся вперед. Ни поэту, ни ребенку не нужны никакие литературные влияния. В их мире все предусмотрено заранее — Создателем. Я не утверждаю, что Генри не получал особого удовольствия от прочитанных книг или не благоговел перед авторами — как хорошими, так и плохими, — которых он воспринимал как постоянный источник вдохновения. Я только хочу сказать, что на самом деле книги не повлияли на него даже вполовину против того, как повлияли бруклинские улицы, друзья из 14-го квартала и отцовской пошивочной мастерской, все эти странные женщины, его собственные пристрастия и смутные желания, еда, которой ему всегда было мало, мечты, которые он лелеял, и чувства, которые он питал. Словом, его «влияющим фактором» была сама жизнь — не книги, а жизнь и тот жестокий опыт, что она ему преподала. И еще я могу здесь добавить, что как писатель Миллер лучше всего проявляет себя, когда повествует о собственном человеческом опыте. Он и сам прекрасно это понимает — отсюда и автобиографическая природа большинства его произведений. Четверть века назад в Париже, когда Генри нашел наконец свой собственный голос, он четко осознал, что сюжетным материалом его творчества является он сам, его собственное «я», а средством самовыражения — автобиография. И он, как мне кажется, совершает серьезную ошибку всякий раз, как отклоняется от «жилы», на которую напал, и углубляется в пространные философские и метафизические отступления, совершенно несоотносимые с его неподражаемым даром рассказчика. Как писатель Генри Миллер уникален в изображении жизни «без парадного костюма», но я не вижу в нем ни философа, ни метафизика, среди которых можно назвать десятки гораздо более «подкованных» и основательных, нежели он. Писателю ранга Миллера нет особой нужды прибегать к философии, чтобы доставить по назначению свое послание. Философия и метафизика Генри Миллера неявно присутствует в самом его языке, в том, как он излагает человеческую историю. И то, что он напускает на себя ученый вид, лишь умаляет его достоинство. Он непревзойденный рассказчик и повествователь, но у него кишка тонка тягаться с Faculté [253].
Что и говорить, Генри очень хотелось бы, чтобы я сделал особый упор на его пристрастии к дзэн-буддизму, его понимании восточной мудрости, его неприятии Америки как воплощения зла и так далее. Не вижу в этом необходимости. И это, и многое другое и без того кристально ясно проницательному читателю «Тропиков», «Черной весны» и других его запретных и незапретных книг. Очевидно, Миллер не вполне осознает, что он в большей степени проявляет себя как дзэн-буддист, когда пишет о велосипедных прогулках вдоль Сены или о краюхе хлеба, нежели когда пишет о дзэн-буддизме как таковом. У него свой круг обязанностей, своя система координат, и, как только его заносит в сторону, он тут же перестает быть тем, кто он есть.
И еще один момент — к вопросу о «влияниях». Ясно, что влияние — вещь не такая уж случайная: мы попадаем под то или иное влияние не потому, что оно, так сказать, обрушивается на нас как гром среди ясного неба, — мы его ищем. Всякий человек, писатель он или нет, подчиняется именно тому влиянию, которого он сам желает в глубине души. Любого по-настоящему влияющего влияния желают, ищут, призывают. И причину, в силу чего один тип влияния оказывается предпочтительнее другого, должно искать в структуре конкретной личности.
Тяга Миллера к мистическому, оккультному, эзотерическому Востоку обусловлена, я бы сказал, полярностью его натуры. В предыдущих главах мне уже приходилось упоминать об этой самой полярности, когда я говорил о его пристрастии к наиболее грязным, убогим и отвратительным аспектам парижской жизни. Генри, это чистое, невинное дитя, шокирует как бы par ricochet[254]. Полярность пронизывает все его существо — вроде кристаллической решетки в леденце. Его всегда притягивает и приводит в восхищение то, что в корне противоположно его внутренней сущности. Его непреодолимо влечет ко всему заморскому. Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das gute ist so nah![255] Несмотря на германский атавизм моего друга, это изречение не имеет для него романтического ореола. Миллер готов дойти до предела абсурда, лишь бы извлечь последнюю каплю романтики из чего-то странного, причудливого, экзотического — словом, из всего, что чуждо его собственной простой натуре. И эту самую простоту некоторые из его гонителей принимают за позерство, эпатаж, игру на публику. У Генри можно найти сколько угодно недостатков, но он никогда не был позером. Он глубоко искренен в своем стремлении к неизведанному. И к Востоку он ностальгически обращается именно потому, что далек от него и физически, и ментально. Никакой китаец, никакой индус не будет испытывать такого бешеного восторга перед восточными чудесами, как простой американец специфического духовного склада Генри Миллера. Он любит все, что есть «не-он», и чем труднее ему вместить в себя то, что он любит, тем больше страсти вкладывает он в эту любовь. Я видел, как он впал в транс из-за какого-то японского фильма (опять же не самого лучшего) только потому, что «япошки» такие странные, непонятные люди. Не имея практической возможности прочувствовать на себе какую-либо ситуацию, приобщиться к тому или иному образу жизни, в корне ему чуждому, он будет изучать и эту ситуацию, и этот образ жизни, исходя из собственных, совершенно ложных мотивов и предубеждений; он будет до экстатического умопомрачения трактовать о своем понимании какого-нибудь рассказа, интерпретируя его таким образом, что автора бы удар хватил, услышь он этот фантастический бред. У Генри потрясающий талант видеть то, чего нет. И это одно из его привлекательных качеств.
В его любимых книгах, равно как и в тех, что, по его утверждению, оказали на него особенное влияние, говорится о людях, которых он не понимает: это русские Достоевского, средневековые монахи, древние азиаты, африканские аборигены — все те, с кем его разделяют пространство и время. Чтобы он соблазнился книгой, ее автором непременно должен быть какой-нибудь чужеземец — предпочтительно азиат или балканец. Если же книга написана англичанином или американцем, то она должна иметь отношение к мистическим учениям и оккультизму. Природная открытость и простодушие делают его падким до всего необычного. Поэтому когда ему предлагают на выбор кусок нежнейшего свиного филейчика и вонючее китайское птичье гнездо, он непременно отдаст предпочтение последнему, если же с гнездом не получится (слишком дорогой деликатес), то он удовольствуется либо чоп-сьюи{244}, либо сукияки{245}, приготовленным бог знает из какого — не к столу будь помянуто! — набора ингредиентов. Я уже много писал о его поразительной способности выбирать не тех жен.
Уж не собираюсь ли я выставить своего большого друга Генри Миллера каким-то придурком? Надеюсь, что нет. Просто я пытаюсь понять, как он устроен, хочу разобраться в механике его функционирования, показать его действия и противодействия в чистом виде. И всякий раз, как я пытаюсь его ущучить, я прихожу к заключению, что, по сути, его реактивная способность повышается за счет все той же госпожи полярности: это опорная призма его личности, единственный рычаг, которому он послушен, — тезис и антитезис, приятие и неприятие, «за» и «против».
В этом свете его презрительное равнодушие к англосаксонскому образу жизни можно объяснить тем, что он сам англосакс — на все сто процентов. Американец до мозга костей — второго такого надо еще поискать. Но тут полярность его натуры, вкупе с рабской любовью ко всему чужеродному и экзотическому, проявляется в полную мощь, и он начинает бунтовать. Он делает отчаянную попытку выпрыгнуть из собственной шкуры и злится на себя и на весь англосаксонский мир за то, что ему это не удается. Его злобные выпады способны порой заставить читателя (слушателя) смеяться и плакать одновременно. И когда он особенно неистовствует, когда доходит в своем злопыхательстве до верха абсурда, до тебя вдруг доходит, что все-таки есть в его бредовых словоизвержениях рациональное зерно иррациональной логики. Он карикатурирует, шаржирует, пародирует, но разве стал бы он этим заниматься, не будь в мире вещей, которые сами напрашиваются на то, чтобы их карикатурировали, шаржировали, пародировали? Стоит ему обнаружить какой-либо изъян, и он тут же сосредоточивает на нем всю свою злобу и ярость. Большинство здравомыслящих людей в любой стране, включая Соединенные Штаты, согласятся с Миллером в том, что американский образ жизни далеко не совершенен, но они не считают необходимым кричать об этом с пеной у рта. Миллер же, у которого напрочь отсутствует чувство меры и пропорции, раздувает из мухи слона, превращает кротовые кочки в Кордильеры, а Кордильеры — в наросты на лике вселенной.
Появись у Миллера шанс пожить достаточно долгое время в каком-нибудь из его любимых и обожаемых мест — Греции, Тибете, Китае, — и они утратят для него свою привлекательность, их очарование рассеется, как только исчезнет ореол таинственности и экзотичности. В этом еще одно проявление полярности его натуры. Ему просто необходимо, чтобы его дурачили, мистифицировали, даже, я бы сказал, облапошивали. Его приводит в восхищение все, что может его озадачить, сбить с толку. Объясни ему это, и он тут же потеряет интерес, Миллер и в Девахане чувствовал бы себя grand dépaysé[256]. Ему лучше всего, когда у него подрезаны корни, когда он дрейфует по воле волн, готовый, подобно Дон Кихоту, сразиться и с дьяволом, и с ангелом.
8
Голодные времена, времена бесконечных мытарств и поисков, где бы чего поесть, — неужели они наконец миновали? Неужели ему теперь гарантировано трехразовое питание? А его аппетит — по-прежнему ли он хорош? Ça va, la santé?[257] После всех этих лет видеть его здесь, в Биг-Суре, в его американском доме — зрелище поистине умилительное. Американский дом. Американский ли? Американский. Вне всякого сомнения. И все же чувствуется в нем некая экстерриториальность — как и в любом месте, где обитает Генри Миллер. Творение его рук. Он превратил свой дом в личный Шангри-Ла, своего рода Тибет — не тот Тибет, каков он, наверное, на самом деле, а тот, каким бы он был, будь это его Тибет. Он обожает свой дом и свой сад — on ne peut plus chinois[258] — с японскими сливовыми деревьями, гималайскими кедрами, гинкго{246}, китайскими фигами etc. Там же стыдливо притулилась грядка, где он выращивает отнюдь не тибетский salade de mâche[259]. Ранним утром (если не надумает устроить себе grasse matinée, то есть подольше понежиться в постели) он кузнечиком соскакивает с кровати и отправляется слоняться по саду, по ходу дела унавоживая почву, чтобы его драгоценные экзотические деревца получили все необходимые удобрения. Затем завтрак: апельсин или грейпфрут, сырая или вареная овсянка, яйца, бекон, тост и отменный американский кофе — вместо тибетского чая с прогорклым маслом. Эва давно его раскусила и досыта кормила отнюдь не эзотерическими американскими деликатесами. Если бы у него был такой рацион с первых дней парижской жизни, он, вероятно, нагулял бы уже солидное брюшко и страдал подагрой и артритом. Как бы то ни было, аппетит у него все такой же зверский. А вот голодом в неомиллеровском хозяйстве теперь даже и не пахнет.
Жизнь в этих американских «Гималаях» чрезвычайно приятна. Пап и Джои — единственные члены семьи, сумевшие оценить Америку за то, что она им дает. Они делают что хотят и все, что хотят, имеют, ну а тибетский образ жизни их как-то не прельщает. Американская собачья жизнь вполне их устраивает. Когда им надоедает фаршевая диета, они выпрашивают вареную курочку или копченый виргинский окорок и никогда не получают отказа. Европейскую собачью еду они бы, наверное, и понюхать побрезговали, хотя пока что никто не имел наглости предложить им ее попробовать. Вместо овощей, о которых не все собаки высокого мнения, им дают витаминные таблетки — полный набор: от «А» до «Р». Когда обильная диета вызывает у них недомогание, их сажают в автомобиль и срочно везут в Монтерей, в ветеринарную лечебницу доктора Крэга, где им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Если американцы называют своих домашних животных «любимцами», то это не пустые слова: они их действительно любят, любят на деле. Америка — рай для хирургов-ветеринаров. Я испытал благоговейный трепет при виде собак в заведении доктора Крэга, где Пап находился под наблюдением, когда у него подозревали детский паралич. На парковке возле клиники, обеспечивающей все тридцать три удовольствия санаторно-курортной жизни, — сплошные «кадиллаки», «линкольны» и «роллс-ройсы», в которых приезжают четвероногие пациенты. Большинство из них страдают самыми странными и совершенно несобачьими недугами. Некоторые владельцы собак без колебаний повезут своих питомцев на консультацию к доктору Крэгу только потому, что у тех разыгралась мигрень или появились признаки аллергии на ресторанный бифштекс, не говоря уже о приступах меланхолии. Доктор Крэг внимательно выслушивает все жалобы. Идеальный homme du monde[260], искуснейший хирург. А как недорого берет! Всего пять долларов за консультацию — значительно меньше, чем на Харлей-стрит{247}, — независимо от сложности операции, будь то удаление вросшего ногтя, миндалин или сеанс психоанализа. Un vrai paradis pour les chiens![261] И для ветеринаров.
На что же теперь тратит деньги мой добрый друг Генри Миллер? Наверное, читателю это тоже небезынтересно. Да, теперь он уже не тот нищий бродяга, каким я изображал его на предыдущих страницах этой книги. В Америке его вещи — и книги, и акварели — по-прежнему продаются очень слабо, но из-за границы постоянно текут гонорары, особенно из Франции и Японии. Поскольку было бы непростительной глупостью навлекать на собственного друга неприятности со «сборщиками податей», я воздержусь от математических подробностей — могу только сказать, что его доход почти соизмерим с дороговизной американской жизни. Да и вообще, человека вряд ли можно назвать бедняком, если у него есть собственный дом, качественный проигрыватель, автомобиль, любящая жена и пара взыскательных четвероногих гурманов, хотя в Америке многое из этого можно приобрести в рассрочку.
У Генри есть счет в Американском банке, а это один из крупнейших банков в Соединенных Штатах, имеющий филиалы чуть не в каждой калифорнийской деревеньке. В поселке с населением меньше тысячи человек есть только один филиал, в местечке, где численность населения перевалила за тысячу, — их два или три, так что у жителей есть выбор. В Голливуде, где я впервые удостоился чести наблюдать, как Миллер обналичивает чек, имеется по меньшей мере два десятка филиалов. Банки в Америке — святыня, это знает каждый, и здания Американского банка впечатляют грандиозностью архитектуры. Снаружи они обычно похожи либо на итальянское палаццо эпохи Возрождения, либо на греческий храм, либо на турецкие бани, либо на современный крематорий. Внутри — та же торжественность, но чуть больше жизни. В полдень там такое же столпотворение, как в пищевом эмпории[262]. Большинство клиентов — женщины и дети. Все в синих джинсах и желтых свитерах, и у всех одна цель: отдать деньги, забрать деньги, в чем и состоит вся сделка. Некоторые солидные патроны приводят с собой детей и собак — последние, как правило, воспитаны лучше. Совершая сделку, клиенты попыхивают сигаретой и жуют резинку, время от времени — но не всегда — пытаясь утихомирить разрезвившегося перекормленного дитятю, который носится по залу как ошалелый, норовя выстрелить из водяного пистолета или запустить игрушечной атомной бомбочкой в главного кассира. Успокоительный эффект леденца или жевательной резинки длится не более одной-двух минут, за это время мамаша как раз успевает пересчитать деньги и сунуть их в карман джинсов.
При посещении банка мой друг Генри всегда чувствует себя не в своей тарелке. Он имеет чековую книжку и законное право снимать деньги. Нет абсолютно никаких оснований подозревать его в попытке ограбить банк. Но он все равно умудряется производить впечатление злоумышленника. Его особенная манера приближаться к банковскому служащему, смущенный вид, с которым он протягивает ему совершенно нормальный чек, вызывает у того вполне определенную реакцию: он в недоумении вскидывает бровь. Просто невероятно, что человек, имеющий приличный счет в банке, может испытывать такой панический ужас перед процедурой обналичивания чека, тем более человек, одно время упражнявшийся в тонком искусстве «прикарманивания наизнанку». Когда кассир бросает на него естественный в подобной ситуации изумленный взгляд, Генри бледнеет и, не дожидаясь наводящих вопросов со стороны клерка, начинает судорожно рыться в карманах в поисках водительских прав, страховки или проштампованных конвертов с адресом — любого документа, способного удостоверить его личность. Кассир, собравшийся было выдать деньги без лишних слов, тут же начинает проявлять слабые признаки подозрительности. Он задает ряд вежливых вопросов, грозящих из-за возникшего у Генри чувства вины перерасти в перекрестный допрос. Я ожидаю повторения дьепп-ньюхейвенского эпизода, но ничего такого не происходит. Клерк уже сделал соответствующие выводы или, скорее, несоответствующие: он принял Генри за деревенского увальня, обалдевшего при виде денег. В чеке Генри указал сумму в сорок семь долларов девяносто три цента, а какой нормальный жулик, решил кассир, пойдет на подлог ради такой мизерной суммы. Пожав плечами, он спрашивает у Генри, в каких купюрах тот желает получить означенную сумму. Генри любит мелкие: если две по пять, а остальное — по доллару, получится внушительная пачка. Мелкие так мелкие. Банкир отсчитывает деньги, и, получив их, Генри испускает вздох облегчения. Надо же — снова получилось! Здесь я его отлично понимаю, меня даже как-то растрогали эти его странные выкрутасы. У него никогда не было денег, да и сейчас не слишком много, и он никак не может свыкнуться с мыслью, что они вообще у него есть, да еще и в банке! Наверное, думает, что все это сон — обычный сон бедняка, — и страшно боится, что его разбудят и скажут, что чек недействителен.
На улице Генри вдыхает свежий воздух с наслаждением вырвавшегося на свободу беглого каторжника. Он передвигается знакомой мне издавна пружинящей походкой Пана. Ему хорошо и радостно. Мы на перекрестке Голливуда и Вайна, в «сердце» сказочного, киногорода, который против всяких ожиданий показался мне какой-то, с позволения сказать, задрипанной заштатной дырой. У меня такое впечатление, что мы все еще на шоссе № 101,— или какой, бишь, у него номер? Машины мчатся с бешеной скоростью: изумрудно-зеленые, цвета королевского пурпура, синего кобальта, розового шампанского — все чистенькие, новенькие, будто с них только что сняли целлофан. А может, так оно и было. Улицы, однако, пусты. Почему, интересно, на тротуарах ни души? Все-таки Голливуд такой большой город{248}, а в большом городе не может не быть людей. Куда они все подевались? Отсутствие людей меня озадачивает. Я не перестаю удивляться. Генри объясняет, что все они в машинах. Пешком никуда не добраться — только на машине. Тем более в Голливуде. И куда они все несутся? Куда здесь ехать? На заправку? В контору по делам недвижимости? В похоронное бюро? В закусочную? В аптеку? Ехать здесь явно больше некуда, а простая прогулка, очевидно, рассматривается как антиамериканская деятельность.
— А мы куда отправимся, Джои? — спрашиваю я.
— Тебе решать, Джои, — отвечает Генри, — не я же тебя сюда притащил.
Вижу книжный магазин.
— Вот так сюрприз! — говорю. — Заглянем?
Генри соглашается составить мне компанию. Помещение огромное, но, в отличие от банка, совершенно безлюдное. Похоже, американцы могут продолжительное время обходиться без книг. Генри, которого здесь все знают, представляет меня владельцу магазина. Они тут же заговаривают о делах.
— Как торговля? — спрашивает Генри.
— Да так, ни шатко ни валко. Могло быть и лучше.
Я тактично воздерживаюсь от замечания, что в Лондоне мне ни разу не доводилось видеть книжного магазина без покупателей, и начинаю разглядывать книги на полках.
— Большинство покупок делается по телефону, — продолжает хозяин, закуривая «Честерфилд» с длинным фильтром.
— Хм, — отвечает Генри.
Я ничего не отвечаю.
— Просто заказывают восемнадцать с половиной футов книг, и все, — мурлычет хозяин, потирая руки.
Я несколько озадачен, но продолжаю молча изучать полки.
— И обычно каких? — спрашивает Генри.
— Девять футов с четвертью зеленых и девять с четвертью — красных.
Я в полном недоумении отрываюсь от монографии Кинзи о поведении американских женщин, но книгопродавец уже приступил к рассказу о том, как одного его знакомого декоратора подрядили обновить интерьер в доме какой-то кинозвезды в Беверли-Хиллз, так ей понадобилось, чтобы книги были в одной цветовой гамме с обстановкой ее будуара. Я украдкой поглядываю на Генри. Он улыбается, но отнюдь не радостно. И тут до меня вдруг доходит, что мой друг еще не вполне излечился от своих антиамериканских настроений.
В возрасте шестидесяти трех лет Генри стал наконец регулярно питаться. Он в расцвете сил — физически, ментально и духовно. У него отличные друзья и очаровательнейшая жена (в кои-то веки он нашел то, что нужно) — четвертая и, хочется надеяться, последняя миссис Миллер. А также пара верных американских дворняг, которых он в состоянии кормить отменной американской пищей, содержащей все необходимые американские питательные вещества, включая экстракт люцерны, очищенную костяную муку, пивные дрожжи, липкую черную патоку, лецитин, сою, ирландский мох, золу водорослей и в изобилии — пророщенную пшеницу. «При наличии вакуумной упаковки срок хранения неограничен».
Ну так чего же еще ему не хватает — если ему вообще чего-то не хватает? Я бы сказал, что ему не хватает стимула. Стимул — одна из тех редких вещей, которых нельзя достать в этой стране изобилия. Все остальное — пожалуйста: новые изобретения, деньги, техника, дух предпринимательства, лучшая в мире еда — что для людей, что для роботов, что для животных. Есть даже доброжелательность, но никаких стимулов! Стимул можно найти в парижской ночлежке, в итальянской траттории[263], в лондонской полуподвальной клетушке, даже, наверное, в венском бомбоубежище, но только не в Голливуде, не в Америке. Есть в американской атмосфере нечто такое, что либо убивает его в зародыше, либо разлагает, либо преобразует во что-либо другое. В Европе у Миллера всегда был стимул. Как ни странно, многие из тех, кто давал ему этот стимул, сами были американцами. Лишенный американской атмосферы, американец страдает не меньше, чем у себя на родине, но за границей ему хотя бы свободнее дышится — не то что в стальном корсете Америки. В Америке стимул закисает: в процессе разложения он частью перерождается в прогорклую злобу, а частью становится своего рода подкормкой для системы торговли в рассрочку.
Генри пытается настаивать, что ему не нужен никакой внешний стимул. Человек, сполна хлебнувший жизни, заявляет он, может хоть целую вечность протянуть за счет собственных внутренних ресурсов. Это равносильно утверждению, что человек, у которого есть собственный пруд со стоячей водой, никогда не умрет от жажды. Конечно, и в стоячей воде нет ничего плохого, особенно если ее регулярно очищают, обрабатывают дезинфекторами и с помощью термостатического устройства поддерживают постоянную температуру. Бесспорно, будь нужда, Америка научится гнать превосходнейшую, наичистейшую, обогащенную витаминами питьевую воду даже из затхлой мочи. К чему и стремится научный гений Нового Света, — во всяком случае, по твердому убеждению нашего бруклинского мальчишки Генри Миллера.
Вопрос, уважаемый Генри, состоит в следующем: неужели тебе и в самом деле по душе такая вода или ты все-таки предпочел бы вернуться к источнику свежей родниковой воды? Я понимаю, что путешествие требует огромных усилий и полно опасных неожиданностей. Но ты знаешь дорогу и достаточно молод, чтобы добраться до места целым и невредимым. Подумай об этом, Джои. Мне не нужно расписывать тебе прелести родниковой воды — ты ее уже пробовал.
Je t’attends — à la source[264].
Лондон — Биг-Сур, Калифорния, октябрь 1954 — март 1955
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Генри Миллер в возрасте четырех лет. 1895
Генри Миллер, его сестра Луиза и отец Генри-старший. Ок. 1903
Генри Миллер на ступеньках дома Анаис Нин в Лувсьенне. 1930-е
Анаис Нин в возрасте 16 лет. 1919
Слева направо: Дэвид Эдгар, его жена, Генри Миллер, Майкл Френкель, его возлюбленная Джойс, Альфред Перле — в парке дома Анаис Нин в Лувсьенне. 1930-е
Анаис Нин в возрасте 18 лет в костюме Клеопатры. 1921
Генри Миллер в дверях дома Анаис Нин в Лувсьенне. Начало 1930-х
Доктор Отто Ранк (стоит) и его учитель Зигмунд Фрейд. 1922
Джун Мэнсфилд, вторая жена Генри Миллера. Начало 1930-х Фото Брасе
Уэмбли Бонд, американский журналист, в 1930-е гг. освещавший в газете «Чикаго трибюн» жизнь парижской богемы
Альфред Перле. 1930-е
Джек Каган, владелец и основатель парижского издательства «Обелиск-Пресс»
Лоренс Дарелл, английский писатель, друг Генри Миллера и Анаис Нин
Майкл Френкель, писатель, философ и издатель, парижский друг Генри Миллера
Генри Миллер в Лувсьенне. Начало 1930-х
Слева направо: Сальвадор Дали, его жена Гала, Генри Миллер, нью-йоркский книготорговец Барнет Рудер — в доме Кэресс Кросби в Боулинг-Грин, штат Виргиния. 1940
Американская кинозвезда Бренда Венус, последняя любовь Генри Миллера. 1970-е
Генри Миллер в своем последнем пристанище — особняке в фешенебельном предместье Лос-Анджелеса Пасифик Пэлисейдз, куда он перебрался в 1963 г., — на фоне стены, специально отведенной им под граффити
Генри Миллер и Бренда Венус. 1979. Фото Мартина
Генри Миллер. Конец 1970-х
.
Примечания
1
Хулигана, повесы (фр.). (Здесь и далее — примечания переводчика.)
(обратно)2
Дэвид Эдгар — один из парижских друзей Миллера, подстегнувший его интерес к мистическим учениям.
(обратно)3
В буддизме Девахан (Девачен) — одно из местопребываний надчувственного мира, куда смертный попадает, достигнув особой степени просветленности и преодолев круг земных смертей и рождений.
(обратно)4
Miller Н. Remember to Remember: Vol. 2 of the Air-Conditioned Nightmare. [N.Y.]: A New Directions Book, [1947]. P. 348–369 (цитируется с сокращениями).
(обратно)5
The Diary of Anaïs Nin. [Voleum II]. 1934–1939 / Edited and with a Preface by Gunther Stuhlmann. San Diego; N. Y.; L.: A Harvest / HBJ Book. The Swallow Press and Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, s. a. P. 337–348 (цитируется с сокращениями).
(обратно)6
A Literate Passion: Letters of Anaïs Nin and Henry Miller. 1932–1953 / Edited and with an Introduction by Gunther Stuhlmann. San Diego; N.Y.; L: A Harvest / HBJ Book. Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, [1987]. P. 393–394.
(обратно)7
Miller Н. Letters to Emil / Edited by George Wickes. N. Y.: A New Directions Book, [1989]. P. 98–99.
(обратно)8
Miller Н. The Books in Му Life. [N. Y.]: A New Directions Book, [1969]. P. 96–98.
(обратно)9
Ibid.
(обратно)10
«Квартет в ре-мажоре» (фр.).
(обратно)11
Уважаемый мэтр (фр.).
(обратно)12
«Лимитрофные чувства» (фр.).
(обратно)13
Иными словами, когда придет срок нового воплощения в земной жизни.
(обратно)14
Государственным переворотом (фр.).
(обратно)15
Мете́ков (фр.). Мете́к — исторически — иноземный поселенец в древних Афинах.
(обратно)16
Рогаликов, круассанов (фр.).
(обратно)17
«Чтоб вам пусто было, месье!» (фр.).
(обратно)18
Включая вино (фр.).
(обратно)19
Роковой женщины (фр.).
(обратно)20
Королевский кусок (фр.).
(обратно)21
В качестве туристов (фр.).
(обратно)22
Прямо из горла (фр.).
(обратно)23
Позерки (фр.).
(обратно)24
Здесь: заказанного спиртного (фр.).
(обратно)25
Полицейского (фр.).
(обратно)26
И проч. (лат.).
(обратно)27
Т.е. 26 декабря, следующий день после Рождества.
(обратно)28
Здесь: «круглым столом» (фр.).
(обратно)29
«Избирательное сродство» — роман Гёте (1810).
(обратно)30
Отчаянного человека, сорвиголовы (искаж. исп.).
(обратно)31
Хорошим столом (фр.).
(обратно)32
Столовым (ординарным) вином (фр.).
(обратно)33
Тротуара (фр.).
(обратно)34
Антитетический — т. е. противополагаемый, содержащий антитезис.
(обратно)35
Нытика (фр.).
(обратно)36
Кумушке (фр.).
(обратно)37
Сиди́ — пренебрежительное прозвище североафриканцев во Франции.
(обратно)38
«Путешествие на край ночи» (фр.).
(обратно)39
Аррондисмент — административная единица во Франции, соответствует округу.
(обратно)40
Американского образца (фр.).
(обратно)41
Остроту (фр.).
(обратно)42
Белое вино (фр.).
(обратно)43
«Мое кругосветное плавание» (фр.).
(обратно)44
Легкий завтрак, «закусь» (фр. разг.).
(обратно)45
Пневматичку (особый вид почтовой связи) (фр.).
(обратно)46
Служащим ресторана, ведающим спиртными напитками (фр.).
(обратно)47
«Лимон отбивает запах земляники» (фр).
(обратно)48
Литератор (фр.).
(обратно)49
Здесь и далее под этим именем также фигурирует Анаис Нин.
(обратно)50
Этим звездным созданием (фр.).
(обратно)51
И проч. (лат.).
(обратно)52
1) Макрели; 2) сутенере (фр.).
(обратно)53
Сиделка в туалетной (фр.).
(обратно)54
Заболеваний мочевых каналов (фр).
(обратно)55
Красного вина (фр.).
(обратно)56
Здесь: дрочильщице (фр., вульг.).
(обратно)57
Вина (фр., разг.).
(обратно)58
Вполне светской дамой (фр.).
(обратно)59
Порыв (фр.).
(обратно)60
Полномочиями (фр.).
(обратно)61
Наивности (фр.).
(обратно)62
Мон Пайва (лат.).
(обратно)63
Роковая женщина (фр.).
(обратно)64
Большая любовь (фр.).
(обратно)65
Зала ожидания (фр.).
(обратно)66
Буржуазной кухни (фр.).
(обратно)67
Любовь втроем (фр.).
(обратно)68
Фермата (ит.) — в нотном письме — знак, увеличивающий на неопределенное время длительность ноты или паузы, над (или под) которыми он поставлен. Часто ставится в конце пьесы или части циклического произведения. Здесь употреблено в ироническом смысле.
(обратно)69
Проявление ловкости (фр.).
(обратно)70
Здесь: безоговорочно (фр.).
(обратно)71
Синий «Голуаз» по тридцать су за пачку в двадцать штук (фр.).
(обратно)72
Очень уж оно лесбийское (фр.).
(обратно)73
Бистр — темно-коричневая акварельная краска (фр.).
(обратно)74
Порядочными женщинами (фр.).
(обратно)75
«Дно» общества (фр.).
(обратно)76
Как дела? (фр.).
(обратно)77
Здесь: дрянственно (фр.).
(обратно)78
Скверностно (фр.).
(обратно)79
Белым вином (фр.).
(обратно)80
Здесь: выходило дрянственно дрянно (фр.).
(обратно)81
Уточнение (фр.).
(обратно)82
Гуру — в Индии религиозный учитель или духовный наставник.
(обратно)83
Просто (фр).
(обратно)84
Постоянным жилищем (фр.).
(обратно)85
От одних меблированных комнат к другим (фр.).
(обратно)86
Клошаров, бездомных бродяг (фр.).
(обратно)87
Попрошаек (фр.).
(обратно)88
У нас этим кормят собак, а тут — джентльмена. Нормально! (фр.).
(обратно)89
Ку́ли — в Индии и Китае чернорабочий из местных жителей, нанимавшийся белыми колонизаторами.
(обратно)90
Добавку (фр.).
(обратно)91
Жаркого из мяса и овощей (фр.).
(обратно)92
Пешка, «шнитка» («шестерка» в картах); на школьном арго — классный наставник (фр.).
(обратно)93
«Жизни Гёте» (фр.).
(обратно)94
«Мелкая хирургия и стоматология» (фр.).
(обратно)95
Умилением (фр.).
(обратно)96
Да здравствует франко-американская дружба! (фр.).
(обратно)97
Испанской кухни (фр.).
(обратно)98
Паэлью по-валенсиански (фр.).
(обратно)99
Заурядный (фр.).
(обратно)100
За галстук, за воротник (фр.).
(обратно)101
Курорт с минеральными водами, собором и борделем (имитация лат.).
(обратно)102
Полностью (лат.).
(обратно)103
Кум, шурин (фр.).
(обратно)104
Питекантропом прямоходящим (лат.).
(обратно)105
Евангелие от Матфея, 25, 29.
(обратно)106
Цирку интимному (фр.).
(обратно)107
Клоун он восхитительный (фр.).
(обратно)108
День добрый, месье Анри, как поживаете? (фр.).
(обратно)109
Ничего, мадам Перле, а вы? А муженек ваш как? Не жарко сегодня, а? Вы, случаем, еще не позавтракали? А то жаль было бы, потому что я бы с удовольствием выпил с вами чашечку кофе (фр.).
(обратно)110
Домработницы (фр.).
(обратно)111
Ну конечно, месье Анри, у нас всегда найдется для вас чашечка кофе, и вы прекрасно это знаете. Скажите-ка, что вы сегодня собираетесь делать? (фр.).
(обратно)112
Ах, мадам Перле, дел невпроворот, вы себе не представляете! Мне же теперь приходится самой хлопотать по дому. Дело в том, что прислуга моя уже три дня как хворает, — кажется, у нее менингит. Нет, вы подумайте! …Кстати, не найдется ли у вас немного жавелевой воды взаймы? (фр.) Жавелева вода — раствор гипохлорита натрия, используемый как отбеливающее и дезинфицирующее средство.
(обратно)113
Немного жавелевой воды (фр.).
(обратно)114
Жавелевой воды? Да сколько угодно, месье Анри (фр.).
(обратно)115
Кстати, месье Анри, вы еще не слыхали, что пошушукивают в квартале насчет дочки месье Птидидье, нашего бакалейщика? (фр.).
(обратно)116
Пошушукивают? Пошушукивают?.. О чем это вы, собственно? У меня нет с собой словаря (фр.).
(обратно)117
Еще бы у вас был с собой словарь! Вы же голый, как червяк… Так вы не знаете, что значит «пошушукивать»? Погодите, сейчас я вам объясню (фр.).
(обратно)118
Не беспокойтесь, теперь припоминаю. «Шушукать» — это по-английски «бормотать». Так о чем же бормочут в квартале? (фр.).
(обратно)119
Кажется, крошка родила двойню! (фр.).
(обратно)120
Бинокль?.. Вы, верно, не бинокль имеете в виду… Слыханное ли дело рожать бинокли! (фр.).
(обратно)121
A-а, двойню!.. Так бы сразу и сказали. Но ведь она даже не замужем, эта шлюшка! (фр.).
(обратно)122
Именно… И что вы об этом думаете? (фр.).
(обратно)123
По-моему, это безобразие!.. Форменное безобразие! И ведь этой профурсетке еще и пятнадцати-то не стукнуло! Срам-то какой, в самом деле! Ну и нравы в нашем квартале! До чего докатались! (фр.).
(обратно)124
А что вы хотите? Дело молодое, чего с них взять! (фр.).
(обратно)125
Хотела бы я посмотреть, какая мина была у ее отца-бакалейщика. Матерь Божья, я как раз задолжала ему четырнадцать су — не хватило, когда я на днях покупки делала… Так, вы говорите, двойня? Ну дает девчонка! Никто бы и слова не сказал, если бы один родился, а то двойня! В ее возрасте это и впрямь слишком! Лично мне наплевать; а вы бы что, хотели бы, что ли, чтобы меня удар хватил, раз она двойню родила? (фр.).
(обратно)126
Перле намекает на привычку Миллера много курить за работой.
(обратно)127
Здесь: великим открытием (фр.).
(обратно)128
Еще бы — истинный англичанин! (фр.).
(обратно)129
Салонным пугалом (искаж. лат.).
(обратно)130
«Эту книгу в витринах не выставлять!» (фр.).
(обратно)131
Двоякий смысл (фр.).
(обратно)132
Обсценность (от лат. obscenum — «половой орган») — непристойность, неприличие, безнравственность.
(обратно)133
…С виду она была такой фефелой, что поначалу я ее как-то даже и не замечал. Но у нее, как и у любой другой особы женского пола, тоже была пизда — этакая личная безличная пизда, наличие которой она бессознательно осознавала. И чем чаще она к нам спускалась, тем отчетливее осознавала — все в той же своей бессознательной манере. Однажды вечером, запершись в ванной комнате, она просидела там подозрительно долго, что навело меня на кое-какие размышления. Дай, думаю, загляну в замочную скважину и любопытства ради посмотрю, что там да как. Стыд мне и срам, если она не стоит сейчас перед зеркалом и не примурлыкивает, любовно подрочивая свою крошечку-хаврошечку! Клянусь, так оно и было! Я до того разволновался, что не сразу сообразил, что предпринять. <…> Я расстегнул ширинку и отправил своего елдака пошаболдаться чуток в прохладе сумерек. Оттуда, с тахты, я пытался воздействовать на нее посредством месмеризма или хотя бы не мешать гипнотизировать ее своему елдаку. <…> Не помню, чтобы я хоть раз в жизни запускал руку в такую сочную минжу. Будто клейстер расползался у нее по ляжке, и окажись у меня тогда под рукой пачка афиш, то с дюжину, если не больше, я бы, пожалуй, уж точно наклеил. Через пару секунд так же легко и непринужденно, как корова нагибается пощипать травки, она склонилась надо мной и вобрала его в рот. И вот уже чуть не вся моя пятерня работала у нее внутри, яростно взбивая пену. Рот ее наполнился до отказа и по ногам ручьями потек сок. Между нами, повторяю, ни слова Мы напоминали парочку тихих маньяков, орудующих в темноте, точно два гробокопателя. Это был ебущийся Рай, и я понимал это и готов был, если понадобится, уебаться до полного охуения. Она была, наверное, самой ебливой из всех, кого я когда-либо имел. Пасть свою она так и не разинула — ни в ту ночь, ни в другую, ни в какую бы то ни было вообще. А ведь она частенько пробиралась к нам под покровом темноты, едва учуяв, что я один, и обделывала меня своей пиздищей с головы до пят. Но что это была за пизда! Как вспомню… Гигантская — темный подземный лабиринт, в котором предусмотрено все: и диваны, и канапе, и резиновые зубки, и оросительные приспособления, и мягкие гнездышки, и гагачий пух, и листья шелковицы. Я тыкался в нее носом, точно глист-солитер, и зарывался в узкую щель, где стояла такая тишь, гладь да божья благодать, что я вытягивался там, как дельфин на устричной отмели. Легкий толчок — и я уже покачиваюсь в пульмановском вагоне, читая газету, или же попадаю в глухой забой с замшелыми грудами каменного угля и крохотными прутяными воротцами, которые автоматически открываются и закрываются. Иногда это было как на пляжных катальных горках: крутой спуск, бултых! — и тебя обдаст щекотом крабьих клешней, встревоженно всколыхнется камыш, и целая стая мелкой рыбешки заплещется плавниками о твое тело, будто трогая лады гармоники. В просторном черном гроте скрывался мыльно-шелковый орган и звучала плотоядная черная музыка. Когда девица добиралась до самых высоких регистров, когда щедро поливала меня соком, музыка приобретала фиалково-пурпурный, шелковично-багровый окрас заката — чревовещательного заката, каким наслаждаются, когда менструируют, коротышки и кретины. Это навело меня на мысль о жующих цветы людоедах, о банту, впадающих в амок, о диких единорогах, спаривающихся на рододендроновых ложах.
(Перевод выполнен с английского оригинала; надо отметить, что во французском тексте английскому «to fuck» соответствует более нейтральное «baiser», отчего и сам текст звучит менее непристойно. — Примеч. пер.)
(обратно)134
Штуковина (фр.).
(обратно)135
Пенис (фр., груб.).
(обратно)136
…По моим наблюдениям, главные женские приманки здесь дешевле камней. Вот из них-то и надобно строить стены: сперва расставить эти приманки по всем правилам архитектурной симметрии, — какие побольше, те в самый низ, потом, слегка наклонно, средние, сверху самые маленькие, а затем прошпиговать все это наподобие остроконечных кнопок, как на большой башне в Бурже, теми затвердевшими шпажонками, что обретаются в монастырских гульфиках. Какой же черт разрушит такие стены? Они крепче любого металла, им никакие удары не страшны. И если даже передки орудий станут об них тереться — вот увидите (клянусь Богом), из этих благословенных плодов дурной болезни тут же потечет сок, напоминающий мелкий, зато спорый дождь. Вот черт их дери! И молния-то в них никогда не ударит. А почему? А потому что они священны и благословенны. Тут есть только одно неудобство.
— Хо-хо! Ха-ха-ха! Какое же? — спросил Пантагрюэль.
— Дело в том, что мухи страсть как любят эти плоды. В одну минуту налетят, нагадят, — горе нам, горе, Папа Римский опозорен! Впрочем, и от этого найдется средство: нужно покрыть плоды лисьими хвостами или же большущими причиндалами провансальских ослов. Мы скоро будем ужинать, так вот я вам, кстати, расскажу занятную историйку, которую frater Lubinus [Брат Любен (лат.).] приводит в своей книге «De compotationibus mendicantium» [ «О попойках нищих» (лат.).].
(Пер. с фр. H. М. Любимова — в кн.: Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М.: Правда, 1991. С. 208–209).
(обратно)137
«Лис, куманек! Поди-ка сюда, ты мне нужен по важному делу!» Как скоро лис подошел, лев ему сказал: «Куманек, дружочек! Эту бедную женщину опасно ранили между ног, отчего произошел явный перерыв в ее земном бытии. Посмотри, как велика рана — от заднего прохода до пупа. Ампана четыре будет, — нет, пожалуй, все пять с половиной наберутся. Это ее кто-нибудь пестом так хватил. Рана, по-моему, свежая. Так вот я тебя о чем попрошу: чтобы на нее не насели мухи, обмахивай ее получше хвостом и внутри, и снаружи. Хвост у тебя хороший, длинный. Махай, голубчик, пожалуйста, махай, а я пойду наберу мха, чтобы заткнуть рану, — все мы должны помогать друг другу, так нам Господь заповедал. Махай сильней! Так, так, дружочек, махай лучше, такую рану должно почаще обмахивать, иначе бедной женщине невмоготу придется. Махай, куманечек, знай себе махай! Господь недаром дал тебе такой хвост — он у тебя большой, с толстым концом. Помахивай и не скучай. Добрый мухоотмахиватель, который, беспрестанно отмахивая мух, махает своим махалом, никогда не будет мухами отмахнут. Махай же, проказник, махай, мой дьячок! Я не стану тебе мешать».
(Пер. с фр. H. М. Любимова. Там же. С. 209–210.)
(обратно)138
…начал пропихивать мох палкой; когда же он засунул добрых шестнадцать с половиной вязанок, то пришел в изумление: «Что за черт! Какая глубокая рана! Да туда войдет мху больше двух тележек». Лис, однако ж, остановил его: «Лев, дружище! Будь добр, не запихивай туда весь мох, оставь немножко, — там, сзади, есть еще одна дырка: вонь оттуда идет, как от сотни чертей. Я задыхаюсь от этого мерзкого запаха».
Так вот почему должно охранять эти стены от мух и иметь платных мухоотмахивателей.
(Пер. с фр. H. М. Любимова. Там же. С. 210.).
(обратно)139
…о «гигантской пизде» как о «темном подземном лабиринте, в котором предусмотрено все: и диваны, и канапе, и резиновые зубки, и оросительные приспособления, и гагачий пух, и листья шелковицы»… (фр. — пер. с англ, оригинала).
(обратно)140
Как таковой (лат.).
(обратно)141
«Большого Мольна» (фр.).
(обратно)142
Английского (фр.).
(обратно)143
«Сто двадцать дней» (фр.) — имеется в виду роман маркиза де Сада «Сто двадцать дней Содома».
(обратно)144
В стороне, «на полях» (фр.).
(обратно)145
Гуляш по-турски (фр.).
(обратно)146
Розовое вино (фр).
(обратно)147
«Когда под простынями — две пары рук и ног» (фр.).
(обратно)148
Торговцы фруктами, овощами, зеленщики (фр.).
(обратно)149
Мизансцена (фр.).
(обратно)150
Разнообразные (фр.).
(обратно)151
Овернская свинина (фр.).
(обратно)152
Первое блюдо (фр).
(обратно)153
Бресская курятина (фр.).
(обратно)154
Основное блюдо (фр.).
(обратно)155
Шатобриан, мясо, жаренное большим куском (фр.).
(обратно)156
Яблоками в слойке (фр.).
(обратно)157
Не забудьте о дольке чеснока (фр.).
(обратно)158
Легкое блюдо, подаваемое перед десертом (фр.).
(обратно)159
Кувшинов (фр.).
(обратно)160
Овечьему сыру, брынзе (фр.).
(обратно)161
Здесь: будь как будет (фр.).
(обратно)162
Тапе́тка — пассивный гомосексуалист.
(обратно)163
Перекресток (фр.).
(обратно)164
Свининой с кислой капустой, синим «Голуазом» и разбавленным коньяком (фр.).
(обратно)165
Белого смородинового вина или кофе с ромом (фр.).
(обратно)166
Хозяйка, патронесса (фр.).
(обратно)167
Тупик (фр.).
(обратно)168
Важными сообщениями, серьезными предупреждениями (фр.).
(обратно)169
«В этом доме в долг не дают», «Не люблю, когда меня отрывают от работы» (фр.).
(обратно)170
Через; с заездом в… (лат.).
(обратно)171
Французские синонимы слова «туалет».
(обратно)172
Человека естественного (лат.).
(обратно)173
Медового месяца (фр.).
(обратно)174
«Так поступают все» (ит.) — опера Моцарта.
(обратно)175
Английская кухня (фр.).
(обратно)176
«Позволь, позволь лишь глядеть на тебя…» (фр.).
(обратно)177
Около, приблизительно (лат.). Здесь: году в…
(обратно)178
Находку (фр.).
(обратно)179
Коньяка, разбавленного водой (фр.).
(обратно)180
Многотомному роману (фр.).
(обратно)181
Свинине с кислой капустой (фр.).
(обратно)182
«Полночных признаний» (фр.).
(обратно)183
Деревенька, селение, хуторок (фр.).
(обратно)184
Деревенский, сельский житель (фр.).
(обратно)185
Навязчивой идеей (фр.).
(обратно)186
Это был триумф! (фр.).
(обратно)187
Дзэн — японская ветвь буддизма.
(обратно)188
Великий жуир, прожигатель жизни (фр.).
(обратно)189
«Нам явился американский писатель» (фр.).
(обратно)190
«Сферах» (фр.).
(обратно)191
Само по себе, как таковое (лат.).
(обратно)192
Во избежание ревности (фр.).
(обратно)193
Дьявол, сущий (фр.) дьявол (нем.).
(обратно)194
Пусть я буду (фр.) один! Один, один! <Вечно> один (нем.).
(обратно)195
Пьян (фр.).
(обратно)196
Истина в вине (лат.).
(обратно)197
Негодяй! (нем.).
(обратно)198
Предатель! (фр.).
(обратно)199
Но сердце твое — ушат дерьма (нем.).
(обратно)200
Ты гнусный, мерзкий (фр.).
(обратно)201
Меня от тебя тошнит! (нем.).
(обратно)202
Обман, надувательство (нем.).
(обратно)203
Ты (нем.).
(обратно)204
Себялюбие, сплошное себялюбие (нем.).
(обратно)205
Сокрушить — все (фр.).
(обратно)206
Все разнесу (нем.).
(обратно)207
Весь этот <чертов> бардак (фр.).
(обратно)208
Собака (нем.).
(обратно)209
Ориентиры (фр.).
(обратно)210
Знатному вельможе (фр.).
(обратно)211
«Зеркало астрологии» (фр.).
(обратно)212
Друзей и подруг (фр.).
(обратно)213
Акколадой (объятиями и поцелуями при приветствиях) (фр.).
(обратно)214
Нашего, из наших (фр.).
(обратно)215
«Нехитрое дело — родиться в Америке!» (фр.).
(обратно)216
Автору «Тропика Рака» (фр.).
(обратно)217
«Я как раз знаю тут один винный погребок…» (фр.).
(обратно)218
Винного погребка (фр.).
(обратно)219
Хозяин (фр.).
(обратно)220
Хозяйка (фр.).
(обратно)221
«В себе я совершаю революции ежедневно» (фр.).
(обратно)222
Как таковая, сама по себе (лат.).
(обратно)223
«Тропик Рака» (чеш.).
(обратно)224
«В Нью-Йорк и обратно» (фр.).
(обратно)225
«Квартета в ре-мажоре» (фр.).
(обратно)226
«Блошки» — игра, в которой участники прижимают фишки в виде пуговиц к краям меньших по размеру, разложенных на горизонтальной поверхности, и «стреляют», пытаясь попасть в чашку.
(обратно)227
В переводе с англ. booster — толкач, защитник, зазывала.
(обратно)228
Любовь с первого взгляда по-русски (фр.).
(обратно)229
Как надо (фр.).
(обратно)230
Демонстрация (фр.).
(обратно)231
Каяк — легкая эскимосская лодка.
(обратно)232
Иглу — снеговая хижина куполообразной формы у эскимосов, первоначально сооружавшаяся в виде землянки.
(обратно)233
Подиатрический — по названию профессии врача «подиатр» — мозольный оператор.
(обратно)234
Амальгама — сплав нескольких разнородных веществ.
(обратно)235
С мороженым (фр).
(обратно)236
Уполномоченным (фр.).
(обратно)237
То есть к началу 50-х гг.
(обратно)238
Очень корректны (фр.).
(обратно)239
Им было чем заняться (фр.).
(обратно)240
«Дело Миллера» (фр.).
(обратно)241
На месте (фр.).
(обратно)242
«Весь Париж» (фр.).
(обратно)243
Здесь: «де́льца Миллера» (фр.) — употреблено с ироническим подтекстом.
(обратно)244
«Амнистирован» (фр.).
(обратно)245
«Генри Миллер в Париже!», «С нами говорит большой друг Франции», «Бессмертный дух снова с нами» (фр.).
(обратно)246
Прием (фр.).
(обратно)247
Шпагат (фр.).
(обратно)248
Нет, дорогой (фр.).
(обратно)249
«Доме с двором» (нем.) — здесь обыгрывается название американского журнала для богатых «House and Garden» (англ. — «Дом с садом»), являющегося непременным атрибутом приемных врачей и адвокатов.
(обратно)250
Современных удобств (фр.).
(обратно)251
…во всех отношениях наша книга, а Генри Миллер — наш человек, по духу, по почерку, по силе дарования и мастерства; это писатель вселенского масштаба, как и все те, кто сумел передать в книге собственное видение Парижа (фр.).
(обратно)252
По желанию (сокр. от лат. «ad libitum».).
(обратно)253
Здесь: философами-профессионалами, корифеями в области философии (фр.).
(обратно)254
Рикошетом (фр.).
(обратно)255
Для чего блуждать далече, коль добро и рядом есть? (нем.).
(обратно)256
Великим чужим (фр.).
(обратно)257
Здоровье как, в порядке? (фр.).
(обратно)258
Самый что ни на есть китайский (фр.).
(обратно)259
Название сорта салата (фр.).
(обратно)260
Светский человек (фр.).
(обратно)261
Настоящий рай для собак! (фр.).
(обратно)262
Эмпории (от лат. emporium) — торговая площадь, рынок, торговый город.
(обратно)263
Траттория — недорогой итальянский ресторан, закусочная.
(обратно)264
Жду тебя — у источника (фр.).
(обратно) (обратно)Комментарии
1
Минойская цивилизация — догреческая цивилизация Крита, ок. 3000–1100 гг. до н. э.
(обратно)2
Шпенглер Освальд (1880–1936) — немецкий философ и историк, один из основоположников современной философии культуры, представитель «философии жизни». Его основной труд «Закат Европы» (1918–1922) был одной из настольных книг Миллера, разделявшего представление философа о жизни как о бесконечном процессе самозарождения и естественного умирания культур и о том, что мир переживает период упадка, «доходит, как тухлое яйцо в корзине», — как он писал в «Тропике Козерога». Имя Шпенглера Миллер приводит в списке авторов, составляющих «генеалогическое древо» его творчества. Метод гомологии (наряду с методом аналогии) используется Шпенглером с целью доказательства «параллельно-одновременного» характера прохождения всеми историческими культурами выделенных им фаз: мифосимволической — молодой культуры, метафизико-религиозной — высокой культуры и поздней — окостеневшей культуры, переходящей в цивилизацию. То есть, говоря о периоде, гомологичном первой египетской династии, Миллер подразумевает период молодости той или иной будущей культурно-исторической эпохи; в истории Египта насчитывается тридцать династий, первая относится к периоду Древнего царства (рубеж IV–III тыс. до н. э.).
(обратно)3
Биг-Сур — живописная местность на побережье Тихого океана в Калифорнии примерно в тридцати милях к югу от Сан-Франциско, где Миллер жил с марта 1943 по май 1960 г.
(обратно)4
Джефферс Робинсон — американский писатель, современник Миллера, жил в Кармеле, неподалеку от Биг-Сура.
(обратно)5
Джефферс Робинсон — американский писатель, современник Миллера, жил в Кармеле, неподалеку от Биг-Сура.
(обратно)6
«Ротонда» — парижское кафе, излюбленное место пребывания парижской богемы в конце 20–30-х гг.
(обратно)7
«Квартет в ре-мажоре» и «Лимитрофные чувства» — романы-воспоминания Альфреда Перле, написанные им в начале 30-х на французском языке. «Квартет в ре-мажоре» переиздавался во Франции в 1984 г.
(обратно)8
Мартен дю Гар Роже (1881–1958) — классик французской литературы. Автор романов «Становление», «Жан Баруа», «Семья Тибо». Лауреат Нобелевской премии (1937).
(обратно)9
Девахан (Девачен) — в буддизме: одна из серс (местопребываний) надчувственного мира, куда смертный попадает, достигнув определенной стадии просветленности сознания и преодолев колесо сансары (цепь смертей и рождений в земном мире, мире страданий). Покровителем Девахана считается будда Амитабха. Согласно Штейнеру, на границе Девахана находится область, называемая «Хроникой Акаши», в которую вносятся волевые импульсы, чувства и мысли людей, т. е. это своего рода «Мировая память».
(обратно)10
«Помнить, чтобы помнить» — эссе Генри Миллера, давшее название вышедшему в 1947 г. в изд-ве «Нью дирекшнз» сборнику его эссе с подзаголовком «Аэрокондиционированный кошмар, том 2».
(обратно)11
Ид — в биологии: зародышевая структура, содержащая наследственные качества. В психоанализе: то же, что и «Оно» во фрейдовской структуре психической жизни «Я — Оно — сверх-Я» (эго-ид-суперэго); является глубинной инстанцией в бессознательной области психического, олицетворяет страсти, подчиняется принципу удовольствия (в отличие от телесного Я, олицетворяющего разум, подчиненного принципу реальности, выступающего посредником между Оно (идом) и сверх-Я, и от бессознательного же сверх-Я, выполняющего роль цензора).
(обратно)12
Марнское чудо — подразумеваются две победы, одержанные в Первой мировой войне над германскими войсками в сражениях на реке Марне: 5–12 сентября 1914 г. (французами) и 15 июля — 4 августа 1918 г. (армией Антанты), что привело к переходу стратегической инициативы ее союзному командованию.
(обратно)13
Лига Наций (1919–1939) — послевоенное объединение изначально сорока четырех государств с постоянными членами — Англией, Францией, Италией, Японией. Ее устав, выработанный в ходе Парижской мирной конференции 1919–1920 гг., был включен в Версальский мирный договор.
(обратно)14
Пуанкаре Раймон (1860–1934) — французский государственный деятель: министр, неоднократно премьер-министр, президент (1913–1920). Член Французской академии. Автор мемуаров «На службе Франции».
(обратно)15
Блюм Леон (1872–1950) — лидер французской социалистической партии. Возглавлял правительство Народного фронта в июле 1936 — июле 1937 гг. и в марте-апреле 1938 г. Занимал политику невмешательства в испанские события, был противником Мюнхенского соглашения. В сентябре 1940 г. арестован, затем интернирован в Германию. В декабре 1946 — январе 1947 гг. вновь возглавлял правительство.
(обратно)16
Марианна — олицетворение Французской республики. Ее символ — девушка во «фригийском колпаке». Скульптурные изображения Марианны украшают ратуши в каждом городе Франции.
(обратно)17
«Линия Мажино́» — система французских укреплений на границе с Германией от Бельфора до Лонгюйона (ок. 380 км), возведенных по предложению военного министра А. Мажино в 1920–1934 гг. После войны использовалась в хозяйственных целях.
(обратно)18
Стреземан Густав (1878–1929) — немецкий государственный деятель. В 1917 г. избран в рейхстаг, вступил в либеральную партию. Сторонник продолжения Первой мировой войны, противник Версальского договора. В 1923 г. — канцлер, затем, при следующем правительстве, министр иностранных дел. Лауреат Нобелевской премии мира (1926).
(обратно)19
Бриан Аристид (1862–1932) — французский государственный деятель. В 1902 г. избран в парламент, в 1906 г. вошел в буржуазное правительство; неоднократно премьер-министр и министр иностранных дел. Один из инициаторов Локарнской конференции 1925 г. Лауреат Нобелевской премии мира (1926).
(обратно)20
Дадаизм — одно из направлений искусства модернизма, возникшее в 1916 г. в Цюрихе, куда съехались спасавшиеся от воинской повинности молодые писатели и художники. На вечерах дадаистов в кабаре «Вольтер» в Цюрихе читались «фонетические» стихи, представления сопровождались «шумовой» музыкой с использованием кухонной утвари. После Первой мировой войны Дада-группы образовались в Нью-Йорке, Барселоне, Париже, Берлине. Основателем дадаизма и автором его манифеста был Тристан Тзара (Тцара), французский поэт, позднее примкнувший к сюрреалистам — сначала как теоретик, затем как критик. Манифест гласил: «Дада — это все, это ничего, это „да“ по-русски, это что-то по-румынски, это есть почти в каждом языке, и если у кого-то нет своего „дада“, то это полный абсурд, абсолют дурака, абсолют „нет“, искусство для искусства — вот что такое Дада».
(обратно)21
Пикассо Пабло (Руис-и-Пикассо; 1881–1973) — французский художник, испанец по происхождению, один из основоположников кубизма.
(обратно)22
«Растворимая рыба» («Poisson Soluble») — название «автоматического» текста Андре Бретона, которым он сопроводил свой первый Манифест сюрреализма (1924), провозглашавший чистый психический автоматизм главным принципом выражения мысли любыми выразительными средствами.
(обратно)23
Пруст Марсель (1871–1922) — классик французской литературы, автор тетралогии «В поисках утраченного времени». Оказал огромное влияние на Генри Миллера, Лоренса Даррелла, Анаис Нин. Каждый из них написал собственную «прустиану»: Даррелл — эстетско-метафизическую — «Александрийский квартет», Нин — эстетско-психоаналитическую — «Дневник» и его «производные», Миллер, как и задумывал — «свою, пролетарскую», — «Распятие Розы».
(обратно)24
Жид Андре Поль Гийом (1869–1951) — французский писатель, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии (1947). Его «Имморалист» был одной из первых книг, прочитанных Миллером по-французски. Миллер восторженно отзывался о его книге о Достоевском. В 1946 г., когда в Париже было возбуждено дело против Миллера, его издателей и переводчиков, Жид вошел в созданный тогда ведущими писателями Франции Комитет в защиту Миллера и языковой свободы.
(обратно)25
Валери Поль (1871–1945) — французский поэт и эссеист. Профессор поэтики в Коллеж де Франс (1938–1945). Член Французской академии. Был дружен с Андре Жидом, Анри Бергсоном, д’Аннунцио.
(обратно)26
Селин Луи Фердинан (наст. имя Луи Детуш; 1894–1961) — французский писатель, классик, врач по профессии, осуществивший переворот в многовековой традиции французского романа, введя в литературный обиход беспрецедентную по интенсивности эстетику насилия и бытовой, грубый разговорный язык. Автор романов «Смерть в кредит», «Из замка в замок», «Север», «Ригодон». Под еще не разорвавшейся бомбой Перле подразумевает его первый роман «Путешествие на край ночи» (1932), вызвавший переполох во французском обществе.
(обратно)27
Город Света — образное определение Парижа по его историческому названию Лютеция (Город Света).
(обратно)28
Левый берег — район Парижа к югу от Сены, традиционно предпочитаемый студентами, художниками, интеллектуалами, — иначе говоря, парижской богемой.
(обратно)29
Со́хо — квартал в центре Лондона, заселенный преимущественно иностранцами. Первыми там обосновались французские протестанты, вынужденные покинуть Францию после отмены в 1685 г. Нантского эдикта. Район Сохо славится французскими и итальянскими ресторанами.
(обратно)30
Линдберг Чарльз Огастес (1902–1974) — известный американский авиатор, совершивший в мае 1927 г. первый беспосадочный перелет через Атлантический океан.
(обратно)31
Кронски Джин — подруга второй жены Миллера Джун, с которой та познакомилась в 1926 г. в Гринвич-Виллидже и приютила у себя. Джин представлялась поэтом и художником, выдавала себя за «осколок» династии Романовых. Их жизнь втроем Миллер освещает в романе «дотропического» периода «Прелестные лесбиянки», позднее переименованном в «Одуревший петух» («Crazy Cock») и опубликованном посмертно, в 1991 г. Джин фигурирует в романе под именем Ваня, Джун — Хилдред, Миллер — Тони Бринг. Под именем Стася (Анастасия) Джин появляется в «Нексусе», заключительном томе трилогии «Распятие Розы». В начале 30-х Джин была помещена в психиатрическую лечебницу и, как предполагают, покончила жизнь самоубийством.
(обратно)32
Мэнсфилд Джун — вторая жена Миллера (1924–1934), урожденная Джульетта Эдита Смерч (по отчиму — Смит). Родилась в 1902 г. в Австро-Венгрии, в небогатой галицийской семье, эмигрировавшей в 1907 г. в США. С пятнадцати лет работала платной партнершей в танцзалах Нью-Йорка и в одном из них — танцзале Уилсона на Бродвее — познакомилась с Генри. Псевдоним «Мэнсфилд» она избрала по ассоциации с кладбищем и ее славянской девичьей фамилией Смерч (в переводе — «смерть»). После разрыва с Генри встречались они лишь однажды, в 1961 г. в Нью-Йорке.
(обратно)33
Уолл-стрит — улица в Нью-Йорке, ставшая к началу XIX в. финансовой столицей США. На ней находятся Первый Нэшнел-Сити-банк, штаб-квартира Нью-Йоркского банка, Морган-банк и др. Уолл-стрит обязана своим названием стене, возведенной в 1653 г. для защиты голландских поселений от набегов британцев с севера.
(обратно)34
Люксембургский сад — садово-парковый ансамбль в центре Парижа, заложенный в начале XVII в. для Марии Медичи.
(обратно)35
Кайзерлинг Герман, граф (1880–1940) — немецкий философ и писатель, автор книг «Творческое понимание», «Символические фигуры» (с главами об Иисусе), «Дневник путешественника» (об Индии и Китае). Миллер восторженно отзывался об «этом Викинге». В ответ на приглашение сестры Кайзерлинга баронессы фон Штернберг принять участие в сборнике, посвященном 60-летию философа, он посвятил ему эссе «Философ философствующий», где называет его «авантюристом духа», «быком Аписом, бодающимся со Святым Духом». Эссе вошло в книгу «Мудрость сердца» (1941).
(обратно)36
В частности, в массачусетском журнале «Черная кошка», где в начале 20-х гг. опубликовал пять коротеньких вещиц в духе притч «из уст одного старого философа» и получил свой первый гонорар в два доллара сорок три цента.
(обратно)37
Имеются в виду романы «Сложенные крылья» (о работе в компании «Вестерн-Юнион»; сложенные крылья были эмблемой компании), «Молох» (о первом опыте супружеской жизни) и упоминавшийся уже «Одуревший петух».
(обратно)38
Генри Миллер родился в семье немецких эмигрантов во втором поколении Генри Миллера (старшего) и Луизы Нитинг; его отец, как и оба деда — Генрих Мюллер и Валентин Нитинг, — был портным, позднее — владельцем ателье мужского платья.
(обратно)39
Пан — в греческой мифологии бог полей и лесов, покровитель стад и пастухов. Входит в свиту Диониса. В римской мифологии Пану соответствуют Фавн и Сильван.
(обратно)40
Шнеллок Эмиль (1891–1959) — американский художник-график, учитель; друг детства и однокашник Миллера по 85-й школе в Бруклине, адресат огромного количества его писем, частью опубликованных. Читал курс по искусству в колледже Мэри Вашингтон Виргинского университета во Фредериксберге. Автор воспоминаний «Простой мальчишка из Бруклина». В «Тропике Козерога» выведен под именем Ульрик.
(обратно)41
О’Риган Джо — друг Миллера, работал его помощником в компании «Вестерн-Юнион» в начале 20-х гг.; впоследствии предпринимал попытки издать книги Миллера в США. В «Тропике Козерога» фигурирует как О’Мара.
(обратно)42
Ницше Фридрих (1844–1900) — немецкий философ, родоначальник «философии жизни». Миллер прочел Ницше «от корки до корки». Это, пожалуй, самый цитируемый (явно и неявно) им автор.
(обратно)43
Петроний (ум. в 66 г. н. э.) — римский сатирик, приближенный императора Нерона, автор романа «Сатирикон».
(обратно)44
Бергсон Анри (1859–1941) — французский философ, представитель интуитивизма и «философии жизни», идеолог «жизненного порыва». Профессор Коллеж де Франс, член Французской академии (1914), лауреат Нобелевской премии по литературе (1927). Его труд «Творческая эволюция» (1907) сыграл важную роль в формировании мировоззрения Миллера.
(обратно)45
Идиосинкразия (от греч. идио — «свойственный», син — «с», кризис — «характер») — отличительная особенность характера, поведения, образа мыслей; странность, причуда.
(обратно)46
К тому времени, как он вернулся в Нью-Йорк и женился… — Речь идет о первом браке Миллера с пианисткой и преподавательницей музыки Беатрисой Сильвас Уикенз, на которой он женился, спасаясь от воинской повинности (в июне 1917 г. в Америке проводилась регистрация мужского населения в возрасте от 21 до 30 лет для службы в армии и возможной отправки на фронты Первой мировой войны). От этого брака родилась дочь Барбара, с которой — после развода с женой — Миллер увиделся лишь спустя тридцать лет.
(обратно)47
Довиль — фешенебельный курорт на берегу Ла-Манша во Франции.
(обратно)48
Гринвич-Виллидж — район Нью-Йорка в нижней части Манхэттена, ограниченный 14-й улицей с севера и Хаустон-стрит — с юга. В XIX и первой половине XX в. был «меккой» писателей, принадлежавших как к высшим, так и к бедным слоям общества. В начале века здесь обитала нью-йоркская богема. С Гринвич-Виллиджем связаны такие имена, как Генри Джеймс, Марк Твен, Джон Рид, Теодор Драйзер, Харт Крейн, Джон Дос Пассос, Томас Вулф, Юджин О’Нил, Теннесси Уильямс. В 50-е гг. в кофейнях «Ле Фигаро» и «Кафе Борджиа» собирались битники, в том числе Джек Керуак и Аллен Гинзберг. Каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых — Хэллоуин, здесь устраивается грандиозный парад. В настоящее время район Гринвич-Виллидж утратил былую популярность, но богемный дух поддерживается студентами расположенного здесь Нью-Йоркского университета.
(обратно)49
«Всегда веселый и ясный!» — эпиграф к главе «Мастерская мужского платья» в книге Миллера «Черная весна».
(обратно)50
Канн Фредерик — американский скульптор-абстракционист, один из парижских благодетелей Миллера (Крюгер в «Тропике Рака»).
(обратно)51
Лоуэнфельз Уолтер (1897–1980) — американский поэт и прозаик. В Париже жил в начале 30-х гг. Его первая книжка — шестнадцатистраничная элегия, посвященная Аполлинеру, была сделана от руки, с обложкой художника-сюрреалиста Ива Танги (1930). Под маркой издательства «Каррефур» вышли «Элегия в духе реквиема Д. Г. Лоуренсу» (1932) и «Самоубийство» (1934). Последняя представляет собой главы из неоконченной книги «Несколько смертей». В «Черной весне» и «Тропике Рака» Лоуэнфельз фигурирует под именем Джебберуорл Кронстадт.
(обратно)52
Френкель Майкл (1896–1957) — американский книготорговец и писатель. Родится в Литве в русской семье. Скопив скромное состояние, в начале 30-х гг. обосновался в Париже и занялся издательской деятельностью: он приобрел марку издательства «Каррефур» («Перекресток») и на базе бельгийского издательства «Сен-Катерина Пресс» в Брюгге издавал книги своих друзей и собственные. Имел дом на Вилле Сёра, где Миллер квартировал с сентября 1934 г. по май 1939 г. В отличие от Миллера, который был приверженцем «философии жизни», Френкель разрабатывал «философию смерти», что нашло отражение в его книгах: «Младший брат Вертера» (1930), «Анонимное: потребность в анонимности» (1930, в соавторстве с Лоуэнфельзом), «Незаконнорожденная смерть: автобиография идеи» (1936, с предисловием Генри Миллера). В пространном эссе «Генезис „Тропика Рака“» (1946, Беркли) он заявил о своем влиянии на творчество Миллера, а в 1947 г. выступил со статьей «В защиту „Тропика“» («Варьете», Париж) в ответ на антимиллеровские выпады со стороны блюстителей нравственности. «Эссе о Френкеле» Миллера было опубликовано в сборнике «Мы, модернисты» (1940). В 1941 г. Френкель поселился в Мексике. После его смерти Уолтер Лоуэнфельз и Говард Маккорд выпустили его краткое жизнеописание «Жизнь Смерти Френкеля» (1970). В «Тропике Рака» выведен под именем Бориса.
(обратно)53
Осборн Ричард Гейлен — молодой адвокат из Бриджпорта (Коннектикут), служащий юридического отдела парижского филиала нью-йоркского Нэшнел-Сити-банка. Миллер познакомился с Осборном на Монпарнасе и принял его предложение разделить с ним «хлеб и кров». Именно Осборн познакомил Генри и Анаис. Ему Миллер посвятил книгу «Мудрость сердца». В «Тропике Рака» фигурирует как Филлмор.
(обратно)54
Фримен Уолтер — сослуживец Осборна по банку.
(обратно)55
Титус Эдвард — издатель, книготорговец и редактор; муж Елены Рубинштейн, крупного косметического магната. В 1920–1930-е гг. заправлял книжным магазином на Рю-Деламбр в Париже и издательством «Блэк Маникин Пресс», возглавлял журнал «В этом квартале». Преодолев, благодаря вмешательству Луи Арагона, сопротивление французских властей, издал книгу Д. Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей»; в 1932 г. опубликовал первую книжку Анаис Нин «Д. Г. Лоуренс. Непрофессиональное исследование».
(обратно)56
Путнам Сэмюэль (1892–1950) — американский писатель, переводчик, издатель. В Париже — с конца 1920-х гг. Был заместителем редактора в журнале Эдварда Титуса «В этом квартале». После разрыва с Титусом основал в 1930 г. собственный журнал «Новое обозрение», просуществовавший до апреля 1932 г. Опубликовал статью Миллера о фильме Бунюэля «Золотой век» — это была первая журнальная публикация Генри — и рассказ «Мадемуазель Клод». Знаменитая история с манифестом «Нового инстинктивизма» положила конец сотрудничеству Миллера (и Перле) с журналом. Путнам также известен своим переводом Рабле на современный американский язык, написал о нем фундаментальный труд «Франсуа Рабле. Человек эпохи Возрождения. Духовная биография» (1929), оставил мемуары «Париж был нашей возлюбленной» («Викинг-Пресс», Нью-Йорк, 1948). В «Тропике Рака» выведен под именем Марлоу.
(обратно)57
Брассе (наст. имя Дьюла Халаш; 1899–1984) — венгерский фотограф и художник; выпустил альбом «Ночной Париж». Миллер посвятил ему эссе «Око Парижа», вошедшее в сборник «Мудрость сердца» (1941).
(обратно)58
Т. е. «лягушачьими» — по названию античной комической поэмы «Батрахомиомахия» («Война мышей и лягушек»).
(обратно)59
Болд Уэмбли (1902–1989) — американский журналист. По окончании Чикагского университета обосновался в Париже, работал в газете «Трибюн», вел колонку «Из жизни богемы». В «Тропике Рака» фигурирует под именем Ван Норден.
(обратно)60
«Клозери-де-Лила» — танцевальный зал в Париже, пользовавшийся популярностью среди молодежи и студенчества.
(обратно)61
Квартал — имеется в виду Латинский квартал, район Парижа на левом берегу Сены, известный как место обитания студентов, писателей и художников.
(обратно)62
Дос Пассос Джон (1896–1970) — известный американский писатель. Родился в семье португальских эмигрантов, учился в Гарварде. В Первую мировую воевал добровольцем во Франции и Италии. Автор романов «Посвящение одного человека» (1920), «Манхэттен» (1925), трилогий «США» (1930–1936), «Округ Колумбия» (1939–1948) и др. Дос Пассос — один из любимых современных писателей Миллера.
(обратно)63
Стайн Гертруда (1874–1946) — американская писательница. С 1901 г. жила в Европе. Посетителями ее «салона» были Пикассо, Матисс, Брак, Кокто, Жид, Паунд, Хемингуэй, Жакоб и др. Считается, что она ввела в обиход понятие «потерянное поколение». Автор романа «Становление американцев» (1906–1908, изд. 1925), повестей и рассказов, а также теоретических работ, в частности «Как писать» (1930). Умерла в Париже.
(обратно)64
Нин Анаис (1903–1977) — одна из выдающихся женских фигур XX в., женщина-миф, прославившаяся своим многотомным дневником, который является важнейшим документом целой культурной эпохи. Анаис Нин родилась в Нейи, пригороде Парижа, в семье испанского композитора и пианиста Хоакина Нин-и-Кастельяноса и датской певицы Розы Кульмель. Уход Хоакина Нина из семьи в 1914 г. вынудил мать Анаис с тремя детьми эмигрировать в США. В 1923 г. Анаис Нин вышла замуж за выпускника Колумбийского университета, преуспевающего банковского служащего романтичного шотландца Хьюго Гилера. Бракосочетание состоялось в Гаване, невеста была в черном платье с белым мехом и в белой шляпе с вуалью. Рождество 1924 г. чета Гилеров встречала в Париже, куда Хьюго был переведен по службе (он работал в нью-йоркском Нэшнел-Сити-банке). С началом Второй мировой войны, осенью 1939 г., Анаис и Хьюго вернулись в Штаты.
В книге Перле Анаис Нин фигурирует в двух лицах: как «ангел-хранитель» Генри Миллера — под своим именем, и как его возлюбленная — под именем Лианы де Шампсор. Это было продиктовано этическими соображениями. Когда книга готовилась к печати, Перле переслал Нин страницы, повествующие о ней. Ознакомившись с текстом, Анаис пришла в возмущение: она была замужней дамой и в ее планы не входило афишировать свои интимные отношения ни с Генри, ни с кем-либо еще. Разгорелся скандал, продолжавшийся несколько месяцев. В результате стороны пришли к соглашению, условившись, что поскольку в книге о Миллере нельзя не упомянуть о человеке, сыгравшем столь значительную роль в его жизни и писательской судьбе, то в одной из своих ролей Анаис будет выступать под вымышленным именем. Щадя чувства мужа, Анаис тщательно скрывала от него свои многочисленные романы и даже второй брак, который она заключила, не оформив развода с Гилером. Более того, публикация полной версии дневника, содержащей подробности интимной жизни Анаис, началась, согласно ее воле, лишь после смерти Хьюго, последовавшей в 1985 г. Первый том (1931–1934), вышедший в 1986 г. под названием «Генри и Джун», стал основой одноименного фильма Филипа Кауфмана, где роль Анаис исполняла Мария де Медейрос, Джун — Ума Турман, Генри — Фред Уард.
Со страниц книги Перле Анаис исчезает с отъездом из Парижа. В Нью-Йорк, куда в начале 40-х гг. переместилась культурная столица мира, Анаис Нин вернулась писательницей, опубликовавшей три книги: исследование о Д. Г. Лоуренсе, «Обитель инцеста» и «Зима обмана». Она посещает вечера с участием Андре Бретона, Ива Танги, Фернана Леже, Шенберга, Дали, Альфреда Штиглица и др. Знакомится с артистической жизнью Гринвич-Виллиджа и Гарлема. Весной 1947 г. судьба сводит ее с двадцативосьмилетним актером Рупертом Полом, который станет ее вторым мужем. Они познакомились в лифте, поднимаясь на вечер Хейзел Гугенхейм, а спустя пару недель отправились в путешествие по Америке. С тех пор начинается ее двойная жизнь между Нью-Йорком и Калифорнией (Руперт Пол принадлежал к известной актерской семье и жил в Лос-Анджелесе). Помимо писательства, Анаис ведет довольно богатую светскую жизнь, много путешествует, занимается йогой, посещает модные в 60-е гг. психоделические сеансы. Среди ее друзей были Гор Видал, Трумен Капотэ, Эдгар Варез, Фрэнсис Стелофф, Олдос Хаксли, Пол Ньюмен, Кристофер Ишервуд и др. Она выступает с лекциями в колледжах и университетах США, в том числе в Гарварде, Лос-Анджелесе и Амхерсте. Однако литературное признание приходило медленно: ее книги считались некоммерческими и издавались с трудом. В мае 1974 г. Анаис Нин становится членом Американской академии и Института искусства и литературы, хотя ее детская мечта так и не исполнилась (в детстве, подписывая свои рассказы, она титуловала себя «член Французской академии»).
Живя в США, Миллер и Анаис Нин встречались считанные разы, но продолжали обмениваться письмами, хотя и не столь интенсивно, как в прежние дни. Их последняя встреча состоялась в 1976 г. в госпитале: Генри в инвалидном кресле вкатился в палату смертельно больной Анаис и, когда она поблагодарила его за то, что он выбрал время, чтобы ее посетить, ответил: «Я не посетитель — я пациент». После смерти Анаис Руперт Пол опустил урну с ее прахом в воды залива Санта-Моника в Лос-Анджелесе, а в 1985 г., исполняя просьбу Хьюго Гилера, совершил тот же ритуал и с его прахом.
(обратно)65
Сесквипеда́льный — т. е. полуторафутовый (от лат. sesqui — «полуторный» и pedalis — «футовый», размером в римский фут — 29,57 см.).
(обратно)66
Фор Эли (1873–1937) — французский эссеист, писатель, историк искусства, путешественник; автор четырехтомной «Истории искусств» и ряда книг, в том числе «Танец над огнем и водой» (1926), «Дух формы» (1930), «Мое кругосветное плавание». Миллер и Анаис Нин были большими поклонниками его творчества.
(обратно)67
Конноли Сирил (1903–1974) — классик английской литературы, критик; автор романов «Скалистый пруд» (1935), «Враги обета» (1938) и др. Выпускал журнал «Горизонт» (1939–1950), где опубликовал вызывающее эссе Лоренса Даррелла о Миллере (1949).
(обратно)68
Хаггард Райдер (1856–1925) — классик английской литературы, автор романов «Копи царя Соломона», «Дочь Монтесумы», «Возвращение Айши» и любимого Миллером романа «Она». Миллер посвятил ему главу в макроэссе «Книги в моей жизни» (1952).
(обратно)69
Бог дал, Бог и взял. — Об отношении Миллера к вещам свидетельствует следующая запись из дневника Анаис Нин: «Когда я потеряла свое любимое ожерелье из голубых звезд, Генри сказал только: „Ну и хорошо: на один предмет в твоей жизни меньше“. Генри заставляет Фреда (Перле) выбросить смокинг, костюм, башмаки, рукописи — так „ему легче будет путешествовать“, — и они выбрасывают все эти вещи на дождь, чтобы никто не смог ими воспользоваться, что-то с них поиметь» (октябрь, 1935).
(обратно)70
Трины и секстили — в астрологии: два из четырех главных аспектов, наряду с квадратурой и соединением. Трин (от лат. trinus — «тройной»), или тригонал — аспект с углом 120°, — считается одним из самых благоприятных. Секстиль (от лат. sextil — «одна шестая»), или гексагон, — аспект с углом 60°, также благоприятный. Знаки зодиака, находящиеся между собой в аспекте трина, образуют четыре правильных треугольника (тритоны стихий: земли, воздуха, огня, воды), в секстиле — два правильных шестиугольника (мужские и женские знаки).
(обратно)71
«Ангел — это мой водяной знак!» — название главы в книге Миллера «Черная весна» (не путать с «водным знаком» в астрологии). Хотя Перле, возможно, вкладывает в это выражение свой смысл: в жизни Миллера появилась Анаис Нин, родившаяся под «водным» знаком Рыб.
(обратно)72
«Un Étre Étoilique» («Звездное создание») — название эссе Миллера об Анаис Нин, впервые представившего ее читающей публике и вызвавшего интерес издателей к ее дневнику, который Миллер называет «монументальной исповедью» и предрекает, что когда эта исповедь «дойдет до мира, она займет место в ряду откровений Блаженного Августина, Петрония, Абеляра, Руссо, Пруста и других». Эссе было опубликовано в английском журнале «Критерион» (1936), возглавлявшемся T. С. Элиотом, и в составе сборника статей Миллера «Космологическое око» (1939) в США.
(обратно)73
Паунд Эзра Лумис (1885–1972) — известный американский поэт и теоретик искусства, представитель «модернизма».
(обратно)74
Риви Джордж (р. 1907) — американский литературовед и переводчик; специалист в области русской литературы. Переводил В. Маяковского («Клоп»). Автор книг «Советская литература сегодня» (1946), «Поэзия Евгения Евтушенко 1953–1965 гг.» (1965) и др.
(обратно)75
Беккет Сэмюэль (1906–1989) — ирландский писатель и драматург; писал как по-английски, так и по-французски. Был секретарем Джойса. Его пьеса «В ожидании Годо» (1953) снискала ему славу одного из основоположников «театра абсурда». Лауреат Нобелевской премии (1969).
(обратно)76
Унамуно Мигель де (1864–1936) — испанский философ, новеллист, поэт. Его литературно-философские эссе «О трагическом чувстве жизни» и «Агония христианства» были включены в папский индекс запрещенных книг. Был ректором университета в Саламанке; вступив в конфликт с диктаторским режимом, эмигрировал; вернулся после победы республики. Умер во время франкистского мятежа, отказавшись сотрудничать с франкистами. Тема Унамуно часто всплывает в письмах Миллера и Анаис Нин парижского периода, особенно муссируется идея «трагического чувства жизни», понимаемого как «жажда бессмертия» и «голод по бытию».
(обратно)77
Фаррелл Джеймс Гордон (1935–1979) — американский писатель, автор более десяти книг, а также ряда эссе о литературе.
(обратно)78
Нигоу Питер — американский писатель и издатель; в 30-е гг. жил в Париже, сотрудничал в журнале «Новое обозрение». Издал антологию «Американцы за границей» (1932), где, наряду с Хемингуэем, Гертрудой Стайн, Дос Пассосом и Паундом, представил Миллера как автора рассказа «Мадемуазель Клод». Подавая Нигоу сведения о себе, Генри с присущей ему самоиронией написал, что он не только писатель, но и «заядлый велогонщик» и «пианист-самоучка», а в Париж приехал «изучать порок», в свободное время «упражняясь в святости». Сборник рассказов Нигоу «Буря» Миллер, однако, подверг критике.
(обратно)79
Браун Дональд Маккензи (р. 1908) — американский исследователь индийской политической мысли, чьи взгляды представлены в книге «Белый зонтик. Индийская политическая мысль от Ману до Ганди» (1953) и др.
(обратно)80
Гольдман Эмма (1869–1940) — идеолог анархизма и проповедник свободной любви; автор книги «Мое разочарование в России» (1923); в 1910-х гг. разъезжала с лекциями по Америке. Миллер познакомился с Гольдман на ее лекции в Сан-Диего в 1913 г., когда работал подсобным рабочим на апельсиновых плантациях в Чула-Виста в Калифорнии. На лекцию он попал случайно, узнав о которой отложил намечавшийся поход в мексиканский публичный дом. Из лекций Гольдман он узнал о Кропоткине, Ницше, Ибсене, русской драме. Эта встреча стала одним из первых поворотных пунктов в его жизни.
(обратно)81
Макамен (Макальмон) Роберт (1896–1956) — американский писатель. Автор книги воспоминаний «Макамен и „потерянное поколение“. Автопортрет».
(обратно)82
Пронунсиаменто — «выпады». Изначально — призыв к государственному или военному перевороту (в Латинской Америке и Испании).
(обратно)83
Флит-стрит — так называемая «чернильная улица» в центре Лондона, на которой находятся редакции большинства крупных английских газет.
(обратно)84
Нин-и-Кастельянос Хоакин (1879–1949) — отец Анаис Нин, всемирно известный испанский пианист и композитор; родился и умер в Гаване. Ему посвящены книги Анаис «Зима обмана» и «Инцест».
(обратно)85
Супралингвальный — (от лат. supra — «над», «поверх» и lingua — «язык», т. е. «надъязыковой»); иначе говоря, язык, способный передать больше, чем можно выразить словами.
(обратно)86
Левитация — парапсихологическая способность поднимать предметы (или собственное тело) в воздух или создание подобной иллюзии.
(обратно)87
Дао — в переводе с китайского «Путь»; сущность даосизма, основного направления древнекитайской философской мысли, «отцом» которого считается Лао-цзы (VI век до н. э.).
(обратно)88
«Два болванчика» — название одного из парижских кафе («Deux Magots») в квартале Монпарнас.
(обратно)89
«Галереи Лафайета» — один из крупнейших парижских универмагов.
(обратно)90
Mona Païva (Мона Пайва) — в данном случае употреблено в переносном смысле по имени великосветской куртизанки Терезы Лахман маркизы де Пайва (1819–1884). Зимой 1931–1932 гг. Анаис Нин записывает в дневнике: «У Генри роман с Моной Пайва, куртизанкой столетней давности, фото которой он нашел где-то на набережных». В то же время существует предположение, что Миллер называл этим именем Анаис Нин в письмах Эмилю Шнеллоку, чтобы не раскрывать ее инкогнито (Миллера восхищало ï с двумя точками в латинском написании имен Anaïs и Païva).
(обратно)91
Шантильи — исторически — одна из резиденций принцев Конде. Под Шантильи, куда Перле помещает несуществующую Лиану де Шампсор, он маскирует особняк Анаис Нин в Лувсьенне, в XVIII в. принадлежавший фаворитке Людовика XV мадам Дюбарри.
(обратно)92
Вилла Сёра — парижская улица, где располагались мастерские (студии) художников. Названа в честь известного французского художника Жоржа Сёра (1859–1891), одного из основоположников «пуантилизма». Здесь жили Дали, Громмер, Сутин и др. В доме № 18, принадлежавшем Майклу Френкелю, квартировал Генри Миллер.
(обратно)93
Ариман — в антропософии: одно из двух существ, противостоящих существу Христа, — Дух Лжи, иногда называемый Мефистофелем (второе — Люцифер, Искуситель). Согласно Штейнеру, вся моральная жизнь — это борьба за равновесие между влиянием Люцифера (во внутренней жизни) и Аримана (во внешнем мире через искушения ложными ценностями). «Высшее искусство жизни, — говорит Штейнер, — это умение удерживать Люцифера и Аримана в должном равновесии».
(обратно)94
Вертер — главный персонаж романа Гёте «Страдания юного Вертера» (1774).
(обратно)95
Троцкий Лев Давидович (наст. фамилия Бронштейн; 1879–1940) — политический деятель, член РСДРП; в 1917 г. занимал высшие военные и административные посты в правительстве Советской России. В 1929 г. выслан из СССР.
(обратно)96
Эспаньолка — особый фасон бородки, постриженной клинышком на испанский манер.
(обратно)97
«Всеми правдами и неправдами» — этот рассказ Перле опубликован в журнале Сирила Конноли «Горизонт» (июль, 1940).
(обратно)98
Нагорная проповедь — проповедь Иисуса Христа о «блаженствах», произнесенная им на горе Курн-Хаттин и выражающая сущность новозаветного закона, ставящего — в отличие от ветхозаветного — во главу угла внутренние достоинства человека.
(обратно)99
Франциск Ассизский (1182–1226) — католический святой, основатель нищенствующего ордена францисканцев. Его труд «Цветочки» известен в переводе на русский язык как «Цветочки Франциска Ассизского» (1913). Живописные полотна старых мастеров изображают его в коричневом одеянии.
(обратно)100
Хтонический (от греч. хтонос — «земля») — хтоническими называют мифологических персонажей, связанных одновременно с производительной силой земли и умерщвляющей потенцией преисподней. В данном случае употреблено с ироническим подтекстом и означает «замогильный» — так Перле вышучивает одержимость Френкеля «философией смерти».
(обратно)101
Кант Иммануил (1724–1804) — немецкий философ, ученый, один из основателей немецкой классической философии. Автор «Критики чистого разума» (1781), «Критики практического разума» (1781) и др. Разрабатывал учение о «вещах в себе», воздействующих на органы чувств, и «вещах для нас», составляющих основу познания, а также о вере в Бога как религиозной потребности, ориентированной на примирение в жизни добра и зла.
(обратно)102
Спиноза Бенедикт (Барух; 1632–1677) — нидерландский философ; выдвинул пантеистическое учение о тождестве Бога и природы.
(обратно)103
Шопенгауэр Артур (1788–1860) — немецкий философ, один из представителей иррационального направления в западноевропейской философской мысли. Главный труд — «Мир как воля и представление».
(обратно)104
Джемс (Джеймс) Уильям (Вильям; 1842–1910) — американский философ и психолог, один из основателей прагматизма. Согласно его теории, истинно то, что способствует практическому успеху. В русском переводе изданы его книги «Зависимость веры от воли» (1904), «Многообразие религиозного опыта» (1910), «Прагматизм» (1910), «Вселенная с плюралистической точки зрения» (1911). Именно он ввел в обиход понятие «поток сознания». Брат писателя Генри Джеймса.
(обратно)105
Талмуд — книга, в которой собраны религиозно-правовые нормы еврейства и плоды наук теософии, этики, истории, поэзии, математики, естествознания, медицины. Талмуд делится на две части: галаху, представляющую законодательную часть, и гаггаду, содержащую легенды, притчи и т. п. Не отрицает мессианства Христа.
(обратно)106
Каббала — мистическое учение и мистическая практика в еврействе, сохранявшаяся первоначально в устном предании. Возникла предположительно в эпоху Авраама. Основополагающий памятник — «Книга Сияния» («Зогар»). Составная часть каббалы — учение о «Древе Сефирот» (цифр или сфер) — символическое учение о десяти основных принципах развития мира и человека, понимаемого как излучение (эманация) Божества.
(обратно)107
Черчилль Уинстон (1874–1965) — государственный деятель Великобритании. Премьер-министр коалиционного правительства.
(обратно)108
Имена этих «хулиганов» Миллер расшифровывает в письме Шнеллоку (апрель, 1930): это Франсис Карко, Макс Жакоб, Пьер Мак-Орлан, Пикассо, шутливо именовавшиеся современниками «бандой Пикассо» и обитавшие в знаменитом доме № 13 по ул. Равиньян.
(обратно)109
Элиот T. С. (Томас Стернз; 1888–1965) — классик английской литературы (по происхождению американец); поэт, драматург, прозаик, критик, эссеист. Лауреат Нобелевской премии (1948). С 1922 по 1939 г. возглавлял влиятельный журнал «Критерион», опубликовавший эссе Миллера об Анаис Нин «Un Etre Etoilique» («Звездное создание»).
(обратно)110
Лорансен Мари (1885–1956) — французская художница и театральный декоратор; создала серию картин, изображающих утонченных, томных и изысканных женщин, что и подразумевает Миллер, говоря о «лесбиянках Мари Лорансен».
(обратно)111
Беде́кер — серия популярных путеводителей и музейных каталогов, печатавшихся на многих европейских языках. Названы так по имени их первого составителя и основателя издававшей их немецкой фирмы Карла Бедекера (1801–1859).
(обратно)112
Фагоциты — белые кровяные тельца (лейкоциты), разрушающие и поглощающие инертные клетки и т. п. в крови, осуществляя тем самым защитную функцию организма.
(обратно)113
«Тихие дни в Клиши» — название книги Генри Миллера (1940). Клиши — пролетарское предместье Парижа.
(обратно)114
Аллюзия на книгу Джорджа Оруэлла «На обочине жизни в Париже и Лондоне» (1933), где он повествует о своей жизни среди босяков двух европейских столиц.
(обратно)115
Оруэлл Джордж (наст. имя Эрик Блэр; 1903–1950) — английский писатель, журналист, автор книг «1984 год», «Скотский хутор», «Лев и Единорог» и др. Дал положительную оценку «Тропику Рака» в «Нью инглиш уикли» (ноябрь, 1935) и посвятил Миллеру эссе «Во чреве кита» (1939), содержащее критический разбор «Тропиков». Позднее Миллер напишет Анаис Нин: «Как странно, что Джордж Оруэлл, этот английский писатель, взял мое выражение — „во чреве кита“, — чтобы меня же побить одной левой» (апрель, 1944).
(обратно)116
Эмерсон Рольф Уолдо (1803–1882) — американский поэт, философ, публицист.
(обратно)117
Квакеры — последователи английского протестанта Джорджа Фокса (1624–1691), основавшего в 1652 г. так называемое Христианское общество друзей. Отвергают церковь, обряды; не признают чинов и титулов; проповедуют скромность и воздержанность. «Пищей квакеров» в англоязычных странах называли овсянку.
(обратно)118
«Вильгельм Мейстер» — имеются в виду романы Гёте «Театральное призвание Вильгельма Мейстера» (1777–1785), «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1793–1796) и «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (1821–1829).
(обратно)119
Плотин (р. ок. 205 г. в Ликополе, Египет) — античный философ.
(обратно)120
Парк-авеню — одна из элитных улиц Манхэттена к востоку от Бродвея, между Мэдисон- и Лексингтон-авеню. Проложенная в строгом соответствии с законами градостроительства, она производит впечатление мрачного величия.
(обратно)121
Перле намекает, что они с Миллером живут в точности по Евангелию, где сказано: «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; <…> Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или: что пить? или: во что одеться?..» (Мф. 6, 28, 31).
(обратно)122
Каталепсия — в медицине: нервное заболевание, характеризующееся временной потерей сознания и ригидностью мышц, — иначе говоря, столбняк, оцепенение, транс.
(обратно)123
Сам Петроний, пожалуй, едва ли едал вкуснее — намек на описание пира Тримальхиона в сатирико-бытовом романе Гая Петрония Арбитра «Сатирикон».
(обратно)124
Марксистская диуретика — термин из разряда «миллеризмов», соединяющий в себе понятие диалектики (т. е. «Все течет…» — по Гераклиту) с тем, что течет, т. е. урина (моча).
(обратно)125
Шибболет (евр. «колос», Кн. Судей, 12, 6) — исторически, по произношению этого слова жители галаадские во время междоусобной войны с ефремлянами узнавали врагов при переправе через Иордан и убивали их. Ефремляне произносили это слово «сибболет». В переносном смысле — отличительная особенность.
(обратно)126
«Улыбка у нижней ступени лестницы» — название рассказа Миллера, посвященного французскому живописцу Фернану Леже (1881–1955).
(обратно)127
Руо Жорж (1871–1958) — французский художник, представитель фовизма, которого называют единственным крупным религиозным художником XX в. Учился у Гюстава Моро, в том же классе, что и Матисс. В 1929 г. делал декорации и костюмы для дягилевского балета «Блудный сын» (муз. С. Прокофьева); в 40-е гг. — витражи для церкви в Асси; одна из его картин была приобретена Ватиканом. Руо — один из самых любимых художников Миллера.
(обратно)128
Тосканини Артуро (1867–1957) — один из крупнейших дирижеров XX в. Был главным дирижером театров «Ла Скала» и «Метрополитен-опера», Нью-Йоркского филармонического оркестра, а также симфонического оркестра Национального радио США. Его артистическая деятельность продолжалась около семидесяти лет.
(обратно)129
Каган Джек (1887–1939) — английский предприниматель, ткач из Манчестера, приехавший в 20-е гг. в Париж с целью сделать писательскую карьеру. Основал издательство «Обелиск-Пресс», где сначала печатал под псевдонимом Сесил Бар свои книги «Амур — по-французски любовь» (1932), «Розовощекая юность» (1934), «Грешить — дело трудное» (1935) и др. Затем стал издавать англоязычную литературу, не могущую быть напечатанной в англосаксонских странах из-за действовавших в то время законов против обсценности в литературе и искусстве. Им были изданы «Моя жизнь и любовь» Фрэнка Харриса, «Скалистый пруд» Сирила Конноли, «Черная книга» Лоренса Даррелла, «Колодец одиночества» Рэдклифа Холла, а также «Тропики» Миллера и «Зима обмана» Анаис Нин. Он гордился изданием Джойса и Олдингтона. Оставил воспоминания «Мемуары бутлегера». После смерти Кагана издательство возглавил его сын Морис Жиродиа, переименовав его в «Эдисьон дю Шен», затем — в «Олимпия-Пресс».
(обратно)130
Гилберт Стюарт — американский критик, переводчик, друг Джойса. Жил в Париже на Иль Сен-Луи. Был дружен с Анаис Нин, высоко ценил ее творчество, но сомневался в возможности издания ее дневников из-за их непривычной естественности и оголенности. Роман Анаис Нин «Зима обмана», вышедший в 1974 г., сопровожден его предисловием.
(обратно)131
Джойс Джеймс (1882–1941) — ирландский писатель, прославившийся романами «Улисс» (1922), «Портрет художника в юности» (1916), «Поминки по Финнегану» (1939), книги рассказов «Дублинцы» и др.
(обратно)132
Брэдли Уильям Эспенуолл (1878–1939) — американский поэт и переводчик. Поселился во Франции после Первой мировой войны, вместе с женой основал фешенебельный литературный салон и литературное агентство на Иль Сен-Луи. Именно он «открыл» Кагану Миллера («Тропик Рака»), а позднее пытался помочь Анаис Нин издать ее книги в США.
(обратно)133
«Фанни Хилл» — эротический роман английского писателя Джона Клиланда (1710–1789), опубликованный под официальным названием «Мемуары куртизанки» в 1748–1749 гг. Помимо «Фанни Хилл» Клиланд опубликовал несколько новелл, драм, книг стихов, лингвистических исследований, политических статей.
(обратно)134
Сад Донасьен-Альфонс-Франсуа, маркиз де (1740–1814) — французский писатель, автор «самого скандального романа в истории литературы» «Жюстина» и не менее скандальных — «Жюльетта» и «Сто двадцать дней Содома». Происходил из знатной французской семьи, его родственником по материнской линии был знаменитый принц Конде, а дядя по отцу Франсуа де Сад был дружен с Вольтером. Большую часть жизни де Сад провел в тюрьме. Его современник Ретиф де ла Бретон называл его «литературным монстром», но современные исследователи творчества и личности де Сада считают его «Хевлоком Эллисом и Кинзи (родоначальники современной сексопатологии) XVIII века»; известный английский писатель Олдос Хаксли писал, что в романах де Сада больше философии, чем секса.
(обратно)135
«Тропик Рака». — Теперь, когда один «Тропик» написан и начат второй — «Тропик Козерога», самое время сказать о том, как Миллер объясняет названия этих книг. В письме Анаис Нин он пишет: «Рак (краб), как известно китайским мудрецам, может двигаться в любом направлении. В зодиаке — это знак поэтов, своего рода полустанок на пути реализации. Напротив Рака в зодиаке (противоположно эквиноксу — поворотной точке равноденствия) — Козерог, знак, под которым я родился; он религиозен и представляет возрождение в смерти. Кроме того, Рак означает для меня болезнь цивилизации, экстремальную точку реализации по неверному пути, где надо изменять курс и начинать все сначала. Сущность доктрины Ницше о вечном повторении, а также — более глубоко — сущность буддизма заключаются в том, что Рак — это апогей смерти в жизни, а Козерог — апогей жизни в смерти. Оба символа используются в географии как тропики (а это еще одно слово для иероглифа): Рак — над экватором, а Козерог — под экватором. Я, о чем часто говорю в книгах, пытаюсь пройти по волоску, который их разделяет» (август, 1938).
(обратно)136
Лоуренс Дэвид Герберт (1885–1930) — английский писатель, знаменитый своим запрещенным романом «Любовник леди Чаттерлей». Снятие запрета с его романа в конце 50-х гг. проложило путь «Тропикам» Миллера в Англию. Лоуренс был одним из самых любимых писателей Миллера, чей объемный труд «Мир Лоуренса» был опубликован после смерти автора издательством «Капра» в Санта-Барбаре.
(обратно)137
Ранк Отто (наст. имя — Отто Розенфельд; 1884–1939) — австрийский психоаналитик, ученик и «приемный сын» Зигмунда Фрейда, секретарь Психоаналитического общества в Вене — до разрыва с Фрейдом в 1926 г. и переезда в Париж. Автор книг «Родовая травма» (1924), «Техника психоанализа» (1926), «Мотив инцеста в поэзии и мифе» и др. Особенное впечатление на Генри Миллера и Анаис Нин произвела его работа «Искусство и художник» (1932). Прочитав эту книгу, Миллер, находивший психоанализ некрофиличным, даже загорелся желанием побеседовать с Отто Ранком и показать ему свои тексты. Когда доктор Ранк под давлением финансовых обстоятельств был вынужден перебраться в Нью-Йорк (1934), Анаис Нин последовала за ним: она была его пациенткой, ученицей и (с ноября 1934 по февраль 1935 г.) ассистенткой.
(обратно)138
«Большой Мольн» (1913) — роман французского писателя Алена Фурнье (наст, имя Анри Фурнье; 1886–1914), также автора стихов и новелл, представленных в сборнике «Миракли» (1924). Ален Фурнье погиб под Верденом в начале Первой мировой войны.
(обратно)139
Шевалье Морис (1888–1972) — французский шансонье, создал классический тип «певца парижских бульваров».
(обратно)140
Утри́лло Морис (1883–1955) — французский художник и театральный декоратор; внебрачный сын известной натурщицы (позировала Ренуару) и художницы Сюзанны Валадон (1865–1938). В мае 1934 г. Миллер писал Шнеллоку: «Был на выставке Утрилло, но его жизнь (Франсиса Карко) кажется мне гораздо более интересной, чем его творчество. Он точно не велик. Интересен, да. Но что за этим?.. Ни портретов, ни натюрмортов. Одни уличные сцены! С гротескными марионетками вместо людей. Тоже странно». Миллер упоминает здесь книгу Ф. Карко «Легенда и жизнь Утрилло» (1927).
(обратно)141
Ван Гог Винсент Виллем (1853–1890) — голландский художник. Был торговцем картинами, проповедником. С 1886 г. жил в Париже, Провансе, Арле. За десять лет творческой биографии создал около восьмисот картин и более тысячи рисунков. Под «мечтами Ван Гога» Перле подразумевает его работы в духе картины «Улица в Овере» (1890). «Письма к Тео» Ван Гога Миллер приводит в списке книг, оказавших на него особенное влияние.
(обратно)142
Саарские селяне — жители Саарской земли в Германии, прилегающей к границе с Францией.
(обратно)143
Оффенбах Жак (наст. имя Якоб Эбершт; 1819–1880) — французский композитор, дирижер, виолончелист. Основоположник французской оперетты. Мировую славу принесли ему «Орфей в аду» (1858), «Прекрасная Елена» (1864), «Парижская жизнь» (1866), «Перикола» (1868), «Дочь тамбурмажора» (1879) и др. В центре большинства его оперетт — сатира, пародия; музыка отличается изяществом, игриво-пикантной мелодикой, танцевальной ритмикой.
(обратно)144
Нищие среди вас… — парафраз евангельского стиха «Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благоволить; а Меня не всегда имеете» (Мк. 14, 7, также: Мф. 26, 11 и Ин. 12, 8).
(обратно)145
Эккерман Иоганн Петер (1792–1854) — секретарь Гёте в последние годы его жизни (с 1823 по 1832), автор книг «Разговоры с Гёте» и «Заметки о поэзии». Эккерман был сыном коробейника, принимал участие в войнах против Наполеона, в возрасте тридцати двух лет поступил в гимназию, а затем в Гейдельбергский университет.
(обратно)146
Олд-Комптон-стрит — улица в Лондоне в районе Сохо.
(обратно)147
Контора Кука — знаменитое английское бюро путешествий «Кук и сын» (основано в 1860-х гг.). Его конторы имеются во многих странах мира.
(обратно)148
«Маршрутом Дьепп — Ньюхейвен» — рассказ Миллера, опубликованный в составе сборника «Космологическое око» (1939). Вот как Миллер передает в письме Эмилю Шнеллоку эпизод описанной им в этом рассказе поездки в Англию:
«У меня была виза, обратный билет, все мои рукописи, пишущая машинка и т. д., два чемодана всякого хлама, но английская иммиграционная служба в Ньюхейвене меня завернула. Фактически меня сдали на попечение констебля только за то, что в кармане у меня было всего сто семьдесят восемь франков и я не знал, в каком отеле остановлюсь по прибытии в Лондон. Они промурыжили меня почти три четверти часа, а потом сдали французским властям в Дьеппе, как какого-нибудь политзаключенного. <…> Когда меня попросили перечислить книги, которые я написал, я назвал „Тропик Рака“, выходящий в феврале в „Обелиск-Пресс“ (Париж, Рю-Сент-Оноре, 338). Смычки! „Уж не хотите ли вы сказать, мистер, что пишете о медицине?“ — „Нет, — ответил я стыдливо потупившись, — пока что только о географии“. — И объяснил, что такое тропик Рака. Но мой инквизитор, кажется, и этому не поверил. Наверное, они в конце концов решили, что я псих. На французской стороне со мной обошлись шикарно — как с человеком: без лишних слов посмотрели паспорт, задали пару формальных вопросов, сказали, чтобы я продлил французскую визу (она была просрочена), и все! <…> …я так ясно ощутил дух Франции, и мне так это все понравилось, что, когда в конце этот мужик пожал мне руку, да еще сопроводил к поезду, да еще пожелал счастливого пути, да еще назвал меня по имени — месье Миллер, — Господи, Эмиль, я чуть не прослезился! Я почувствовал себя счастливейшим человеком на земле только оттого, что мне разрешили вернуться в Париж. Если бы меня не пустили во Францию и депортировали в Америку, я бы разрыдался. Уж куда-куда, а в Америку мне точно не хотелось. (Я не говорю, что совсем не хочу побывать дома: на время — пожалуйста, но перебраться туда на вечное поселение — нет уж, увольте! Это было бы величайшим бедствием моей жизни.) Мое место во Франции. Или еще где-нибудь в Европе. Я больше не американец. Могу поклясться. Но как в этом Дьеппе французы проверяли мои бумаги! Почти не глядя. И это так по-людски! Стол старый, раздолбанный, чернила не пишут, котелок у мужика потертый, в усах — крошки, очки сползают, зубов нет, штаны так просижены, что просвечивают, руки все черные, изо рта несет, глаза слезятся, все валится на пол, и ничего не найти, кругом бардак и т. д., но этот парень — человек! И под задницей у него — весь груз французской истории, французской цивилизации, французской культуры, которая восходит к Риму, Греции, Карфагену, Криту, Месопотамии, и даже дальше — к человеку палеолита, к кроманьонцу. <…> Да ему положить — художник я или каменщик, его не интересует, одно су у меня в кармане или сколько… <…> Я бы его и выпить пригласил, только вот поезд мог отъехать в любую минуту, а я боялся, что эти чертовы выродки с английской стороны снимут меня с поезда и посадят на пароход в Америку» (1 января 1933 г.).
(обратно)149
Литания (в переводе с греч. — «молитва») — один из древнейших жанров христианской культовой музыки.
(обратно)150
Дали Сальвадор (1904–1989) — известный испанский художник, основоположник и теоретик сюрреализма (наряду с Андре Бретоном). Жил в Париже. Сотрудничал с Бунюэлем при создании фильма «Андалузский пес», который произвел на Миллера сильное впечатление. Миллер познакомился с Дали на одной из выставок в Париже в 30-е гг.; позднее, в 1940 г., «пересекся» с ним и его женой Галой в доме у общей знакомой, американской издательницы Кэресс Кросби в Виргинии, где провел несколько дней во время путешествия, предпринятого с целью написать книгу об Америке («Аэрокондиционированный кошмар»). О своем впечатлении о встрече с Дали он пишет Анаис Нин в письме от 9 ноября 1940 г.: «Дали, по-моему, еще больше свихнулся от тщеславия. Гала уехала в Нью-Мексико. Он совсем не выходит из дому — говорит, ему все равно, что здесь, что на Северном полюсе, что в любом другом месте. В разговоре со мной дальше приветствия не заходит. Мы даже не попрощались с ним, когда уезжали. Ходил в пеньюаре — Галином, — вылитый гомик. Законченный солипсист. А Кэресс, кажется, от него в полном восторге…»
(обратно)151
Люрса Жан (1892) — французский художник. Работал в области прикладного искусства и иллюстраций. Брат архитектора Андре Люрса.
(обратно)152
Громмер Марсель (1892–1971) — французский художник, живописец и гравер.
(обратно)153
Сутин Хаим (1894–1943) — русский художник, жил в Париже на Вилле Сёра, 18, в одно время с Миллером, этажом ниже.
(обратно)154
Орлова (Орлофф) Хана (1888–1968) — русский скульптор, была подругой Амедео Модильяни; на Вилле Сёра жила в одно время с Миллером. Дружила с Анаис Нин, создала ее скульптурный портрет. Скульптуры Ханы Орлофф — преимущественно женщины на разных стадиях беременности — воплощают ее идею о том, что «женщина — больше чем жизнь».
(обратно)155
Лимерик — шуточный стишок из пяти строк, написанных анапестом; первая, вторая и пятая строки трехстопны, третья и четвертая — двухстопны.
(обратно)156
Дуглас Норман (1868–1952) — американский писатель. Автор книг «Старая Калабрия», «Южный ветер» и др.
(обратно)157
«Веселая вдова» (1905) — оперетта венгерского композитора Ференца Легара (1870–1948).
(обратно)158
Т. е. к концу обеда: во Франции сыр подают в качестве завершающего блюда.
(обратно)159
Автором романа «Confessions de Minuit» является французский писатель Жорж Дюамель (1884–1964), написавший цикл романов о «маленьком человеке» «Жизнь и приключения Салавена» (1920–1932) и др., а также ряд критических работ, в частности «Опыт о романе» (1925).
Каламбур основан на англ. ham — «окорок», «ветчина» и латинском написании имен Дюамель и Гамлет: Duhamel, Hamlet; «родственная связь» выводится по цепи: «ham» (окорок, ветчина) — hamlet (уменьшительное от ham, а также — сельский житель) — hamel (синоним hamlet, а во втором значении — хромать, калечить) — фр. hameau (деревенька) — фр. du hameau (сельский житель) — англ. salavate (подстрелить, покалечить), т. е. в результате выходит, что Дюамель и Гамлет — «сельские жители» и «куски ветчины», что вписывается в разрабатываемую друзьями тему смерти, а Салавен, как и Гамлет, — «покалеченный».
(обратно)160
Райхель Ганс — немецкий художник, входивший в миллеровский кружок на Вилле Сёра с 1934 по 1939 г.; ему посвящено эссе Миллера «Космологическое око» (1938), давшее название первому сборнику текстов Генри, изданному в США (1939).
(обратно)161
«Бхагавадгита» (в переводе с санскрита — «Песнь Господня») — философско-поэтический трактат древнеиндийского эпоса «Махабхарата», описывающий один из эпизодов «великой войны», происходившей, согласно одной из древнеиндийских традиций, около 3000 г. до н. э. в Индии (этот период считается началом Кали-юги). В Европе «Бхагавадгита» известна с 1785 г. благодаря переводу Ч. Уилкинза на английский язык.
(обратно)162
Блаватская Елена Петровна (1831, Екатеринослав — 1891, Лондон) — вдохновительница и основательница (совместно с полковником Г. Олькоттом) Теософского общества в Нью-Йорке (1875), главная квартира которого в 1879 г. была переведена в Адьяр (Индия). Автор трудов по теософии «Изида без покрывала» (1877), «Тайная доктрина» (1888–1897), «Из пещер и дебрей Индостана» (1883) и др. Первые два оказали существенное влияние на формирование мировоззрения Миллера.
(обратно)163
Штейнер Рудольф (1861–1925) — доктор философии, основоположник сверхчувственного исследования мира и человека, названного им антрюпософией, определяемой как «познание, рождаемое в человеке его высшим Я». С 1902 г. возглавляет немецкую секцию Теософского общества, с 1913 г. становится ведущим сотрудником и учителем науки о духе основанного в том же году Антропософского общества (председатель — Карл Унгер). Руководит строительством Гётеанума в швейцарском городе Дорнахе (1913–1922). На рубеже 1923–1924 гг. основывает Всеобщее антропософское общество с центром в Дорнахе и становится его председателем. Там же открывает «Свободную высшую школу науки о духе». Автор трудов «Истина и наука», «Философия свободы», «Очерк тайноведения», «Мистерия и миссия Христиана Розенкрейца» и множества других — всего 354 тома. Выступал с публичными лекциями.
(обратно)164
Морикан Конрад (1887–1954) — французский астролог, оккультист, автор книги «Зеркало астрологии» (1928). Миллер познакомился с ним в 1936 г. Оставшись после Второй мировой войны без средств к существованию, он написал Миллеру в США о своем бедственном положении, и тот пригласил его пожить у себя в Калифорнии, надеясь, что Биг-Сур излечит его от хандры. Как раз тогда Миллер работал над эссе об Артюре Рембо «Время убийц». Морикан не только не излечился, но и возненавидел своего благодетеля, который в результате предложил ему вернуться во Францию. «Отчет» о пребывании Морикана в Биг-Суре Миллер озаглавил «Дьявол в раю» (он был опубликован в 1954 г. после смерти «героя»).
(обратно)165
Барбе д’Оревильи Жюль Амеде (1808–1889) — французский писатель, автор католических исследований и модных хроник, прославившийся знаменитой книгой «Дендизм и Джордж Брэммель» (1845), написанной им для собственного удовольствия и для узкого круга эстетов.
(обратно)166
Кено Реймон (Раймон; 1903–1976) — известный французский писатель, поэт-сюрреалист; автор комических повестей, ряда теоретических работ, книг «Le chiendent», «Gueule de Pierre» и др. С 1933 г. — редактор издательства «Галлимар» в Париже. Член Гонкуровской академии.
(обратно)167
Сандрар Блэз (наст. имя Фредерик Луи Сезер; 1887–1961) — французский поэт и беллетрист; сын швейцарского коммерсанта; участник Первой мировой войны (там потерял правую руку); много путешествовал, несколько раз посетил Россию, где был популярен в начале века (в декабре 1913 г. в «Бродячей собаке» состоялся вечер, посвященный «первой симультанной книге» Сандрара и Сони Делоне-Терк).
(обратно)168
Даррелл Лоренс (р. в 1912) — английский писатель и дипломат, автор скандальной «Черной книга» (1938), тетралогии «Александрийский квартет» (1957–1960) и др. Ближайший друг Миллера и Анаис Нин.
(обратно)169
По аналогии, например, с «человеком играющим» (homo ludens) И. Хёйзинги (1872–1945) — выдающегося нидерландского мыслителя и историка культуры, автора трудов «Homo ludens», «Осень Средневековья» и др.
(обратно)170
Лемурийская эпоха — связывается с существовавшим, согласно гипотезе английского зоолога Филипа Силейтера, в древние геологические времена континентом между Африкой и Индостаном. Этот континент он назвал Лемурией. Согласно эзотерическим теориям, лемурийская эпоха предшествовала атлантической эпохе, закончившейся с гибелью легендарного континента Атлантида (предположительно около 10 тысячелетий назад). О существовании Атлантиды говорится в диалогах Платона «Тимей» и «Критий»; в 1910 г. немецкий этнограф и исследователь Океании и Западной Африки Лео Фробениус нашел доказательства, подтверждавшие существование этого материка.
(обратно)171
Гамбит — начало шахматной (шашечной) партии, в которой одна из сторон жертвует пешку или легкую фигуру (шашку) для получения активной позиции.
(обратно)172
Уатс Алан Уилсон (1915–1973) — современный религиозный деятель, мистик; автор книг «Путь дзэна», «Психотерапия Востока и Запада», «Сущность Алана Уатса», работ о психоделических средствах, а также автобиографической книги «Собственным путем». В 60-е гг. пользовался огромной популярностью у американских хиппи и прочей публики, искавшей способов проникнуть в «двери восприятия». При его участии в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе устраивались психоделические сеансы, на которых бывали Олдос Хаксли, Анаис Нин, Кристофер Ишервуд и другие знаменитости.
(обратно)173
В индивидуальной астрологии Бог соответствует девятому небесному дому, Дому дня; отвечает за путешествия, умственные способности, религиозные и политические взгляды. В мировой астрологии ему подчинены религия, духовенство, ученые, учителя, правительственные служащие, иммигранты и транспортные коммуникации. Асцендент (от лат. «восходящий») — в астрологии: точка эклиптики, в которой она пересекается с восточной половиной истинного горизонта; является началом первого дома. Это одна из важнейших точек гороскопа.
(обратно)174
Джекил-Хайд — главный персонаж рассказа английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894) «Странный случай с доктором Джекилом и мистером Хайдом», повествующего о существовании в человеке двух начал: добра и зла. Экспериментируя со средством, позволяющим высвобождать в человеке злое начало, добрейший доктор Джекил превращался в злодея мистера Хайда.
(обратно)175
Амок — на языке аборигенов островов Юго-Восточной Азии: состояние психического возбуждения, характеризующееся повышенной агрессивностью.
(обратно)176
Ли Кэ — государственный деятель царства Вэй в Китае (V в. до н. э.), последователь Конфуция; по некоторым предположениям, он же — Ли Куй, главный советник правителя царства Вэй, осуществивший юридическую реформу, один из основоположников «легизма», автор трактата, входящего в один из китайских канонических текстов.
(обратно)177
Пять священных книг Китая — имеются в виду так называемые Пятикнижие и Четверокнижие, по традиции считающиеся памятниками древнейшей литературы и излагающие морально-политическое учение, восходящее к мифическим императорам-мудрецам Яо и Шуню.
(обратно)178
Ли Бо (второе имя — Тайбо; 701–762) — китайский поэт, классик танского периода (618–906). Мастер четверостиший и семисловного стихосложения. Наиболее полный из сохранившихся сборников Ли Бо («Ли Тайбо цзи», «Ли Бо цзи» «Цаотан цзи», «Гуфын») был составлен примерно через триста лет после его смерти и содержал свыше тысячи стихотворений.
(обратно)179
Жакоб Макс (1876–1944) — французский поэт, беллетрист, художник, принадлежавший к кругу Пикассо, в который входили Гийом Аполлинер, Тристан Тзара, Антонен Арто, Луи Арагон и др. Был дружен с Гертрудой Стайн. Погиб в концлагере: умер за день до того, как, благодаря хлопотам друзей, пришел приказ о его освобождении.
(обратно)180
Мак-Орлан Пьер (наст. фамилия Дюмарше; 1882–1970) — французский писатель, принадлежавший к кругу Пикассо. Автор романов «Якорь милосердия», «Набережная туманов», «На борту „Утренней звезды“», «La Bandera» и др. Член Гонкуровской академии.
(обратно)181
Карко Франсис (наст. имя Каркопино-Тюзоли Франсуа; 1886–1958) — французский писатель, автор романов «Туманы» (1935), «Команда» (1939), «Затравленный» (1922) и др., а также книги «Легенда и жизнь Утрилло» (1927).
(обратно)182
Кислинг Видкун (1887–1945) — глава норвежского коллаборационистского правительства времен нацистской оккупации.
(обратно)183
Кокто Жан (1889–1963) — французский поэт, беллетрист, драматург, эссеист; был близок к футуристам, дадаистам, сюрреалистам. Автор пьес «Ох уж эти детки!» (1917), «Рыцари круглого стола» (1937), «Ох уж эти предки!» (1938); также внес вклад в развитие французского кинематографа. Член Французской академии (1955).
(обратно)184
Жироду Жан (1882–1944) — французский дипломат, писатель, драматург. Автор романа «Жюльетта в стране мужчин» (1924), пьес «Зигфрид» (1928), «Амфитрион-38» (1929), «Троянской войны не будет» (1935), «Ундина» (1939) и др.
(обратно)185
Адепт — то есть посвященный; приверженец какого-либо учения в искусстве; изначально: алхимик, получивший философский камень.
(обратно)186
Прекрасный Брэммель — имеется в виду знаменитый английский денди Джордж Брайан Брэммель (1778–1840), ставший при поддержке принца Уэльского Георга IV законодателем моды; впоследствии был заключен в долговую тюрьму, скончался в приюте, разбитый параличом. «Мимолетный властелин мимолетного мира» — так назвал его в книге «Дендизм и Джордж Брэммель» Ж. А. Барбе д’Оревильи.
(обратно)187
«Серафита» и «Луи Ломбер» — романы Оноре де Бальзака (1799–1850). Под впечатлением этих вещей Миллер написал два эссе о Бальзаке: «Серафита» и «Бальзак и его двойник» (весна, 1939); оба вошли в сборник «Мудрость сердца». О «Серафите» Миллер писал: «Я воспринимаю эту книгу как мистический труд высшего порядка. И если она, что очевидно, написана под впечатлением работ Сведенборга, то ее обогатили также и другие влияния: Якоб Беме, Парацельс, Св. Тереза, Клод Сен-Мартен и т. д. Как писатель, я знаю, что такие книги не могут быть написаны без помощи высшего существа: ее богатство, ослепительная ясность, мудрость — явно не человеческая, сила и откровенность выдают в ней все качества произведения, надиктованного если не самим Богом, То ангелами. <…> Это розенкрейцеровская драма, чистая и простая».
(обратно)188
Трансцендентальная переписка — из письма, приведенного в «Le Goéland» («Чайка»), июль-август-сентябрь, 1954 г. (Примеч. автора.).
(обратно)189
Аркан (от лат. arcanum — «тайна») — особенное содержание тайных культов и оккультных наук, недоступное для непосвященных. Этот термин употребляется в магической астрологии, занимающейся вызовом или заклинанием духов планет или элементарных духов (алементалей), изготовлением астрологических амулетов, талисманов и т. п.
(обратно)190
«Риц» — дорогой фешенебельный отель, названный по имени основателя фирмы, швейцарского гостиничного магната Цезаря Рица. Отели «Риц» имеются во многих столицах мира.
(обратно)191
Савиль-Роу — улица в Лондоне, известная дорогими ателье, изготовляющими одежду по индивидуальному заказу.
(обратно)192
Черинг-Кросс-роуд — улица в Лондоне, известная магазинами старой книги и недорогой одежды.
(обратно)193
«Сценарий». — В 1952 г. «Сценарий» (под названием «Альрауне») был прочитан на парижском радио, со звуковым оформлением и на французском языке. Передача сопровождалась вступительным словом Блэза Сандрара — дань уважения Генри Миллеру, которого французы считали «своим». (Примеч. автора.).
Рассказ Анаис Нин «Обитель инцеста», на основе которого был написан «Сценарий» Миллера, первоначально назывался «Альрауне». «Альрауне» — зловеще-фантастический роман немецкого писателя и деятеля национал-социализма Ганса Гейнца Эверса (1871–1943), который, вызвав недовольство своих «товарищей по борьбе», был подвергнут ими остракизму: на его имя с 1935 г. в Германии был наложен запрет. Сюжет романа Эверса основан на народном поверье, будто из земли, на том месте, куда упадет семя повещенного, вырастает растение мандрагора (по-немецки «альрауне»), по виду напоминающее нижнюю часть человеческого тела (либо мужского, либо женского), мандрагоре приписываются магические свойства. Эверсовская Альрауне — дитя проститутки, оплодотворенной семенем казненного на плахе преступника. Фильм, поставленный по роману Эверса (во французском прокате — «Мандрагора») с Бригиттой Хельм в главной роли, произвел на Анаис Нин неизгладимое впечатление. «Лучше бы я его не смотрела!» — напишет она Миллеру в ноябре 1933 г. Роль Альрауне она отвела Джун, себя назвала Мандра (от «мандрагоры»), а Генри — Рэб (от Рабле). Тема «Альрауне» часто всплывает в переписке Генри и Анаис: для понимания мифа он советует ей прочесть книгу Джона Каупера Пауиса «Мандрейк и Мандрагора».
(обратно)194
Раттнер Абрахам — американский художник, фотограф, друг Миллера с первых дней в Париже; оформлял фронтиспис «Сценария»; сопровождал Миллера в его путешествии по Америке зимой 1940 г., предпринятом для написания книги об Америке («Аэрокондиционированный кошмар»), для которой Раттнер делал обложку. Миллер посвятил ему эссе «Художник-бодхисаттва», вошедшее в сборник «Помнить, чтобы помнить».
(обратно)195
«Как вы думаете поступить с Альфом?» — это памфлет, написанный в форме письма, был опубликован в 1938 г. при финансовой поддержке Майкла Френкеля и друга Анаис Нин Эдуарде Санчеса и направлен T. С. Элиоту, Олдосу Хаксли, Эзре Паунду, Жану Кокто и др. Среди откликнувшихся на письмо были Андре Жид и Олдос Хаксли. Впоследствии Миллер признался Перле, что присланные ими деньги ссели в его карманах.
(обратно)196
Ивиса — населенный пункт на острове Ивиса, входящем в состав Балеарских островов.
(обратно)197
Т. е. до заключения «Мюнхенского соглашения» (сентябрь, 1938) между Германией, Францией, Англией и Италией, на один год отодвинувшего начало войны.
(обратно)198
Хайлер Хилер (1898–1974) — американский художник. В 30-е гг. жил в Париже, сотрудничал в путнамовском «Нью ревю»; в 40-е гг. перебрался в Калифорнию. Автор памфлета «Хилер Хайлер и панорамное видение» (Париж, 1932), теоретической работы «Цветовая таблица Хайлера» (1937); сотрудничал с Миллером и Уильямом Сарояном в работе над книгой «Почему абстрактное?» (Нью-Йорк, 1945); написал также критические эссе «Дилемма современного художника» (1945) и «Почему экспрессионизм?» (1946). В книге об Америке Миллер посвятил ему главу «Хайлер и его фрески» (Хилер Хайлер расписывал стены в здании Аквапарка в Сан-Франциско).
(обратно)199
Гольм Петер-Эдвард (1833–1915) — датский историк, профессор Копенгагенского университета.
(обратно)200
«Аэрокондиционированная утроба» — по аналогии с названием миллеровской книги об Америке «Аэрокондиционированный кошмар».
(обратно)201
Гаскойн Дэвид (р. в 1916) — современный английский поэт, в 30-е гг. жил в Париже. Посещал Анаис Нин, посвятил ей стихотворение «Город Мифа». «Я не знаю его поэзии — знаю только о его репутации. Мистически-романтический мальчик, но весь перебинтованный, как мертвый араб, тугими белыми бинтами. Оставил мне свой дневник, полный умолчаний и околичностей. <…> Я не испытываю к Гаскойну теплых чувств. Его страдания оставляют меня равнодушной. Он — узник. Меня раздражает бряцание цепей, но у меня нет желания разрывать его цепи», — запишет она в дневнике (ноябрь, 1938).
(обратно)202
Бойл Кей (р. в 1903) — американская писательница, принадлежавшая к ведущим литературным кругам США; в 30-е гг. жила в Париже.
(обратно)203
Берфорд Уильям — современный американский поэт, сын техасского нефтяного барона. Посещал салон Анаис Нин в Нью-Йорке в 40-е гг. в поисках «интеллектуальной стимуляции мадам де Сталь». Анаис называла его «американским Рембо». Они состояли в дружбе и переписке, но впоследствии разочаровались друг в друге: вместо идейных дискуссий французских салонов Берфорд нашел в салоне Анаис «сплошной психоанализ и чувство».
(обратно)204
Дилан Томас (1914–1953) — английский поэт, беллетрист, эссеист, автор пьесы «Под млечным древом».
(обратно)205
Шег — танцевальный степ, включающий энергичные чередующиеся подскоки на одной ноге.
(обратно)206
Джиттербаг — популярный в 30–40-е гг. танец, характеризующийся быстрым шагом, резкими движениями и включающий элементы акробатики («шпагат», «колесо»).
(обратно)207
Нижинский Вацлав (1889–1950) — русский артист балета, балетмейстер. Ведущий танцовщик и хореограф в «Русских сезонах» и в балетной труппе антрепризы С. П. Дягилева. Возродил искусство мужского танца В кругу Миллера читали и обсуждали его знаменитый дневник, отмеченный Миллером среди книг, оказавших на него особенное влияние.
(обратно)208
«Парфянская стрела» — образное выражение, означающее колкость или меткое замечание, приберегаемое напоследок. Парфяне прибегали к военной хитрости: симулируя бегство, поражали стрелами преследующего их врага.
(обратно)209
Интерлюдия — музыкальная пьеса, исполняемая между актами оперы или драмы; развернутое построение между частями циклического произведения.
(обратно)210
Солнце в индивидуальной астрологии отвечает за тело, жизненные силы, возрождение.
(обратно)211
Лао-цзы (Ли Эр, Старый ребенок) — главный учитель даосизма; согласно преданию, жил в VI в. до н. э. Ему принадлежит главный канон даосизма «Трактат о Пути и Потенции» (Дао дэ цзин). Легенда гласит, что после своего семьдесят второго явления миру Лао-цзы, разуверившись в людях, сел на буйвола, уехал куда-то на Запад и больше не вернулся. Миллеру же армянский прорицатель, которого он встретил в Греции, напророчил, что он совершит три путешествия на Восток и после третьего не вернется, к тому же он не умрет, а просто исчезнет — как Лао-цзы. О том, какое обширное пространство в творчестве Миллера занимает Китай, дао, Лао-цзы, можно судить по его текстам. В жизни друзья, вышучивая его внешнее сходство с Лао-цзы и пристрастие к Китаю, называли его «Лао-цзы Миллер», «Генри-цзы», «Генри-сан». «Генри всерьез воспринимает свою китайскую реинкарнацию. Просит купить ему имбирь, который он хоть и морщится, но ест. Китайская еда, значит, надо приучаться ее любить», — запишет Анаис Нин весной 1939 г.
(обратно)212
В иные моменты жизни Миллер был склонен отождествлять себя с Христом (он родился 26 декабря, на следующий день после Рождества), о чем много говорится в «Тропике Козерога». Он рассматривал свою жизнь как череду «распятий» и «воскресений», в чем был близок к розенкрейцерам («Братству Креста Розы»). Зимой 1939 г. он напишет Лоренсу Дарреллу: «Сегодня мне попалась книжица — тоненькая, по-французски — о розенкрейцерах. Главная ее мысль так совершенна и проста, так точно соответствует моим собственным представлениям о том, каким должен быть жизненный путь, что я удивляюсь, как это я мог ее пропустить. Если вкратце, это учение сердца» (вероятно, это была переведенная на французский язык брошюра Рудольфа Штейнера «Мистерия и миссия Христиана Розенкрейца», содержащая тексты его лекций 1911–1912 гг.). «Все мои Голгофы были распятиями розы…» — говорит Миллер в «Тропике Козерога». Именно в этом смысле и следует понимать название его трилогии «Распятие Розы» — т. е. возрождение через смерть (или аннигиляцию).
(обратно)213
Дадли Джон — американский художник из Кеноши (штат Висконсин), с которым Миллер познакомился в Нью-Йорке в 1940 г. Джону и его жене Флоренс (Фло) он посвятил одну из глав сборника «Аэрокондиционированный кошмар» — «Письмо Лафайету», — где рассказывает о своем визите к ним в Кеношу.
(обратно)214
Кросби Кэресс (Мэри Фелпс Жакоб; 1892–1970) — американская издательница, вдова Гарри Кросби (1889–1929), основавшего в конце 20-х гг. в Париже издательство «Блэк Сан Пресс». Состояла в дружеских отношениях со многими писателями, в числе которых были Джойс, Лоуренс, Харт Крейн и — позднее — Миллер, хотя его «Тропик Рака» поначалу ей не понравился. В 1940 г. Миллер гостил у нее в Нью-Йорке, а затем в ее доме в Боулинг-Грин (штат Виргиния) — в то же время, когда там жили Сальвадор Дали с Галой. В Боулинг-Грин Миллер написал «Колосс Маруссийский» и «Мир Секса». В 1944 г. Кэресс Кросби устроила выставку акварелей Миллера в своей галерее «G» в Вашингтоне. Оставила воспоминания «Страстные годы».
(обратно)215
Андерсон Шервуд (1876–1941) — известный американский писатель; автор романов «Марширующие люди» (1917), «По ту сторону желания» (1932) и др.
(обратно)216
Штиглиц Альфред (1864–1946) — американский фотограф, основавший в Нью-Йорке «Галерею Штиглица». Миллер познакомился с ним в 1940 г. В книге «Аэрокондиционированный кошмар» ему посвящена глава «Штиглиц и Мейрин».
(обратно)217
Свами Прабхавананда — основатель Ведантистского общества в Южной Калифорнии. Вероятно, неточность автора: в письмах Миллера, освещающих его путешествие по Америке, упоминается имя другого религиозного деятеля — Свами Нихилананды, сотрудничавшего с Центром Рамакришны-Вивекананды в Нью-Йорке. Миллер планировал также посетить поэта и религиозного деятеля Джидду Кришнамурти, но, как он писал в посвященной ему главе макроэссе «Книги в моей жизни», эта встреча не состоялась.
(обратно)218
Сушон Марион — американский художник и врач-хирург; жил в Новом Орлеане. Ему посвящена глава «Доктор Сушон. Хирург-художник» в книге «Аэрокондиционированный кошмар».
(обратно)219
Радьяр Дейн (наст. имя Даниэль Шеневьер; р. в 1895 г., Париж) — французский композитор, художник, лектор. Обосновался в США в 1916 г.; получил известность благодаря своим работам по парафизике и астрологии. Жил в Пало-Альто в Калифорнии.
(обратно)220
Найман Гилберт — американский писатель и переводчик, специалист по испанской и французской литературе. Познакомившись в 1941 г. с Миллером в Лос-Анджелесе, Гилберт и Маргарет Найман предложили ему погостить во флигеле их небольшого бунгало на бульваре Беверли-Глен. Найман поощрял интерес Миллера к Рембо, а Миллер помогал ему в работе над романом «В каждой стране свой тиран» (1947). Ученый написал о Миллере докторскую диссертацию «Генри Миллер. Полукритический подход» (1958–1959). Генри посвятил Найманам сборник «Аэрокондиционированный кошмар».
(обратно)221
Ситуэл Осберт, сэр (1892–1969) — известный английский писатель; автор романов «Аргонавт и Джаггернаут» (1920), «Трехголосная фуга» (1924), «Перед артобстрелом» (1926), многочисленных рассказов, а также многотомной автобиографии, написанной барочной прозой и повествующей об аристократической жизни его времени. Вместе с сестрой, писательницей Эдит Ситуэл, и братом, историком искусства и писателем Сэшверелем Ситуэлом, они выпускали альманах «Уилз» («Колеса»).
(обратно)222
Рид Герберт, сэр (1893–1968) — английский поэт, беллетрист, влиятельный литературный критик и искусствовед; дал высокую оценку творчеству Миллера в статье «Что ведущий критик Англии думает о самом выдающемся писателе Америки: Герберт Рид о Генри Миллере» (1945).
(обратно)223
Пауис Джон Каупер (1872–1963) — английский писатель, поэт, эссеист, просветитель.
(обратно)224
Мерлин — волшебник и прорицатель, персонаж кельтского фольклора, впервые введенный в литературу английским писателем XII в. Гальфридом Монмутским и действующий во многих рыцарских романах бретонского цикла.
(обратно)225
«На семи ветрах» («Wuthering Heights») — американская экранизация одноименного романа Эмили Бронте (1818–1848). В русском переводе роман выходил под названиями «Грозовой перевал» и «Холмы бурных ветров».
(обратно)226
«МГМ» — сокращенное название известной американской киностудии «Метро-Голдуин-Майер» в Калвер-Сити (Лос-Анджелес).
(обратно)227
Элементали — в средневековой демонологии: класс низших мифических существ (духов элементов), это гномы, ундины, сильфиды, саламандры, соответствующие стихиям (элементам) земли, воды, воздуха и огня. В магической астрологии элементали — это защищающие духи, соответствующие доминирующему элементу в гороскопе: земле, воде, воздуху, огню.
(обратно)228
Кислингизм — по имени главы норвежского коллаборационистского правительства времен нацистской оккупации Видкуна Кислинга (1887–1945).
(обратно)229
Имеется в виду Эва Миллер (урожденная Маклюэр; 1924–1965) — четвертая жена Миллера; актриса и художник. С будущим мужем она познакомилась через свою сестру, жену друга Миллера художника Безелила Шаца и приехала в Биг-Сур ухаживать за детьми Генри. Они развелись в конце 50-х гг., когда Эва узнала, что во время очередной поездки Миллера в Европу он возобновил роман с одной из своих прежних возлюбленных.
(обратно)230
Ла-Сьота́ — населенный пункт во Франции на побережье Средиземного моря к востоку от Марселя.
(обратно)231
Дельтей Жозеф (1894–1978) — французский писатель, биограф Жанны д’Арк и Франциска Ассизского.
(обратно)232
Лурд — город на юго-западе Франции в департаменте Верхние Пиренеи, известный целебными источниками, лечебницами, гротами; центр паломничества католиков, чтущих Деву Марию Лурдскую.
(обратно)233
«Волшебная гора» — роман немецкого писателя Томаса Манна (1875–1955).
(обратно)234
Маршалл Джордж Кэтлетт (1880–1959) — американский политический деятель и дипломат; гос. секретарь (1947–1949); лауреат Нобелевской премии (1953); автор так называемого «Плана Маршалла», нацеленного на помощь европейским странам в восстановлении разрухи после Второй мировой войны.
(обратно)235
Скатология (от греч. скатос — «экскременты животных») — в палеонтологии: изучение помета животных, а также варварских ритуалов, использующих экскременты или грязь. В общем смысле скатологический — неприличный, непристойный.
(обратно)236
Розенфельд Пауль (Пол; 1890–1946) — американский критик, родившийся в Германии. Опубликовал множество книг и эссе о музыке, живописи, литературе, скульптуре, танце. Был большим поклонником творчества Генри Миллера и Анаис Нин.
(обратно)237
Хаксли Олдос Леонард (1894–1963) — английский писатель, поэт, эссеист; автор романов «Шутовской хоровод» (1923), «Контрапункт» (1928), антиутопий «Прекрасный новый мир» (1932) и «Остров» (1962), а также двух работ об ЛСД — «Двери восприятия» (1954), «Небо и ад» (1956). С 1937 г. жил в Голливуде.
(обратно)238
Уилсон Эдмунд (1895–1972) — влиятельный американский литературный критик, опубликовавший в «Нью рипаблик» рецензию на «Тропик Рака» (9 марта 1938). Рецензия была скорее положительная, нежели отрицательная, однако, по мнению Миллера, Уилсон не понял заключительную сцену книги, и автор «Тропика» написал открытое письмо редактору, содержавшее заявление: «Я прекрасно обхожусь без „героев“ и, к вашему сведению, никогда не пишу романов. Я сам себе герой и сам себе книга».
(обратно)239
Еврипид (ок. 480–407 или 406 до н. э.) — древнегреческий поэт, трагедиограф.
(обратно)240
Аристофан (ок. 445 — ок. 385 до н. э.) — древнегреческий поэт, комедиограф.
(обратно)241
Штекель Вильгельм (1868–1940) — австрийский психолог, специалист в области психоанализа; автор книги «Поэзия и невроз» (1909) и ряда статей.
(обратно)242
Эллис Хевлок (1859–1939) и Кинзи Альфред Чарльз (1894–1956) — основоположники современной сексологии и сексопатологии.
(обратно)243
«Книги в моей жизни». — В этом макроэссе в главе «Влияния» Миллер выстроил «генеалогическое древо» своего творчества: «Боккаччо, Петроний, Рабле, Уитмен, Эмерсон, Торо, Метерлинк, Ромен Роллан, Плотин, Гераклит, Ницше, Достоевский (и другие русские писатели XIX в.), древнегреческие драматурги, драматурги елизаветинской эпохи (исключая Шекспира), Теодор Драйзер, Кнут Гамсун, Д. Г. Лоуренс, Джеймс Джойс, Томас Манн, Эли Фор, Освальд Шпенглер, Марсель Пруст, Ван Гог, дадаисты и сюрреалисты, Бальзак, Льюис Кэрролл, Нижинский, Рембо, Блэз Сандрар, Жан Жионо, Селин, всё, что читал по буддизму, всё, что читал о Китае, Индии, Тибете, об арабах, об Африке, и, разумеется, Библия». Далее Миллер также заявляет, что, по его мнению, единственными настоящими революционерами являются «такие фигуры, как Христос, Лао-цзы, Гаутама Будда, Эхнатон, Рамакришна, Кришнамурти».
(обратно)244
Чоп-сьюи — китайское рагу из цыпленка или свинины с грибами, бобами, луком, побегами молодого бамбука и проч.
(обратно)245
Сукияки — блюдо японской кухни, приготавливаемое из говядины, свинины или цыпленка нередко на специальном обеденном столе с металлической жаровней. К мясу добавляются дары моря, побеги бамбука и проч.
(обратно)246
Гинкго — декоративное дерево с листьями в виде веера и съедобными плодами. Произрастает в Китае.
(обратно)247
Харлей-стрит — улица в Лондоне, известная медицинскими учреждениями, в которых консультируют лучшие лондонские врачи и хирурги.
(обратно)248
Перле имеет в виду собственно Голливуд, который, до присоединения в 1910 г. к Лос-Анджелесу, был самостоятельным городом. Центр, сердце Голливуда, находится на пересечении бульвара Голливуд и улицы Вайн.
(обратно) (обратно)


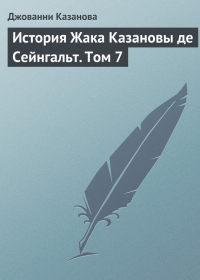
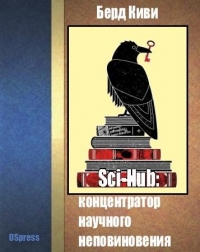
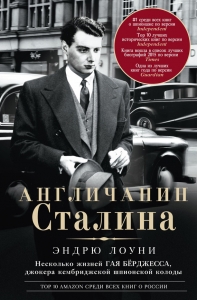




Комментарии к книге «Мой друг Генри Миллер», Альфред Перле
Всего 0 комментариев