Иван Иванов ОПЕРАЦИЯ «АДМИРАЛЪ». Оборотни в эполетах
Часть 1. НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ «АДМИРАЛ»
Из досье на Колчака Александра Васильевича,
1874 г. р., русского, православного вероисповедания,
из дворян
«Отец: Василий Иванович Колчак — помещик Херсонской губернии. Вырос в г. Одессе, где закончил гимназию Ришелье. Прошел курс в Институте корпуса горных инженеров, где изучал металлургию. Военную службу прошел в морской артиллерии, позже на Обуховском заводе служил приемщиком Морского ведомства. Ушел в отставку в чине генерал-майора. Умер в 1913 г.
Особые отметки. В Восточной войне[1] сражался под Севастополем. Был в плену. Но при этом являлся франкофилом; к России и русским относился с известной долей иронии и скептицизма.
Мать: Ольга Ильинична (урожденная Посохова) — родом из херсонских дворян. Умерла в 1894 г.
Особые отметки. Нет.
Сведения о фигуранте. Колчак А.В. родился 4 ноября 1874 г. В 1888–1894 гг. учился в Морском кадетском корпусе в г. Санкт-Петербурге. Был произведен в мичманы.
В 1895–1899 гг. на крейсерах «Рюрик» и «Крейсер» Колчак А.В. побывал в заграничных плаваниях. Изучил три европейских языка: английский, немецкий, французский. (Охотно шел на контакты с офицерами флота Ее
Величества. В беседах допускал критические замечания в адрес Российской империи, впрочем, неизменно подчеркивал, что сфера его интересов лежит вне политики).
В 1900 г. произведен в лейтенанты. В 1900–1902 гг. на русской шхуне «Заря» («Aurora»?) прошел путь по арктическим морям. Исполнял должности гидролога и второго магнитолога.
В Сибири женился. Жена — Софья Федоровна Оми-рова. Венчание состоялось 5 марта 1904 г. в городе Иркутске.
За участие в полярных экспедициях Колчак А.В. получил русский орден Святого Владимира 4-й степени.
Принял участие в войне России с Японией в 1904–1905 гг. В русской крепости Порт-Артур Колчак А.В. служил вахтенным начальником на крейсере «Аскольд», артиллерийским офицером на минном заградителе «Амур», командиром эскадренного миноносца «Сердитый».
После болезни перешел на береговую службу: командовал одной из береговых батарей. Награжден русским орденом Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость».
После занятия крепости Порт-Артур японцами Колчак А.В. попал к ним в плен. Был перевезен в Японию, отпущен из плена, переехал в Северо-Американские Соединенные Штаты. Пробыв там около месяца, выехал в Санкт-Петербург. (Точных сведениях о характере пребывания Колчака А.В. в САСШ нет.)
По прибытии в Россию Колчак А.В. был пожалован по высочайшему рескрипту императора Николая Второго золотой саблей с надписью «За храбрость» и орденом Святого Станислава II степени с мечами.
От дальнейшей военной службы Колчак А.В. был уволен по состоянию здоровья, однако в январе 1906 г. стал председателем офицерского Санкт-Петербургского Морского кружка. Вместе с другими его членами разработал записку о создании русского Морского Генерального штаба как органа, ведающего специальной подготовкой флота к войне. В Морском Генеральном штабе с апреля 1906 г. Колчак А.В. был назначен заведовать Отделением русской статистики. В 1908 г. произведен в капитаны 2-го ранга.
В 1912 г. Колчак А.В. был назначен начальником Первого оперативного отдела русского Морского Генерального штаба, в ведении которого находилась вся подготовка флота к возможной войне. В декабре 1913 г. Колчак А.В. произведен в капитаны 1-го ранга; после начала войны с Германией и ее союзниками — флаг-капитан по оперативной части.
Закрыл минными полями Финский залив Балтийского моря, тем самым преградив путь возможного нападения германских военных кораблей на русскую столицу.
В настоящее время Колчак А.В. вступил в командование Минной дивизией; есть сведения, что ему будут переданы все морские силы в Рижском заливе Балтийского моря.
Особые отметки. В 1909 (или 1910 г) Колчак А.В. вступил в масонскую организацию «Военная ложа», созданную при масонской организации «Полярная звезда».
Сведения на вышеупомянутые масонские организации. В 1887 г. русские политические эмигранты Яблочков (Yablochkoff) и М. Ковалевский открыли в Париже масонскую ложу «Космос», которая стала популярной среди русских оппозиционеров либерального толка. Позже, примерно в 1906 г., Ковалевскому удалось основать в Санкт-Петербурге масонскую ложу «Полярная звезда». В последующие три-четыре года в нее вошла основная часть руководства русской либеральной политической партии («партии конституционных демократов»): М. Ковалевский, С. Котляревский, Е. Кедрин, В. Маклаков, В. Немирович-Данченко, С. Урусов, М. Маргулиес и др.
В Москве была открыта ложа «Возрождение», подчинявшаяся «Полярной звезде». К концу 1909 г. масонские ложи, подчинявшиеся «Полярной звезде», были созданы в ряде других крупных городов России.
В том же, 1909 г., при «Полярной звезде» была создана масонская «Военная ложа», в которую, по нашим сведениям, вошли несколько десятков русских генералов, полковников и перспективных офицеров младших чинов.
Среди них можно назвать следующих лиц: генерала Алексеева, генерала Крымова, генерала Рузского, генерала Вырубова, полковников Головина и Половцева.
Как уже отмечено выше, в 1909 (или 1910 г.) в «Военную ложу» вступил наш фигурант, Колчак А.В. Вступление в эту организацию помогло ему, по некоторым данным, заручиться поддержкой высших офицеров, также входящих в «Военную ложу», и способствовало продвижению Колчака А.В. по служебной лестнице. В то же время, следует полагать, что разглашение факта членства в масонской «Военной ложе» не желательно для нашего фигуранта, так как бросает тень на его патриотическое реноме.
Особые отметки. Характер Колчака А.В. отмечен, по нашим наблюдениям, повышенным честолюбием, некоторым позерством и определенной нервозностью. Несмотря на участие нашего фигуранта в опасных экспедициях и в военных действиях, его нельзя, по-видимому, считать сильной волевой личностью, не поддающейся влиянию… Специально отмечаем его пристрастие к кокаину, а также склонность к романтическим приключениям…»
Резолюция: Рекомендовать полковнику Сэмюэлю Хору[2]по прибытии в Россию обратить особое внимание на капитана первого ранга Колчака. Отметить важность привлечения его на нашу сторону (русские минные поля в Балтийском море, секретные планы и т. д.)…
Историческая справка. 10 апреля 1916 г. Колчаку присваивается чин контр-адмирала, а вскоре за этим он получает чин вице-адмирала. 26 июня 1916 г. Колчак назначается командующим Черноморским флотом.
А в 1918 г. флоты Антанты спокойно вошли в русский сектор акватории Балтийского моря, который был заминирован, и в сумятице двух революций 1917 г. минные заграждения никто не снимал. Историк А. Мартиросян в связи с этим утверждает: «Проходным билетом при поступлении на службу британской разведки для Колчака явилась сдача всей информации о расположении минных полей и заграждений в русском секторе акватории Балтийского моря! Ведь именно он и осуществлял это минирование, и у него на руках были все карты минных полей и заграждений!»
Часть 2. НЕОЖИДАННОЕ РАЗВИТИЕ
Из аналитической справки по деятельности в 1917 г. Колчака А.В., вице-адмирала, командующего Черноморским флотом России
«…С февраля 1917 г. обстановка в России изменилась в лучшую сторону. В правительстве теперь много людей, на которых мы можем рассчитывать… Почти все министры входят в различные масонские ложи, что позволяет использовать, в том числе, и эти каналы в интересах Великобритании.
Необходимо иметь в виду при этом, что русское Временное правительство провело очень большую «чистку» в армии — отставлены сотни генералов, занимавших при царе высшие строевые и административные посты. Многие генералы уходят из армии сами, не признавая проводимых правительством реформ.
В этих условиях возросло значение тех военных, которые остаются на службе или назначаются на освободившиеся должности. Сэр Бьюкенен[3] держит все в своих руках, без консультаций с ним ныне невозможно ни одно серьезное назначение в России…
Колчак А.В., в дальнейшем именуемый «А» (Адмирал), после Февральских событий стал заметной фигурой на политическом небосклоне России. Нами было сделано все, чтобы способствовать этому. Отбросив политическую индифферентность, «А» поддержал русскую революцию, пошел на контакты со второй властью в России (Sovieti)f подписывал воззвания, петиции и распоряжения радикального характера.
Меморандум. Почтительно напоминаем, что первоначально целью нашей операции было продвижение «А» по служебной лестнице, насколько это возможно. Полковник Хор успешно справился с этой задачей. Вместе с сэром Бьюкененом он в прошлом году (1916) добился у царя смещения командующего русским Черноморским флотом адмирала Эбергарда под предлогом того, что Эбергард не смог парализовать «дерзкие действия немецких кораблей». Большую помощь сэру Бьюкенену и полковнику Хору оказали в этой миссии наши русские друзья из известных Вам кругов.
Но теперь мы можем поставить перед собой более масштабные задачи. Шаткость положения России, хаос ее внутреннего состояния, наличие большего числа обязанных нам людей в ее высших политических сферах — делают для нас абсолютно реальной надежду получить самый широкий доступ к ее почти неограниченным ресурсам. Перспективы настолько заманчивы, что для Великобритании было бы недопустимым упустить свой шанс.
В связи с этим есть прямой смысл начать подготовку «А» как возможного претендента на верховную власть в России. По нашему мнению, первый кандидат (Kerensky, «Юрист») недостаточно подходит к этой роли. Имея те же отрицательные черты, что и «А» (болезненное честолюбие, позерство, нервозность, недостаток воли), «Юрист» не располагает таким послужным списком, который есть у «А». Последний в глазах русской общественности остается героем России, доблестным воином, патриотом, бесстрашным исследователем и т. д. Все это, безусловно, говорит в пользу кандидатуры «А» для достижения наших целей.
Дальнейшие действия. В июне сего года (1917) решением Soviet в Севастополе «А» отстранен от должности командующего Черноморским флотом России. Этот шаг, инспирированный нашими агентами, позволил «А» достойно покинуть свой пост в то время, когда дальнейшая служба «А» была бы сопряжена со значительными трудностями из-за все ухудшающегося положения России в целом и ее военно-морских сил, в частности. Уход «А» сопровождался эффектным жестом — наш фигурант выбросил в море свою золотую саблю, пожалованную ему царем за храбрость. Так как это оружие было выброшено на мелководье, русские офицеры сумели достать саблю со дна и вернули ее «А», что символизировало их доверие ему и готовность вновь, добровольно, встать под его знамена.
Покинув Севастополь, «А» отправился в Санкт-Петербург (Petrograd), где он может рассчитывать получить чин «полного» адмирала и назначение командующим русским Балтийским флотом. По нашему мнению, получение чина необходимо, а от второго предложения «А» следует отказаться в силу тех же причин, по которым стало нежелательным его пребывание на посту командующего Черноморским флотом.
Возможно, «А» следует на некоторое время вообще покинуть Россию и вернуться чуть позже, в благоприятный момент. Позвольте доложить, что подобного мнения придерживаются и американцы, которые с некоторого времени начали проявлять повышенный интерес к «А». Следует обратить на это особое внимание: «А» растет в цене, и нам надо не продешевить. В конце концов, это наш «товар», и мы вправе назначать цену…»
Резолюция. Обеспечить отъезд Адмирала из России под благовидным предлогом. С янки начать консультации об «А» немедленно. Какая наглость с их стороны — переманивать нашего агента!..
Историческая справка. Назначение Колчака, который тут же был произведен в «полные» адмиралы, на Балтику в силу разных обстоятельств отложили, и Временное правительство отправляет его с некой до сих пор не вполне ясной миссией в США (официально речь шла всего-навсего об «обмене опытом» в минном деле, но, по меньшей мере, странно, что подобная роль предоставляется одному из ведущих адмиралов…).
Это мнение В. Кожинова. Но другой исследователь, А. Мартиросян, высказывается на сей счет более резко и определенно.
«Звание адмирала Колчак получил из рук Временного правительства, коему присягнул на верность. И которое тоже предал! Хотя бы тем, что, тайно сбежав в Англию, он уже в августе 1917 г. совместно с начальником Морского генерального штаба Великобритании генералом Холлом обсуждал вопрос о необходимости установления в России диктатуры! Проще говоря, вопрос о свержении Временного правительства! Если еще проще — то вопрос о государственном перевороте. Иначе, миль пардон, как можно было установить диктатуру?! Присягнуть на верность и без того подлому, свергнувшему царя Временному правительству, получить от него повышение в звании и тут же предать и его тоже?! Это уже генетическая патология! Чуть ниже объясню, в чем тут дело.
Затем по просьбе американского посла в Англии Колчак был направлен в США, где был завербован еще и дипломатической разведкой Госдепартамента США. Вербовку осуществлял бывший госсекретарь Элиаху Рут. То есть, попутно предал теперь и англичан тоже. Хотя бритты, конечно же, знали об этой вербовке.
То, что он временно предал англичан, — так и черт с ним, и с ними. Дело в другом. Пойдя на вербовку к американцам, он второй раз за короткое время предал все то же Временное правительство, которому тоже присягал и благодаря которому он стал адмиралом. А в целом список его предательств только удлинился.
Став в итоге двойным англо-американским агентом, Колчак сразу после октябрьского переворота 1917 года обратился к английскому посланнику в Японии К.Грину с просьбой к правительству его величества короля Англии Георга V принять его на официальную службу! Так ведь и написал в своем прошении: «…Я всецело предоставляю себя в распоряжение Его правительства…». «Его правительства» — означает правительство Его величества английского короля Георга V! 30 декабря 1917 года британское правительство официально удовлетворило просьбу Колчака. С указанного момента Колчак уже официально перешел на сторону врага, рядившегося в тогу союзника.
Почему врага?! Да потому, что в это время только самый ленивый из агентов Англии, США и в целом Антанты мог не знать, что, во-первых, еще 15 (28) ноября 1917 г. Верховный Совет Антанты принял официальное решение об интервенции в Россию. Во-вторых, уже 10 (23) декабря 1917 г. главари европейского ядра Антанты — Англия и Франция — подписали конвенцию о разделе России на сферы влияния! А почти год спустя, когда в ноябре 1918 г. на свалку Истории была отправлена Германская империя (и Австро-Венгерская тоже), а Колчака наконец-то забросили обратно в Россию, под патронажем США англо-французские союзнички 13 ноября 1918 г. подтвердили ту самую конвенцию или, выражаясь сугубо юридическим языком, пролонгировали ее действие. А знавший все это и уже являвшийся двойным англо-американским агентом Колчак именно после подтверждения этой конвенции под патронажем тех же государств согласился стать якобы Верховным правителем.
Потому и говорю, что это был предатель, официально состоявший на службе у врага! Если бы он просто сотрудничал (предположим, в рамках военно-технических поставок) с бывшими союзничками по Антанте, как это делали многие белогвардейские генералы, то это было бы одно. Даже невзирая на то, что и они брали на себя не слишком уж и благостные обязательства, затрагивавшие честь и достоинство России. Однако они хотя бы де-факто действовали как нечто самостоятельное, формально не переходя на службу иностранному государству.
Но Колчак-то официально перешел на службу Великобритании; он был официальным представителем английского короля и его правительства, находившимся у них на службе! Британский генерал Нокс, который курировал Колчака в Сибири, в свое время открыто признал, что англичане несут прямую ответственность за создание правительства Колчака! Все это ныне хорошо известно, в том числе и по зарубежным источникам.
А попутно Колчак выполнял еще и не менее важное задание американцев. Не зря же Э.Рут его «тренировал» на роль будущего Кромвеля России. И знаете почему?! Да потому что не в меру «сердобольный» Э.Рут разработал имевший благопристойное название варварский план закабаления России — «План американской деятельности по сохранению и укреплению морального состояния армии и гражданского населения России», суть которого была проста, как и почитаемый янки поп-корн.
Россия и впредь должна была «поставлять» Антанте «пушечное мясо», то есть воевать за чуждые самой России интересы англосаксов, расплачиваясь при этом своим политическим и экономическим закабалением, «первую скрипку» в котором должны были играть США.
Подчеркиваю, что центральное место в этом плане занимало именно экономическое закабаление России, в первую очередь захват ее железных дорог, особенно Транссибирской магистрали. Чертовы янки сформировали даже специальный «железнодорожный корпус» для управления российскими железными дорогами, особенно Транссибом (кстати, англичане в это время нацелились на русские железные дороги на нашем Севере, в районе Архангельска и Мурманска). А параллельно янки нацелились и на природные богатства России…
В документах британской разведки, Государственного департамента США, в личной переписке «серого кардинала» американской политики времен Первой мировой войны — полковника Хауза — А.В. Колчак прямо назван их двойным агентом (эти документы известны историкам). И именно как их двойной агент он должен был реализовать самые преступные по отношению к России планы Запада. А «звездный час» этого предателя настал в 1919 году. Однако тропу для его будущих преступлений против России Запад стал торить еще в ноябре 1918 года, в момент окончания Первой мировой войны.
Как известно, 11 ноября 1918 г. в пригороде Парижа — Компьене — было подписано Компьенское соглашение, положившее конец Первой мировой войне. Когда о нем вспоминают, то, как правило, весьма «элегантно» забывают упомянуть, что это было всего лишь соглашение о перемирии сроком на 36 дней. К тому же оно было подписано без участия России, вынесшей в статусе царской империи основную тяжесть войны…
Главное же в том, что в статье 12 Компьенского соглашения о перемирии говорилось: «Все германские войска, которые ныне находятся на территориях, составлявших до войны Россию, должны равным образом вернуться в Германию, как только союзники признают, что для этого настал момент, приняв во внимание внутреннее положение этих территорий». Однако секретный подпункт этой же статьи 12 уже прямо обязывал Германию держать свои войска в Прибалтике для борьбы с Советской Россией до прибытия войск и флотов (в Балтийское море) стран — членов Антанты.
Подобные действия Антанты были откровенно анти-российскими, ибо никто не имел ни малейшего права решать судьбу оккупированных российских территорий без участия России, подчеркиваю, хотя бы и Советской. Но то еще «цветочки».
Дело в том, что терминологический «перл» — «… на территориях, составлявших до войны Россию» — означал, что Антанта де-факто и де-юре не только соглашается с итогами германской оккупации территорий, законность вхождения которых в состав России до 1 августа 1914 г. и даже на протяжении всей Первой мировой войны никому и в голову-то не приходило оспаривать, во всяком случае открыто, но и аналогичным же образом, то есть и де-факто, и де-юре пытается отторгнуть, или, как тогда «изящно» выражались англо-французские союзнички, «эвакуировать» эти территории уже постфактум германской оккупации. Проще говоря, как бы в порядке «законного трофея», добытого у поверженного врага — Германии.
И вот в этой связи хочу привлечь внимание к следующему обстоятельству. Как указывалось выше, еще 15 (28) ноября 1917 г. Верховный Совет Антанты принял официальное решение об интервенции в Россию. Неофициально это решение было согласовано еще в декабре 1916 г. — ждали только, когда превозносимые ныне «временщики-фев-ральщики» всадят свой «революционный топор» в спину вернейшему союзнику Антанты — Николаю II. А в развитие этого решения 10 (23) декабря 1917 г. была подписана англо-французская конвенция о разделе территории России. Для сведения читателей: официально эта подлая конвенция не аннулирована до сих пор!
Согласно этой конвенции союзнички изволили поделить Россию следующим образом: Север России и Прибалтика попадали в зону английского влияния (на этом, конечно, аппетиты бриттов не исчерпывались, но это от-дельный разговор). Франции доставалась Украина и Юг России. 13 ноября 1918 г. те же англо-французские союзнички под патронажем США нагло пролонгировали срок действия этой конвенции. Проще говоря, вторично объявили России, хотя бы и Советской, действительно войну, и действительно мировую, и действительно вторую по счету в сценарии «с колес» Первой мировой! По факту это действительно было повторное объявление первой по счету в XX веке «Второй мировой войны» в сценарии «с колес» Первой мировой бойни.
Что же до второго «перла» из статьи 12 Компьенского соглашения — «приняв во внимание внутреннее положение этих территорий», — то здесь еще один международно-правовой «фокус» Антанты. Не рискуя называть эти территории государствами — вопрос о признании их липового суверенитета будет поднят только 15 февраля 1919 г. во время Версальской так называемой «мирной» конференции — Антанта, тем не менее, изготовилась своровать их.
Особенно в части, касающейся Прибалтики, хотя прекрасно знала, что это будет полностью незаконно! Потому как таким образом негласно и без какого-либо участия России будет нагло разорван Ништадский договор от 30 августа 1721 г. между Россией и Швецией! По этому договору территории Ингерманландии, части Карелии, всей Эстляндии и Лифляндии с городами Рига, Ревель (Таллин), Дерпт, Нарва, Выборг, Кексгольм, острова Эзель и Даго переходили России и ее преемницам в полное, неотрицаемое и вечное владение и собственность! К моменту подписания Компьенского перемирия без малого два века никто в мире даже и не пытался оспаривать, тем более что и сам Ништадский договор был письменно подтвержден и гарантирован теми же Англией и Францией.
Но открыто воровать Антанта побаивалась. Прежде всего потому, что в период фактической германской оккупации, а также после подписания Брест-Литовского договора германскими оккупационными властями к прибалтийским территориям насильственно были «прирезаны» огромные куски чисто русских территорий. К Эстонии — части Петербургской и Псковской губерний, в частности, Нарва, Печора и Изборск, к Латвии — Двинский, Людин-ский и Режицкий уезды Витебской губернии и часть Островского уезда Псковской губернии, к Литве — части Су-валкской и Виленской губерний, населенных белорусами (не шибко, очевидно, способные что-либо понимать, но с потрохами продавшиеся Западу власти современных прибалтийских лимитрофов ныне все время пытаются, говоря сугубо народным языком, пошире «раззявить варежку» на эти земли).
Антанта опасалась еще и потому, что прежде надо было сменить сформированные германскими оккупационными властями властные структуры чисто прогерманской ориентации (германская разведка широко насаждала там свою агентуру влияния) на органы власти с проан-тантовской ориентацией. Но это всего лишь одна сторона медали. Вторая же заключалась в следующем.
Под прямым нажимом выставившей это жестким предварительным условием перемирия Антанты еще кайзеровское правительство Германии 5 ноября 1918 г. в одностороннем порядке разорвало дипломатические отношения с Советской Россией. Разрыв дипломатических отношений означал, что даже по нормам тогдашнего разбойного международного права все ранее подписанные и ратифицированные договора между двумя государствами автоматически потеряли свою юридическую силу. Тем более что 9 ноября 1918 г. канула в Лету и кайзеровская империя: монархия — пала, кайзер — подался в бега (укрылся в Голландии), а к власти в Германии пришли социал-демократы во главе с Эбертом-Шейдеманом.
В момент подписания 11 ноября 1918 г. Компьенско-го перемирия социал-демократическая, используем парламентское правило и поставим отточие, дабы не выражаться нецензурно… во главе с Эбертом-Шейдеманом учудила сверхуникальный, сверхбеспрецедентный даже для разбойной истории Запада и такой же его юриспруденции фокус. Автоматически лишенный какой бы то ни было юридической силы и без того разбойничий Брест-Литовский договор от 3 марта 1918 г., всего через шесть дней после его, подчеркиваю, автоматической денонсации германской же стороной, вдруг воскрешается пришедшими к власти в Германии социал-демократами. Хуже того. Вместе с функцией контроля за его исполнением, как якобы продолжающим действовать, договор добровольно был передан Антанте в качестве «трофея»?! Естественно, со всеми вытекающими отсюда крайне негативными для России, хотя бы и Советской, геополитическими, стратегическими и экономическими последствиями! Ведь речь же шла о воровстве Миллиона Квадратных Километров Стратегически Важных Территорий Российского Государства вместе с их природными, экономическими и демографическими ресурсами! Ресурсами, которые и по тогдашним масштабам измерялись не одним десятком миллиардов золотых рублей!
Попытавшийся было вооруженным путем отбить Прибалтику Ленин, как ни относись к нему лично, был абсолютно прав де-факто. И, что особенно важно в этой связи, де-юре тоже. Потому как официальные дипломатические отношения в одностороннем порядке были разорваны еще кайзеровской Германией, которая вскоре рухнула, а Брест-Литовский договор автоматически лишился какой бы то ни было силы.
Следовательно, оставшаяся под германской оккупацией Прибалтика и де-факто, и де-юре превратилась в незаконно отторгнутую и оккупируемую войсками почившего в бозе государства территорию России, которую откровенно ворует еще и Антанта! Да еще и вторично объявляя России, хотя бы и Советской, очередную войну!»
* * *
Историческая справκα. Для лица с неопределенным статусом Колчака принимали в США по первому разряду — были встречи в Государственном департаменте, была встреча и с самим президентом Вильсоном.
Симпатичного адмирала отдали в руки госсекретаря Э. Рута, который стал его готовить в «верховные правители России». До сознания Колчака довели, что главной задачей на этом посту должно стать удовлетворение американских и британских экономических интересов за счет русских земель.
И затем адмирала выводят «в резерв», вводя его в игру осенью 1918 г., после того как Америка смогла переориентировать свое внимание с побежденной Германии на Россию….
Часть 3. ВЕРШИНА УСПЕХА
Из сводного отчета о политике
Верховного правителя России в 1918–1919 гг.
«В октябре прошлого, 1918 г. адмирал Колчак А.В., в дальнейшем именуемый «А» (Адмирал), прибыл в сибирский город Омск в сопровождении генерала Альфреда Нокса, у которого «А» как служащий армии его величества находится в подчинении. Первоочередной задачей, которую генерал Нокс поставил перед «А», было взять всю полноту власти в свои руки.
Почтительно напоминаем, что почти всю вторую половину прошлого года власть на восточных территориях России осуществляла так называемая «Уфимская директория», лидером которой был социалист-революционер Н. Авксентьев (по нашим сведениям, магистр одной из масонских лож). Почти все члены его правительства также были масонами (из 13 человек — 11).
Это позволяло надеяться на хорошую управляемость «Директории» в соответствии с нашими целями. Однако, как мы уже докладывали ранее, Н. Авксентьев возомнил себя новым Наполеоном на русский манер, и с ним стало крайне сложно работать. В связи с этим другие наши друзья из так называемого «Сибирского кадетского (kadeti — конституционные демократы) правительства», а именно полковник Лебедев, генерал Андогский и полковник Волков помогли «А» осуществить вышеупомянутый приказ генерала Нокса.
Так как с позапрошлого, 1917 г. «А» действует не только в наших интересах, но и в интересах Северо-Американских Соединенных Штатов, то переворот был проведен при активной поддержке американского генерала У. Гревса и американского адмирала О. Найта, специально прибывших в Омск.
В ночь на 18 ноября 1918 г. в Омске были арестованы члены «Уфимской директории», а утром «А» был назначен верховным главнокомандующим всеми антибольшевистскими вооруженными силами в России. Вскоре все другие подконтрольные нам русские правительства и атаманы казачьих войск признали «А» Верховным правителем России.
В январе 1919 г. было подписано соглашение о вступлении представителя Высшего межсоюзного командования генерала Жанена {хорошо известного нам француза, охотно выполняющего некоторые наши просьбы и просьбы американцев) — в исполнение обязанностей главнокомандующего войсками союзных государств на Востоке России и в Западной Сибири. «А» как главнокомандующий русскими армиями обязан все оперативные действия согласовывать с Жаненом. Одновременно генерал Нокс был назначен руководителем тыла и снабжения армий «А».
К весне 1919 г. «А» создал армию численностью до 400 тыс. человек (в том числе около 30 тыс. офицеров), выставив на фронт 130–140 тыс. штыков и сабель. Правительство САСШ предоставило «А» 600 тыс. винтовок; мы дали 200 тыс. комплектов обмундирования, Франция — 30 самолетов и свыше 200 автомашин.
За полученную помощь «А» расплатился золотом из золотого запаса России, захваченного летом 1918 г. командованием Чехословацкого корпуса в городе Казани (на реке Волга). На сей день за поставки вооружения и других материалов правительству его величества уже передано 46,126 тонн золота (2883 пуда), САСШ — 33,888 тонн золота (2118 пудов). Кроме того, «А» признал все иностранные долги России (свыше 12 млрд, рублей), выплата долгов начнется в ближайшее время.
Совет Верховного правителя (Вологодский, Пепеляев, Михайлов, Сукин, Лебедев) (четверо из пяти — члены различных масонских лож) полностью поддерживает его политику. Большим нашим достижением стало принятие «А» следующих требований:
1. Отделение от России Польши и Финляндии. (Собственно, фактически они уже независимы — в частности, Финляндия получила свою независимость от Ленина, — но важно обставить дело таким образом, чтобы эти страны получили независимость от нас).
2. Передачу вопроса об отделении Латвии, Эстонии и Литвы (а также Кавказа и Закаспийской области) от России на рассмотрение арбитража Лиги Наций в случае, если между «А» и правительствами этих территорий не будут достигнуты соглашения.
3. Признание за Версальской конференцией права решать судьбу также и Бессарабии.
«А» согласился на все эти требования и дал официальный письменный ответ, который мы сочли удовлетворительным…
Вместе с тем, указывая на наши достижения в отношениях с «А», мы не можем не обратить Вашего внимания на определенные недостатки.
Во-первых, американцы более активно, чем мы, начали освоение богатств Сибири и Урала. Американцы уже контролируют транссибирскую железную дорогу на всем протяжении от Владивостока до Омска, а ныне разрабатывается проект передачи железнодорожных путей к востоку от Екатеринбурга и Челябинска частной компании Стивенсона. С русских заводов в Сибири и на Урале полным ходом вывозится ценное оборудование: по нашим данным, за первую половину 1919 г. вывезено уже более 600 эшелонов. На Дальнем Востоке подобным же образом ведут свои дела японцы. Что касается нас, то мы сейчас явно отстаем от американцев и японцев в деловой предприимчивости в указанных районах.
Во-вторых, в последнее время растет сопротивление местного населения политике, проводимой «А». Здесь, наряду с жесткими мерами (которые применяются достаточно широко), необходима гибкость. Хорошим примером могла бы послужить наша колониальная политика, имеющая многовековую традицию. Здесь «А» могли бы оказать существенную помощь наши специалисты по работе с колониальными народами. Просим Вас подобрать несколько кандидатур и направить их в Омск в самое ближайшее время…»
Резолюция. В случае распространения власти «А» на всю территорию России, эта страна будет разделена на ряд бантустанов, вождям которых мы, конечно, окажем всю необходимую помощь, в т. ч. пришлем и советников. Пока об этом говорить рано.
* * *
Историческая справка. Кто усаживал Колчака на трон? Военный министр Великобритании У.Черчилль после переворота в Омске откровенно заявил в парламенте: «Британское правительство призвало его (Колчака) к бытию при нашей помощи, когда необходимость потребовала этого».
То же подтвердил и главком войск интервентов в Сибири французский ген. М. Жанен. Он и его заместитель по тылу английский ген. А. Нокс после окончания Гражданской войны грубо поссорились, обвиняя один другого в провале интервенции. Ген. Жанен заявил: «Позволю себе сказать ген. Ноксу, что у него, наверное, очень короткая память, если он не помнит, что он был замешан в интригах, которые закончились переворотом Колчака… Добавлю, что ген. Нокс, несомненно, был в курсе заговора, замышлявшегося Колчаком, хотя бы через своего офицера связи Стевени, который присутствовал даже на тайном собрании заговорщиков, где было принято решение привести заговор в исполнение. Стевени не делал из этого тайны, и когда позднее, во время отступления, я спрашивал его в числе многих других союзников и русских, не испытывает ли он некоторого сожаления о содействии возвышению Колчака, которому мы обязаны таким разгромом, он ограничился молчанием…»
Дополнил полемику обоих генералов военный министр Чехословакии М. Штефаник, прибывший в конце ноября 1918 г. из Праги в Сибирь с инструкциями руководителей Антанты по использованию мятежного чехословацкого корпуса. Выступая перед легионерами, он с солдатской прямотой выдал правду о колчаковском перевороте: «Переворот Колчака готовился не только в Омске — главное решение было принято в Версале».
* * *
О том, что представляла собой власть Колчака, рассказывает Сергей Тарасович Брезкун — профессор Академии военных наук.
«Колчак был создан Америкой… Весной и летом 1918 г. Америке было не до русской гражданской войны — она была занята в Европе. Но и потом в своей сибирской интервенционистской «зоне» Штатам надо было воевать руками чужими, то есть — русскими. А для этого надо было иметь в Сибири и человека своего, и возможность ему серьезно, крупно помочь. Человек был, а вот возможности до осени 1918 г. не было. Поэтому в течение этого года Америка при любезном содействии англичан — пока вдали от арены будущих событий — примеряет на роль диктатора Сибири и Дальнего Востока того, кого знает уже не понаслышке, то есть Колчака.
В 1918 г. идет, я бы сказал, «тренировка» Колчака.
Американские газеты писали, что России нужен Кромвель. При этом между строк подразумевалось, что «Кромвель» в России нужен Америке. Она его искала и «обкатывала», а когда время пришло, «Кромвель» нашелся и был запущен в оборот.
А состоявший при адмирале английский полковник Уорд признавался: «Адмирал Колчак никогда не отправился бы в Сибирь, никогда бы не встал во главе русского конституционного движения и правительства, если бы он не был вынужден на это советами и наставлениями союзников».
Как историки расписывают, французские, мол, империалисты командировали к Колчаку генерала Жанена, который был назначен «главнокомандующим союзными войсками, действующими на Дальнем Востоке и в Сибири к востоку от Байкала» с «правом контроля на фронте и в тылу».
Но Жанен — что-то вроде гибрида разведчика, дипломата и политика — был лишь политическим агентом Антанты и подвизался в колчаковской Сибири именно в этом деликатном качестве. Жанен был фигурой для США удобной — француз, сносится не с Вашингтоном, а с Парижем. Однако с 18 января 1919 г. (Колчак тогда как раз осваивал кресло «Верховного правителя») Париж на целый год стал филиалом Вашингтона, потому что под Парижем, в Версале, открылась Парижская «мирная» конференция.
Это туда, в Париж, президент США Вильсон привозил карту, составленную Госдепартаментом с «предлагаемыми границами в России», которая оставляла русским лишь Среднерусскую возвышенность и которая лишь к началу XXI в. во многом действительно стала картой «Российской Федерации». И именно из Парижа Америка устами
Вильсона отдавала директивы западному миру. А конференция оказывалась — кроме прочего — еще и Главным штабом интервенции в России.
В служебной переписке все точки над «і» расставлялись без обиняков. Исполняющий обязанности госсекретаря США Филиппе докладывал Вильсону: «При ссылке на обмен нотами, состоявшейся между Вами и другими главами правительств, находившимися в Париже, с одной стороны, и адмиралом Колчаком из Омска — с другой, имеется в виду, что англичане снабжают одеждой и всем необходимым вооружением Деникина, французы — чехов и антибольшевистские силы в западных пограничных странах, в то время как Колчак полагается на получение вооружения от Соединенных Штатов».
О Колчаке советские газеты писали: «Мундир — английский, погон — французский, табак — японский, правитель — омский». Соединенные Штаты в этой частушке отсутствовали. Зато они прочно присутствовали в судьбе «омского правителя»…
После разгона большевиками Учредительного собрания его депутаты бежали в Сибирь и создали свое правительство. Реакционеры под руководством Колчака несколько месяцев готовили свержение Сибирского правительства. Еще 23 сентября 1918 года казаками атамана Красильникова был подло убит известный писатель Александр Новоселов, автор повести «Беловодье». Он был министром в правительстве и стал первой жертвой надвигающейся диктатуры. Убийство писателя организовал начальник Омского гарнизона полковник Волков, в скором будущем видный деятель колчаковской контрразведки. В начале ноября Колчак прибыл в Омск и принял пост военного и морского министра, а через две недели утопил [Директорию] в крови.
22 декабря 1918 года в Омске восстали солдаты бывшей Народной армии. В ответ Колчак и его псы-атаманы Красильников и Анненков устроили в городе настоящую мясорубку. «Убитых было множество, — свидетельствует Дмитрий Раков, — не меньше 1500 человек. Целые возы трупов провозились по городу, как возят зимой бараньи и свиные туши. Пострадали главным образом солдаты местного гарнизона и рабочие».
Колчаковская контрразведка уже в первый месяц своей «работы» вызвала ужас у населения. «К смертной казни приговаривали пачками по 30–50 человек, расстреливали по 5—10 за день. Разбойничий колчаковский режим вызвал восстания в Тобольской и Томской губерниях, в Акмолинской и Семипалатинской областях, не говоря уже про Амурский и Приамурский районы. И крестьянское население, само по себе далекое от большевизма, теперь с энтузиазмом будет встречать красные войска. Про рабочих и говорить нечего. Рабочий не смел пошевелиться под страхом расстрела за малейшие пустяки».
Это опять-таки слова Дмитрия Ракова, который полгода провел в колчаковском застенке, чудом избежал смерти и эмигрировал в Париж. Он был проницательным человеком. Действительно, сибирские крестьяне, спокойно воспринявшие свержение власти большевиков летом 1918 года, уже через месяц после колчаковского переворота толпами побежали в леса. К осени 1919-го партизанская армия насчитывала 140 тысяч человек…»
* * *
Сибирский ученый Владимир Свинин продолжает разговор на эту тему: «Значительная часть местного населения ненавидела Колчака больше, чем большевиков… Не стоит воспринимать сегодняшнюю нашу критичность отношения к Колчаку как следствие коммунистического воспитания. Просто среди нас живет много людей, чьи семьи пострадали от жестокости колчаковщины. Мой дядька еще легко отделался — ему только все ребра переломали, пока искали «красных»…
Многие крестьяне, переселившиеся в нашу губернию во времена Столыпинской реформы, были вынуждены целыми деревнями спасаться в лесах. Их деревни просто сжигали…
Они шли в партизаны, поскольку боялись, что колчаковцы их уничтожат. Партизанское движение, организованное большевиками в Сибири, — миф советского времени. Оно возникло стихийно — как реакция на палочную дисциплину, безумные репрессии и реквизиции».
А вот малоизвестный факт о восстании в Омске, произошедшем в ночь с 21 на 22 декабря 1918 года (материал заведующей архивным отделом г. Омска В. Лобановой, опубликованный в газете «Нива» 25 декабря 1998 года): «Железнодорожные рабочие на станции Ку-ломзино, что находится на левом берегу Иртыша, восстали против Колчака, хотя шансы на успех восстания были близки к нулю.
Омск оказался в руках восставших. Днем на помощь восставшим рабочим в Куломзино прибыли в двух вагонах рабочие из Тюмени. Часть солдат Сибирского полка и пулеметная команда примкнули к восставшим.
Не доверяя своей охране, Колчак передал охрану своей персоны английским солдатам.
Восстание было подавлено. В Куломзино заседал военно-полевой суд, приговаривавший восставших к расстрелу. Колчаковцы кололи штыками, расстреливали целыми группами рабочих на льду Иртыша и на его берегу. Несколько сотен рабочих было расстреляно у железнодорожного полотна в 200 метрах от левого берега Иртыша. Убитых спускали под лед.
Были произведены также массовые расстрелы в концлагере, где содержались военнопленные красноармейцы. Расстреляны были и солдаты, примкнувшие к восставшим.
«Покончить с восстанием, — писал Колчак, — не останавливаясь перед самыми строгими, даже жестокими мерами в отношении не только восставших, но и населения, поддерживающего их. В этом отношении существует пример японцев в Амурской области».
* * *
И еще несколько вопиющих фактов действий колчаковцев.
В городе Славгороде осенью 1918 года колчаковцами (отрядом Анненкова) было убито около 500 человек. Деревня Черный Дол была сожжена дотла. Крестьян же, их жен и даже детей расстреливали, били, вешали на столбах. В деревнях Павловке, Толкунове, Подсосновке и других казаки производили массовые порки крестьян обоего пола и всех возрастов, а затем их зверски казнили: вырывали живым глаза, вырывали языки, снимали полосы на спине, живых закапывали в землю.
Молодых девушек из города и ближайших деревень приводили к стоявшему на железнодорожной станции поезду Анненкова, насиловали, а затем тут же расстреливали.
Степь была усеяна обезглавленными трупами крестьян.
В городе Сергиополе колчаковцы расстреляли, изрубили и повесили 80 человек, часть города сожгли, имущество граждан разграбили. В селе Троицком они убили 100 мужчин, 13 женщин, 7 грудных детей, а село сожгли. В селе Никольском колчаковцы выпороли 300 человек, расстреляли 30 и 5 повесили; часть села сожгли, скот угнали, имущество граждан разграбили.
В селе Знаменка вырезали почти все население.
Двигаясь по окрестным селам, колчаковцы продолжали кровавые экзекуции. И здесь чаша терпения крестьянского населения переполнилась. В обвинительном заключении, составленным позже советским судом по делу Анненкова, указывается: «Когда пьяная разнузданная банда… стала безнаказанно пороть крестьян, насиловать женщин и девушек, грабить имущество и рубить крестьян, невзирая на пол и возраст, да не просто рубить, заявлял свидетель Довбня, а рубить в несколько приемов: отрубят руку, ногу, затем разрежут живот и т. д.; когда, ворвавшись в крестьянскую хату, колчаковцы, по словам свидетеля Турчинова, насаживали на штык покоящегося в колыбели грудного ребенка и со штыка бросали в горящую печь, крестьяне селений Черкасского, Новоантоновского вместе с бежавшими жителями из самого г. Лепсинска, Покатиловки и Веселого встали как один против бандитов».
По примеру этих сел стали организовываться и другие, лежащие к востоку от Черкасского, селения — Новоандреевская, Успенское, Глинское, Осиповское, Надеждинское, Герасимовское, Константиновское и часть Урджар-ского района. Вооружившись чем попало: вилами, пиками, гладкоствольными ружьями и в небольшом количестве трехлинейными винтовками, крестьяне тех селений создали против колчаковцев настоящий фронт.
Несколько месяцев крестьяне стойко отбивали нападения колчаковцев. И только 14 июля 1919 г., осажденные в селе Черкасском из-за голода, цинги, тифа вынуждены были сложить оружие.
Захватив Черкасское, колчаковцы уничтожили в нем 2 тысячи человек, в селе Колпаковка — более 700 человек, в поселке Подгорном — 200 человек. Деревня Антоновка была стерта с лица земли…
Приведем свидетельство барона Будберга, министра в правительстве Колчака: «Год тому назад население видело в нас избавителей от тяжкого комиссарского плена, а ныне оно нас ненавидит так же, как ненавидело комиссаров, если не больше; и, что еще хуже ненависти, оно нам уже не верит, не ждет от нас ничего доброго… Мальчики думают, что если они убили и замучили несколько сотен и тысяч большевиков и замордовали некоторое количество комиссаров, то сделали этим великое дело, нанесли большевизму решительный удар и приблизили восстановление старого порядка вещей… Мальчики не понимают, что если они без разбора и удержу насильничают, грабят, мучают и убивают, то этим они насаждают такую ненависть к представляемой ими власти, что большевики могут только радоваться наличию столь старательных, ценных и благодарных для них союзников».
Обратите внимание, как ласково называет барон колчаковских карателей — «мальчики». «Мальчики», видите ли, шалят, «мальчики» кое-чего не понимают: насильничают, мучают и убивают «без разбора и удержу». Увлеклись «мальчики» немного, но не наказывать же их за это? Разве что слегка пожурить…
* * *
Впрочем, насильничали, мучили и убивали сибиряков не только «мальчики» из собственно колчаковских армейских частей. Не отставали от них и «мальчики» из иностранных войск. «Надежной опорой Колчака стал мятежный чехословацкий корпус, с конца мая 1918 г. разбойничавший в России, — пишет П.А. Голуб, доктор исторических наук, профессор. — По сведениям Т.Г. Масарика, в корпус было мобилизовано 92 тыс. чехов и словаков, находившихся тогда в России. Поначалу Колчак был в восторге от той помощи, которую оказал его режиму мятежный корпус. В благодарственном приказе (декабрь 1918 г.) адмирал писал: «1-я и 2-я чехословацкие дивизии своими исключительными подвигами и трудами в Поволжье, на Урале и в Сибири положили основание для национального возрождения востока России, проложили нам путь к Великому океану, откуда мы получаем теперь помощь наших союзников, дали нам время для организации русской вооруженной силы».
На подкрепление чехословаков спешно высадился целый интернационал интервентов. По данным главкома этих войск ген. М.Жанена, его составляли (кроме чехословаков): 10-тысячный американский корпус под командованием ген. В.Гревса; три японские дивизии общей численностью 120 тысяч человек (по официальным данным), расположившиеся за Байкалом как у себя дома, полагая, что они пришли на русский Дальний Восток навсегда; польская дивизия под командованием полк. Румши численностью 11 200 солдат и офицеров; два английских батальона, один из которых под командованием подполковника Уорда служил на охране Колчака в качестве его преторианской гвардии; канадская бригада; французские части (1100 человек), в том числе авиационные, участвовавшие в боях на фронте; легион румын (4500 человек); несколько тысяч итальянцев под началом полк. Комос-си; полк хорватов, словенцев и сербов; батальон латышей (1300 человек).
Как видим, защищать своего человека союзники направили более 200 тысяч штыков. Это был самый крупный контингент иностранных войск, которые подпирали «белые» режимы в Гражданскую войну. Интервенты оставили после себя на огромном пространстве от Волги до Тихого океана сотни тысяч убитых и искалеченных патриотов, разоренную страну, разграбленные и сожженные города и села. Колчаковский режим, призвавший против своих граждан чужеземные войска, откровенно проявил себя как сила антинациональная, как орудие реализации интересов иностранных держав.
Что касается доморощенных опричников колчаковского режима, больших и малых атаманов, то они играли роль пристяжных у интервентов в войне против партизан и новобранцев, но соперничали с чужеземцами в жесто-кости. Упомянутый американский ген. Гревс, ежедневно наблюдавший деяния колчаковских атаманов, вспоминал: «Солдаты Семенова и Калмыкова, находясь под защитой японских войск, наводняли страну подобно диким животным, избивали и грабили народ». И делал очень важное дополнение: «В Восточной Сибири совершались ужасные убийства, но совершались они не большевиками, как это обычно думали. Я не ошибусь, если скажу, что в Восточной Сибири на каждого человека, убитого большевиками, приходилось 100 человек, убитых антибольшевистскими элементами».
Что Гревс вовсе не преувеличивал, подтвердили руководители чехословацкого корпуса Б. Павлу и В. Гирса. Стараясь свалить вину за тягчайшие преступления корпуса в России на других и как-то оправдаться перед европейской общественностью, они 13 ноября 1919 г. выступили со скандально известным меморандумом, в котором всенародно признали: «Охраняя железную дорогу и поддерживая в стране порядок, войско наше вынуждено сохранять то состояние полного произвола и беззакония, которое здесь воцарилось. Под защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда представителей демократии по простому подозрению в политической неблагонадежности составляют обычное явление…»
Колчаковский премьер-министр П.В. Вологодский в разговоре с «верховным правителем» по прямому проводу подтвердил, что сказанное в чехословацком меморандуме — сущая правда. А упомянутый ген. Гревс к сказанному добавил: «Жестокости, совершенные над населением, были бы невозможны, если бы в Сибири не было союзных войск». Зловещую роль интервентов, которых призвал в Сибирь адмирал Колчак, американский генерал определил абсолютно точно.
По сути, Колчак был главой оккупационного режима, он был ставленником антирусских сил, ставящих перед собой цели как окончательного уничтожения Российского государства, дробления России на малые марионеточные образования, — так и вполне прозаическую, «деловую» задачу разграбления материальных и природных ресурсов нашей страны.
Ставки в этой игре были столь высоки, доходы столь велики, что жизнь русских людей не ставилась ни во что.
Снова предоставим слово А.Б. Мартиросяну.
«26 мая 1919 г. Верховный Совет Антанты направил полностью контролировавшемуся британской разведкой адмиралу Колчаку (его действиями от имени союзного командования руководили непосредственно британский генерал Нокс и Дж. Хэлфорд Маккиндер) ноту, в которой, сообщая о разрыве отношений с Советским правительством, выразил готовность признать своего же двойного агента в адмиральских погонах за Верховного правителя России.
И вот что характерно. Признать-то они его признали, но ведь только де-факто. А вот де-юре — миль пардон — троеперстие антантовское показали. Но при всем при этом потребовали от него сугубо юридических действий — выдвинули ему жесткий ультиматум, согласно которому Колчак должен был письменно согласиться на:
1. Отделение от России Польши и Финляндии, в чем никакого смысла, особенно в отношении Финляндии, не было, кроме как яростного стремления, особенно Великобритании, обставить все так, что эти страны получили независимость якобы из рук только Антанты (Запада). Дело в том, что независимость Финляндии была дарована Советским правительством еще 31 декабря 1917 г., что, кстати говоря, Финляндия празднует до сих пор. То был верный шаг, ибо ее пребывание в составе России, куда по фридрихсгамскому договору 1809 г. ее включил еще Александр I (кстати, по ходатайству предка будущего фюрера Финляндии — Маннергейма), было не только бессмысленным, но и опасным в силу полыхавшего там сепаратизма сугубо националистического толка.
Что касается Польши, то по факту событий октября 1917 г. она и так стала независимой — Ленин не мешал. Следовательно, и с этой точки зрения ультиматум Колчаку был также бессмысленным.
2. Передачу вопроса об отделении Латвии, Эстонии и Литвы (а также Кавказа и Закаспийской области) от России на рассмотрение арбитража Лиги Наций в случае, если между Колчаком и марионеточными правительствами этих территорий не будут достигнуты необходимые Западу соглашения.
Попутно Колчаку предъявили ультиматум и в том, чтобы он признал за Версальской «мирной» конференцией право решать судьбу также и Бессарабии.
Кроме того, Колчак должен был гарантировать еще и следующее:
1. Что как только захватит Москву (у Антанты, очевидно, натурально «поехала крыша», что поставила ему такую задачу), он немедленно созовет Учредительное собрание.
2. Что он не будет препятствовать свободному избранию местных органов самоуправления.
Небольшое пояснение. Дело в том, что под внешне очень даже привлекательной формулировкой была сокрыта колоссальная по своей разрушительной мощи мина замедленного действия. В стране тогда полыхал пожар сепаратизма различных мастей. От сугубо националистического до регионального и даже местечкового. Причем в этот разрушительный процесс были втянуты буквально все, в том числе, как это ни прискорбно, даже сугубо русские территории, чуть ли не абсолютно русские по составу населения. И предоставление им свободы избрания местных органов самоуправления автоматически означало предоставление им свободы сепаратного провозглашения независимости своей территории, а, соответственно, и выхода из состава России. То есть конечная цель состояла в разрушении территориальной целостности России руками ее же населения! Запад, к слову сказать, всегда пытается поступать именно так. Точно так же, кстати говоря, в 1991 году был разрушен СССР…
3. Что Колчак не будет восстанавливать «специальные привилегии в пользу какого-либо класса или организации» и вообще прежний режим, стеснявший гражданские и религиозные свободы.
Небольшое пояснение. Попросту говоря, Антанту вовсе не устраивала не только реставрация царского режима, но и даже режима Временного правительства. А если еще проще, то единой и неделимой России как государства и страны. Именно в этом пункте, не говоря уже о других, подлость многократного предательства Колчака проявляется наиболее выпукло. Уж кому-кому, но ему-то было прекрасно известно, что весть о свержении царя была воспринята, в частности в той же Англии, на службу королю которой он пошел добровольно, британским парламентом аплодисментами стоя, а ее премьер-министр — Ллойд-Джордж — прямо так и воскликнул: «Цель войны достигнута!». То есть открыто признал, что Первая мировая война именно для этого и затевалась! И, следовательно, признавая этот пункт ультиматума Антанты, Колчак еще раз доказал, что он умышленно действующий против России предатель!..
12 июня 1919 г. Колчак дал необходимый Антанте письменный ответ, который она сочла удовлетворительным. Еще раз обращаю внимание на особую подлость Антанты. Колчака-то она ведь признала только де-факто, но ультиматум-то выставила де-юре. И ответ от признаваемого всего лишь де-факто предателя России Антанта при-знала-таки де-юре! Вот что значит Запад!
В результате какой-то Колчак одним махом перечеркнул все завоевания Петра Великого и сам Ништадский договор от 30 августа 1721 г.!
Когда же он выполнил возложенные на него задачи и громадные куски территории Российского государства де-юре были отторгнуты, его судьба была решена. Если до подписания Колчаком требуемых соглашений западная помощь ему напоминала полноводную реку, то как только англичане и американцы получили желаемое, они потеряли к адмиралу всякий интерес. Он попросту стал им не нужен. В результате его войска, уже не финансируемые Антантой, вскоре рассеялись под нажимом Красной Армии.
Мавр сделал свое дело — мавр может не просто удалиться, а именно же обязан быть убит, желательно чужими руками. Дабы концы все действительно были бы в воду…»
Часть 4. КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «АДМИРАЛ»
Отчет об окончании разрабатываемой с 1915 г.
операции под кодовым названием «Адмирал»
«…Как мы сообщали Вам ранее, операция «Адмирал» пришла к своему естественному финалу. Теперь мы имеем возможность доложить обо всех сопутствующих подробностях.
Осенью прошлого, 1919 г. положение «А» стало критическим. Негибкая политика, проводимая им в отношении населения подвластных территорий, привела к массовым мятежам и росту вооруженного сопротивления. В отрядах мятежников насчитывалось, по приблизительным подсчетам, около 200 тыс. чел. Положение осложнялось из-за наступления армии большевиков, которая, продвигаясь вдоль транссибирской железной дороги, 14 ноября прошлого, 1919 года заняла Омск.
Правительство Колчака, в дальнейшем именуемого «А» (Адмирал) переехало в Иркутск, а сам «А» застрял на пути к этому сибирскому городу, так как чехи заняли всю линию и сплошными эшелонами двигались на Восток.
«А» фактически потерял власть, оставаясь только формально во главе ее.
В таких условиях мы сочли, что на повестку дня встал вопрос об окончании операции «Адмирал» и ликвидации ее главного фигуранта, который из-за свой излишней осведомленности в некоторых известных вопросах представлял бы для нас опасность, останься он в живых. Следует отметить, что «А» к концу года сильно деградировал в личностном отношении, злоупотреблял крепкими спиртными напитками, и практически отстранился от дел. Большую часть времени он проводил в обществе своей гражданской жены Тимиревой (Timireva) Анны Васильевны. (Свою семью «А» отправил во Францию.)
Сведения о Тимиревой Анне Васильевне. Тимирева Анна Васильевна, 1893 г.р., свободная художница. В 1911–1918 гг. — была замужем за С.М. Тимиревым, имеет сына от этого брака. В 1918–1919 гг. — переводчица Отдела печати при Управлении делами Совета министров и Верховного правителя. В 1918 г. стала гражданской женой «А», оставив своего законного мужа и сына. Политические взгляды — неопределенные (в одном из перлюстрированных нами писем призналась: «От чтения газет, рассуждений о правительстве, о Ленине, анархистах и тому подобной прелести голова окончательно приходит в негодность…»), но при этом отличаются ярко выраженной ненавистью ко всему, что связано с Советами. Характер экзальтированный, есть склонность к неожиданным поступкам и самолюбованию.
…Именно на эту женщину мы сделали основную ставку в окончании операции «Адмирал». В последние месяцы Тимирева не скрывала того, что устала от публичной политической жизни, связанной с положением жены «А», и хотела бы более спокойного существования. Открыто называла «А» «химерой в адмиральской форме».
Наши люди, вхожие в дом Тимиревой, стали убеждать ее воздействовать на «А», обещая, что в случае его добровольной отставки им обоим будет предоставлена возможность выехать за границу и избрать любую страну проживания в цивилизованном мире при достаточном обеспечении их денежными средствами. Одновременно такие же перспективы были обозначены перед самим «А» с указанием на полную безнадежность его нынешнего положения.
Для того чтобы усилить это давление, нами были организованы политические события особого рода в г. Иркутске: там по инициативе органов городского управления (zemskay uprava) было созвано сибирское совещание городов и сельских общин. На совещании был создан так называемый Политический центр, туда вошли представители русских правых социалистических партий (большинство из этих представителей являлись членами различных масонских лож и нашими друзьями).
24 декабря 1919 г. в руки Политического центра перешел абсолютный контроль за положением в Иркутске. Как и предусматривалось, чехи держали нейтралитет и совместно с американским батальоном приводили в пассивное состояние японцев. 5 января 1920 г. власть в Сибири официально перешла к Политическому центру.
Того же числа (5 января 1920 г.) «А» обнародовал указ о передаче всей полноты военной и гражданской власти на «всей территории Российской восточной окраины» атаману Семенову, а через семь дней назначил своим преемником (Верховным правителем России) — генерала Деникина, который уже не представлял из себя ровно ничего, так как еще осенью 1919 г. потерпел сокрушительное поражение от большевиков.
После всех этих событий «А» попросил дать ему и Тимиревой возможность выехать за границу согласно данным ранее обещаниям. Однако чехи отказались предоставить «А» вагон в составе одного из своих эшелонов, а генерал Жанен, в свою очередь, оставил без ответа аналогичное обращение «А».
15 января 1919 г. «А» и его премьер-министр генерал Пепеляев были переданы в руки Политического центра, который заключил их в тюрьму и назначил специальную следственную комиссию для ведения дела арестованных. (Через неделю Политический центр был заменен на «Военно-революционный комитет», поскольку это название импонировало низшим слоям населения г. Иркутска. Руководящий состав «Военно-революционного комитета» остался в основном тем же, что в Политическом центре.)
Следствие по делу «А» проводилось под нашим пристальным вниманием — таким образом, никаких ненужных подробностей в его материалах не содержится, в чем мы можем уверить Вас со всей ответственностью. Но такие подробности могли бы всплыть позже, останься «А» в живых, о чем мы уже упоминали выше. В связи с этим нами был осуществлен вариант, успешно опробованный в 1918 г. при известных событиях в г. Екатеринбурге.
Отдельные части из состава бывшей армии «А» начали, по требованию генерала Нокса, наступление на Иркутск. Ими был выдвинут ультиматум с требованием освободить «А» — следовательно, появилась настоятельная и необходимая причина для его ликвидации. 7 февраля 1920 г. он и Пепеляев были расстреляны, о чем есть свидетельство, составленное по всей форме.
…Мы считаем, что операция «Адмирал» завершилась в высшей степени успешно. Выигрыш Великобритании от ее проведения достаточно велик…»
Резолюция. Дело сдать в архив. Предоставить список лиц, непосредственно участвовавших в операции «Адмирал», для их соответственного поощрения.
* * *
Протоколы заседаний Чрезвычайной следственной комиссии по делу Колчака А.В. (по стенографическому отчету). Мы приводим эти протоколы полностью. Надеемся, что читатель обратит внимание на то, какие акценты расставили члены комиссии и сам Колчак в освещении жизни и деятельности адмирала. Следует учитывать, что Колчак, давая показания, видимо, все еще надеялся на свое спасение; он понимал, как важно ему промолчать о наиболее скользких моментах его жизненного пути. Члены комиссии также не были чересчур настойчивы и не пытались узнать обо всех тайнах адмирала.
«21 января 1920 года
Попов. Вы присутствуете перед Следственной комиссией, в составе ее председателя К. А. Попова, заместителя председателя В. П. Денике, членов комиссии: Г. Г. Лукьянчикова и Н. А. Алексеевского, для допроса по поводу вашего задержания. Вы адмирал Колчак?
Колчак. Да, я адмирал Колчак.
Попов. Мы предупреждаем вас, что вам принадлежит право, как и всякому человеку, опрашиваемому Чрезвычайной Следственной комиссией, не давать ответов на те или иные вопросы и вообще не давать ответов. Вам сколько лет?
Колчак. Я родился в 1873 году, мне теперь 46 лет.
Попов. Вы являлись Верховным правителем?
Колчак. Я был Верховным правителем Российского правительства в Омске, — его называли Всероссийским, но я лично этого термина не употреблял.
Попов. Расскажите своде биографию.
Колчак.…Я закончил Морской корпус. По выходе из корпуса в 1894 году я поступил в петроградский 7-й флотский экипаж; пробыл там несколько месяцев, до весны 1895 года, когда был назначен помощником вахтенного начальника на только что законченном тогда постройкой и готовящемся к отходу за границу броненосном крейсере «Рюрик». Затем я пошел в первое мое заграничное плавание. Крейсер «Рюрик» ушел на восток, и здесь, во Владивостоке, я ушел на другой крейсер, «Крейсер», в качестве вахтенного начальника, в конце 1896 года. На нем я плавал в водах Тихого океана до 1899 года, когда этот крейсер вернулся обратно в Кронштадт. Это было первое мое большое плаванье.
Алексеевский. Как протекала ваша служба?
Колчак. Когда я в 1899 году вернулся в Кронштадт, я встретился там с адмиралом Макаровым, который ходил на «Ермаке» в свою первую полярную экспедицию. Я про-сил взять меня с собой, но по служебным обстоятельствам он не мог этого сделать, и «Ермак» ушел без меня. Тогда я решил снова идти на Дальний Восток, полагая, что, может быть, мне удастся попасть в какую-нибудь экспедицию, — меня очень интересовала северная часть Тихого океана в гидрологическом отношении. В сентябре месяце я ушел на «Петропавловске» в Средиземное море, чтобы через Суэц пройти на Дальний Восток, и в сентябре прибыл в Пирей. Здесь я совершенно неожиданно для себя получил предложение барона Толля принять участие в организуемой Академией наук под его командованием северной полярной экспедиции, в качестве гидролога этой экспедиции. Мои работы и некоторые печатные труды обратили на себя внимание барона Толля. Я получил предложение через Академию наук участвовать в этой экспедиции.
Для того чтобы подготовить меня к этой задаче, я был назначен на главную физическую обсерваторию в Петрограде и затем в Павловскую магнитную обсерваторию. Там я три месяца усиленно занимался практическими работами по магнитному делу для изучения магнетизма. Экспедиция была снаряжена и вышла в июле месяце из Петрограда на судне «Заря», которое было оборудовано в Норвегии для полярного плавания строителем «Фра-ма». Я поехал в Норвегию, где занимался в Христиании у Нансена, который был другом барона Толля. Он научил меня работать по новым методам. Экспедиция ушла в 1900 году и пробыла до 1902 года. Я все время был в этой экспедиции. Зимовали мы на Таймыре, две зимовки на Новосибирских островах, на острове Котельном; затем, на 3-й год, барон Толль, видя, что нам все не удается пробраться на север от Новосибирских островов, пред-принял эту экспедицию. Вместе с Зеебергом и двумя каюрами он отправился на север Сибирских островов. У него были свои предположения о большом материке, который он хотел найти, но в этом году состояние льда было таково, что мы могли проникнуть только к земле Бенет-та. Тогда он решил, что на судне туда не пробраться, и ушел. Ввиду того, что у нас кончались запасы, он приказал нам пробраться к земле Бенетта и обследовать ее, а если это не удастся, то идти к устью Лены и вернуться через Сибирь в Петроград, привезти все коллекции и начать работать по новой экспедиции. Сам он рассчитывал самостоятельно вернуться на Новосибирские острова, где мы ему оставили склады. В 1902 году, весною, барон Толль ушел от нас с Зеебергом с тем, чтобы потом больше не возвращаться: он погиб во время перехода обратно с земли Бенетта. На заседании Академии наук было доложено общее положение работ экспедиции и о положении барона Толля. Его участь чрезвычайно встревожила Академию. Действительно, предприятие его было чрезвычайно рискованное. Шансов было очень мало, но барон Толль был человеком, верившим в свою звезду и в то, что ему все сойдет, и пошел на это предприятие. Академия была чрезвычайно встревожена, и тогда я на заседании поднял вопрос о том, что надо сейчас, немедленно, не откладывая ни одного дня, снаряжать новую экспедицию на землю Бенетта для оказания помощи барону Толлю и его спутникам.
Мы добрались до земли Бенетта 5 августа, на Преображение — этот мыс я назвал мысом Преображенским — и высадились на остров Бенетта. Ближайшее же обследование этого берега очень скоро дало нам признаки пребывания там партии барона Толля. Мы нашли груду камней, в которой находилась бутылка с запиской со схематическим планом острова, с указанием, что там находятся документы. Руководствуясь этим, мы очень скоро, в ближайшие дни, пробрались к тому месту, где барон Толль со своей партией находились на этом острове. Там мы нашли коллекции, геологические инструменты, научные, которые были с бароном Толлем, а затем тот краткий документ, который дал последние сведения о судьбе барона Толля.
Через 42 дня плавания на этой шлюпке я вернулся снова к своему первому исходному пункту около мыса Медвежьего острова Котельного. Мы вернулись все, не потерявши ни одного человека. Когда я в Якутске получил извещение о том, что случилось нападение на наши корабли в Порт-Артуре, и вслед затем известие о том, что адмирал Макаров назначается командующим флотом в Тихом океане, я по телеграфу обратился в Академию наук с просьбой вернуть меня в морское ведомство и обратился в морское ведомство с просьбой послать меня на Дальний Восток, в тихоокеанскую эскадру, для участия в войне. После некоторых колебаний президент Академии, в. кн. Константин Константинович, к которому я непосредственно обратился, устроил так, что меня Академия отчислила. Я прибыл в Порт-Артур примерно в марте месяце или в начале апреля. Макаров тогда еще был жив. Прибывши в Порт-Артур, я явился к адмиралу Макарову, которого просил о назначении меня на более активную деятельность. Он меня назначил на крейсер «Аскольд», так как, по его мнению, мне нужно было немного отдохнуть, пожить в человеческой обстановке на большом судне. На этом «Аскольде» я пробыл до гибели адмирала Макарова, которая произошла на моих глазах 31 марта. После гибели адмирала Макарова я был назначен очень короткое время на минный заградитель «Амур», а затем на миноносец «Сердитый», в качестве командира.
Алексеевский. Значит, вы в выходе эскадры в июле не участвовали?
Колчак. Нет, в выходе эскадры я участвовал. Я был уже на миноносце, но в боях наш миноносец не участвовал — шел другой отряд. Мы только проводили выход эскадры, а затем вернулись, так как мой миноносец должен был оставаться в Порт-Артуре.
После того как был июльский неудачный бой и прорыв во Владивосток и началась систематическая планомерная осада крепости, центр тяжести всей борьбы перенесся на сухопутный фронт. Здесь последнее время мы уже занимались постановкой главным образом мин и заграждений около Порт-Артура, и мне удалось, в конце концов, поставить минную банку на подходах к Порт-Артуру, на которой взорвался японский крейсер «Тако-садо». Осенью я перешел на сухопутный фронт. Я вступил в крепость, командовал там батареей морских орудий на северо-восточном фронте крепости, и на этой батарее я оставался до сдачи Порт-Артура, до последнего дня, и едва даже не нарушил мира, потому что мне не было дано знать, что мир заключен. Я жил в Порт-Артуре до 20-х чисел декабря, когда крепость пала. Я был. ранен, но легко, так что это меня почти не беспокоило, а ревматизм меня совершенно свалил с ног. Эвакуировали всех, кроме тяжелораненых и больных, я же остался лежать в госпитале в Порт-Артуре. В плену японском я пробыл до апреля месяца. Оттуда нас отправили в Дальний, а затем в Нагасаки. В Нагасаки партия наших больных и раненых получила очень великодушное предложение японского правительства, переданное французским консулом, о том, что правительство Японии предоставляет нам возможность пользоваться, где мы захотим, водами и лечебными учреждениями Японии или же, если мы не желаем оставаться в Японии, вернуться на родину без всяких условий. Мы все предпочли вернуться домой. С осени я продолжал свою службу, причем на мне лежала еще обязанность перед Академией наук дать прежде всего отчет, привести в порядок наблюдения и разработку предшествующей экспедиции, которая была мною брошена. Эта работа продолжалась до января 1906 года.
В 1906 году, в январе месяце, произошли такого рода обстоятельства. После того как наш флот был уничтожен и совершенно потерял все свое могущество во время несчастной войны, группа офицеров, в числе которых был и я, решила заняться самостоятельной работой, чтобы снова подвинуть дело воссоздания флота и, в конце концов, тем или иным путем как-нибудь стараться в будущем загладить тот наш грех, который выпал на долю флота в этом году, возродить флот на началах более научных, более систематизированных, чем это было до сих пор.
Группа этих морских офицеров, с разрешения морского министра, образовала военно-морской кружок, полуофициальный. Мною и членами этого кружка была разработана большая записка, которую мы подали министру по поводу создания Морского Генерального штаба, т. е. такого органа, который бы ведал специальной подготовкой флота к войне. План этот был одобрен, и весною, приблизительно в апреле 1906 года, он был осуществлен созданием Морского Генерального штаба. В этот штаб вошел и я, в качестве заведующего балтийским театром. Я был в то время капитаном 2-го ранга и явился одним из первых, назначенных в этот штаб. С этого времени и начинается период, обнимающий приблизительно 1906-й, 1907-й, 1908-й гг., — период, если можно так выразиться, борьбы за возрождение флота. В основание всего этого дела Морским Генеральным штабом была выдвинута морская судостроительная программа, кбторой до сих пор не было. Это был период изучения общей политической обстановки, и еще в 1907 году мы пришли к совершенно определенному выводу о неизбежности большой европейской войны. Изучение всей обстановки военно-политической, главным образом германской, изучение ее подготовки, ее программы военной и морской и т. д. Я хочу только подчеркнуть, что вся эта война была совершенно предвидена, была совершенно предусмотрена. Она не была неожиданной, и даже при определении начала ее ошибались только на полгода. Да и то немцы и сами признают, что они начали ее раньше, чем предполагали.
В 1912 году адмирал Эссен заявил мне, что он хотел бы, чтобы я поступил в действующий флот. Я ушел из Морского Генерального штаба и поступил в минную дивизию командиром эскадронного миноносца «Уссуриец». Я командовал «Уссурийцем» год, затем был в Либаве, где была база минной дивизии. Через год адмирал Эссен пригласил меня быть флаг-капитаном по оперативной части у него в штабе.
Несмотря на то, что с весны до начала войны шла подготовка флота к войне, благодаря деятельности Воеводского мы к войне не были готовы в смысле выполнения намеченной программы. Причиной этого была прежде всего самая организация морского министерства и, главным образом, его технических отделов, с их страшной канцелярщиной и волокитой в сношениях с заводами, с утверждением чертежей, с разрешением всевозможных вопросов, связанных с судостроением. Все это страшно отражалось на деле. Таким образом, одной из причин являлся также бюрократизм, бывший в этих учреждениях. Это было ужасное место, с которым Генеральный штаб пытался вести борьбу, но тщетно. Первые два месяца войны я оставался в должности флаг-капитана. Все это время я работал над всевозможными планами и всякими оперативными заданиями, причем старался, где это было возможно, непосредственно участвовать в их выполнении. Поэтому я постоянно переходил на ту или иную часть флота, которая выполняла различные задания, утвержденные, конечно, адмиралом Эссеном, но разработанные мною.
Осенью 1915 года адмирал Трухачев, командовавший минной дивизией, которая в это время была выдвинута в Рижский залив и защищала его (только перед этим был поспешно ликвидирован прорыв немцев в этот залив), во время свежей погоды, вывихнув ногу, заболел. Надо было назначить нового командира минной дивизии. Адмирал Эссен предложил мне временно вступить в это командование. Это было в начале сентября.
К этому времени немцы произвели высадку на южном берегу Рижского залива и угрожали непосредственными действиями Риге.
Мною была произведена операция: я высадил десант на Рижское побережье, в тыл немцам. Правда, его пришлось быстро снять, так как он был незначителен, но, во всяком случае, он привел немцев в панику, так как они совершенно не ожидали высадки этих сил, причем этим десантом был разбит немецкий отряд, прикрывавший местность. За эту работу я был представлен Радко-Дмит-риевым, которому я подчинялся как старшему во время операции, к Георгиевскому кресту и получил эту высшую боевую награду. В то время я был капитаном первого ранга (в эту должность я был произведен в Либаве в 1915 г.). Около 20-х чисел декабря я вступил в командование минной дивизией в Ревеле как постоянно командующий этой дивизией. Весною 1916 года, как только состояние льда позволило выйти ледокольным судам через Моонзунд в Рижский залив, я ушел туда из Ревеля, а как только лед вскрылся, я вызвал минную дивизию и стал в Рижском заливе продолжать свою работу по защите его побережья и по борьбе с береговыми укреплениями Рижского залива и защиты входа в Рижский залив, причем уничтожил один дозорный корабль — «Виндаву». Тогда же, получивши сведения о выходе из Стокгольма немецких судов с грузом руды под защитой одного вооруженного как крейсер коммерческого судна, я с несколькими лучшими миноносцами типа «Новок», под прикрытием отряда крейсеров, под командой адмирала Трухачева, вышел к шведским берегам, ночью напал на караван, рассеял его и потопил конвоирующий его корабль. Это было моим последним делом в Балтике. Затем, не помню по какому делу, я был внезапно вызван из Моонзунда в Ревель; это было приблизительно в 20-х числах июля. В Ревеле мне совершенно неожиданно была вручена телеграмма из ставки о том, что я назначаюсь командующим Черноморским флотом, с производством в вице-адмиралы.
23 января 1920 года
Алексеевский. В прошлый раз вы закончили тем, что получили в апреле неожиданное производство в вице-адмиралы и телеграмму о назначении вас командующим флотом Черного моря.
Колчак. Получивши это назначение, я вместе с тем получил приказание ехать в ставку для того, чтобы получить секретные инструкции, касающиеся моего назначения и командования в Черном море. Я поехал сперва в Петроград и оттуда в Могилев, где находилась ставка, во главе которой стоял ген. Алексеев, начальник штаба верховного главнокомандующего. Верховным главнокомандующим был бывший государь. По прибытии в Могилев я явился к ген. Алексееву. Он приблизительно в течение полутора или двух часов подробно инструктировал меня об общем политическом положении на нашем Западном фронте. Он детально объяснил мне все политические соглашения чисто военного характера, которые существовали между державами в это время, и затем после этого объяснения сказал, что мне надлежит явиться к государю и получить от него окончательные указания. Указания, сделанные мне Алексеевым, были повторены и государем. Они сводились к следующему: назначение меня в Черное море обусловливалось тем, что весною 1917 г. предполагалось выполнить так называемую босфорскую операцию, т. е. произвести уже удар на Константинополь.
Получив эти указания, я уехал в Черное море в тот же вечер. Положение в Черном море было таково: главнейшие вопросы, которые тогда стояли, были, во-первых, обеспечение безопасности Черноморского побережья от постоянных периодических набегов быстроходных крейсеров «Гебена» и «Бреслау», ставивших в очень опасное положение весь транспорт на Черном море. А транспорт на Черном море и перевозки имели главное значение для кавказской армии, потому что подходы к кавказской армии были чрезвычайно трудны и нужно было базироваться на море.
Минные заграждения, дозорная служба, надлежащим образом организованная и надлежащим образом развитая, радиосвязь дали возможность обеспечить нам черноморский бассейн совершенно спокойным от всяких покушений со стороны неприятеля и обеспечить совершенно безопасный транспорт для кавказской армии. Таким образом, в Черном море наступило совершенно спокойное положение, которое дало возможность употребить все силы на подготовку большой босфорской операции. По плану этой босфорской операции, в мое непосредственное распоряжение поступила одна сухопутная часть, дивизия ударного типа. Эта дивизия готовилась под моим непосредственным наблюдением и должна была быть выброшена первым десантом на неприятельский берег, для того чтобы сразу на нем обосноваться и обеспечить место высадки для следующих войск, которые должны были идти за ними. Так вся эта подготовка работ шла до наступления государственного переворота в конце февраля месяца. В Черном море, как и для меня, этот переворот был совершенно неожиданным.
Алексеевский. Мы подошли к той части вашей деятельности, которая носит не только профессиональный и технический характер, но и политический. В связи с этим Комиссия считает необходимым поставить вам вопро-сы о ваших политических взглядах в молодости, в зре-лом возрасте и теперь, а также о политических взглядах вашей семьи.
Колчак. Как я говорил, когда я поступил в корпус, я начал заниматься исключительно военным делом и затем меня увлекали точные научные знания, т. е. математические и физические науки. Науками социального и политического характера я занимался очень мало. Я вырос на Обуховском заводе и постоянно на нем бывал. Пребывание на заводе дало мне массу технических знаний: по артиллерийскому делу, по минному делу и т. д. Работа на этом заводе сблизила меня с рабочими. У меня было много знакомых рабочих, которые меня обучали. Они знали меня, и благодаря этому соприкосновению с ними, работе в мастерских, постоянному общению с ними меня заинтересовали на некоторое время вопросы политического и социального порядка.
Попов. Каково было ваше отношение, адмирал, к революции 1905 года?
Колчак. Мне с нею не пришлось почти сталкиваться. В 1905 г. я был взят в плен, затем я вернулся, был болен и лечился, а остаток этого времени я был в Академии наук.
Председатель. Каково было ваше идейное отношение к этому делу?
Колчак. Я этому делу не придавал большого значения. Я считал, что это есть выражение негодования народа за проигранную войну, и я считал, что главная задача, военная, заключается в том, чтобы воссоздать вооруженную силу государства. Я считал своей обязанностью и долгом работать над тем, чтобы исправить то, что нас привело к таким позорным последствиям.
Алексеевский. Адмирал, позволителен еще вопрос. Главой всех военных сил был император, и императорская фамилия и династия распределяли между собой все важнейшие роли, а над всеми, как глава военных сил, был император?
Колчак. Тут были общие причины. Я видел здесь, на востоке, как мы вели боевую подготовку, чем занималось командование, чем занимались командиры. Конечно, об-щая система была неудовлетворительна.
Алексеевский. У нас есть поговорка, что рыба начина-ет разлагаться с головы. Не приходили ли вы к убеждению, что именно сверху нет ничего, кроме слов, в отношении ответственности и руководства?
Колчак. Я считал, что вина не сверху, а вина была наша — мы ничего не делали.
Попов. Нам было бы интересно узнать, мирились ли вы с существованием монархии, являлись ли вы сторонником ее сохранения или если не японская война, то революция 1905–1906 года внесла изменения в ваши политические взгляды?
Колчак. Моя точка зрения была просто точкой зрения служащего офицера. Я относился к монархии как к существующему факту, не критикуя и не вдаваясь в вопросы по существу об изменениях строя. Я был занят тем, чем занимался. Как военный я считал обязанностью выполнять только присягу, которую я принял, и этим исчерпывалось все мое отношение. И, сколько я припоминаю, в той среде офицеров, где я работал, никогда не возникали и не затрагивались эти вопросы.
Алексеевский. Здесь уместен один вопрос, который касается вот чего: вы сначала нам скажите, имели ли вы личные отношения с бывшим императором и с выдающимися членами и деятелями династии и, в частности, имели ли вы хоть одно свидание с Распутиным?
Попов. Я прибавлю, не изменились ли эти отношения до самой революции 1917 г.?
Колчак. Я никакого участия в политической работе не принимал. Я скажу, прежде всего, о государе. Нужно сказать, что до войны — меня выдвинула война — я был слишком маленьким офицером, слишком маленьким человеком, чтобы иметь соприкосновение вообще с какими-нибудь высшими кругами, и потому непосредственных сношений с ними не мог иметь по существу. При дворе я никогда не бывал.
Попов. Вы уклоняетесь от прямого ответа: были ли вы тогда монархистом или нет?
Колчак. Я не могу сказать, что монархия — это единственная форма, которую я признаю. Я считал себя мо-нархистом и не мог считать себя республиканцем, потому что тогда такового не существовало в природе. До революции 1917 года я считал себя монархистом.
Чудновский. Мы бы хотели знать в самых общих чертах ваши политические взгляды во время революции, о подробностях вашего участия вы нам расскажете на следующих допросах.
Колчак. Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в Петрограде и о переходе власти к Государственной думе непосредственно от Родзянко, который телеграфировал мне об этом. Этот факт я приветствовал всецело. Присягу я принял по совести, считая это правительство как единственное правительство, которое необходимо было при тех обстоятельствах признать, и первый эту присягу принял. После совершившегося переворота стал на точку зрения, на которой я стоял всегда: что я, в конце концов, служил не той или иной форме правительства, а служу родине своей, которую ставлю выше всего, и считаю необходимым признать то правительство, которое объявило себя тогда во главе российской власти.
Алексеевский. Но перед вами должен был встать вопрос о дальнейшем: какая форма государственной власти должна существовать после того, как это будет доведено до конца?
Колчак. Да, я считал, что этот вопрос должен быть решен каким-то представительным учредительным органом, который должен установить форму правления, и что этому органу каждый из нас должен будет подчиниться и принять ту форму государственного правления, которую этот орган установит.
Попов. На какой орган, по вашему мнению, могла бы быть возложена эта задача?
Колчак. Я считаю, что это должна быть воля Учредительного собрания или Земского собора. Мне казалось, что это неизбежно должно быть, так как правительство должно было носить временный характер, как оно заявляло.
Попов. Какой образ правления представлялся вам лично для вас наиболее желательным?
Колчак. Я первый признал Временное правительство, считал, что как временная форма оно является при данных условиях желательным; его надо поддержать всеми силами; что всякое противодействие ему вызвало бы развал в стране, и думал, что сам народ должен установить в учредительном органе форму правления, и какую бы форму он ни выбрал, я бы подчинился. Я думал, что, вероятно, будет установлен какой-нибудь республиканский образ правления, и этот республиканский образ правления я считал отвечающим потребностям страны.
24 января 1920 года
Колчак. Возвращаясь к рассказу о перевороте, должен сказать, что первые сведения о перевороте, происходящем в Петрограде, я получил, находясь в Батуме с двумя минными судами, куда пришел по вызову главноко-хМандующего Кавказским фронтом Николая Николаевича для решения вопросов о снабжении кавказской армии морем. Вечером на второй день, насколько помню, я получил шифрованную телеграмму из Севастополя от адмирала Григоровича, что в Петрограде происходит восстание войск, что существующая власть дезорганизована и что комитет Государственной думы взял на себя функции правительства. Вот содержание этой телеграммы. Насколько помню, последние слова этой телеграммы были успокоительного характера: «в настоящее время волнение утихает». Это была первая телеграмма, которую я получил о событиях в Петрограде.
Вечером в тот же день я вышел из Батума в Севастополь. Когда я пришел в Севастополь, я получил телеграмму от Родзянко. Затем была получена телеграмма от князя Львова об образовании первого министерства. Получивши эту телеграмму, я сейчас же разослал ее по всем судам, и так как я не мог объехать все суда, то собрал команды на моем флагманском судне «Георгий Победоносец». Когда они собрались, я прочел манифест и сказал, что в настоящее время прежней власти не существует, династия, по-видимому, кончила свое существование и наступает новая эпоха. При этом я обратился к ним и сказал, что каковы бы ни были у нас взгляды, каковы бы ни были наши убеждения, но мы ведем войну, и потому мы имеем обязательства не только перед правительством или той властью, которая существует, но мы имеем большие обязательства и перед нашей родиной.
Алексеевский. Я хотел бы задать вопрос о вашем отношении к приказу № I[4].
Колчак. Приказ № 1 был сообщен царскосельской радиостанцией за подписью Совета рабочих и солдатских депутатов. Когда на одном из митингов, на котором собралось огромное число свободных от службы команд, меня спросили, как относиться к этому приказу, я сказал, что для меня этот приказ, отданный Советом рабочих и солдатских депутатов, не является ни законом, ни актом, который следовало бы выполнять, пока он не будет санкционирован правительством, так как, в силу настоящего положения, Советы рабочих и солдатских депутатов могут собираться в любом месте, в любом городе, и почему в таком случае приказ Петроградского Совета является обязательным, а необязательным приказ Совета в Одессе или в другом месте? Во всяком случае, я считаю, что этот приказ не имеет для меня никакой силы.
Алексеевский. Был ли образован общефлотский комитет Совета матросских депутатов для всего Черноморского флота?
Колчак. Комитеты были образованы в Севастополе и Одессе и других портах согласно предложению правительства. Первое время отношения были самые нормальные. Я считал, что в переживаемый момент необходимы такие учреждения, через которые я мог бы сноситься с командами. Больше того, я скажу даже, что вначале эти учреждения вносили известное спокойствие и порядок. Дело было поставлено таким образом, чтобы все постановления комитета мне докладывались. Так продолжался первый месяц. Затем произошло явление такого рода. Рабочие порта также образовали у себя Совет рабочих депутатов, но этот Совет не сливался с флотским комитетом и существовал независимо; слияние произошло позже, примерно в мае месяце. Нужно сказать, что рабочие севастопольского порта прямо заявили мне, что они будут поддерживать меня во всех военных работах, что они будут выполнять свои работы так же, как раньше; даже вначале заявили мне, что они не признают 8-часового рабочего дня и будут работать столько, сколько потребуется для военных надобностей флота. Такое заявление установило самое лучшее отношение с рабочими севастопольского порта; во всех тех постановлениях, которые касались известных экономических вопросов, которые я мог своею властью разрешить, я всегда шел им навстречу. Обычно ко мне являлся Васильев, председатель Совета рабочих депутатов севастопольского порта, и мы с ним очень долго обсуждали эти вопросы. Некоторые я удовлетворял, другие направлял в дальнейшую инстанцию — ставку — и сообщал правительству. Так продолжалось недели 2–3, затем начали проявляться тенденции несколько худшего порядка. Начались, прежде всего, просьбы об увольнении в отпуск. В отпуск стали проситься целыми массами, так что я не знал, что делать с этим стихийным движением, — приходилось чуть ли не выводить некоторые суда из строя.
Затем начались различные несогласия с офицерами. Первое заявление мне было сделано по поводу некоторых офицеров с немецкими фамилиями, что немцев надо изъять всех полностью. На это я ответил, что у нас, в России, существует масса людей с немецкими фамилиями, которые так же, и может быть даже больше, работали для блага родины, чем люди, носящие русские фамилии, что у нас, в России, фамилия решительно ничего не значит и удалить офицера только потому, что он носит немецкую фамилию, нет решительно никаких резонов. Нужно сказать, что рабочие Черноморского флота стояли, если можно так выразиться, выше команд в смысле дисциплины, порядка и организованности. Я прямо докладывал правительству и приписывал улаживание конфликтов спокойствию, внесенному со стороны рабочих и их органов. Когда, под влиянием пропаганды, Совет матросских депутатов поднимал вопрос о том, что надо требовать ликвидации войны и т. д., рабочие приходили, успокаивали их и вносили известное успокоение своим трезвым, спокойным отношением ко всем событиям. В половине апреля мне стало ясно, что если дело пойдет таким образом, то, несомненно, оно кончится тем же, чем и в Балтийском флоте, т. е. полным развалом и невозможностью дальше продолжать войну.
Алексеевский. Я бы хотел поставить следующий вопрос: ведь за это время во флоте произошли большие события, в том числе большое возмущение матросов в Кронштадте, в результате которого погибло несколько сот офицеров, в том числе и адмирал Непенин. Какое впечатление произвели эти события на флот?
Колчак. В Черноморском флоте известия об этих событиях не произвели особого впечатления, может быть, потому, что мы получили сведения о них с большим запозданием. Около 20-х чисел апреля я приезжал в Петроград. Прежде всего я явился к Гучкову, военному и морскому министру, который все еще продолжал болеть и не выходил из своей квартиры на Мойке и даже принимал меня первый день лежа в постели. Гучков сообщил мне о создавшемся положении и сказал, что в Балтийском флоте назревают новые беспорядки. Тогда же я получил предложение приехать к Родзянко к завтраку. В разговоре Родзянко высказал оптимистический взгляд относительно положения в Черном море. Я сказал ему, что у меня идет такой же внутренний развал, как и везде. Родзянко спросил меня, обращался ли я к каким-нибудь политическим партиям, чтобы они помогли мне в этом деле. Я сказал, что пока еще не обращался. Родзянко предложил мне проехать к Плеханову и поговорить с ним; может быть, он даст совет, даст указания, как лучше поступить в этом деле. Я поехал к Плеханову, изложил ему создавшееся положение и сказал, что надо бороться с совершенно открытой и явной работой разложения, которая ведется, и что поэтому я обращаюсь к нему, как главе или лицу известному с.-д. партии, с просьбой помочь мне, приславши своих работников, которые могли бы бороться с этой пропагандой разложения, так как другого способа бороться я не вижу в силу создавшегося положения, когда под видом свободы слова проводится все что угодно. Насильственными же мерами прекратить — в силу постановления правительства — я этого не могу, и, следовательно, остается только этот путь для борьбы с пропагандой. Плеханов сказал мне: «Конечно, в вашем положении я считаю этот способ единственным, но он является в данном случае ненадежным». Во всяком случае, Плеханов обещал мне содействие в этом направлении, причем указал, что правительство не управляет событиями, которые оказались сильнее его. «Вы знаете, — спросил меня он, — что сегодня должно быть выступление войск, что сегодня, около 3 часов, должны выступить войска с требованием смены части правительства?» Это было 21–22 апреля. Как раз в этот день, около 4 часов, было назначено заседание правительства на квартире Гучкова, на Мойке. Плеханов заметил, что это выступление будет пробой правительства, — раз правительство не будет в состоянии справиться с выступившими против него, то какое же это правительство? По всей вероятности, оно должно будет пасть. «Я лично думаю, — сказал Плеханов, — что все идет не так, как мы хотели или предполагали; события принимают стихийный характер, и в этом случае отдельные лица или отдельные группы могут только до известной степени задерживать или способствовать течению, но я сомневаюсь, чтобы мы могли в ближайшие дни что-нибудь сделать». Вот суть его отношения.
Тогда все это выступление базировалось главным образом на почве империалистической политики правительства — стремлении получить Босфор и Дарданеллы, что вызвало требование смены Гучкова и Милюкова, как носителей этой тенденции. Плеханов в разговоре со мной сказал такую фразу: «Отказаться от Дарданелл и Босфора — все равно, что жить с горлом, зажатым чужими руками. Я считаю, что без этого Россия никогда не в состоянии будет жить так, как она хотела бы».
От Плеханова я отправился прямо на совещание совета министров, в квартиру Гучкова. У Гучкова в присутствии всего правительства, заседавшего под председательством князя Львова, я подробно доложил: о положении на Черном море и о том, к чему это, по моему мнению, должно привести. Как раз перед концом заседания прибыл ген. Корнилов, кажется из Царского Села (я его в первый раз тогда видел). Корнилов сказал, что в городе происходит вооруженная демонстрация войск против правительства, что он располагает достаточными силами, чтобы прекратить это выступление, и в случае надобности, если бы произошло вооруженное столкновение, у него есть уверенность в возможности подавления этого движения. Поэтому он просил, чтобы правительство санкционировало это и дало возможность немедленно начать действовать. Это послужило поводом к обмену мнениями и дебатам, причем особенно против восставали Львов и Керенский, который заявил: «Наша сила заключается в моральном воздействии, в моральном влиянии, и применить вооруженную силу значило бы вступить на прежний путь насильственной политики, что я считаю невозможным». На этом заседание закончилось. Но Керенский долго еще беседовал с Корниловым. Вечером я уехал в Псков, где в это время происходил совет командующих армиями.
Алексеевский. В эту поездку в Петроград вы видели всех представителей Временного правительства? Комиссия хотела бы знать ваше отношение к этому правительству с точки зрения интересов военных и морских, в частности к наиболее видным его представителям — Львову, Гучкову, Керенскому. Какие недостатки и достоинства видели вы в этом правительстве?
Колчак. За время пребывания в Петрограде я убедился, что это правительство состоит из людей искренних и честных, желающих принести возможную помощь родине. Никого из них я не мог заподозрить, чтобы они преследовали личные или корыстные цели. Они искренно хотели спасти положение, но опирались при этом на очень шаткую почву — на какое-то нравственное воздействие на массы, народ, войска. Для меня было также совершенно ясно, что это правительство совершенно бессильно, что единственный орган, который выдвигается и вполне определился, — Совет солдатских и рабочих депутатов, — ведет совершенно открыто разрушительную работу в армии и вообще в отношении вооруженной силы, открыто выставляет лозунги прекращения войны с Германией и т. д.
Алексеевский. Что вы думали тогда и впоследствии о предложении Корнилова, сделанном на квартире Гучкова, что он обладает достаточной силой, чтобы поставить барьер этому движению, ведшему к прекращению войны? Действительно ли он обладал достаточными силами?
Колчак. Да, я считаю, что он обладал достаточными силами, иначе он не сделал бы этого предложения.
26 января 1920 года
Алексеевский. В прошлый раз, адмирал, мы останавливались на вашем возвращении в Черное море после совещания в Пскове.
Колчак. По приезде в Черное море ко мне явилась депутация от солдат царскосельского гарнизона, во главе которой стоял унтер-офицер Киселев, который командовал сербской дружиной. Он был сначала на фронте, а потом в броневой автомобильной роте. Это был человек, глубоко убежденный в необходимости переворота: он первый выступил и говорил, что действительно видит теперь, что путь, по которому пошла вся русская революция, ведет нас к гибели. «Я, — говорил он, — был убежденный революционер, сам первый выступил, был ранен во время этого выступления, а теперь я вижу, что фронта у нас почти нет». Обсудивши с ним вместе этот вопрос, я ему сказал, что я тоже пришел к тому же убеждению. По его мнению, единственное средство, может быть, было бы, если бы я открыто заявил здесь, в Севастополе, о том, что такое положение погубит революцию и всю нашу родину.
Тогда я решил поступить таким образом: я собрал все свободные команды в нескольких местах и, как я это делал раньше, совершенно откровенно высказал все то, что я узнал в Петрограде, обрисовал им положение вещей, указал на бессилие правительства, на то, что фронт у нас в настоящее время разваливается совершенно; удастся ли его восстановить — не известно, и что оказать сопротивление неприятелю невозможно. Для меня казалось совершенно ясным, что в такой громадной войне, в какой мы участвуем, проигрыш этой войны будет проигрышем и революции, и всего того, что связано с понятием нашей родины — России. Я считал, что проигрыш войны обречет нас на невероятную вековую зависимость от Германии, которая к славянству относится так, что ожидать хорошего от такой зависимости, конечно, не приходилось. Германия победит — и мы попадем в полную от нее зависимость. Германия смотрит на нас как на навоз для удобрения германских полей и будет соответствующим образом третировать нас в будущем.
«Чем же расплачиваться придется нам?» — говорил я. Ни для кого не тайна, что мы находимся в самом бедственном положении, и придется расплачиваться натурой — территорией и нашими природными богатствами. И вот наступает, в конце концов, призрак раздела нашего: мы потеряем свою политическую самостоятельность, потеряем свои окраины, в конце концов, обратимся в так называемую Московию — центральное государство, которое заставят делать то, что им угодно, но то, что обусловливало нашу политическую самостоятельность и свободу, — все будет у нас отнято. И вот мое спокойное, объективное и совершенно правдивое, без каких-нибудь недомолвок, сообщение произвело громадное впечатление на всех присутствующих. Ко мне начали обращаться команды с тем, что команды желают сами отправиться и, если надо, послать свои делегации на фронт с призывом продолжать войну во что бы то ни стало, что подобное положение является позорным, что мы прежде всего должны закончить войну, что эту войну можно закончить.
Алексеевский. А в то время были у вас политические комиссары?
Колчак. Нет и не было во все время моего командования флотом. Эти обстоятельства, в связи с тем, что результатов практических не было, — я знаю, там были некоторые лица, которые выступали на митингах от партии с.-p., от партии c.-д., но все это имело чрезвычайно малое влияние, — привели к тому, что дело шло хуже и хуже, и эти события заставили меня задуматься. Состав Совета изменился.
Попов. Какого партийного состава был новый Совет?
Колчак. Тогда было разрешено и офицерам, и командам записываться в какие угодно партии; партийность состава Совета я боюсь характеризовать, но общее течение уже складывалось в пользу большевистской партии. Тогда еще официально такой партии большевиков не существовало, но настроение носило такой характер. Все же я затруднюсь назвать этот Совет большевистским, так как он не носил еще определенной окраски большевизма. К событиям этого времени относится приезд Керенского в Одессу. Я получил приказание прибыть в Одессу с миноносцем, с тем, что Керенский из Одессы пойдет в Севастополь на миноносце. Это было около 20-х чисел мая. Я к назначенному времени вышел с отрядом из четырех миноносцев в Одессу и присутствовал там при торжествах, которые были устроены в честь Керенского. Затем вместе с Керенским я перешел на свой миноносец, и мы отправились в Севастополь. Во время перехода я долго и подробно, почти целую ночь, рассказывал Керенскому о тех обстоятельствах, которые произошли в Черном море. Я сказал ему: «Я не понимаю, чего вы хотите для республики? Во время войны нужна вооруженная сила; я приложил все усилия, чтобы ее удержать, но раз это выходит из вашего плана и это не нужно, зачем я буду продолжать работать?» Он на это ответил: «Я считаю, наоборот, что правительство это, как и правительство прежнего состава, считает, что вы должны оставаться, что теперешнее правительство признательно вам за сохранение Черноморского флота в его боевом состоянии, но вы понимаете, что мы переживаем время брожения: тут надо считаться с возможностью эксцессов». Керенский, как и всегда, как-то необыкновенно верил во всемогущество слова, которое, в сущности говоря, за эти два-три месяца всем надоело, и общее впечатление было таково, что всякая речь и обращения уже утратили смысл и значение, но он верил в силу слова. Я доказывал ему, что военная дисциплина есть только одна, что волей-неволей к ней придется вернуться и ему, что так называемой революционной дисциплины не существует и та партийная дисциплина, которую он приводит, это дело совершенно другое, потому что единственная дисциплина в армии, в сущности говоря, та, которая выражается в известных внешних формах дисциплинарного устава, которая характеризует взаимоотношение начальника и подчиненного; она одна и та же во всех решительно армиях и флотах всего мира, и какой бы ни взяли дисциплинарный устав — наш или американский, — мы найдем там одно и то же, никакой разницы, по существу, нет, есть разница лишь в деталях. То же, что он говорил о примере партийной дисциплины, это есть дисциплина, которая создается не каким-нибудь регламентом, а воспитанием и развитием в себе чувства долга, чувства обязательств известных по отношению к родине, и эта дисциплина может быть у меня, может быть у него, может быть у отдельных лиц, но в массе такой дисциплины не существует, и опираться на такую дисциплину для управления массами нельзя. После его отъезда положение нисколько не изменилось. Все продолжалось в том же духе, в каком все это шло раньше, и у меня было общее впечатление такое, что его приезд никаких результатов не дал и никакого серьезного впечатления ни в командах, ни в гарнизоне не оставил, хотя он был принят хорошо. Затем произошли последние события в начале июня, которые заставили меня уйти с командования помимо желания правительства. В один прекрасный день состоялся митинг на дворе черноморского экипажа; это —· огромная площадь, на которой было 15 000 народа. Я был на этом митинге. Разбирался вопрос персонально относительно меня. Там какие-то неизвестные мне посторонние люди подняли вопрос относительно прекращения войны, представляя его в том виде, в каком велась пропаганда у нас на фронте, — что эта война выгодна только известному классу. В конце же концов перешли на тему относительно меня, причем я был выставлен в виде прусского агрария. В ответ на это я потребовал слова и сказал, что мое положение материальное определяется следующим. С самого начала войны, с 1914 года, кроме чемоданов, которые я имею и которые моя жена успела захватить с собой из Либавы, не имею даже движимого имущества, которое все погибло в Ли-баве. Вечером я получил в первый раз от нового Совета приглашение прийти в Совет на заседание. Как раз приехал Киселев ко мне и сказал, что дело очень плохо, что теперь поставлен вопрос относительно разоружения офицеров и обвинения их в контрреволюционном заговоре. Данных почти нет никаких. Но это теперь пущено кем-то, и среди команды идет по этому поводу брожение. Он сказал, что он будет на этом собрании, но мне там делать нечего. Я все-таки поехал. Я решил посмотреть, так как я никогда еще не видел этих заседаний. Когда я приехал, то увидел, что там идет разговор о контрреволюции, реакции и реставрации и еще о чем-то.
Обвинялся я, во-первых, в том, что являюсь вроде прусского агрария; во-вторых, и это уже обвинение совершенно странного свойства, что я ослабляю Черноморский флот выводом из строя судов. Был один старый броненосец — «Три Святителя», который, ввиду того, что очень много людей просилось в отпуска и мне нужно было чем-нибудь компенсировать людей на транспортах, я решил вывести из кампании и командой этого броненосца «Три Святителя» пополнить команды транспортной флотилии в Одессе. Отпусками в это время ведали уже комитеты, и все отпуска шли без какого бы то ни было контроля со стороны командования. На другой день было дано с одного из линейных судов радио в виде приказа о том, чтобы разоружить всех офицеров, произвести обыски оружия в офицерских квартирах и т. п. Это было часа в три-четыре дня. Сделано это было без уведомления меня, и прежде чем можно было на это как-нибудь реагировать, снестись и поговорить, это было выполнено, и на некоторых судах потребовано оружие. Офицеры были на кораблях. Несколько офицеров застрелились в знак протеста, но в общем никаких эксцессов и историй не произошло. Я сделал распоряжение по своему судну, чтобы никакого сопротивления не было, чтобы не было кровопролития и никакого безобразия. Затем я потребовал собрать свою команду «Георгия Победоносца» и сказал несколько слов по поводу бессмыслицы этого акта и о том, что офицерство разбросано по всем судам небольшими группами, что бессмысленно бояться заговора офицеров, так как приходится их по одному на 15–20 человек команды, и никакой, по существу, опасности они представлять не могут.
Я указал им, что мы, старшие офицеры, были лояльны в отношении к правительству, исполняли все его приказания, что, следовательно, вопрос о какой-нибудь контрреволюции никогда не поднимался. Затем я сказал, что могу рассматривать это как оскорбление, которое наносится прежде всего мне, как старшему из офицеров, здесь находящихся, что с этого момента я командовать больше не желаю и сейчас об этом телеграфирую правительству. Затем я взял свою саблю и бросил ее в воду. Я стоял около трапа и ушел вниз.
После того я послал об этом телеграмму Керенскому, указав, что я уже ни при каких обстоятельствах и ни при каких условиях командовать флотом больше не буду, что я передаю командование старшему после себя адмиралу, что в полночь я спускаю свой флаг, который будет заменен флагом старшего по мне. На другой день к моему чрезвычайно тяжелому состоянию прибавилось известие, что в Севастополь прибыла американская военная миссия адмирала Гленона, которая имела в виду оставаться некоторое время для изучения постановки у меня минного дела и методов борьбы с подводными лодками. Тогда приехала в Петроград миссия Рута. При ней и была морская миссия Гленона, которая приехала ко мне. Эта миссия предполагала у меня проплавать несколько времени и познакомиться с положением дела. Я, конечно, немедленно уехал на берег и сказал, что я никого не принимаю и принять миссию не могу, и она, ознакомившись с положением вещей, немедленно решила уехать. Ночью я беспрепятственно сел в поезд и поехал в Петроград. В этом же поезде ехала как раз американская миссия Гленона. По прибытии в Петроград я должен был явиться — Керенского тогда не было — к его помощнику Кедрову или Ду-дорову. Он мне сказал, что правительство в ближайшие дни соберется, что им назначается особая следственная комиссия, которая спешно выезжает в Севастополь для разбора всего дела. Затем я был принят в Мариинском дворце на заседании правительства. Я сделал доклад, из-дожил в деталях все то, что у меня было, и говорил, уже не стесняясь, резко, что все это я предвидел и обо всем заранее предупреждал, что я не могу рассматривать деятельность правительства иначе, как ведущую к разрушению нашей вооруженной силы.
27 января 1920 года
Колчак. Таким образом, я остался в Петрограде ожидать возвращения из Черного моря комиссии под председательством Зарудного, которая выехала туда в первые дни моего пребывания в Петрограде. В ожидании этой комиссии я жил на частной квартире и почти никого не видел, пока ко мне не явился прикомандированный к миссии адмирала Гленона русский офицер-лейтенант, который передал мне пожелание адмирала Гленона видеть меня и переговорить со мною. Зная о целях миссии, я сказал, что пусть он назначит мне время, когда я могу приехать к нему. Адмирал Гленон жил в Зимнем дворце. Там я был принят Рутом и адмиралом Гленоном. Гленон сообщил мне, что цель его миссии — сделать визит нашему флоту, затем американское правительство интересуется некоторыми вопросами по минному делу и борьбе с подводными лодками и желало бы познакомиться с этим. Кроме того, совершенно секретно он сообщил мне, что в Америке существует предположение предпринять активные действия американского флота в Средиземном море против турок и Дарданелл. Зная, что я занимался аналогичными операциями, адмирал Гленон сказал мне, что желательно, чтобы я дал все сведения по вопросу о десантных операциях в Босфоре. Я ответил на это, что не отказываюсь от этого и готов поделиться теми сведениями, которые у меня имеются.
Он просил меня об этой десантной операции не сообщать даже правительству, так как он будет просить командировать меня в Америку официально для сообщения сведений по минному делу и борьбе с подводными лодками. Я сказал ему, что против командирования в Америку ничего не имею, что в настоящее время свободен и применения себе пока не нашел. Поэтому, если правительство согласится командировать меня, я возражать не буду. Насколько я знаю, этот вопрос обсуждался тогда в совете министров и совет министров без всяких возражений согласился на командирование меня в Америку. Получив от английской миссии уведомление, что мне надо выехать тогда-то, я около двадцатых чисел уехал вместе с миссией по железной дороге на Торнео, Христианию, Берген и действительно совершенно точно приехал к самому отходу парохода. За все время пути ничего замечательного не произошло. По прибытии в Галифакс нас встретил морской офицер — морской агент Миштовт, который заявил нам, что в Монреале нас встретят представители морского министерства Соединенных Штатов, что нам предоставлен специальный вагон, что мы являемся гостями американской нации и чтобы мы не беспокоились ни о помещении, ни о средствах передвижения, так как все это берет на себя американское правительство. Таким образом с полным комфортом мы прибыли в Нью-Йорк и Вашингтон. В первые же дни официальных приемов я выяснил, что план относительно наступления американского флота в Средиземное море был оставлен. Его выполнение было невозможно ввиду того, что шла перевозка американских войск на французский фронт и производить новую экспедицию на Турцию, Дарданеллы было бы совершенно невозможно, хотя военные круги и говорили, что это имело бы большое значение, так как захват Константинополя и вывод Турции из состава коалиции послужил бы началом конца всей войны.
За все это время в Нью-Йорке я ни с кем не виделся, так как с утра до вечера мы все время проводили в академии и занимались своей работой. Мне было поручено ответить на некоторые вопросы чисто технического порядка, и я занимался этим делом. Тем не менее я видел, что отношение Америки к русским было чрезвычайно отрицательное, и оставаться там было тяжело.
Из Америки я решил ехать в Европейскую Россию, дать о своей поездке отчет правительству и затем начать делать что-нибудь. Довольно долго пришлось дожидаться первого парохода, который шел из Сан-Франциско. Это был японский пароход «Карио-Мару». Я решил ехать через крайний Запад на Восток. Я выбрал этот путь прежде всего потому, что в это время в Финляндии уже шла борьба, начались наступления Маннергейма и враждебные действия, направленные против русских. По некоторым данным, я подозревал, что Маннергейм является немецким ставленником. Я выехал из Сан-Франциско. Как раз в день моего отъезда были получены первые сведения о большевистском перевороте 26 октября, о том, что Керенский бежал, правительство пало, а Петроград находится в руках Советов. В Иокагаму мы прибыли около 8–9 ноября. Здесь я был поставлен в курс событий и получил первые сведения о положении дел в России. Меня встретил наш морской агент контр-адмирал Ду-доров, который сообщил мне, что произошел переворот, что Временного правительства не существует и что в настоящее время существует так называемая Советская власть, которая, по-видимому, идет на соглашение с Германией к прекращению войны. Вскоре после этого получилось известие о переговорах и Брестском мире. Это было для меня самым тяжелым ударом, может быть, даже хуже, чем в Черноморском флоте. Я видел, что вся работа моей жизни кончилась именно так, как я этого опасался, и против чего я совершенно определенно всю жизнь работал. Для меня было ясно, что этот мир обозначает полное наше подчинение Германии, полную нашу зависимость от нее и окончательное уничтожение нашей политической независимости. Тогда я задал себе вопрос: что же я должен делать? Правительства, которое заключает мир, я не признаю, мир этот я также не признаю; на мне, как на старшем представителе флота, лежат известные обязательства, и признать такое положение для меня представлялось невозможным.
Обдумав этот вопрос, я пришел к заключению, что мне остается только одно — продолжать все же войну, как представителю бывшего русского правительства, которое дало известное обязательство союзникам. Тогда я пошел к английскому посланнику в Токио сэру Грину и высказал ему свою точку зрения на положение, заявив, что этого правительства я не признаю и считаю своим долгом, как один из представителей бывшего правительства, выполнить обещание союзникам; что те обязательства, которые были взяты Россией по отношению к союзникам, являются и моими обязательствами как представителя русского командования и что поэтому я считаю необходимым выполнить эти обязательства до конца и желаю участвовать в войне, хотя бы Россия и заключила мир при большевиках.
Сэр Грин выслушал меня и сказал: «Я вполне понимаю вас, понимаю ваше положение, я сообщу об этом своему правительству и прошу вас подождать ответа от английского правительства».
Алексеевский. Тогда среди военных, если и не высказанная, то все же была мысль, что Россия может существовать при любом правительстве. Тем не менее, когда создалось новое правительство, вам уже казалось, что страна не может существовать при этом образе правления?
Колчак. Я считал, что это правительство является правительством чисто захватного порядка, правительством известной партии, известной группы лиц и что оно не выражает настроений и желаний всей страны. Для меня тогда это было несомненно. Я считал, что то направление, которое приняла политика правительства, которое начало с заключения Брестского договора и разрыва с союзниками, приведет нас к гибели.
Недели через две пришел ответ от военного министерства Англии. Мне сначала сообщили, что английское правительство охотно принимает мое предложение относительно поступления на службу в армию и спрашивает меня, где я желал бы предпочтительнее служить. Я ответил, что, обращаясь к ним с просьбой принять меня на службу в английскую армию, не ставлю никаких условий и предлагаю использовать меня так, как оно найдет это возможным.
Что касается того, почему я выразил желание поступить в армию, а не во флот, то я знал хорошо английский флот, знал, что английский флот, конечно, не нуждается в нашей помощи. Кроме того, флот гораздо меньше нуждается во внешнем пополнении, так как если корабль гибнет, то он гибнет вместе со всем экипажем. Затем, на что же я мог бы претендовать, идя во флот? Я был командующим флотом в Черном море, я бы пошел на какие угодно условия, но сами англичане, которые меня хорошо знают, были бы в ложном положении. Если бы я был молодой офицер, то меня бы могли назначить на какой-нибудь миноносец, но тут создалось бы нелепое положение. Вот почему я подчеркнул, что желаю идти в армию хотя бы простым солдатом.
Алексеевский. Встречались ли вы в Японии с русскими официальными кругами?
Колчак. Да, я встречался там с Крупенским, Игнатьевым и вообще говорил со всем составом посольства.
Алексеевский. Как смотрел Крупенский на политическое положение в России и были ли у него колебания в отношении правительства большевиков?
Колчак. У всех, кого я только видел, отношение к этому правительству было отрицательное. Они определенно этого правительства не признавали, не отвечали на его требования, которые поступали, и т. д.
Алексеевский. Но ведь для Крупенского и официальных русских кругов в Японии было ясно, что смененное большевистским правительством правительство Керенского также не удовлетворяло требованиям момента и смены этого правительства они желали и раньше. Какого же они правительства хотели?
Колчак. Они желали, чтобы это правительство было авторизировано Учредительным собранием. Общее мнение всех лиц, с которыми мне приходилось сталкиваться, было таково, что только авторизированное Учредительным собранием правительство может быть настоящим, но то Учредительное собрание, которое мы получили, которое было разогнано большевиками и которое с места запело «Интернационал» под руководством Чернова, вызвало со стороны большинства лиц, с которыми я сталкивался, отрицательное отношение. Считали, что оно было искусственным и партийным. Это было и мое мнение. Я считал, что если у большевиков и мало положительных сторон, то разгон этого Учредительного собрания является их заслугой, что это надо поставить им в плюс. Все считали, что нужно создать новое правительство, но что для этого прежде всего надо спросить голоса самой страны. На большевистскую власть смотрели, как на захват власти известной группой, которая не спрашивала, желает ли страна этой власти. Считали, что если такие события произошли, то, по всей вероятности, они будут вынуждены прибегнуть к Учредительному собранию или другому представительному органу, который или авторизирует их, или назначит другое правительство. Таким образом, и к правительству большевиков, и к Учредительному собранию, которое было разогнано большевиками, отношение было отрицательное.
28 января 1920 года
Алексеевский. Мы остановились на вашем отъезде по приглашению английского правительства в месопотамскую армию.
Колчак. Этими переговорами с английским послом в Токио сэром Грином исчерпываются у меня все встречи, более или менее серьезные, которые я имел за время своего пребывания в Японии. Я почти нигде не бывал и виделся только с членами посольства и с членами нашей военной и морской миссий. В конце концов мне удалось в 20-х числах января, после долгих ожиданий, уехать на пароходе из Иокагамы в Шанхай, куда я прибыл в конце января. Из Шанхая я уехал на пароходе в Сингапур. В Сингапуре ко мне прибыл командующий войсками генерал Ридаут приветствовать меня, передал мне срочно посланную на Сингапур телеграмму: английское правительство приняло мое предложение, тем не менее, в силу изменившейся обстановки на месопотамском фронте (потом я узнал, в каком положении дело, но раньше я не мог этого предвидеть), считает, ввиду просьбы, обращенной к нему со стороны нашего посланника кн. Кудашева, полезным для общего союзнического дела, чтобы я вернулся в Россию, что мне рекомендуется ехать на Дальний Восток, начать там свою деятельность, и это, с их точки зрения, является более выгодным, чем мое пребывание на месопотамском фронте, тем более что там обстановка совершенно изменилась.
Подождавши первого парохода, я выехал в Шанхай, а из Шанхая по железной дороге в Пекин. Это было в марте или апреле 1918 года. В Пекине я явился к нашему посланнику кн. Кудашеву. Князь Кудашев мне сказал вот что: «Против той анархии, которая возникает в России, уже собираются вооруженные силы на юге России, где действуют добровольческие армии генерала Алексеева и генерала Корнилова (тогда еще не было известно о его смерти); необходимо начать подготовлять Дальний Восток к тому, чтобы создать здесь вооруженную силу для того, чтобы обеспечить порядок и спокойствие на Дальнем Востоке». Для этой цели Кудашевым, очевидно, раньше был разработан этот вопрос таким образом, что в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги на средства этой дороги, которые предназначались ранее для отдельного корпуса пограничной стражи, охранявшей железную дорогу, положить основание вооруженной силе в полосе отчуждения, сначала под видом охраны этой полосы отчуждения, а затем, когда эти войска будут обучены и подготовлены, двинуть их за пределы китайской полосы на Владивосток или куда-нибудь.
Алексеевский. Значит, выясняется, что, в сущности, главным лицом и инициатором всего этого предприятия (в смысле образования нового правления Китайско-Восточной железной дороги с созданием не только управления дороги, но и администрации территории в полосе отчуждения и созданием учреждения, которое ставит себе целью борьбу с большевизмом) был, в сущности, князь Кудашев?
Колчак. Я думаю, что князь Кудашев и Хорват.
Алексеевский. Скажите, адмирал, вы знали раньше о намерениях Хорвата объявить себя правителем?
Колчак. Нет, у него таких намерений не было. Это была работа Дальневосточного комитета. Если у него эти планы были, то, во всяком случае, мне не были известны.
30 января 1920 года
Алексеевский. Теперь продолжайте ваш рассказ.
Колчак. В это время готовилась интервенция, т. е. ввод иностранных войск на нашу территорию. По всей вероятности, впечатление, которое осталось у японцев, было таково, что я буду мешать этому делу. Поэтому они желали, чтобы я не вмешивался в дела Востока.
Алексеевский. Доходили ли до вас слухи, что параллельно с Дербера существует власть областного земства? Каково было ваше отношение к этим трем организациям власти?
Колчак. Я должен сказать, что единственно серьезным органом, который занимался своим делом, мне представлялось земство, так как все акты, которые представлялись со стороны других правительственных организаций, носили только характер политической борьбы.
Алексеевский. Остается еще третья из возникавших тогда организаций — это дерберское правительство. Ваше отношение к дерберскому правительству не изменилось, когда оно из претендента обратилось в некоторую организацию?
Колчак. Нет, оно осталось таким же, как и было, — я считал его правительством опереточным.
Алексеевский. До вас в Японию доходили известия о том, что в Западной Сибири образовалось западносибирское правительство, и как вы к этому относились?
Колчак. Были неопределенные сведения, что в Омске образовалось западносибирское правительство. Были неясные слухи о том, что в Самаре собирается съезд членов Учредительного собрания, были первые намеки на образование Директории — это были все отрывочные и неопределенные сведения. Из них самое серьезное — это то, что омскому правительству удалось успешно провести мобилизацию в Сибири и что население, совершенно измучившееся за время хозяйничанья большевистской власти, поддерживало, главным образом в лице сибирской кооперации, власть этого правительства. Ни характера этого правительства, ни его целей и тенденций я не знал. Я знал только, что оно противобольшевистское.
Алексеевский. Каково было ваше принципиальное отношение к интервенции раньше, чем вы ее увидели во Владивостоке?
Колчак. В принципе я был против нее.
Алексеевский. Все-таки можно быть в принципе против известной меры, но допускать ее на практике, потому что другого выхода нет. Вы считали ли, что, несмотря на то, что интервенция нежелательна, к ней все-таки можно прибегнуть?
Колчак. Я считал, что эта интервенция, в сущности говоря, закончится оккупацией и захватом нашего Дальнего Востока в чужие руки. В Японии я убедился в этом. Затем я не мог относиться сочувственно к этой интервенции ввиду позорного отношения к нашим войскам и унизительного положения всех русских людей и властей, которые там были. Меня это оскорбляло. Я не мог относиться к этому доброжелательно. Затем самая цель и характер интервенции носили глубоко оскорбительный характер: это не было помощью России — все это выставлялось как помощь чехам, их благополучному возвращению, и в связи с этим все получало глубоко оскорбительный и глубоко тяжелый характер для русских. Вся интервенция мне представлялась в форме установления чужого влияния на Дальнем Востоке.
Во Владивостоке я получил первые сведения о западносибирском правительстве, которое тогда называлось правительством Вологодского. Затем я узнал, что в Уфе состоялось совещание, на котором было решено из сибирского правительства образовать всероссийскую власть, и что во главе этой власти будет стоять Директория. Там же я узнал, что в Архангельске образуется какая-то власть под председательством Чайковского и что все эти отдельные правительства решили объединиться под флагом Директории.
4 февраля 1920 года
Колчак. Переворот совершился 18-го числа вечером, с воскресенья на понедельник. Об этом перевороте слухи носились, частным образом мне морские офицеры говорили, но день и время никто фиксировать не мог. О совершившемся перевороте я узнал в 4 часа утра на своей квартире.
Денике. Прежде чем перейти к дальнейшему, разрешите предложить вам такой вопрос: были ли указания о том, каким образом подготовлялся этот переворот? Вы осведомлены не были и личного участия не принимали, но впоследствии стало ли вам известно, кем и как этот переворот был организован? Кто из политических деятелей и военных кругов принимал в нем участие?
Колчак, Вскоре, в ближайшие дни, я узнал только тех лиц, которые активно участвовали в этом перевороте. Это были три лица. Я знаю, и мне говорил Лебедев, что в этом принимала участие почти вся ставка, часть офицеров гарнизона, штаб главнокомандующего и некоторые члены правительства. Он говорил, что несколько раз во время моего отсутствия были заседания по этому поводу в ставке. Я ему на это сказал одно: «Вы не должны мне сообщать фамилии тех лиц, которые в этом участвовали, потому что мое положение в отношении этих лиц становится тогда совершенно невозможным, так как, когда эти лица будут мне известны, они станут в отношении меня в чрезвычайно ложное положение и будут считать возможным тем или иным путем влиять на меня. Виновники этого переворота, выдвинувшего меня, будут постоянно оказывать на меня какое-нибудь давление, между тем как я считаю для меня совершенно безразличным это, и я не считаю возможным давать или не давать те или иные преимущества».
6 февраля 1920 года
Алексеевский. Известно, что вначале на фронте у добровольческих частей и даже у частей Сибирской армии, которая была сначала организована на добровольческих началах, было враждебное отношение к перевороту. Таково, например, было отношение третьей дивизии, одной из самых боевых дивизий. Другие части оставались в неведении совершившегося переворота: им говорили, что адмирал Колчак действует от имени Директории, что Директория остается, так как в противном случае по настроению солдат можно было ожидать, что они оставят фронт с целью идти ликвидировать переворот.
Колчак. О таких настроениях мне ничего не известно, так как мне об этом никто не сообщал. Наоборот, если у меня и были сомнения, то они рассеялись в ближайшие дни, когда я получил уверенность, что подобная конструкция правительства и власти приветствуется всей армией. И дальше, в последующие дни, я от армии ничего, кроме самого хорошего, кроме самого положительного отношения, не видал. Ни одного оскорбительного письма, ни одного памфлета из армии за все время пребывания моего Верховным правителем я не получал». [Окончание протоколов].
Как говорится, сказано много и не сказано почти ничего…
* * *
Итог работы Следственной комиссии.
«6 февраля 1920 года Иркутский военно-революционный комитет постановил:
бывшего верховного правителя адмирала Колчака и бывшего председателя Совета министров Пепеляева — расстрелять.
Лучше казнить двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв.
Председатель Иркутского военно-революционного комитета А. Ширямов.
Члены: А. Сноскарев, М. Аевенсон.
Управляющий делами Н. Оборин».
* * *
Историческая справка. Об окончании операции «Адмирал» рассказывает С. Т. Брезкун. «Когда нужда в Колчаке отпала, союзники сдали его эсерам и меньшевикам, которые в те годы представляли местную власть в Иркутске. И заметьте: эсеры и меньшевики до поры до времени прекрасно уживались и с белогвардейцами, и с интервентами.
Чешский офицер представил Колчаку комиссию По-литцентра и объявил, что адмирал передается из рук в руки под юрисдикцию Политцентра. По свидетельству Нестерова (эсера, заместителя командующего Политцентра. — С. Б.), Колчак особенно не удивился, но все же спросил: «Это чье решение? Жанен лично знает об этом?»
Чех заверил Колчака, что Жанен знает, и адмирал больше не задавал вопросов».
Очевидно, что, отдавая Колчака Политцентру, Жанен уже предрешил его судьбу. С отступающим Колчаком вывозилось и золото, захваченное летом 1918 года командованием чехословацкого корпуса в Казани. Вагоны с золотом, видимо, попали интервентам в руки в Нижнеудин-ске (хотя из документов следует, что Политцентру вместе с «верховным правителем» должен был быть передан и «золотой эшелон»).
В книге Ю. Кларова «Допрос в Иркутске» приводятся точные данные о количестве общего вывезенного золота — 21 637 пудов 25 фунтов, что в пересчете на современные меры означает 346 тонн! Англичане, американцы, японцы, французы, возможно и чехи, сумели договориться о разделе добычи и вывезли золотой запас России в свои страны. Это не домысел. Публикации о том, что золото России обнаружилось в английских и других иностранных банках, появились недавно в печати, но, кажется, кому-то это не нравится, и тема русского золота исчезла с газетных и журнальных полос…
Голод 1921–1922 гг. в России из-за неурожая (засухи в центральной части России случались и до, и после — в соответствии с одиннадцатилетним циклом солнечной активности) унес многие тысячи жизней. И правительство Советов не могло закупить хлеб за границей, потому что казна была пуста, потому что золото «благодаря» Колчаку досталось интервентам. Те жизни, вернее мучительные смерти, — на его совести.
Сегодня, желая представить большевиков как жестоких и кровожадных уголовников, пишут всякое. Одни — что большевики расстреляли Колчака, другие (понимая: ложь уж слишком явная) — что Колчака расстреляли по приказу Ленина. Приказывать иркутским меньшевикам и эсерам (напомню, что в 1918 году эсеры организовали покушение на Ленина) Владимир Ильич мог с таким же успехом, как если бы он отдавал приказы Колчаку, японцам или английской королеве (части Красной армии вошли в Иркутск только 7 марта 1920 г.).
Говорю так не потому, что большевики поступили бы иначе. Но Ленин настаивал, чтобы Колчака доставили в столицу — чтобы судить и выявить всех виновных, все преступления. Этому есть подтверждения.
Но попытки заполучить арестованного Колчака и переправить в Москву не удались. Судить и развенчать — это нужно было большевикам, но кто-то очень хотел, чтобы этого не произошло, и Колчак был расстрелян.
Известно, что Ленин настаивал и на том, чтобы привезли царскую семью в Москву. Но был еще ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет), который возглавлялся Я.М. Свердловым, именно там было принято решение об уничтожении царя.
Прибавим к этому, что была еще, правда, шифровка из Москвы в Иркутск относительно расстрела Колчака, но, вопреки утверждениям некоторых «знатоков истории», на ней не было подписи Ленина. О том, кто послал эту шифровку (из большевистской Москвы эсерам и меньшевикам, врагам большевиков!), можно только гадать. Это еще одна загадка операции «Адмирал»…
* * *
В заключение этой части книги скажем, что с юридической точки зрения Колчак по-прежнему является преступником. На этот счет есть совершенно определенное решение: «Прокуратура Омской области, изучавшая по заданию Генеральной прокуратуры РФ архивные материалы о деятельности Верховного правителя России Александра Колчака, не нашла оснований для его реабилитации».
Ранее военным судом уже рассматривался вопрос о реабилитации адмирала Колчака в соответствии с Законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий». Определением суда Колчак был признан не подлежащим реабилитации.
Часть 5. СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Мы приводим свидетельства М. Жанена и Георгия Гинса, при этом обращая внимание читателя на то, что эти записи были тщательно отредактированы авторами, пик. предназначались для опубликования. Однако даже из этих «причесанных» мемуаров становится ясным очень многое из того, что касается истинной роли адмирала Колчака, а также действий американцев, англичан, французов и чехов в Сибири.
Морис Жанен. ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА
(впервые эти отрывки из дневника М. Жанена были опубликованы в парижском журнале «Славянский мир». № 12 за 1924 г. и №№ 3 и 4 за 1925 г.)
…12 сентября 1918 г. Масарик[5] занимает (в Вашингтоне) квартиру в огромном отеле, недалеко от французского посольства. Из окон — прекрасный вид на город. Две или три комнаты заняты под канцелярию для секретарей. Кабинет меблирован скромно: много книг и брошюр.
Вначале мы долго беседуем о том, что произошло в России с тех пор, как мы виделись в Могилеве. Он рассказывает мне о чехословацких войсках в России, говорит, что главное командование добросовестно занялось их формированием лишь после назначения генерала Духонина. Все его предшественники (Духонин представил доказательства) разрешали это на словах, но запрещали втайне. Я отвечаю, что прекрасно знал о существовании на высших и низших постах людей, которые методически чинили препятствия. В главном штабе, например, было потрачено полтора года на составление для этих войск полевого устава. Мне пришлось даже протестовать против намерения коменданта концентрационного лагеря наказать чехов за то, что они праздновали тезоименитство Франца-Иосифа. В министерстве иностранных дел шла серия интриг под руководством М. Прикорского, известного австрофила и мадьярофила и пр. и пр. На Керенского, наконец, в этом отношении можно было положиться не более, чем на других. Во всяком случае, меня удивляло, что даже такой честный человек, как Алексеев, и тот действовал исподтишка, равно как и Гурко, у которого это было не в характере и который энергично поддерживал Стефаника.
Он рассказывает мне, что пришлось ему переживать в Киеве в те дни, когда город подвергался бомбардировке, он рассказывает, как улицы, по которым ему приходилось проходить, обстреливались из пулеметов, причем он не знал, двигаться ли вперед или вернуться обратно. Все это рассказывается очень просто. С той же простотой рассказывает он и о днях, прожитых в одном, подвергшемся бомбардировке, московском отеле, откуда его и несколько других лиц посылали в качестве парламентеров.
Он переходит затем к своему проекту провести чехословацкую армию через Сибирь и упоминает о строгом нейтралитете, которого он предписал придерживаться в гражданской войне в России. Нейтралитет считает он необходимым и в настоящее время. Я спрашиваю его, предполагал ли он, что ему действительно удастся выполнить этот проект. Мы в Париже думали, что большевики, как агенты немцев, не пропустят на западный фронт подкрепление, имеющее столь важное значение с любой точки зрения. Он отвечает, что также не рассчитывал довести свой проект до конца без помехи.
Перед уходом с Украины, в конце 1917 года, чехословаки предложили переброситься в Румынию. Стефаник, Бенеш и я, возвращавшиеся из России, сочли это чрезвычайно опасным. Протестовать перед парижскими инстанциями мы, однако, не решились. Однако после измены русских Румыния оказывалась совершенно не способной к длительному сопротивлению, и если бы чехословацкая армия попала в тупик, судьба ее участников была бы ужасна. Это сейчас же пришло мне в голову, говорит Масарик, и поэтому-то я отказался выполнить это категорическое требование. От имени генерала Алексеева потребовали затем, чтобы чехословаки отошли на территорию Дона. Масарик отказался и это требование выполнить, так как ничем не желал содействовать реставрации царизма, а с другой стороны, боялся, что чехословакам будет отрезана всякая возможность отступления.
Согласившись, что эти опасения были вполне справедливы, я ответил, что мне не верится, чтобы эти предложения действительно исходили лично от Алексеева.
Наконец, мы беседуем об армии, перебрасываемся только немногими словами, так как для этих разговоров у нас будет больше свободного времени в Нью-Йорке, куда он собирается через два или три дня… Он указывает на тяжелое положение, в котором чехословацкая армия находится после треволнений, вызванных усталостью и обстановкой. Вопрос о проверке чинов очень затруднителен: он говорил по этому поводу со Стефаником, большим рего-ристом в этом отношении. Я отвечаю ему, что к разрешению этого вопроса нужно подходить с большой осторожностью, так как, по всей вероятности, чины эти не при-своены незаконным образом. Важно, чтобы армия была довольна, и чтобы не было злоупотреблений.
Не помню, при каком именно случае Масарик заметил мне, что Стефаник и я могли бы там сделать «больше дела». Он желал бы, чтобы мы выехали скорее, дабы ввести там порядок.
* * *
18 сентября. Я иду завтракать к Жюссерану[6], чтобы затем вместе с ним отправиться к президенту Вильсону. Посол хвалится приемом, который оказывается ему в Соединенных Штатах. Я даю подробные ответы на все его многочисленные вопросы. Жюссеран — культурный человек, беседа с ним очаровательна.
Мы прибыли в Белый дом в два часа без пяти минут. Жюссеран очень торопился, так как президент Вильсон в отношении приемов точен, «как астрономические часы». Нам действительно пришлось ждать только несколько минут. Мы вошли в зал, где, по словам посла, обычно дежурил офицер. Прошли несколько салонов, поражающих отсутствием каких-либо истинно художественных украшений; на стенах только портреты.
Президент одет с большой тщательностью. На глазах лорнет, веки глаз образуют широкую складку. Манера президента — говорить спокойным голосом, медленно и степенно.
Это было мне на руку, так как я имел возможность в точности следить за беседой. Свои впечатления я впоследствии проверил при помощи посланника. В беседе я принимал участие только единичными словами или даже знаками.
Жюссеран представил меня и объяснил мои функции, роль, которую играю у чехословаков. Ответы вежливы и банальны. Посланник изложил в нескольких словах желание французского правительства подкрепить войска, которые находятся около Мурманска и Архангельска. Английский генерал, командующий там, просил пятнадцать батальонов. Французы посылают четыре и желали бы, чтобы столько же было послано президентом. Он отвечает соображениями чисто отрицательного характера и заявляет под конец, что это «глупая» операция, что вслед за четырьмя батальонами потребуется еще четыре и так далее. Он не хочет быть в нее втянутым. Главным фронтом он считает французский, все остальное — простое разбрасывание сил. Посланник настаивает, ссылаясь на мнение Версальского совета. Президент отвечает, что именно Совет высказался отрицательно. Спор о дате. Президент утверждает, что как раз последнее уведомление отрицательно. Посланник ссылается на заявления Бакера и маршала Фоша. Президент говорит, что Бакер телеграфировал ему как раз противоположное и что маршал Фош требует подкрепления только для французского фронта. Словом, президент категорически отказывается.
Тогда посланник снова заводит разговор о чехословаках и указывает на необходимость подкрепить их на Волжском фронте и попутно упоминает о пользе, которую принесло бы подкрепление американскими войсками.
Президент отвечает, что если нельзя удержаться на Волге, то лучше отступить, чем цепляться за пункты, где нельзя получить помощи. Он говорит по этому поводу о Восточной Сибири и пр. Посланник указывает, как дурно отзовется такое отступление на самих русских и чехах, тем более что, начав отступление, трудно будет остановить его но желанию. Посланник настаивает на необходимости оказать помощь чехословакам оккупированием Западной Сибири, дабы обезопасить их с тыла.
Президент все еще относится отрицательно к вопросу о помощи со стороны американцев, но, как мне кажется, менее решительно, чем в вопросе о помощи на Мурманске. Посланник говорит затем о японцах, о возможности их использования. Президент высказывается с осторож-ностью.%Он подчеркивает разногласия, которые имеют место как в правительстве, так и в военно-японской партии, и добавляет, что намерения японцев не известны. Отвечая на один из вопросов посланника, он, во всяком случае, вполне определенно высказал ту мысль, что, не желая выступать, не будет, однако, мешать выступать другим. Что касается Сибири, то, по его словам, он не прочь оказать этой стране экономическую помощь в широких размерах.
Мы вышли после сорокаминутного заседания. По-ви-димому, это много. Посланник ведет меня затем к генералу Маршу… Он подтверждает все, что говорил президент относительно мнений Бакера и Версальского совета. Посланник, по-видимому, становится все более недоволен своей неосведомленностью.
* * *
14–17 декабря (в Омске). Видел министров. Много их. Наличие младших статс-секретарей увеличивает их численность. Президент Совета министров — некто Вологодский, с трясущимся и заросшим бородой лицом, но в общем довольно любезный, как и Устругов, министр путей сообщения. Министр иностранных дел — Ключников, бывший профессор университета. Единственно, чем он поразил меня, так это красными руками, вылезающими из слишком коротких рукавов. Военный министр — генерал Сурин, бывший профессор военной академии. Он слывет администратором, стаж капитана прошел во Франции. Министр финансов — молодой человек по имени Михайлов. Как мне уже успели сообщить, он — центр группы, энергично интригующей против адмирала в целях реставрации монархии. Эта группа же выявила себя различными убийствами, например убийством сибирского министра Новоселова. Любопытная вещь перманентность министров: они работали с Директорией и работают с адмиралом, который опрокинул Директорию.
В военной среде происходит не меньшая грызня, чем в гражданской. Честолюбцы возбуждаются перспективами повышения и горят желанием помешать своим сослуживцам воспользоваться этими ж^ перспективами. Обвинения в шпионаже, большевизме и пр. очень часты… Начальник главного штаба — генерал Лебедев, который еще в 1916–1917 годах был капитаном в ставке, в Могилеве. Мы не предполагали тогда, что он когда-либо будет назначен на такой ответственный пост.
Реньо, которого мы часто видели, все более и более производит на меня впечатление очень честного человека. Он, как и окружающие его лица, за исключением Пешкова, не знает русского языка, что ставит его в крайне затруднительное положение, тем более что честные люди встречаются здесь до того редко, что приходится удивляться даже и мне, человеку много видевшему. У Реньо встретил Сукина, с которым познакомился еще в Вашингтоне. Сукин занимает у адмирала Колчака пост министра иностранных дел. Достаточно было обменяться с ним несколькими словами, чтобы я убедился, насколько верна данная мне информация о том сильном возбуждении, которое вызвала в сферах радиотелеграмма, посланная Ноксу и мне.
…Адмирал был серьезно болен, и мы — Реньо и я — могли посетить его только 15 декабря. Первая встреча прошла бурно, хотя с нашей стороны была, разумеется, соблюдена учтивость. Он постарел. Я нахожу, что он очень сильно изменился с того дня 1916 года, когда в ставке адмирал Русин подвел его в моем присутствии к императорскому столу в связи с его назначением на пост командующего Черноморской эскадрой. Его щеки ввалились, цвет лица и глаза лихорадочно горели; очень большой нос выдавался еще сильнее.
Колчак действительно получил для меня телеграмму, пересланную из Владивостока генералом Романовским. Колчак полагал, что теперь, когда он стал у власти, державы откажутся от их проектируемого назначения меня и Нокса. Радиотелеграмма неприятно разочаровала его. Он обращается к нам с бурными многословными и разнообразными возражениями сантиментального характера. Он стал у власти при помощи военного переворота, и поэтому главное командование не может быть отделено от диктаторской власти без того, чтобы она не потеряла под собой почву.
«Общественное мнение не поймет этого и будет оскорблено. Армия питает ко мне доверие; она потеряет это доверие, если только будет отдана в руки союзников. Она была создана и боролась без них. Чем объяснить теперь эти требования, это вмешательство? Я нуждаюсь только в сапогах, теплой одежде, военных припасах и амуниции. Если в этом нам откажут, то пусть совершенно оставят нас в покое. Мы сами сумеем достать это, возьмем у неприятеля. Это война гражданская, а не обычная. Иностранец не будет в состоянии руководить ею. Для того чтобы после победы обеспечить прочность правительству, командование должно оставаться русским в течение всей борьбы».
Все это вертится в беседе, все еще очень горячей. Ре-ньо, сохраняя спокойствие, полное доброжелательства, и я, по очереди, проводим с осторожностью, которая необходима в беседе с человеком, находящимся в состоянии нервного возбуждения, все аргументы в пользу этого дела: союзники намерены оказать помощь — это видно из их желания иметь здесь своего человека, они корыстно не заинтересованы в этом вопросе; мое назначение будет продолжаться только до тех пор, пока положение не изменится к лучшему, требование об оказания помощи будет еще больше обосновано, если они будут непосредственно втянуты в военные действия, свою заботливость союзники показали и в назначении человека, находящегося в курсе русских событий и даже окончившего русскую военную академию. Я прибавил лично от себя, что, как дисциплинированный солдат, буду настаивать на выполнении отданного распоряжения. Обязанности, которыми меня хотят почтить, не доставят мне ни малейшего удовольствия, и я бы от них охотно избавился. Я сказал это для того, чтобы убедить его, насколько чужды мне чувства личного тщеславия, а равно намерения посягать на прерогативы правительства.
Наши ответы чередуются с его бурными заявлениями. Он жалуется также на чехов, на их вмешательство в русскую политику и т. д. и т. д. Мы оставляем его очень мало удовлетворенным.
Вторично видел адмирала 17-го. Перед этим узнали мы окольными путями, что собирается Совет министров, который склонялся к тому, чтобы наотрез отказаться от нашего содействия. Однако генерал Сурин ярко указал на опасность такого отказа и на различные выгоды от соглашения. Это мнение, в конце концов, и восторжествовало. Было решено продолжать переговоры. В течение этой второй конференции адмирал было возобновил свои беспорядочные речи, но Реньо, вооружившись карандашом и бумагой, набросал несколько пунктов, над которыми можно было подумать, поработать и продолжать дискуссию. Будет постановлено, что адмирал Колчак в качестве Верховного правителя является, разумеется, также и Верховным главнокомандующим над русскими силами, а я являюсь таковым же только над силами союзников, и что адмирал может назначать меня своим заместителем на фронте, а также своим помощником. Посмотрим, что будет дальше. Протесты адмирала дают основания догадаться, что он претендует на компетентность в военном деле, что, однако, не облегчает положения вещей, ибо очень спорна его компетентность в вопросах пехотной тактики. Русские гостеприимны, но в то же время горды и не любят иностранцев. Это слишком часто заменяет у них истинный патриотизм; их история и нравы это подтверждают.
* * *
26–31 декабря 1918 г. Отъезд ночью в Екатеринбург. Движение медленное. Холмистая местность, слегка лесистая, в жанре Вогезских предгорий, но не особенно живописная.
После полудня мы приближаемся к городу. Вокзалы загромождены до последней степени. Бесконечные вереницы вагонов, служащие жилищами. Большие кучи нечистот. Коза тихонько спускается по доске из вагона, где она, без сомнения, и живет. К другим вагонам привязаны лошади, и не со вчерашнего дня, судя по кучам конского навоза. Такое обилие нечистот, разумеется, антисанитарно, и мне сейчас же сообщают, что здесь свирепствует сыпной тиф.
Встреча на перроне вокзала. Чехи, русские, чешская охрана. Здесь же генерал Гайда с генералом Богословским, своим начальником штаба, губернатор и др.
Резюмируя впечатления, полученные за эти дни от Гайды (о нем мне много рассказывал Стефаник), скажу, что Гайда молод с виду и, наверно, таков же и по годам. Он блондин, длинноголовый, лицо продолговатое, нос больших размеров. Нижняя челюсть болезненна, на что указывают и многочисленные золотые зубы. У него будто бы скверный характер, и Сыровой говорил мне, что между ними натянутые отношения. Гайда был со мной чрезвычайно корректен, почти робок. У него, несомненно, как это говорил мне и Дидерикс, прирожденные военные способности, он дышит энергией, имеет ясный ум и открытый характер. Его требовательность по службе отталкивает от него чехов, которые не всегда терпеливы, с которыми трудно справиться и которые, прежде всего, крайне усталы и издерганы.
Эти демократично настроенные люди обвиняют его в том, что он перенял у русских их внешнее обхождение. Подчиненные ему офицеры следуют в нескольких шагах от него, это удивляет. Политические соображения заставили Нокса свести Гайду с Колчаком, которого Гайда и привез с собой в Омск в своем поезде. Вполне естественно, что Гайдой руководило желание завоевать себе благорасположение представителя большой державы, которая в ту пору одиноко влияла на ход дела в Сибири. Думал ли он хоть на момент о подобном же перевороте в целях своего личного возвышения, опираясь на ореол, который создали ему успехи против большевиков в Забайкалье, я не знаю. Он, разумеется, знал, быть может даже от самого Стефаника, о намерении последнего снять его с командования и отправить с миссией в Европу. С другой стороны, Колчак в одной из наших бесед неблагоприятно отзывался о Сыровом и жаловался на враждебное отношение чехов к Гайде, которого он высоко ценил. Колчак прибавил, что если Гайда попросит, чтобы его приняли на русскую службу, то, учитывая все его заслуги, он не сможет отказать ему в этом. Колчак просил моего содействия. По моему мнению, Гайда поступает неправильно: если бы Гайда, при его природной одаренности и приобретенном опыте, поехал на один-два года во Францию, чтобы там получить основательное военное образование, то впоследствии он бы мог у себя на родине занять более видное положение. Но тем не менее я переговорил со Стефаником (Гайда также просил меня об этом), который более не возражал.
Стефаник только сказал Гайде, что он, по всей вероятности, вскоре же пожалеет, почему не послушался его советов, и затем в крайне предупредительной форме дал ему отпуск. Гайда просил меня оказывать ему, в случае необходимости, поддержку в сношениях с русскими…
Пришли известия о взятии Перми[7]. Имеются сведения об огромной добыче, но в округленных цифрах. Гайда хочет проверить. Говорят о 30 000 пленных, цифра преувеличена, так как силы врага не превышали 32 000 человек (впоследствии стало известно, что значительную часть пленных составляли военнопленные, возвращающиеся из Германии). Во всяком случае, материал был захвачен значительный.
* * *
12 января 1919 г, (Омск). В полдень совещание по вопросу о верховном командовании. Совещание в наших глазах является лучшим способом провалить вопрос, но русские любят устраивать совещания. Была созвана уйма народа: Степанов (будущий военный министр), Сурин, возвращавшийся без всякого удовольствия к обязанностям заместителя министра; Лебедев, начальник главного штаба на фронте; Марковский, начальник главного штаба в тылу, адмиралы Смирнов, Сукин, Стефаник и Павлу, Нокс с Родзянко, наконец, представитель Франции и один или два офицера миссии. Верховные комиссары не явились. Меня избрали председателем. Я, прежде всего, счел необходимым овладеть положением. Все эти недоразумения начинают меня утомлять. Я один веду борьбу за парижское решение. Нокс оказывает мне чисто формальную поддержку, так как обязанности, касающиеся его, не вызывают протеста, и я сомневаюсь, чтобы он особенно горячо желал укрепления моего авторитета. Реньо делает все от него зависящее, но он не знает русского языка, и я должен был потому посадить Пешкова рядом с ним. Открывая собрание, я попросил разрешения сказать несколько слов, чтобы изложить, как говорят здесь, «мою точку зрения». Я сказал следующее:
«Когда Александр I послал в Сибирь Сперанского, когда Николай I послал туда же Муравьева, который получил прозвище Амурского, ни тот, ни другой не имели в виду доставить удовольствие своим посланцам. Я меньше всего хочу сравнивать себя с этими замечательными людьми, но, во всяком случае, мои впечатления и состязания моего духа по прибытии сюда абсолютно сходны с тем, что испытывали и они. Я безо всякого удовольствия выполняю приказ, который был мне отдан. Миссия, мне порученная, выполняется мною с тем меньшим удовольствием, что мне с самого же начала приходится заняться моим личным положением. Несмотря на это, я могу с твердостью сказать, что я являюсь лицом, абсолютно незаинтересованным, так как русские, для которых я должен работать, лично для меня абсолютно ничего не могут сделать. Возлагаемая на меня задача будет служить источником всевозможных неприятностей и не дает мне права рассчитывать на какое-нибудь благорасположение. Кто знает меня по моей прежней работе в России, тот засвидетельствует, что я оказал этой стране больше услуг, чем многие из ее соотечественников. Изучив историю русского народа, я знаю, как он относится к чужеземцам, которые ему служат. Когда я был в Николаевской военной академии, то имел возможность познакомиться с тем, как в свое время относились к Барклаю-де-Толли, несмотря на то, что он спас Россию от Наполеона. Я, тем не менее, как и прежде, буду работать не покладая рук, хотя и не питаю никаких иллюзий.
Несмотря на все услуги, которые я могу оказать; я останусь, как это до меня случилось со многими другими, «нежеланным гостем».
Я сказал это все спокойным, вразумляющим тоном и могу утверждать, что понизил окружающую температуру до 20 градусов. Им нужно говорить то, что думаешь. Вот пример их нелепых мыслей: некоторые из национальной гордости настаивали, чтобы я не участвовал при въезде в Москву…
Лебедев высказал несколько протестов, затем Стефаник прервал общее молчание контрпроектом, содержащим, в сущности, то, что я предлагал. Обсуждали, переобсуждали и через несколько часов перенесли собрание на завтра.
…Получил вечером телеграмму с известием, что Стефаник назначен командиром Почетного легиона. Это прошло не без некоторых затруднений, Стефаник не только чехословацкий министр, но также французский гражданин и офицер, а все следы его назначения офицером были утеряны; этим объясняются многочисленные телеграммы, предшествовавшие назначению.
* * *
13 января. Сегодня два совещания. Одно о принципе командования, который указан телеграммой из Парижа и который русские не знают, как применить. Дидерикс приехал и тоже принимает участие в совещании. Он высказал по поводу фронта соображения, которые странно было слышать из уст такого доблестного человека. И разве не странно брать за правило сохранение армии, не заботясь о потерянной территории и не думая о моральной реакции, которую, в конце концов, эта потеря вызовет в армии. В заключение утверждаются полномочия Нокса, не вызывающие больших возражений. Затем я предлагаю редакционной комиссии (Сукин, Дидерикс и я) собраться завтра у меня для выработки текста.
Дидерикс был у меня с визитом, а также для того, чтобы поговорить по поводу отступления чехов в тыл. Все уже взвешено, вопрос назрел, и я переговорил со Стефа-ником, навестив его сегодня. Следует разрешить его немедленно.
Днем состоялось совещание по вопросу о железных дорогах, на которое я сопровождал Реньо по его просьбе.
Это совещание — продолжение целого ряда попыток. По приезде в Сибирь я уже несколько раз указывал на состояние сибирской магистрали. Работы миссии Стевенса[8], органа Соед. Штатов, в задачи которой входит привести в прежнее состояние железную дорогу, тормозились вследствие затруднений, которые в то время испытывали другие нации. Я все же настаивал, чтобы было принято, наконец, то или иное решение. Я мог требовать только одного, чтобы железнодорожное движение было восстановлено, ибо иначе нам нечего делать в Сибири. Не возлагая на себя никакой ответственности, я предлагал принять прежний, англичанами забракованный, французский проект, рекомендующий создать межсоюзную комиссию под председательством русского министра путей сообщения. Я неоднократно бил тревогу по поводу растущего беспорядка: со средины декабря Восточно-китайская ж. д. отказалась от транспорта в Забайкалье вследствие скопления двадцати шести поездов, которых эта сеть не могла принять.
За последние дни Реньо познакомился с новым проектом англичан, заключающимся в распределении участков между четырьмя союзными нациями. Такое разрешение вопроса смешно и не двинет его с места, русские противятся, так как это умалит роль их администрации. Считая, однако, что восстановить движение смогут только американцы, русские решились, в конце концов, отдать это дело в их руки. Устругов поделился со мной вчера возражениями против английского проекта, который он находит неприемлемым, и просил меня и Реньо о поддержке. Свидание было более чем коротко. Устругов заявил, что русские власти передают железную дорогу заботам союз-ников и требуют утверждения Стевенса. Реньо сказал несколько слов в пользу старейшины союзных представителей. Я, как военный, потребовал окончательного решения и пояснил, что оно может иметь быстрый результат, раз исполнительный орган уже функционирует. Англичане промолчали, японцы тоже. Американцы со своим главным консулом Гаррисом во главе пришли благодарить нас по окончании заседания.
* * *
13 марта. Я составил вчера для Лебедева — начальника главного штаба — ноту относительно латышского батальона из Троицка, который был обучен одним из моих офицеров и который ставка хотела расформировать. Я был сегодня приглашен к Колчаку, и он говорил мне ядовитые речи по поводу латышей и их батальонов, которые он предписал расформировать. Это было вызвано опубликованием в Новониколаевске листка с призывом к рекрутам этой национальности о формировании особой части, который Мартель одобрил в конце октября 1918 г. во Владивостоке. Перепалка была горячая. Мне понадобился добрый час, чтобы заставить его понять, что, прежде всего, латыши находятся не под его, а под моим командованием и, затем, что с русской точки зрения было бы опасно проявить жестокость по отношению к иностранцам в связи с призывом нескольких сотен людей, что, напротив, было бы выгодно выразить в этом вопросе либерализм, тем более что эти боевые единицы были ранее утверждены омской директорией. Сохранять хладнокровие, чтобы образумить человека, который не владеет собой, до того момента, пока он не придет в равновесие, — утомительно для нервов. Взрыв прошел, и вот Колчак снова спокоен и стал даже любезен. Мы говорим о русской авиации… и он просил меня снабдить его французским офицером, который мог бы организовать ее.
* * *
3 апреля. После полудня я говорил с Колчаком о ряде текущих дел, касающихся фронта, а также о прибытии артиллерийского материала… Спокойно беседуя, мы коснулись вопроса об иностранцах (латышах, сербах и пр.). Он вскипел, как молочный суп, и начал резкими выражениями изливать свои жалобы на них. Он ссылается на свидетельство полковника Уорда, который счел их опасными и подлежащими расформированию. Я быстро прерываю разговор на эту тему, ограничиваюсь лишь возражениями, что в этом вопросе Уорд не беспристрастен, так как он, отчасти благодаря своей собственной оплошности, имел в Красноярске неприятное столкновение с сербами, которые, по правде сказать, действительно ни на что не годны. Я предоставил русским властям полное право распоряжаться сербами, как им будет угодно, но русские этим правом не воспользовались. Я занят, как он знает, последовательным упорядочением всех этих иностранных отрядов, согласно повторным инструкциям, которые я получил от их правительств, но я должен заявить ему, что считаю Уорда человеком несведущим, неинтеллигентным и преисполненным сознанием собственного значения, которое, однако, никем не разделяется. Не зная русского языка, он позволяет руководить собою супругам Франк, двум пройдохам и шпионам.
Колчак переходит затем к разговору о чехах и в резких выражениях осуждает их враждебную позицию, чреватую большими опасностями, что, в конце концов, принудит его разоружить их силой: он сам «станет во главе своих войск, прольется кровь» и т. д., как обычно. Он долго распространяется на тему об отсутствии у чехов уважения к русским, говорит об их непочтительности по отношению к иркутским властям. Он обвиняет их в дерзости на том основании, что они требуют, в целях охраны железнодорожного пути, права самостоятельного распоряжения во всей отчужденной зоне и права объявлять военное положение там, где они сочтут это нужным. Я отвечаю мягко и ясно, что его опасения ничем не оправдываются. Я стараюсь достигнуть доброго согласия, но ничуть не могу помочь делу: русские, на всех ступенях, полны недоброжелательства, которое очень затрудняет мои усилия. В своем же глазу они не видят бревна. В столкновении с генералом Артемьевым я не могу обвинять чехов. Они враждебно относятся к человеку, который заявляет, что он является их врагом и предпочитает видеть в Иркутске скорее немецких офицеров, чем чехов. Добавлю, что в конце января Артемьев говорил мне самому такие вещи, которые вполне подтверждают эти слова.
Наконец возбуждение Колчака улеглось, барометрическое давление вернулось к нормальной точке, и он просил меня прийти поговорить с ним в следующее воскресенье.
* * *
10 апреля. Дутов явился к завтраку в сопровождении киргизской охраны, одетой в меховые шапки и малиновые мундиры. Это любопытная физиономия: средний рост, бритый, круглая фигура, волосы острижены под гребенку, хитрые, живые глаза, умеет держать себя, прозорливый ум. Я не знаю, насколько он сведущ в военной тактике, но он должен уметь захватывать своих людей на сходах, дорогих сердцу казаков. Этим я объясняю себе его влияние. Он рассказывает нам о своих битвах во время революции, о своих партизанских операциях и о своем обратном наступлении после того, как большевики отбросили его в пустыню. Он просит у меня поддержки, чтобы обезопасить дальнейшую судьбу своей армии, так как думает, что его снимут с командования. Он говорит, что это ему безразлично, но важно, чтобы его казаки остались вместе и отдельным корпусом дошли до Москвы. Он рассказывает нам, между прочим, о своих расправах с железнодорожниками, более или менее сочувствующими большевикам. Он не колебался в таких случаях. Когда саботажник-кочегар заморозил паровоз, то он приказал привязать кочегара к паровозу, и тот замерз тут же. За подобный же проступок машинист был повешен на трубе паровоза.
* * *
1 мая. Видел Колчака в полдень. Сначала вопрос об охране железной дороги. Затем, не помню, каким образом, он пускается в желчную критику чехов. Все те же знакомые слова: «он станет во главе своих войск, прольется кровь» и т. д. Он обвиняет их в дерзких требованиях, в связи с охраной железной дороги, говорит, что они требуют прав, которые являются посягательством на величие России. По этому поводу он рассказывает удивительную историю: чехи загородили веревками место рядом с его домом, там, где находится мачта радиотелеграфа, и часовой не дал пройти одному из его офицеров и пр… Это нестерпимая дерзость. Он повесит на этой веревке часового и т. д. и т. д.
Я говорю ему, что этот поступок меня удивляет, и я пойду разузнать, в чем дело, Я вышел и навел справку. Случай произошел несколько дней тому назад, и вот каким образом: ванты, поддерживающие мачту станции, привязаны к сваям, которые находятся в широких ямах, вырытых вокруг площади. Эти ямы во время оттепели наполнились ледяной водой, и во избежание падения туда людей некоторые из ям, расположенных совсем вблизи улиц, окружающих площадь, огородили веревками. Офицер из охраны адмирала, возвращавшийся пьяным, наткнулся на одну из веревок. Его предупредили. Он пришел в ярость и, не постаравшись узнать, для чего эти веревки тут находятся, пошел разжигать своих товарищей и самого адмирала… Все же это утомительно.
После, когда взрыв прошел, мы беседовали спокойно…
* * *
22 мая. Мы ходили большой группой в банк по приглашению правительства, чтобы присутствовать при проверке денежного звонкого наличия, спасенного чехами в Казани. Над подвалом, где находились ящики с золотыми слитками и платиновым песком, можно было видеть настоящую выставку золотых и серебряных вещей, положенных на хранение в России и захваченных большевиками, а затем отобранных у них обратно. Там имелась, например, коллекция серебряных и золотых блюд, положенная на имя генерала Дуковского, бывшега генерал-губернатора Восточной Сибири, другие — на имя семьи Терещенко. Эта выставка странствующих вещей, ускользнувших от грабежа, имела зловещий вид, что, однако, не мешало каналье-министру Михайлову, служившему нам проводником, шутить, как гробовщику на похоронах. Он показал нам также конторы, где печатают и сортируют деньги, главный источник доходов омского правительства.
Нокс пришел повидаться со мной. Беседа общего характера: о положении, которое сильно осложняется, о возможностях уехать отсюда и т. д. Мартель говорит со мной о том же. Как пройдет будущая Зима! Как пойдут дела после отъезда чехов!..
Я ответил Стевенсу, который горько жаловался по поводу налетов, продолжающихся на железную дорогу, что, несмотря на волнения в стране, никаких мер не принято для того, чтобы сократить количество поездов и облегчить таким образом их охрану. С другой стороны, невоз-можно требовать большего от чехов, пребывание которых в Сибири не имеет целью охрану пути. Я добавил, что восстановить спокойствие и обеспечить охрану вдоль всей линии железной дороги в такой обширной стране только теми средствами, которые имеются в нашем распоряжении, является делом безмерной трудности. Во всяком случае, значительные результаты уже достигнуты. Подтверждается, что англичане не прочь взять на себя заботу не только об Омской и Уральской железных дорогах, но также и о фронтовых… до России включительно, если бы только дела шли успешно. Они купили на этот случай паровозы, подготовили обслуживающий персонал и пр… Все это помимо Стевенса…
* * *
23–25 мая. Сукин завтракал у меня в пятницу 23-го. Я энергично настаивал, чтобы он направил адмирала на путь смягчительных мер и ослабления режима, которые многие объясняют реакционными намерениями. Лазье страшно отстаивал созыв Земского собора. Он стал гораздо большим демократом, чем тогда, когда служил в консульстве республики. Я указал министру, что для восстановления престижа адмирала было бы лучше не увеличивать количества людей, гниющих без суда в тюрьмах. Не думаю, чтобы он убедился в необходимости либеральных мер; у меня, как и у Лазье, осталось впечатление обратного.
Мы получили по радио текст благодарственной телеграммы, адресованной Колчаком Пишону[9] в ответ на поздравления (полученные как раз в тот момент, когда дела начали портиться). Телеграмма полна трогательного либерализма. Колчак, хотя и подписал телеграмму, составленную Мартелем, но это вовсе не означает, что здесь так именно думают или имеют хотя бы малейшее намерение провести все это в жизнь. Во всяком случае, вчера Сукин отказывался что-нибудь в этом отношении сделать. Чтобы быть «признанным», они подпишут все что угодно. Как я уже говорил Мартелю, это опасная игра. В Париже, где есть охотники развешивать уши, это будет принято за чистую монету, Лазье выразил свое удивление в телеграмме, которую он просил меня отправить. Я со своей стороны, не желая играть роль глупца, телеграфировал следующее:
«Благодарственная телеграмма, посланная адмиралом Колчаком г. Пишону, была оставлена Мартелем, к которому обращались, чтобы улучшить стиль. Благодаря ему в телеграмме выражены те мысли, которыми, по нашему мнению, здешнее правительство должно было бы руководиться»…
* * *
1 июня. У меня завтракал Будберг, новый военный министр. Его долгое пребывание в Сибири заставляет считаться с его взглядами на эту страну.
Он открыто заявляет, что затруднения происходят вследствие неправильной ориентации офицеров и правителей. Коренные сибиряки (а отчасти также и те, которые долго живут здесь) имеют независимый характер, передовые убеждения, но не являются большевиками, тем более что им хорошо живется. Результат патриархального обращения офицеров с солдатами, которых они теперь снова принялись бить, самый отрицательный. Солдаты дают ответ револьверами и ножами. Сибиряки не любят также, чтобы задевали их жен. Беспорядки на Дальнем Востоке объясняются зверствами агентов правительства во Владивостоке и окрестностях. Эти агенты восстановили все население, обращаясь с ними как при старом режиме.
Не лучше и внутри страны, где оно видит власть только в лице военных, которые грабят и отягощают его реквизициями, а население и без того пострадало от большевиков и сейчас находится у последней черты. Необходимо, чтобы правительство показало себя в другом свете.
Есть, продолжает он, пропасть между народом, главным образом между крестьянами и образованным классом, пропасть, объясняющаяся вековой ненавистью потомков рабов к потомкам господ. Прибавьте сюда недостаток патриотизма и энергии у буржуазных классов, некомпетентность таких людей, как октябристы и кадеты, наконец, несчастливую руку литераторов, которые пустили в обращение абсурдные мысли. Взаимное недоверие, беспутство мыслей, особенно у молодых поколений, которые большевизировались на фронте, делают чрезвычайно трудным создание чего-либо среди общего беспорядка. Население питает абсолютное недоверие к неспособным администраторам, склонным к реакции. Единственное средство спасти положение — это создать прочное правительство из людей здорового смысла, воскресить дух законности, исчезнувший повсюду, как вверху, так я внизу, вернуть любовь и привычку к труду. Враждебное отношение к прежним правящим классам вызывает желание видеть страну оккупированной союзниками, которых считают независимыми, беспристрастными, свободными от политических грез и жажды мщения.
Под их опекой успокоятся умы и восстановится прежнее равновесие…
Адмирал отбыл на днях на фронт, Мартель поехал, чтобы передать ему обширную телеграмму, полученную из Парижа. Кажется, в ней ставят условием его «признания» ряд гарантий о выполнении либеральных и демократических обещаний. Не знаю, говорится ли в телеграмме и об избирательном праве для женщин, о котором Нокс несколько дней тому назад не совсем уверенно намекнул Буксеншуцу.
Здешняя публика, учитывая материальные и моральные выгоды, которые доставит им «признание», будет обещать все, что от нее потребуют, и даже больше. АРУ' гое дело — сдержать обещание.
* * *
5 июня. Утром я был у Колчака и говорил о деле Гайды. Беседа довольно дружественная.
— По моему мнению, — говорю ему в ответ, — нужно сохранить Гайду, так как его любит армия, а он и Богословский до сих пор работали хорошо. Опасно менять упряжь посреди брода. Если после этой перемены произойдут какие-нибудь затруднения, будут говорить, что именно она была причиной. Мое мнение, может быть, и не безошибочно, но, по чистой совести, я считаю его, в настоящее время более приемлемым. ЕсХи я ошибся, то приду и сознаюсь в своей ошибке.
Адмирал находит утомительным постоянно выступать в роли мирового судьи между генералами и министрами. Вернувшись затем опять к недохватке в личном составе, он говорит о Дидериксе, который мог бы заменить Гайду. Я отвечаю, что считаю Дидерикса более подходящим для начальника главного штаба. Он пригодился бы сибирской армии своими техническими знаниями, столь редкими.
Решение относительно Гайды следует вынести срочно. Его пребывание здесь вредно отражается на его армии. Это начинает чувствоваться. Левое крыло волнуется. Но, с другой стороны, у него есть друзья даже в правых партиях. Казаки явились выразить ему свои симпатии. Он получил даже предложение о поддержке в случае государственного переворота.
* * *
7 июня. Первые прекрасные дни сменила холодная, ветреная погода.
Чехословацкая сводка за декаду указывает, что транспорт на восток закончен: 262 поезда прошло через Омск.
Богослужение в соборе, затем парад на площади. Матковский показывает войска, в которых пятый не имеет ружья. Обучение элементарное. Все поражены малым ростом и молодостью солдат. По желанию Колчака войска дефилируют с чрезвычайной быстротой, так сказать, по французскому способу. Это празднество устроено в ознаменование годовщины освобождения Омска. После полудня состоялось собрание в Думе, на котором выразили благодарность 6-му чехословацкому полку, сыгравшему в освобождении Омска главную роль.
* * *
8 июня. Павлу известил меня из Иркутска, что английский депутат Уорд отправляется в Англию с намерением открыть против меня кампанию в прессе и в палате общин: мои действия имеют целью свергнуть Колчака, я помогал противным ему передовым и революционным партиям, вопреки моим инструкциям; настраивал иностранные армии против русских и пр. Это ничтожество является рупором своих переводчиков, четы Франк, шпионов и пройдох, которые из большевиков превратились в германофилов и реакционеров. Я уже отмечал, что жена Франк связана дружбой с мадам Имен, которую я выставил за дверь нашей радиопочты, где она служила, за то, что она опубликовала в официальных газетах ряд статей, враждебных союзникам. Она в дружбе с любовницей адмирала. Забавно быть причисленным к революционерам после того, как в палате депутатов меня причислили к друзьям Николая II, что действительно соответствует истине. Вполне понятно, что, поскольку это в моих силах, я и впредь буду препятствовать убийствам и преследованиям, иначе я буду соучастником ежедневно совершающихся преступлений. Если здешнее правительство держится, так только потому, что присутствие чехов в центральной Сибири мешает отрезать сибирскую магистраль. Уорд сделал бы лучше, если бы также занялся этим делом, чем, возможно, доставили бы удовольствие своим избирателям из рабочей партии. Но эти Франки, помимо различных качеств, указанных выше, являются также агентами английской миссии. Это становится тревожным. Нет ли тут, как говорили некоторые, чего-нибудь, вроде предательских козней. Вполне возможно. Наряду с хорошими и лояльными друзьями есть и такие, которые хотели бы видеть меня в другом месте, и хорошие личные отношения не мешает завести в сфере служебных обязанностей.
* * *
21 июня. История, случившаяся с неким Седлики, который знаком с одним из моих офицеров, показывает, какова здесь справедливость. Он был приговорен к смерти по обвинению в содействии рекрутам уклоняться от военной службы. Дело касалось одного его служащего, который ушел со службы прежде, чем получил свой призывной листок. К счастию для Седлики, Колчак был с ним немного знаком лично. Это осуждение удивило Колчака, который приостановил исполнение приговора и послал расследовать сущность дела. Трибунал и главный прокурор в Иркутске признали свою ошибку. Этот человек был осужден только потому, что генерал Артемьев требовал примерного наказания. Осужденному указали всю трудность положения и предложили подчиниться приговору и молчать; его помилуют. Он, однако, не обрадовался такому выходу из положения, ибо не доверяет лицам, которые ему это предлагают, и дело тянется до сих пор. Таких фактов не было даже во времена царизма.
30 июня. Отъезд в 15 часов 30 минут. Остановка в Канске. Кроме чехов я нахожу Красильникова с пикетом своих казаков. Он, неоспоримо, имеет великолепную голову солдафона. Его стадо грабит сильнее, чем повстанцы, которых называют большевиками, и крестьяне считают, что последние лучше дисциплинированы. В одной деревне большевик, изнасиловавший учительницу, был присужден к смертной казни, но когда пришли люди Красильникова, они безнаказанно разграбили все дочиста. В Канске беззаботно расстреливали людей, все преступление которых заключалось только в нежелании отдать свои деньги.
* * *
4 июля. Принимал Сукина, которого сопровождал Мартвль. Он говорил, что пришел удержать меня от намерения вернуть на родину чехов и всех иностранцев вообще. Он говорит, очевидно, от имени своего правительства и упаковавшейся ставки. Явная враждебность в отношении чехов и желание от них отделаться.
Он прежде всего сказал мне, что провоз чехов через Владивосток невозможен и что абсолютно необходимо, чтобы чешская армия без промедления выступила на фронт, в направлении Архангельска или Царицына, для участия в наступлении, которое подготовляется к августу месяцу. Таково мнение англичан (план Винстона, Черчилль-Нокс), американцев и Крамаржа. Я ответил без обиняков, что мне об этом ничего неизвестно, а военные постановления относительно моих войск касаются меня более, чем кого-либо другого, и, в конце-концов, все это никак не согласуется с директивами, полученными от Стефаника через маршала Фоша. На предложение Сукина не считаться с этими директивами я ответил, что это были указания внутреннего порядка и что, к моему большому сожалению, учитывая, что операция подобного рода соблазнительна только при условии ее выполнимости, в настоящее время не может быть и речи о возвращении на фронт. Это возвращение было бы целесообразно перед поражениями и могло бы теперь быть оправданном, если бы только положение вообще изменилось. Я не мог и подумать об отправке моих войск на фронт в момент беспорядочного отступления. Этого не позволяло, главным образом, моральное состояние армии, которое мне пришлось констатировать и о котором я осведомил Европу. Мы — Павлу, Сыровой и я — были солидарны в том, что приказ такого рода, будь он даже из самой Праги, неминуемо повлечет к беспорядкам, последствия которых сейчас не поддаются подсчету. Войска не поверят нам, особенно после телеграммы Бенеша: «Родина не требует от вас более жертв, вы достаточно сделали для нее».
Они предположат обман с нашей стороны, тем более что английские войска оставили при приближении большевиков Екатеринбург, а итальянские войска — Красноярск.
Сукин заявил тогда, что на фронт нужно идти именно сейчас. Идти туда позднее, когда положение изменится к лучшему, будет невозможно, так как русская армия этого не пожелает. Я ответил ему, что я в этом не уверен, но сейчас, во всяком случае, не в моей силе изменить моральное состояние, вызванное рядом фактов и особенно тем враждебным отношением, которое проявляется со стороны омского правительства и которое чехи заметно чувствуют.
Затем Сукин перешел к разговору об отправке на фронт отряда добровольцев. Я ответил, что на это необходимо, прежде всего, получить разрешение чехословацкого правительства. Я, во всяком случае, полагаю, что ввиду морального упадка число таких добровольцев будет мало. Кроме того, я нахожу, что после недавней встряски крайне неблагоразумно извлекать лучшие элементы из частей, нуждающихся в переформировании.
Затем Сукин завел разговор о беспорядках, которые неминуемо вспыхнут зимой, а потому считает необходимым разоружить чехов.
Я очень сухо остановил его, заявив, что этот вопрос я даже не могу подвергать обсуждению. Я послан сюда, чтобы командовать этой армией, а не разоружать ее. Я считаю своим долгом предупредить, что всякая попытка в этом направлении приведет к взрыву, и омское правительство тогда опрокинется.
Что касается беспорядков, которых он опасался, то я уверен, что их можно избежать, если только вопрос об отправке морем будет урегулирован и отправка будет производиться методически. Солдаты вполне сознают, что ускоренная отправка всех невозможна. В конце концов, постепенный отъезд чехов выгоден и для русских, ибо последним понадобится ведь время для замещения войск, охраняющих Сибирскую магистраль, а к этому не сделали еще никаких приготовлений, несмотря на настояния генерала Михайлова и мои. Если они надеются на присылку войск американцами или японцами, то эти последние тоже ведь не сразу придут. Я счел необходимым напомнить Сукину, что если бы в центральной Сибири не было чехов, то вся Сибирь была бы охвачена восстанием, Сибирская магистраль оказалась бы отрезанной, и мы не вели бы сейчас переговоры в Омске. Сукин заметил, что ставка держится другого мнения и считает, что в этом отношении чехи — плохая поддержка.
Я возразил без особенной, должен сознаться, любезности, что компетентность, обнаруженная ставкой в военном деле на Урале и других местах, избавляет меня от обязанности считаться с ее мнением. Генерал Розанов, во всяком случае, приходил горячо благодарить меня за услуги, оказанные чехами.
Тогда Сукин сказал мне, что законопроекты, подготовлявшиеся к опубликованию и благоприятствующие чехословакам в отношении концессий заводов, земли и п., утеряли свой смысл. Это дело омского правительства, отвечал я. Знаю одно, что не в моих силах изменить положение, вытекающее из фактов.
Затем был поднят вопрос о поляках, которых адмирал, Сукин и ряд других лиц обвиняют во всех грехах Израиля. Действительно, поляки имеют недостатки, но кто их не имеет? Сейчас поляки охраняют один из секторов Сибирской магистрали, посылают даже экспедиции на север и на юг от железнодорожного пути. Они твердой рукой справились с большевистской агитацией в своей среде. Я напоминаю все это Сукину. Он указывает, что следует отправить их на фронт. Они, конечно, пошли бы вслед за чехами, отвечал я, но в настоящее время я вообще не знаю, пойдут ли они или нет. Для этого нужно распоряжение их правительства. Он заявляет мне тогда, что если они не пойдут, то их придется разоружить: адмирал находит это абсолютно необходимым. Я отвечаю, что это недостаточная причина.
Говорили также о сербах — вопрос нетрудный — и о румынах, относительно которых я восстановил истину: неоспоримо то, что сейчас они держатся хорошо.
Далее пошла дискуссия о политике. Я заявил ему, что благоразумно было бы дать некоторые свободы, прекратить полицейские преследования и восстановить священный союз. Правительство решило, — ответил он, — идти к цели, невзирая на все препятствия; народ послушен, и нужно только энергично взять его в руки; единственное правительство, которое нужно России, — это монархия.
— Очень возможно, — сказал я, — не сомневаюсь, но эта монархия умерла ведь, а Сибирь другого закала; речь же идет как раз о Сибири, об этом, как видно, совсем не думают.
Он также горько жаловался на союзников, на англичан, которые снабдили Деникина старыми вещами и старым материалом, а их — устаревшими пушками. Поспешный уход англичан из Екатеринбурга произвел потрясающее впечатление.
Наконец, он заговорил о прибытии Морриса, посланника американцев, от которых он, кажется, ждет помощи. Ветер, очевидно, повернул в сторону последних.
В течение нашего долгого разговора я чувствовал себя временами очень натянутым: это бессознательное высокомерие выводило меня из себя. Эти люди забывают, по-видимому, что без чехов и меня они давно уже не существовали бы.
* * *
5 июля. Три русских офицера, вернувшихся из Константинополя, рассказывают мне массу интересных, но печальных фактов. Неприятные вести из Одессы, где русским комендантом города был назначен Гришин-Алмазов, каналья, готовый на все что угодно. Кровавая реакция в Одессе и Киеве, с расстрелами под сурдинку. Все это вызвало общее недовольство, и те люди, которые сначала приветствовали нас, теперь стали большевиками. Конфликт между Деникиным и генералом Франше д'Эспере. Они полагают, что можно было использовать людей Петлюры для формирования войск против нас. Там, как и здесь, все было использовано нашими врагами и нашими союзниками. Франкофобское настроение в армии Деникина. «Французские кепи на юге России вызывают недоброжелательное отношение», — сказал один из них. Эти слова приписываются не Деникину, который не слишком много занимается политикой, а Лукомскому, Драгомиро-ву и Романовскому.
Это, разумеется, осложняется германофильством. Они рассказывают о пребывании в течение нескольких дней в Екатеринбурге высокого представителя главного немецкого штаба.
В общем, та же картина, что и здесь. Реакционные идеи, злоба. Мы выбрались из каши после того, как нам изменили русские, а они сами остались в ней сидеть. Наконец, восхищение немцами, которые их разбили: «Мой испуганный дух дрожит перед твоим». Я давно, еще в России, говорил, что за исключением отдельных лиц, из которых многих, как, например, бедного Николая II, нет уже в живых, все русские — неблагодарные создания.
* * *
6 июля. Я послал на восток длинную телеграмму. Вот ее содержание:
«Один английский консул сказал мне 25 февраля, повторяя слова одного из своих коллег на Урале, что в Сибири называют большевиками всех тех, кто в большей или меньшей степени не разделяет правительственных взглядов, таких, которые их разделяют, немного».
Это бесконечно близко к правде. Я не мог этого констатировать в течение моего пути. Я уже говорил об адмирале и о том, что думают о нем в стране. Его самостоятельная работа довольно слаба; фактически им руководят и отводят глаза. Его среда в настоящий момент подозрительна. Вокруг него вертятся женщины, связанные с людьми, находящимися под подозрением в шпионаже, германофильстве и антисоюзных поступках.
Итак, я резюмирую то, что сказал: давление оказывает на правительство группа министров во главе с Михайловым, Гинсом, Тельбергом; эта группа служит ширмой для синдиката, спекулянтов и финансистов; отставка министра продовольствия благодаря поддержке этой группы и, наконец, хищение в государственном банке. Этот синдикат имеет чисто реакционную и антиреволюционную тенденцию. В нем, как и среди офицеров, наряду с искренними монархистами или людьми, озлобленными потерями и страданиями, причиненными революцией, встречаются также барышники и даже бывшие большевики, которые хотят искупить свою вину.
Коснемся области иностранной политики. Влиятельные лица этого синдиката придерживаются чисто германофильских тенденций. Германофильство заметно также у ряда офицеров, в частности среди офицеров в главном штабе армии, где оно все растет. Известие о подписании Германией мира, указывавшее на ее поражение, вызвало среди лиц упомянутой категории удивление, смешанное с глубоким сожалением. Приходится отметить и враждебное отношение к иностранным легионам, заметно также отрицательное отношение к Антанте, которую подозревают в сочувствии революции.
Итогом всего этого является общее положение. Административные расправы, произвол и зверства полиции вызывают в стране большое озлобление, усугубляющееся тем, что со времени царизма Сибирь вообще держалась левых взглядов. Адмирал, которому я указал на многочисленность заключенных, томящихся без суда, ответил мне:
— Я повторяю министрам, что из ста задержанных нужно, без сомнения, расстрелять десятерых, но за то девяносто немедленно же отпустить. Я констатировал в Екатеринбурге и Иркутске факты, по поводу которых эсеры, добиваясь моего покровительства, заявляли: «Этого не творилось даже во времена монархии».
Этими внутренними беспорядками объясняются и поражения армии. Все это ни в коем случае не расчищает места для необходимого священного союза. Отношения обеих сторон обостряются. Поражения на фронте увеличивают оппозицию передовых партий».
12 июля. Вечером приходил Гайда просить моей визы на чехословацком паспорте и поддержки. Он имел бурное объяснение с русскими, которые хотели расформировать его поезд, и приготовился даже к защите вооруженным путем. Дело уладилось благодаря многочисленным хлопотам генерала Бурлина. Это было мелочно после всего того, что Гайда сделал для Сибири и самого адмирала. Он обменялся с последним (я в этом убедился из других источников) речами, лишенными всякой учтивости. Адмирал упрекал его в демократических тенденциях, в оказании покровительства социалистам-революцио-нерам, в наличии в его армии и главном штабе офицеров прогрессивных убеждений. Гайда ответил, что он считает опасным иметь реакционную ориентацию, что обещания, данные Сибири, не были сдержаны, отсюда шло все зло, и это становилось опасным. Колчак обвинял его в отсутствии военных знаний. Гайда отвечал, что сам адмирал не может ни в малейшей степени претендовать на такие знания, так как ему довелось командовать только тремя кораблями в Черном море. На угрозу, что он отправит его в военный совет, Гайда ответил, что он чех и не подчиняется ему. Гайда просит у меня покровительства и поддержки чехословацких войск, если таковая понадобится: он, кажется, боится, что его арестуют. Я говорю ему, что он вполне может рассчитывать на мою поддержку, тем более что теперь, когда он более не состоит на службе у русских, они не имеют на него никаких прав.
* * *
14 июля. Национальный праздник. Чехословацкий полк захотел участвовать в смотре, устроенном французской авиационной группе. Я завтракал с полковником и несколькими из его офицеров. «В этом полку мало желающих идти на фронт, — говорит он нам. — Добровольцев будет немного, да и они не окажутся способными к длительному моральному сопротивлению».
Фронт разрушается все более и более. Симптоматичными являются чрезвычайно частые убийства офицеров. Полковник хочет остановить батальон, переходящий полностью, с офицером во главе, к неприятелю; офицер осаживает его выстрелом из револьвера. В стороне Троицка, в первой Яицкой пехотной дивизии (там, где латышский полковник Гоппер), три полка, сформированные из солдат армии, сражавшейся в Румынии, перешли к неприятелю, из них один батальон полностью.
* * *
29 июля. Вчера прибыл генерал Нокс. Мне пришлось оказать ему содействие, так как начальник польского легиона отказался пропустить его поезд и даже велел ему убираться прочь. Его душа озлоблена. Он сообщает мне грустные факты о русских. 200 000 комплектов обмундирования, которыми он их снабдил, были проданы за бесценок и частью попали к красным. Он считает совершенно бесполезным снабжать их чем бы то ни было. Я говорю ему, что понимаю его огорчения, так как на его совести лежит вина в возвышении Колчака. Я завел речь об операции на Архангельск, сторонником которой он был, и указал, что невозможность ее выполнения ясна теперь, когда взорваны мосты через Каму; коснулся затем операции на Царицын и передал весьма благоразумный ответ Сырового.
Телеграмма, полученная из Европы, сообщает, что после эвакуации чехов предполагается уменьшить состав миссии и вернуть французские войска. Уф! Это облегчает мне составление подготовляемой мною телеграммы о моем намерении уехать отсюда, как только эвакуируется большинство чехов. Я ответил, что в момент получения телеграммы собирался было телеграфировать о настроении большинства наших солдат; со здешними людьми, в частности с командным составом, установились столь натянутые отношения, что вызвали к ним отвращение достаточно сильное, чтобы вылиться в ряд затруднений. Я излагал еще общее положение, которое было причиной… Наши солдаты славно дрались, когда они были этой зимой на фронте и при наступлении красных «последними» ушли из Екатеринбурга. Но я убежден, что теперь они охотнее пойдут за нами против этого правительства, но не согласятся сотрудничать с ним где бы это ни было: в тылу или на фронте.
* * *
2 августа. Сегодня утром на квартире Нокса Родзянко высказал мне соображения не менее жесткие, чем мои. Здесь, сказал он, нет джентльменов. Он с негодованием рассказывает историю батальона, отправленного на днях из Томска на фронт для подкрепления. В Омске солдаты отказались добровольно идти на фронт, требуя припасов, так как долгое время находились без пищи. На глазах возмущенного Гемпширского полка солдаты были разоружены, и над ними учинена расправа. Днем в приказе генерала Матковского было изложено все происшедшее и в заключение сказано: «Расстреляно двадцать. Бог еще с нами! Ура…»
* * *
8 август. Вчера вечером отбыл в Омск. Мой конвой состоит на этот раз из батальона 6-го чешского полка, прозванного «большевистским» за волнения, которые в нем происходили. До сих пор к его услугам не прибегали — он протестовал.
Линия забита до половины пути между Омском и Петропавловском; дальше она довольно свободна. Встретил множество поездов, тащащих самые несуразные вещи. Грязные солдаты, здоровые и раненные в левую руку, беженцы в теплушках, по-видимому уже давно в них живущие. Некоторые имеют на крыше запас дров, убогие пожитки. Другие вагоны везут в беспорядке сваленную амуницию, материал, бесформенные обломки, куски чугуна, сломанные телеги, старые колеса и пр. пустые платформы и вагоны. Испорченные паровозы… Край спокоен и пустынен.
В 19 часов прибыл в Курган, который был эвакуирован постепенно. Оставил маленький французский авиационный отряд, прибывший передать авиационные аппараты и сказать, как ими нужно пользоваться.
Мои «друзья» Франки имеют команду в Таре за сотни верст от Омска и забавляются операциями над местными большевиками-партизанами. Командование войсками находится в руках женщины…
* * *
16 августа. Д. пришел переговорить со мной по вопросу об аресте полковника Крежчи (командующего чешской дивизией в Томске) в связи с его приказом об охране железной дороги. Я еще не записал эту историю. Крежчи, охраняющий целость Сибирской магистрали в порученном ему секторе, давно уже издал приказ, возлагающий ответственность на население в тех случаях, когда оно не препятствовало попыткам разрушения пути или же не доносило о них. После издания приказа никаких происшествий не было. Деревни сами просили, чтобы им выдали оружие, дабы лучше нести охрану. Узнав об этом приказе, русские власти удивились. Министр Тель-берг сообщил мне, что «Межсоюзный комитет» (это учреждение, которое остается без работы благодаря совершающимся везде зверствам) отменил приказ и уведомил об этом Крежчи.
Я ответил через министерство иностранных дел, что Крежчи подчиняется мне, а не им, что отмена приказа поэтому недействительна, о чем я и извещу полковника. Тогда они попросили меня, чтобы я сам отменил приказ. Я спросил Крежчи, сможет ли он обойтись без приказа, на что получил отрицательный ответ.
Тогда я сказал русским, что 6 марта генерал Розанов издал в Красноярске приказ, гласящий, что за всякое нападение на железнодорожный путь ответственность будет возлагаться на политических заключенных, содержащихся в городских тюрьмах, и известное число их будет повещено. Я добавил, что приказ этот был приведен в исполнение, очень нашумел в области, а потому прежде, чем отменить приказ Крежчи, я должен знать, отменен ли приказ Розанова, дабы иметь возможность вырвать из рук чехов всякое моральное обоснование. Сукин ответил, что приказ отменен. Я готов был поручиться головой, что этой отмены не было, и поэтому потребовал даты отправки подтверждения, чтобы я смог сослаться в моем приказе.
На этом дело и заглохло… Крежчи, во всяком случае, никого не повесил…
* * *
7 ноября. В полдень видел адмирала. Я докладываю ему в нескольких словах о моем отъезде из Новонико-лаевска. Генерал Сахаров, впрочем, уже сообщил ему об этом. Он говорит мне, что правительство и он намереваются незамедлительно уехать в Иркутск. Нужно ли было дать отставку генералу Дидериксу, чтобы теперь сделать то, что он раньше считал необходимым? Беседа тянется.
Он похудел, подурнел, взгляд угрюм, и весь он, как кажется, находится в состоянии крайнего нервного напряжения. Он спазматически прерывает речь. Слегка вытянув шею, откидывает голову назад и в таком положении застывает, закрыв глаза. Не справедливы ли подозрения о морфинизме? Во всяком случае, он очень возбужден в течение нескольких дней. В воскресенье, как мне рассказывают, он разбил за столом четыре стакана.
* * *
8—12 ноября. Сибирь погибла теперь. Какие только попытки мы не предприняли для того, чтобы удержаться, но все они рухнули. У англичан действительно несчастливая рука: это сказалось на Колчаке, которого они поставили у власти, как сказалось и на свергнутом ими Николае II. Не будь этого, не знаю, удалось ли бы нам одолеть большевизм в России, но я убежден, что удалось бы спасти и организовать Сибирь. Народный порыв не был задушен жестокой реакцией, которая всех возмущала и которая ослабляла чехов, заглушая у них всякое желание сотрудничества.
Несмотря на то, что в своих действиях я руководился полученными мною инструкциями, все же чувствую угрызение совести за то, что даже косвенно поддерживал это правительство. Я видел его ошибки и преступления, я предвидел падение и, тем не менее, избегал мысли о его свержении, а это можно было-бы сделать. Драгомиров прав: «Солдат должен уметь не повиноваться…»
* * *
25 ноября. Вот текст чехословацкого меморандума, расклеенного на вокзалах. Я уже давно говорил то же самое, но сейчас опасаюсь, как бы этот меморандум не послужил помехой для нашего размещения на Дальнем Востоке.
Текст меморандума:
«Невыносимое состояние, в каком находится наша армия, вынуждает вас обратиться к союзным державам с просьбой о совете, каким образом чехословацкая армия могла бы обеспечить собственную безопасность и свободное возвращение на родину, вопрос о чем разрешен с согласия всех союзных держав. Войско наше согласно было охранять магистраль и пути сообщений в определенном ему районе и задачу эту исполняло вполне добросовестно. В настоящий момент пребывание нашего войска на магистрали и охрана ее становятся невозможными просто по причине бесцельности, равно как и вследствие самых элементарных требований справедливости и гуманности. Охраняя железную дорогу и поддерживая в стране порядок, войско наше вынуждено сохранять то состояние полного произвола и беззакония, которое здесь воцарилось. Под защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда представителей демократии по простому подозрению в политической неблагонадежности составляют обычное явление, и ответственность за все перед судом народов всего мира ложится на вас: почему мы, имея военную силу, не воспротивились этому беззаконию. Такая наша пассивность является прямым следствием принципа нашего нейтралитета и невмешательства во внутренние русские дела, и она — то есть причина того, что мы, соблюдая полную лояльность, против воли своей становимся соучастниками преступлений. Извещая об этом представителей союзных держав, мы считаем необходимым, чтобы они всеми средствами постарались довести до всеобщего сведения народов всего мира, в каком морально-трагическом положении очутилась чехословацкая армия и каковы причины этого. Мы сами не видим иного выхода из этого положения, как лишь в немедленном возвращении домой из этой страны, которая была поручена нашей охране, и в том, чтобы до осуществления этого возвращения нам было предоставлена свобода к воспрепятствованию бесправия и преступлений, с какой бы стороны они ни исходили».
26 ноября. Остановились в полдень в Канске. Командир 9-го чехословацкого полка подтверждает нам то, что говорил красноярский губернатор и Марковский, но возлагает большую часть ответственности на последнего и на Орлова, командующего русскими войсками. Казаки Красильникова грабят все до женской одежды включительно, которую они продают на рынке. Выведенные из себя крестьяне обольшевизировались, несмотря на то, что единственной мыслью их было оставаться в покое и не драться.
* * *
27 ноября. Так же, как и вчера, медленное продвижение через тайгу. В Тайшете — чувство облегчения. Кадлец в разговоре об экспедиции против банды в 500 или 600 человек заметил, что теперь край почти спокоен. Тем не менее движение здесь также производится под конвоем блиндированного поезда.
* * *
28 ноября. Прибыли днем в Зиму, центр зоны 4-го чехословацкого полка. Крутил говорит, что в полку порядок более или менее восстановлен. Он проявляет мало сочувствия к русским гражданским и военным властям. Павлу уехал уже в Европу, прождав меня так долго, как только мог.
* * *
29 ноября. Поздним утром прибыли в Иркутск. Долго совещался с Сыровым и Гирса, совещались до завтрака и после него.
В политическом отношении город В сильном волнении. Население настроено против Колчака. Власть правительства колеблется. Много эсеров, и они имеют влияние. Иркутская дума отказалась участвовать в праздновании чехословаками праздника независимости 28 октября, ввиду той косвенной поддержки, которую чехословаки оказывали омскому правительству, а также потому, что чехословацкое правительство «недостаточно социалистическое». Меморандум оправдывается возбуждением, произведенным среди чехословацких солдат поступками и действиями местных властей. Благодаря меморандуму, солдаты совершенно подтянулись в моральном отношении. Зато он произвел чрезвычайное впечатление на русских и иностранцев. Все думали, что чехословацкие части готовят выступление против адмирала и его правительства.
Прибыв сюда, министерство пало само собой. Пепеляеву, министру внутренних дел, было поручено адмиралом создать новое министерство. Пепеляев требует права ликвидировать предыдущее, предать его членов суду, провести некоторых военных в военный совет, выбрать министров либеральных убеждений, созвать Земский собор, наконец, жить в добром согласии с чехословаками. Переговоры с адмиралом продолжаются уже четыре дня. Пепеляев отправился к нему в 11 часов, чтобы окончательно решить этот вопрос. Он обратился к Дидериксу, которому не доверяет. Новыми министрами называют: Третьякова и финансов — Бурышкина.
Адмирал ответил на чехословацкий меморандум не менее резкими телеграммами, из которых одна послана представителям союзников, а другая — председателю Совета министров. В этой последней он предписывал срочно телеграфировать Сазонову, чтобы тот потребовал у чехословацкого правительства «присылки лиц, умеющих себя вести прилично». Получив эту телеграмму, министр Пепеляев пошел вести с Колчаком переговоры по телеграфу (я получил через два дня подробный отчет). Пепеляев категорически заявил адмиралу: «Совет министров в сомнении, что они (телеграммы) действительно вами подписаны. Прошу вас мне это подтвердить». Получив утвердительный ответ, Пепеляев ответил: «Необходимость требует, чтобы они немедленно были вычеркнуты из списков. Здесь положение критическое, если конфликт немедленно не будет улажен, неминуем переворот. Симпатии на стороне чехов. Общественность требует перемены правительства. Настроение напряженное. Ваш приезд в Иркутск пока крайне нежелателен. Я слагаю с себя всякую ответственность». Адмирал ответил: «Я возрождаю Россию и, в противном случае, не остановлюсь ни перед чем, чтобы силой усмирить чехов, наших военнопленных». Пепеляев просил отставку, адмирал ее не принял…
* * *
Иркутск. 11 декабря. Адмирал одержим манией величия и наивным лукавством умопомешанного. Известно, что он вел по прямому проводу переговоры с Семеновым, побуждая его двинуться сюда, чтобы повесить министров, обещая ему даже часть вагонов с золотом, которые он за собой тащит.
Новая телеграмма от генерала Занкевича, который требует чехословацких офицеров для охраны поездов адмирала…
* * *
12 декабря. Генерал Дидерикс и его жена пришли благодарить меня за помощь, которую благодаря мне оказали им чехословаки. 8-го, когда адмирал телеграфировал, что снова вручает ему главное командование, Дидерикс поставил абсолютным условием немедленный отъезд адмирала в армию Деникина. Дидерикс открыто говорит, что у адмирала прогрессивный паралич. Министры подтверждают это на основании диагноза врачей. В Новониколаевске к нему явились представители кооперативных организаций и группы в количестве 250 почтенных граждан: они хотели предложить ему 40 000 добровольцев и 300 миллионов рублей.
Он их… ничего не смогли сказать и ушли. Адмирал требует у меня свободного продвижения чехословацких офицеров, в то же время посылает… ядовитые телеграммы с жалобами на них.
* * *
14 декабря. Сыровой, прибывший ночью, рисует мне картину опустошения. Между Мариинском и Красноярском дезертировали почти все железнодорожники. Немногие оставшиеся саботируют: семафоры закрыты, вокзалы пусты, в Боготольском депо 30 пустых или замороженных паровозов и фут льда на рельсах. Для приведения всего в порядок они оставили там Чешских железнодорожников. Беспорядок чрезвычайный. 3 паровоза, отправленные из Боготола в Мариинск, исчезли. Угля не хватает. Транспорт, отправленный из Черемховских копей, захвачен в дороге. Необходимо организовать транспорт и его конвоировать, одновременно с этим усилить производство: жалованье рабочим не выплачено за три месяца… Колчака, который, как ему говорили, находится в полусумасшедшем состоянии, он не видел. Окружающие его люди ищут утешения в вине (ему пришлось «посадить» некоторых из них). Пропустить его рискованно в связи с настроением войск…
* * *
24 декабря. Адмирал, кажется, назначил Семенова главнокомандующим на западе от Байкала и в Иркутске. Нижнеудинск охвачен восстанием, сегодня ночью ожидают восстание здесь. После обеда два японских офицера известили нас о восстании в городе. Лучший здешний 53-й полк, обученный английскими офицерами, перешел на сторону социалистов-революционеров и занимает вокзал и предместье. На станции спокойно. Чешский бронированный поезд «Орлик» несет охрану. Несколько чешских отрядов послано для подкрепления охраны на берегу Байкала.
В час дня влетает, как вихрь, Лохвицкий в сопровождении адмирала Смирнова. Беспокоясь за адмирала Колчака, который может прибыть сюда в разгаре восстания, Лохвицкий просит предупредить его об этом и остановить его поезд. Это сложная вещь, так как сноситься можно только через чешских телеграфистов. Он опасается также, что Колчак будет оскорблен, — опасение, которое не может быть принято во внимание. Телеграмма, составленная Лохвицким, передается от его имени командующему чешскими войсками в Нижнеудинске, а я прошу командующего сделать все возможное, чтобы защитить адмирала. Лохвицкий и Смирнов садятся в мой поезд. Нарышкин, мой товарищ по русской военной академии, тот самый, который хотел «саботировать», если мне будет вверено главнокомандование над русскими, также просит приюта, снимает оружие и просит, чтобы послали за двумя чемоданами к генералу Кандшину, так как он сам не осмеливается это сделать…
* * *
23 января 1920 г. Получен ряд телеграмм по поводу Колчака. Есть от верховных комиссаров, переданные через Фукуду, есть от Будберга и моего старого друга Лохвицкого. Эти два сановника, мирно проживающие во Владивостоке или в Харбине, откуда они заботливо следят за судьбой адмирала, высказывают трогательное негодование при мысли, что я не повел ради его на смерть чехов. Буксенщуц составляет им ответ в немногих суровых словах, напоминая, что если они хотят защищать Колчака, то следовало бы стоять немного поближе, а не у конца телеграфного провода. Что касается верховных комиссаров, то свою информацию, посланную вчера, я дополняю новой телеграммой, текст которой негодующий, злой, ибо они в самом деле слишком злоупотребляют моим терпением. Единственным их делом было в Иркутске — требовать паровозов у Скипетрова и, получив их, уехать. Я уверен, что поступили так не из трусости, а просто потому, что уж очень надоела эта грустная история. Несмотря на мои настояния, они не предприняли никаких шагов перед обеими сторонами: ни в отношении охраны золота, ни в отношении безопасности адмирала. Они не смогли даже добиться у него отречения в такой форме, которой можно было бы поверить, ни даже вовремя побеспокоиться о заложниках, судьба которых определила его участь, как я об этом предупреждал. Обещав добиться активного содействия Семенова, они ограничились благосклонной передачей заверений этого вождя банды убийц.
В настоящее время мы посреди врагов: на японцев нельзя рассчитывать, а Семенов занял угрожающую позицию. Чехи отражают на протяжении 2000 километров атаки красных, которые заставили сдаться поляков; арьергард дерется в трудных условиях, не хватает ни паровозов, ни угля. Вокруг Байкальского озера резня шла вовсю, тридцать один заложник были сброшены в воду. Банды Семенова продолжают убивать и грабить.
Обо всем этом господа комиссары не заботятся. Их тревожит только то, что я, о чем они были предупреждены мною, не нарушил данных мне инструкций и не рискнул подвергнуть разгрому чехословацкую армию в честь того, кто, погубив Сибирь, предписал взорвать туннели, чтобы таким образом обеспечить также гибель и чехословацкой армии. Что лучше всего, так это удивление японского верховного комиссара, не добившегося у меня повиновения, в котором ему, между прочим, отказала его собственная миссия.
Пусть они, по крайней мере, узнают теперь, что я о них думаю. Вспомнить только Николая II и его семью. Они не интриговали с ботами и, тем не менее, для их спасения ничего не было сделано. Посланники отрицательно отнеслись к нашим попыткам спасти их в Могилеве».
* * *
По поводу этих отрывков из дневника ген. М. Жанена возникла небезынтересная полемика между английским генералом А. Ноксом, бывшим в свое время также в Сибири, и М. Жаненом.
А. Нокс в лондонском журнале «Славянское обозрение» за март 1925 г. писал:
«Славянский мир» печатает в своем декабрьском номере за 1924 год отрывки из сибирского дневника генерала Жанена, стоявшего во главе французской военной миссии в Сибири в 1918–1919 гг.
Первоначальной мыслью было — поручить генералу Жанену командование над всеми войсками в Сибири — русскими и союзными. Между тем, и это вполне естественно, с самого же начала не было малейшей надежды, чтобы русские, начавшие войну за освобождение своей собственной территории, согласились поставить во главе армий иностранца. Их категорический отказ от этого предложения задел, как это видно из каждой строки отрывков, самолюбие генерала.
В Сибири, по-видимому, все оказались виновны в последовавшем разгроме, все, кроме самого генерала Жанена. Отрывок из его дневника от 12 ноября 1919 г. особенно это подчеркивает. Он пишет, что англичане, поставившие Колчака у власти, были столь же дальновидны, как и в деле свержения Николая II. «Не будь этого, не знаю, удалось ли бы нам одолеть большевизм в России, но я убежден, что удалось бы спасти и организовать Сибирь». Прежде всего, укажем на то, что переворот, который поставил Колчака у власти еще до приезда генерала Жанена в Сибирь, был совершен сибирским правительством без ведома и всякого содействия Великобритании.
Обвинение Англии в свержении покойного императора не что иное, как немецкая выдумка, в которой нет и тени правды, а генерал Жанен, разумеется, должен это знать.
Заключительная трагедия в Сибири была подготовлена многими факторами. Одним из них, достойным упоминания, но, разумеется, опущенным автором дневника, является тот факт, что французский генерал оказался не способен надлежащим образом дисциплинировать контингенты союзных войск, находящихся под его командованием.
Альфред Нокс».
В ответ на возражение Нокса последовало следующее письмо Жанена:
«Генерал Нокс почтил отрывки моих записей о Сибири, напечатанные моим другом Легра в последнем, декабрьском номере, своим ответом и поправками. По его мнению, мое самолюбие было уязвлено тем, что русские отказались вручить мне командование над их национальными контингентами. Возможно, что на моем месте он бы счел себя бесконечно оскорбленным таким положением, так как в глубине души он недолюбливал русских и, кроме того, был лишен редкого случая проявить свои военные способности. Что касается меня, то я могу подтвердить ему — и он это сам прекрасно знает, так как мы неоднократно беседовали друг с другом во Владивостоке во время чтения параллельных телеграмм, полученных нами из Лондона и Парижа, — что я никогда не желал получить подобного командования. Давно уже будучи знаком с национальной гордостью русских, я всегда полагал и заявлял, и телеграфировал даже во время моего путешествия из Франции к Сибирь, что единственным благоразумным решением было бы оставить русские войска под командованием кого-либо из их соотечественников. Помимо этого, после нескольких дней, проведенных в Омске и при объезде фронта, я обратил внимание на общий беспорядок и моральную и материальную непрочность военного сибирского организма. Я заявлял и телеграфировал, что буду глубоко удивлен, если все это приведет когда-нибудь к удовлетворительным результатам, и что я считаю опасным для французского престижа брать непосредственное командование над таким червивым организмом. Гордость и корыстолюбие повлекут к измене как верхи, так и низы, а затем на нас же обрушат всю ответственность за возможные неудачи.
Если я оспариваю вопрос о высшем командовании, то исключительно сообразуясь только с повторными распоряжениями, полученными из Парижа по согласовании с Лондоном, из двух мест, где, по-видимому, не были осведомлены о положении.
Покончив с этим пунктом, позволю себе сказать генералу Ноксу, что у него, наверное, очень короткая память, если он не помнит, что он был замешан в интриги, которые закончились переворотом Колчака. Речь ни в коем случае не идет о «содействии Великобритании», а единственно только об инициативе, взятой на себя некоторыми ее агентами, инициативе, которую они отрицают и сейчас ввиду ее плачевных результатов. По-видимому, английский генерал не помнит больше смотра, который состоялся 10 ноября 1918 г. в Екатеринбурге, смотра, на котором дефилировал батальон английского миддльсекского полка, который служил адмиралу Колчаку с самого Владивостока в качестве преторианской стражи.
Тогда меня не было еще в Сибири, но французские офицеры, которые мне предшествовали, а также чехи и затем многие русские, свидетели этих памятных дней, должны помнить позицию, которую занимали в этот день английские солдаты и их командующий подполковник Уорд, депутат парламента, член рабочей партии. Последнему, без сомнения, будет неприятно, если английские избиратели узнают, как он поддерживал в Сибири диктатора, также мало достойного внимания, как и диктаторы красные, — но история есть история, и правда не знает лукавства и околичностей. Добавлю, что генерал Нокс, несомненно, был в курсе заговора, замышляемого Колчаком, хотя бы через своего офицера связи Стевени, который присутствовал даже на тайном собрании заговорщиков, где было принято решение привести заговор в исполнение. Стевени не делал из этого тайны, и когда позднее, во время отступления, я спрашивал его в числе многих других союзников и русских, не испытывает ли он некоторого сожаления о содействии возвышению Колчака, которому мы обязаны таким разгромом, он ограничился молчанием. Мне кажется, что, страдая недостатком памяти, генерал Нокс ввел в заблуждение читателей Славянского обозрения.
Остается последний аргумент, стрела Парфянина, инсинуация английского генерала, согласно которой войска, которыми я командовал, не были взяты мною как следует в руки и оказались, благодаря своей недисциплинированности, одной из причин заключительной трагедии. Я имел под своим командованием только чехов и различные контингенты иностранцев. Эти последние вовсе не участвовали в боях после моего приезда — значит дело идет об одних чехах. Английский генерал, без сомнения, повторяет слова своих русских друзей, окружавших Колчака. Да, я часто слышал, как повторяли ему и его близким, что чехи — преступники потому, что, очистив Сибирь от большевистских войск, они отказались продолжать сражаться за русских, которые предпочитали лучше веселиться в Омске, чем рисковать здоровьем и жизнью на больших дорогах и на фронте. В этом городе насчитывалось около 6000 уклонявшихся офицеров (59, например, служили в цензуре главного штаба). Это я, в согласии с их правительством, отозвал чехов с фронта, который они создали почти что одними своими силами, и расположил их вдоль Сибирской магистрали. Они охраняли ее более 8 месяцев, обеспечивая нормальную торговлю и самое существование колчаковского правительства, которое не чувствовало к ним ни малейшей благодарности за эту косвенную, но существенную помощь. Генерал Нокс сам обнаруживает некоторую неблагодарность, забыв это так быстро: без чехов его поезд не циркулировал бы в безопасности между Уралом и Байкалом во время его частых переездов по краю, хозяевами которого, вне зоны, занятой моими войсками, с лета 1919 г. фактически являлись повстанцы. В частности, если бы в момент окончательного отступления из Омска, к которому приближались красные, он так же, как и мы, медленно и последовательными этапами проделал бы это путешествие, вместо того, чтобы быстро укатить к Великому океану, то, наверное, почувствовал бы, что без охраны железной дороги ни одна из миссий не смогла бы вернуться на родину. Чехи, генерал Нокс может быть в этом уверен, ослушались меня только один раз, когда 6-й полк, несмотря на вторичный приказ, отказался оставить ранее меня Омск, находящийся под угрозой.
Конечно, чехи чувствовали глубокое отвращение и омерзение к диктатору и режиму, установленному им в Сибири. Возможно, что положение улучшилось бы, если бы, вопреки хорошо известному отношению их правительства к Колчаку, — Масарик прозвал его самозванцем (авантюристом), — я постарался бы расположить их к последнему.
Но мне, командующему ими и отвечавшему за их честь и жизни, казалось преступным жертвовать пятьюдесятью тысячами храбрецов, истощенных войной и лишениями, ради удовольствия и выгоды пройдох, спекулянтов и грубых реакционеров, собравшихся в Омске и представлявших прежнюю Россию. Я выделяю самого Колчака, ответственность с которого снималась его нервным забо леванием. Впрочем, чувства, которые, как я сказал выше, воодушевляли чехов, разделялись всеми прозорливыми и свободомыслящими людьми, которые видели преступления, ложившиеся на ответственность омского правительства; длинный ряд убийств, который развертывался, начиная с уфимских учредиловцев в декабре 1918 г. до иркутских заложников, утопленных в Байкале в январе 1920 г.; бесстыдное взяточничество министров и их свиты; кражи интендантства и администрации, мотовство генералов, грабежи, жертвой которых являлось трепещущее население, полицейские зверства, возведенные в систему, и, наконец, преследование всех тех, кого подозревали в несо-чувствии правительству и которых причисляли по этой причине к большевикам.
— Число тех, кто признает правительство, невелико, — заметил мне иностранный консул летом 1919 г., — и оно уменьшается с каждым днем. — Во времена Николая II не творилось то, что творится сейчас», — говорили мне социалисты-революционеры, которым я спас жизнь, и я отвечал им, что очевидно, не стоило труда сменять правительство. Русский полковник Родзянко, за столом самого генерала Нокса, заявил мне, что в Омске «было слишком мало джентльменов» и что, будучи убежденным монархистом, он сидел в Сибири на крайней левой. Генерал
Нокс и сам иногда выражал сочувствие таким мнениям, особенно когда испытывал некоторое отвращение к своим обязанностям командующего тылом страны, у которой не было фронта: например, он видел, как русские войска новых формирований, обученные его стараниями, одетые в прекрасные английские мундиры, которые он им доставил и на которых еще не успели сменить пуговицы, показывали спину, как только их ссаживали с поезда, и переходили к красным.
Может быть, он не забыл пленарное собрание союзных миссий, состоявшееся 29 июля 1919 г. в министерстве иностранных дел в присутствии посла С. штатов, где, описав со справедливой жесткостью все, что творилось, он закончил перечислением всего снабжения и загубленного материала и добавил: если теперь я попрошу еще что-нибудь у моего правительства, пусть мне скажут, что я «отъявленный дурак».
Мои офицеры признавались мне, что они против воли поддерживают такой режим, и один из них в моем присутствии сказал в посольстве С. штатов, что принадлежал к семье, в которой приверженность к законной власти является наследственной, но, будь он сибиряк, то предпочел бы Колчаку большевиков. Я сам, ничем не способствовавший возвышению последнего, спрашивал себя не раз, не ложится ли на меня ответственность, за преступления, совершаемые ежедневно, в связи с той косвенной поддержкой, которая дала омскому правительству возможность существовать.
Мысль, что область моей деятельности стоит вне политики, не ослабляла угрызений совести, часто изливавшихся на страницах моего дневника. Я думаю, что, несмотря на плохую память, генерал Нокс должен испытывать еще более горькое угрызение совести.
М. Жанен».
Георгий Гинс[10] СИБИРЬ, СОЮЗНИКИ И КОЛЧАК
Переворот 18 ноября
Рано утром меня разбудил секретарь Вологодского.
— Вы ничего не знаете?
— Нет.
— Директория арестована! Сейчас экстренное заседание Совета министров.
Еду в Совет министров. По дороге встречаю Вологодского в сопровождении только что прибывшего из Томска Гаттенбергера и большого конвоя. В здании Совета еще не все министры, многие взволнованы. Никто ничего не знает, Вологодский не осведомляет.
— Подождите, — говорит, — сразу скажу.
Приходит Колчак. Он только что прибыл с фронта, куда поехал сейчас же по назначении его министром. Рассказывает о теплой встрече, которая ему была оказана, о тяжелых условиях, в которых живут на фронте солдаты. Все стараются говорить о посторонних вещах.
Позже других является Михайлов. Его разыскивали. Наконец все в сборе.
Вологодский открывает заседание; рядом с ним Виноградов, Вологодский сообщает об аресте Авксентьева, Зензинова, Аргунова и Роговского, о том, что уже обнаружились очевидцы того, как полк. Красильников, один из организаторов противобольшевистских казачьих отрядов, ночью на улице спрашивал своих офицеров:
— Ну что, готово?
— Видели какой-то грузовик, набитый солдатами.
Что же дальше?
Воцарилось тягостное молчание. Я могу утверждать с полным убеждением, что для подавляющего большинства переворот был совершенно неожиданным. Я, например, только догадывался о подготовляющемся заговоре, потому что слышал как-то от одного офицера, что все военные были бы рады видеть, вместо Директории, одно лицо. И когда я спросил, есть ли такое лицо, которое пользовалось бы общим авторитетом, то он сказал:
— Да, теперь есть.
Могу также с уверенностью сказать, что о перевороте ничего не знал и Колчак. Мне рассказывал впоследствии один из участников переворота, покойный ныне В. Н. Пепеляев, как происходили совещания в вагоне на ветке омского вокзала, как решено было предварительно показать адмирала Колчака на фронте, где заранее подготовлена была ему встреча, как адмиралу внушили мысль поехать и выполнили весь план, в расчете, что под влиянием выслушанного там и под впечатлением встречи он не уклонится принять на себя роль диктатора.
Совет министров был застигнут врасплох. Некоторое время в заседании царило тягостное молчание.
Первым взял слово министр продовольствия Зефиров.
— Я думаю о политике, — сказал он, — прежде всего с точки зрения рубля, которым оперирую, как покупатель. В интересах этого рубля я желал бы, чтоб сейчас же было выяснено, кому же принадлежит теперь власть.
После этого прения пошли по пути искания форм власти. Факт свержения Директории был признан. Восстановление Авксентьева и Зензинова казалось немыслимым. Власть могла перейти к трем оставшимся членам Директории, но это был бы суррогат Директории, идея которой, как коалиции, умирала вместе с выходом левой половины. Принятие власти всем составом Совета министров было бы повторением неудачного опыта Временного российского правительства князя Львова и Керенского. Казалось невозможным и создание новой Директории, после того как эта форма оказалась скомпрометированной примерами только что пережитой эпохи Сибирской ди-ректории* какою, по существу, было правительство Вологодского, разлагавшееся от внутренних раздоров и внешних партийных воздействий, и еще более кратковременной и безотрадной деятельности Директории.
— Значит, диктатура? — окончательно формулировал в форме вопроса Виноградов.
Признаюсь, когда этот вопрос был задан, я пережил минуты тяжкого волнения.
Подготовляя декларацию Вологодского для Сибирской областной думы, я с полным убеждением и искренностью вставил в нее фразу о диктатуре, «заранее обреченной на неудачу». Я был убежден в этом, потому что только исключительно выдающийся и удачливый диктатор мог бы примирить с собою стихию революции, не выносящей никакого «навязанного» ей порядка, признающей только то, что сохраняет ее свободу.
Кто мог быть диктатором? После теоретических рас-суждений о форме власти надо было поставить и этот роковой вопрос. Тогда взоры всех обратились на адмирала Колчака.
— Кто? — спросил Вологодский,
— Генерал Болдырев! — ответил Розанов, начальник штаба Верховного главнокомандующего.
Болдырев, который уже сейчас состоит верховным вождем армии, не может быть в настоящее время смещен без ущерба для дела. В этом смысле высказался и адмирал Колчак.
— Адмирал Колчак, — назвали другие.
«Генерал Хорват!» — почему-то не сказал, а написал мне министр путей Устругов.
Генерал Хорват был популярен, главным образом на востоке, да и там благодаря тому, что он возглавлял одно из правительств, вокруг его имени создались слишком ожесточенная борьба и озлобленность. Ген. Болдырев был малопопулярен в армии. Это был «новый человек», он не мог конкурировать с адмиралом Колчаком.
Но знал ли кто-нибудь близко адмирала Колчака? В Совете министров — никто.
С Дальнего Востока были привезены кое-какие сведения о неуравновешенности его характера, но здесь, в Омске, его видели всегда сосредоточенным и спокойным. Устругов мог рассказать больше, но он этого не сделал.
Колчак не отказался баллотироваться. За него были поданы все голоса, кроме одного. Один был дан за Болдырева.
Любопытно, что из состава Совета против диктатуры возражал только Шумиловский. Все министры, ставленники Директории, оказались сторонниками единовластия. Так совершился переход к диктатуре. Был ли другой выход из положения, сложившегося к 18 ноября, я затрудняюсь сказать. Для меня ясно лишь то, что избрание Верховного правителя оказалось актом вынужденным, последствием партийной борьбы и военного заговора. История знает диктатуру, сила которой покоилась на народном избрании — этого в Омске не было. Идея диктатуры была выдвинута малочисленною группою населения. Адмиралу Колчаку предстояло завоевать себе всеобщее признание. Если бы диктатура создалась сама собою, по мере роста влияния и укрепления авторитета одного лица, то общее преклонение заменило бы тогда официальное признание. У адмирала Колчака было славное имя, оно помогло ему укрепиться, но имя его было чуждо широким народным кругам, и ему предстояло создать себе народную популярность.
Адмирал принял избрание; но он еще не отдавал себе ясного отчета, как широка будет его власть. Это обнару-жилось при установлении титула. Он был смущен предложенным званием Верховного правителя, ему казалось достаточным звание Верховного главнокомандующего, с полномочиями в области охраны внутреннего порядка. Между тем членам правительства казалось, наоборот, что адмирал не должен быть Верховным главнокомандующим. В его лице рассчитывали видеть устойчивую верховную власть, «свободную от функций исполнительных, не зависящую от каких-либо партийных влияний и одинаково авторитетную как для гражданских, так и для военных властей.
Однако адмирал настаивал, что именно Верховным главнокомандующим он и должен быть, так как не иметь непосредственного влияния на ход военных дел — значило, по его мнению, не иметь вообще ни силы, ни значения.
Совет министров согласился, не продумав значения и последствий своего решения. На этот раз ошибка оказалась несомненной, но обнаружилась она позднее, когда выяснилось, что адмирал фактически не был и не мог быть главнокомандующим, так как он был силен на море, а не на суше.
Роковая неожиданность переворота поставила Совет министров перед фактом, заставила его принять решение без подготовки, избрать диктатора, недостаточно оценив его качества, определить его права, не выяснив твердо политических целей.
Я никогда не был революционером, и опыт пережитого лишь укрепил меня в убеждении, что всякий переворот приносит больше несчастья, чем выгод. Те, кто свергнул Директорию, приняли на себя тяжкую ответственность, и, судя по тому, что произошло, они, видимо, мало продумали политическую программу будущего, сговорившись лишь на замене Директории Колчаком.
Вологодский остается
После избрания Верховного правителя Вологодский и Виноградов заявили об оставлении ими должностей председателя Совета министров и заместителя председателя. Виноградов при этом добавил, что он остался бы, если бы верил, что происшедшее принесет благо стране, но он в это не верит.
Попытка уговорить его остаться, чтоб усилить преемственность власти, не увенчалась успехом. Иначе отнесся к этим просьбам Вологодский. Он расплакался в заседании — до такой степени был взволнован всем происшедшим. Со свойственной ему искренностью он заявил, что ни совесть, ни рассудок не позволяют ему остаться и что он не видит в себе надобности. Но общая единодушная просьба, поддержанная и Колчаком, остаться во главе Совета министров, чтобы Сибирь, привыкшая к имени Вологодского, знала о том, что у власти остались прежние люди, повлияла на мягкого и уступчивого председателя, и он остался.
Конструкция власти
— Значит, диктатор? — спросил Виноградов.
По существу, это было так. Но Совет министров, не стремившийся к установлению диктатуры, искал какого-то среднего выхода, и, когда Старынкевичу, Тельбергу и мне предложено было выработать основной закон, определяющий права Верховного правителя и права Совета министров, мы остановились на мысли, что Российское правительство составляет Верховный правитель и Совет министров. Законодательная власть Верховного правителя была ограничена, он стал «диктатором конституционным».
На акте 19 ноября отразились как спешность его составления, так и двойственность настроения его авторов, и я, один из трех авторов, сознаю, что акт был не вполне удачен. Мы рассчитывали на восполнение его новым Положением о Совете министров, которое было поручено разработать новому управляющему делами, проф. Тель-бергу. Но он не сделал этого, а практика пошла путем зигзагов, которые в результате исказили сущность ноябрьской конституции.
Совет министров превратился в законодательный орган, не ответственный за внутреннюю и внешнюю политику. Вся тяжесть политической ответственности пала на плечи адмирала и его ближайших советников.
Причины переворота
Что послужило причиною переворота?
Я думаю, основная причина — это общая неудовлетворенность уфимским компромиссом. Директория — креатура левых — утратила свой престиж у эсеров, как только там появился Чернов.
Из оставшихся после Директории материалов выяснилось, что на заседаниях эсеров, происходивших в Самаре с конца августа по начало сент. 1918 г., когда постановлен был вопрос об ответственности власти в ультимативной форме, большинство высказалось за возможность, в крайнем случае, признать безответственную власть — такое решение принято было большинством: 35 голосов против 7. Затем, когда этот вопрос был поставлен не в ультимативной форме, ответственность Временного правительства перед съездом членов Учредительного собрания была принята большинством: 19 против 14 при двух воздержавшихся, а вся резолюция принята была 25 против 13 при 1 воздержавшемся, на собрании фракции 4 октября.
Первое голосование явно свидетельствовало о готовности партии принести партийные интересы в жертву государственной необходимости создать всероссийскую власть. Но стоило Чернову взять в свои руки бразды правления — и все эсеры-максималисты закусили удила. Второй партийный съезд, состоявшийся уже после избрания Директории, постановил, что члены партии, участвующие в правительстве, должны нести ответственность за свою политику перед центральным комитетом партии. Это решение окончательно скомпрометировало Авксентьева, Зензинова и Роговского в глазах военных и буржуазных кругов.
Левые и правые группы были настроены враждебно к Директории. Центр еще не успел сложиться. Он еще связан был с эпигонами Сибирского правительства, которое имело реальную жизненную опору в умеренных элементах. Директория висела в воздухе — некому было прийти ей на помощь.
Неизбежность решения
Что мог сделать в такой обстановке Совет министров? Мыслимо ли было воссоздание Директории? Каков был бы ее удельный вес после вынужденного путешествия главы Директории на грузовом автомобиле в загородные казачьи казармы? Какими средствами можно было бы предотвратить новые самоуправства отдельных воинских отрядов?
Совет министров вынужден был всем ходом событий сосредоточить верховную власть в руках одного лица, одинаково авторитетного и для гражданских, и для военных кругов.
Совет министров не закрывал глаза на ту грозную опасность военного самоуправства, которая создавалась справа. Он одинаково осуждал и разрушительную работу черновцев, и укреплявшуюся атаманщину.
Эти мотивы указаны в опубликованном 20 ноября правительственном сообщении о перевороте:
«Сосредоточение власти, отвечающее общественным настроениям, остановит, наконец, не прекращающиеся покушения справа и слева на неокрепший еще государственный строй России — покушения, глубоко потрясающие государство в его внутреннем и внешнем положении и подвергающие опасности политическую свободу и основные начала демократического строя.
Сосредоточение власти необходимо как для деятельной борьбы против разрушительной работы противогосударственных партий, так и для прекращения самоуправных действий отдельных воинских отрядов, вносящих дезорганизацию в хозяйственную жизнь страны и в общественный порядок и спокойствие».
Процесс борьбы с большевизмом, ее подпольный период и бессистемность свержения большевиков, созданная чешскими выступлениями в различных местах, привели к неожиданным и крайне уродливым явлениям.
Бывшие руководители антибольшевистских офицерских организаций в главных городах Сибири как будто поделили ее между собой, учредив военные округа и став во главе этих округов. Они ввели территориальную систему, при которой каждый округ автономен, т. е. он формирует у себя корпус войск из местных людей и на местные средства. Поэтому каждый округ считает своей собственностью все войсковое имущество, находящееся на складах в округе, и не делится им с другими.
Это и было нарождение «атаманщины», превращение государства в какое-то феодальное средневековое сожительство вассалов, мало считающихся с сюзереном.
Пока Самара с Томском сочиняли заговоры и отвлекали внимание омского правительства от деловой работы, эти уродливые явления становились все прочнее.
Кто кроме авторитетного военного человека, казалось Совету министров, мог справиться с этими местными царьками?
Был ли другой выход? Можно было повернуть обрат-но — созвать Сибирское собрание и воссоздать Сибирское правительство. Но жребий был брошен; провозгласив лозунг объединения, возвращаться к областничеству казалось уже безумием. Страна вновь распалась бы, и мучительный процесс ее собирания мог бы оказаться более трудным. В момент собирания страны, при попытке создания общегосударственного центра, областничество может быть только вредно. Оно хорошо как средство при освобождении окраин и как цель второй очереди после объединения государства.
Вина Директории
Можно ли упрекать слабых волею, недальновидных людей за то, что они не обладают характером и прозорливостью? У Директории не было другой вины перед Россией. Все вымыслы о якобы имевших место сношениях Авксентьева с большевиками, никем никогда не подтверждавшиеся искаженно передававшиеся отзывы его об армии — все это тень злобы и раздражения нападавших. Неумение показать независимость от эсеров, постоянные совещания с партийными деятелями, многословие и отсутствие реальности в политике — вот истинная вина Директории. Но если всмотреться в обстановку ее работы, то приходится признать, что Директория с первых же дней не владела событиями. Жизнь шла мимо нее: слишком искусственно было ее создание, слишком далеко она стояла от реальных политических сил.
Акты государственного переворота
18 ноября по телефону во все концы Сибири были переданы следующие сообщения:
«Вследствие чрезвычайных событий, прервавших деятельность временного всероссийского правительства, Совет министров, с согласия наличных членов Временного всероссийского правительства, постановил принять на себя полноту верховной государственной власти.
Постановление Совета министров от 18 ноября 1918 г. Ввиду тяжкого положения государства необходимо сосредоточить всю полноту верховной власти в одних руках. Совет министров постановил передать временно осуществление верховной государственной власти адмиралу Колчаку, присвоив ему наименование Верховного правителя».
Адмирал Колчак, со своей стороны, обратился к населению со следующим воззванием:
«Всероссийское временное правительство распалось. Совет министров принял всю полноту власти и передал ее мне, адмиралу Александру Колчаку.
Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, объявляю, что я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности.
Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру.
Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, к труду и жертвам.
Верховный правитель адмирал Колчак.
18 ноября 1918 года. Город Омск».
Отношение Сибири к перевороту
Переворот 18 ноября прошел не вполне гладко, но в общем был принят спокойнее, чем можно было думать. В Омске он вызвал некоторое волнение умов, но оно скоро улеглось.
Помню, в день избрания Колчака я встретился с одним из своих сослуживцев по кооперации.
— Неужели диктатора избрали? — спросил он, почти бледный.
— Не бойтесь, не так страшно, — успокоил я его.
В этот день ожидались выступления. В городе в это время уже расквартирован был английский отряд во главе с тем самым полковником Воорд, который, проезжая по Сибири, стыдил русских за упадок их национальных чувств и дисциплины. Присутствие этих войск влияло успокаивающе на возбужденные умы.
Протестующие голоса раздались лишь на окраинах.
С запада протестовали «учредиловцы» и чехи, с юга, из Семипалатинска — атаман Анненков, с востока очень быстро пришло приветствие ген. Хорвата, но вслед за ним — протест Семенова. Некоторые сомнения, впрочем очень осторожно, выразил от имени оренбургского и уральского казачества атаман Дутов.
Протест эсеров
Первою пришла протестующая телеграмма из Уфы на имя Вологодского:
«Узнав о государственном перевороте в Омске, Совет управляющих ведомствами заявляет: узурпаторская власть, посягнувшая на Всероссийское правительство и Учредительное собрание, никогда им не будет признала. Против реакционных банд красильниковцев и анненковцев Совет готов выслать свои добровольческие части. Не желая создавать нового фронта междоусобной войны, Совет управляющих ведомствами предлагает вам немедленно освободить арестованных членов правительства, объявить врагами родины и заключить под стражу виновников переворота, объявить населению и армии о восстановлении прав Всероссийского временного правительства. Если наше предложение не будет принято, Совет управляющих ведомствами объявит вас врагом народа, доведет это до сведения союзных правительств и предложит всем областным правительствам активно выступать против реакционной диктатуры в защиту Учредительного собрания, выделив необходимые силы для подавления преступного мятежа. Подписали: председатель Совета В. Филипповский, члены: П. Климушкин, Нестеров, Веденяпин».
В копиях эта телеграмма была направлена: «Екатеринбург — Съезду Всеучредительного Собрания, Чехосовету, Оренбург — Войсковому кругу и Войсковому правительству, Уральск — Войсковому кругу и Войсковому правительству, правительству Башкирии, Семипалатинск — правительству Алаш-Орды».
Отклик чехов
Не замедлили высказать свое авторитетное мнение по поводу переворота и чехи.
В екатеринбургских газетах от 22 ноября опубликовано было заявление чехословацкого Национального совета, в котором говорится, между прочим:
«Так продолжаться дальше не может.
Чехословацкий национальный совет (отделение в России) надеется, что кризис власти, созданный арестом членов Всероссийского временного правительства, будет разрешен законным путем, и потому считает кризис незаконченным».
Это заявление подписано Потейдлем и Слободой.
Заявление мотивировано тем, что переворот 18 ноября, во-первых, противоречит идеалам свободы и народоправства и, во-вторых, нарушил начало законности, которое должно быть положено в основу всякого государства.
Тон чешского заявления вызвал горячую отповедь со стороны национальной печати, «Отечественные ведо-мости» (московские «Русские ведомости», перебравшиеся в Екатеринбург) указали чехам всю неуместность их вмешательства во внутренние дела России. «Сибирский стрелок» в Челябинске, орган действовавшей армии, писал так:
«Относительно заявления гг. Потейдля и Слободы можем сказать, что братья должны оставаться братьями. Мы очень благодарны за помощь на фронте, но просим не мешать нам строить жизнь, как мы хотим, о чем уже раз и просили г. Рихтера в Омске по случаю разгона Сибирской областной думы, где г. Рихтер, благодаря неверной ориентировке, мог сыграть в судьбе России печальную роль».
Протест Семенова
В бытность свою на Д. Востоке адмирал Колчак резко повздорил с Семеновым, о котором он сохранил самое нелестное мнение. Не особенно хороши были его отношения и с японцами.
Семенов отказался признать власть адмирала. В своей телеграмме он потребовал освобождения преданных суду виновников переворота, полк. Волкова, войскового старшины Красильникова и войскового старшины Катанаева (это делалось, конечно, для укрепления популярности среди казачества), а затем заявил, что он не признает адмирала Колчака Верховным правителем, но согласится признать таковым Деникина, Дутова или Хорвата.
Отношение Дутова и Анненкова
Атаман Дутов, приезжавший в Омск летом 1918 г., произвел на всех впечатление лукавого, неглупого человека, который не гонится за внешними успехами, но любит побить. Небольшого роста, коренастый, с монгольского типа лицом, он обладал невидною, но оригинальною внешностью.
Интересна его политическая гибкость. Он состоял членом «Комуча», приезжал в Омск, для обеспечения некоторых выгод и в то же время считал свое войско никому не подчиненным, так как оно имело свое правительство. Претендовать на звание Верховного правителя он не собирался. Это связало бы его как человека, любящего, прежде всего, независимость атамана. Он сразу признал адмирала, но от имени войск Оренбургского и Уральского он сделал запрос адмиралу по поводу отношения его к Учредительному собранию, так как войска якобы волновались ввиду конфликта между адмиралом и Учредительным собранием.
Что касается атамана Анненкова, то он временно воздержался признавать новую власть, заставляя, однако, своим поведением думать, что он не считает себя зависимым от этой власти.
Ликвидация фронды
Из всех заявленных протестов наиболее серьезным был, конечно, чешский. За ним стояла реальная сила. Но чехи зависели от союзников, а последние не были очарованы ни Директорией, ни эсерами; они имели гораздо больше оснований верить Колчаку. Военные представители Англии были определенно расположены к адмиралу, и чехам это дано было понять. Они прекратили фронду, но зато последние из оставшихся на фронте или, вернее, вблизи его небольшие чешские части начали поспешно отступать, оставляя фронт на произвол судьбы.
Не желавшим воевать чехам переворот 18 ноября открыл возможность прикрыть истинные причины уклонения от военных действий политическими мотивами. Эсеры много способствовали такому исходу; они, не желая сознавать того, как гибельна их политика для всего дела борьбы с большевизмом, и продолжая свою чисто партийную игру, создали себе из чешских эшелонов революционное подполье.
Новой власти был брошен вызов.
«Ко всем народам России» лидер учредиловцев Вольский обратился со следующим воззванием:
«17 ноября в Омске кучка заговорщиков арестовала членов Всероссийского вр. правит. Авксентьева, Зензино-ва и Аргунова. Часть министров во главе с членом правительства Вологодским нарушила торжественное обязательство, подписанное ими самими, захватила власть и объявила себя Всероссийским правительством, назначив диктатором адмирала Колчака. Съезд членов Всерос. учр. собр. берет на себя борьбу с преступными захватчиками власти. Съезд постановляет: 1) Избрать из своей средам комитет, ответственный перед Съездом, уполномочив его принимать все необходимые меры для ликвидации заговора, наказания виновных и восстановления законного порядка и власти на всей территории, освобожденной от большевиков. 2) Избрать в состав этого комитета председателя Учредительного собрания Чернова, председателя Съезда членов Учр. собр. Вольского, тов. председателя Съезда Алкина, членов Учр. собр. Федоровича, Брушвита, Фомина и Иванова. 3) Поручить комитету для выполнения возложенных на него задач войти в соглашение с не причастными к заговору членами Веер, времен, прав, областными и местными властями и органами самоуправления, чешским Национальным советом и другими руководящими органами союзных держав. Всем гражданам вменяется в обязанность подчиниться распоряжениям комитета и его уполномоченных».
Гайда, стоявший со штабом в Екатеринбурге, где заседал Чернов с компанией, не оказал им поддержки. Наоборот, там был произведен воинскими чинами самовольный арест Чернова, о котором повествует следующий доклад офицеров и солдат 25-го екатеринбургского горных стрелков полка на имя командующего войсками екатеринбургской группы ген. — майора Гайда:
«19 ноября 1918 г. мы, офицеры и солдаты 25-го екатеринбургского горных стрелков полка, вернувшиеся с фронта, узнали о провозглашении Верховным правителем Земли русской адмирала Колчака.
Светлой радостью прониклись сердца наши; засветилась надежда, что с созданием единой твердой военной власти прекратятся партийные распри, предательски разлагающие тыл доблестной армии чехословацкого народа и молодой армии нашей; твердой верой прониклись мы, боевые офицеры и солдаты, в возрождение свободной единой великой России.
Но омрачена была радость эта, радость всего фронта, всех тех, кто отдает свою жизнь для блага России и народа ее, погибающего под игом германско-большевистского гнета.
Усталые от боев и потерь, возвратившись в Екатеринбург, мы увидели предательские воззвания, призывавшие к свержению законной власти Верховного правителя — того, именем которого связаны надежды фронта на близкую победу над врагами России, чешского народа и наших великих союзников.
Возмущенные этим и желая спасти наших братьев, оставшихся на фронте, от предательства тыла, мы, видя отсутствие мер по отношению к предателям, решились на крайние меры по отношению к нарушившим воинскую дисциплину. Каждая минута казалась нам промедлением — и потому, не спросив разрешения своих высших начальников, мы арестовали мятежников во главе с Черновым и другими членами Учредительного собрания, отняли у них припасенное оружие, документы и преступные воззвания, составлявшиеся ими.
Сознавая всю тяжесть допущенного нами нарушения воинской дисциплины, мы просим о предании нас военному суду. Пусть же русский военный суд вынесет свой суровый приговор над нами как над солдатами возрождающейся армии российской; но мы останемся гордыми и счастливыми, сознавая, что и на фронте, и вне его сумели до конца выполнить свой неоплатный долг перед армией и перед нашей великой родиной.
(Следуют подписи офицеров и солдат полка). 22 ноября 1918 года».
Решительные меры были приняты и в отношении уч-редиловцев. Адмирал объявил, что не признает первого Учредительного собрания законным, ввиду неправильных условий его избрания (так было отвечено и Дутову на его запрос от имени казачества). Ввиду приступа учредилов-цев к организации мятежа и избрания для руководства им особого комитета был отдан приказ арестовать членов комитета.
«Бывшие члены Самарского комитета членов Учредительного собрания, — говорилось в приказе, — уполномоченные ведомств бывшего Самарского правительства, не сложившие своих полномочий до сего ^времени, несмотря на указ об этом бывшего Всероссийского правительства в примкнувшие к ним некоторые антигосударственные элементы в уфимском районе, ближайшем тылу сражающихся с большевиками войск, пытаются поднять восстание против государственной власти; ведут разрушительную агитацию среди войск; задерживают телеграммы Верховного командования, прерывают сообщения Западного фронта и Сибири с оренбургскими и уральскими казаками; присвоили громадные суммы денег, направленные атаману Дутову для организации борьбы казаков с большевиками, пытаются распространить свою преступную работу по всей территории, освобожденной от большевиков.
Приказываю:
§ 1. Всем русским военным начальникам самым реши-, тельным образом пресекать преступную работу вышеуказанных лиц, не стесняясь применять оружие.
§ 2. Всем русским военным начальникам, начиная с командиров полков (включительно) и выше, всем начальникам гарнизонов арестовывать таких лиц, для предания их военно-полевому суду, донося об этом по команде и непосредственно — начальнику штаба Верховного главнокомандующего.
§ 3. Все начальники и офицеры, помогающие преступной работе вышеуказанных лиц, будут преданы мной военно-полевому суду.
Такой же участи подвергнуть начальников, проявляющих слабость и бездействие власти.
Верховный правитель и Верховный главнокомандующий адмирал Колчак.
Гор. Омск. 30 ноября 1918 года».
После этого приказа значительная часть членов бывшего Самарского правительства, вместе с главою его Вольским, скрылась. Как это обыкновенно бывает, попались и были заключены в тюрьму менее видные деятели. Западная фронда была, таким образом, ликвидирована. Но эта ликвидация положила начало внутреннему фронту. Эсеры начали энергичную работу по разложению тыла.
Легкая победа в Екатеринбурге и Уфе не была окончательною победою. Правительству Колчака все время пришлось вести борьбу на два фронта: с большевиками и эсерами.
Превращение земств в революционные гнезда
Из Миаса было сообщено в Омск последнее постановление нелегально существовавшего в Уфе центрального комитета партии эсеров. Оно призывало все партийные организации употребить свои силы на борьбу с диктатурою Колчака.
«Партийным организациям, — говорилось в постановлении, — вменяется в обязанность немедленно реорганизоваться применительно к условиям нелегальной работы, не отступая на полумерах, способных разлагать энергию, не выводя организацию из-под репрессий. Партийные организации должны вернуться к методам и формам работы, практиковавшимся при самодержавном режиме, объявив беспощадную борьбу не на жизнь, а на смерть режиму единоличной диктатуры, не отступая ни перед какими способами борьбы.
Отнюдь не вызывая искусственно местных стычек, восстаний, партийные организации в то же время не должны задерживать их возникновения, раз они самопроизвольно вытекают из настроения широких слоев демократии, гражданской или военной, и имеют шансы на успех распространения. В этих случаях надо брать в свои руки руководство движением, принимая все меры к его расширению».
Далее говорится:
«Соответственные энергичные шаги должны быть предприняты фракциями, группами членов партий, местных городских и земских самоуправлений и особенно членов наличных, не успевших ликвидироваться областных правительств». Предписывается также вести противоправительственную агитацию среди чехословаков и народной армии. Таким образом, земские и городские самоуправления, в которых было значительное число членов партии социалистов-революционеров, с этого момента стали органами партийной борьбы, подчиненными директивам центрального комитета партии.
Нелады с востоком
Нелегко оказалось сговориться и с Семеновым. Атаман Анненков сдался очень легко, так как иначе был бы принужден к капитуляции силой. Мне известно, что от атамана приезжали гонцы в Омск для выясне-ни я обстановки. Они получили от торгово-промышленного класса, который поддерживал Анненкова в период его подпольной работы и отчасти после свержения большевиков, категорическое заявление, что дальнейшей поддержки отдельным отрядам больше оказываться не будет. После этого Анненков прислал телеграмму, что он со своими солдатами целиком отдается в распоряжение адмирала.
Не то было с Семеновым. Подобно тому, как эсеры были сильны поддержкою чехов, которые и укрывали ИХ, и помогали сношениям их тайных организаций (чехами была организована своя почта), и морально поддерживали своими противоправительственными заявлениями, дискредитировавшими власть во внешнем мире, — так атаман Семенов был силен японской поддержкой. Ликвидировать его выступление можно было только дипломатическою, а не физическою силою. Но как раз дипломатии в этом инциденте со стороны Омска и не проявилось. Прежде чем остановиться подробнее на этом инциденте, необходимо вернуться к первым дням власти адмирала Колчака.
Процесс Волкова, Красильникова и Катанаева
Суд над виновниками переворота, которые сами заявили о себе адмиралу и министру юстиции, произведен был с молниеносной быстротой. Приговор суда был вынесен уже 21 ноября. На суде зачтены были все документы, относившиеся к деятельности эсеров. Давление последних на Директорию, выразившееся, в частности, в телеграмме на имя Зензинова и в «совершенно доверительном» послании Зензинова Чернову с объяснением, почему Директория не может сразу свергнуть Сибирское правительство, черновская грамота, данные об организации эсеровского центра в Екатеринбурге, свидетельство о намеренном затягивании бывшим Самарским правительством сдачи дел в Уфе, подозрительное поведение ведавшего полицией эсера Роговского в Омске и, наконец, сведения о хищениях казенных денег эсеровскими деятелями — все это развернуло перед судом картину, в которой ясно обозначились намерения эсеров захватить власть. Полковник Волков, войсковой старшина Красильников и войсковой старшина Катанаев были признаны оправданными по суду.
Можно сожалеть о том, что чрезвычайный военный суд не происходил в обстановке полной гласности. Едва ли можно было вынести обвинение виновникам переворота, после того как выяснилось, что одна сторона стремилась предать другую, что эсеры явно подготовляли выступление против власти и что они умело обрабатывали, для обеспечения себе помощи, политических чешских представителей. Для этого они пользовались и всемогущим оружием — деньгами.
Хищения эсеров
В Уфе была произведена ревизия казначейства.
При ревизии бросилось в глаза прежде всего то, что до созыва в Уфе Государственного совещания, избиравшего Директорию, открытие кредитов и расходование средств происходили в нормальном, законом установленном порядке. Расходы, связанные с созывом указанного совещания, явились первым отступлением от сметного порядка, а в дальнейшем, как открытие кредитов, так и расходование отпускаемых средств происходили совершенно тем же порядком, который существовал и при большевистских советах.
Самое крупное ассигнование приходится на долю агитационного культурно-просветительного отдела Совета управляющих ведомствами, именно 4 600 000 рублей. Эти кредиты отличались исключительными свойствами: 1) кредиты отпускались без указания предмета расхода; 2) проводились всегда в спешном порядке; и 3) ассигнованные суммы немедленно по получении их по ордеру казначейств из банка бесследно исчезали, ибо в государственном банке текущего счета агитационно-культурного отдела совершенно не имелось.
Управляющему водным транспортом г. Рындыку выдано было 2/4 миллиона руб. Здесь дело не обошлось без скандала. Назначенный г. Рындыком на место заведующего административным отделом районного комитета водного транспорта г. Патрушев, получив крупные суммы для расчета с конторами и служащими, что-то около 700 000 руб., скрылся. В комитете г. Рындыка, по удостоверению «Уфимской жизни», творилось что-то неладное. Тем не менее на пополнение учиненной растраты г. Рындыку 12 ноября отпущен был еще 1 000 000 руб., а 16 ноября еще 2 000 000 руб. Далее, весьма странной, если не сказать большего, представляется выдача ведомству иностранных дел, руководимому г. Веденяпиным, 2 000 000 руб. на «расходы для зарубежной работы». Необходимо отметить также получение председателем Съезда членом Учредительного собрания г. Вольским 20 октября 400 000 рублей и 23 октября — 40 000 рублей, опять на неизвестные цели. При этом, по заявлению губ. казначейства, г. Вольским было представлено при получении последней суммы постановление Сов. упр. ведомствами, что выдача должна последовать кредитными билетами старого всероссийского образца. Казначейством это было выполнено.
Наконец, следует отметить выдачу, не известно на какие расходы, бузулукскому уполномоченному Комитета членов Учр. собр. 500 000 рублей, представителю чехословацкого Нац. совета Власаку — 300 000 рублей и 3 000 000 рублей тому же уполномоченному «для поддержания и развертывания русско-чешских частей». Имели место и такие выдачи: 22 октября, по требованию № 938 — 70 000 рублей, на «бесспорные, непредвиденные и текущие расходы» различных ведомств, и 6 октября, по требованию № 1034, на «неопределенные расходы» г. председ. Сов. управл. ведомствами — 25 000 рублей. Из расходов, связанных с созывом Гос. совещания, обращает на себя внимание расход в 30 000 рублей — также на «неотложные надобности» Ком. чл. Всеросс. учр. собрания при Государственном совещании. Что это за «неотложные надобности» — для казенной палаты осталось неизвестным.
При первых же известиях о событиях в Омске, Сов. упр. ведомствами объявил, что вся полнота власти принадлежит ему, и поспешил осуществить эту власть производством очередной выемки денег из отделений Гос. банка. 19 ноября г. Веденяпин, управляющий ведомством иностранных дел, предъявил чек на 1 миллион рублей, но встретил решительный отпор со стороны представителей мин. финансов, указавших, что они не могут допустить расхищения государственных средств в столь тревожное время, и притом на совершенно неизвестные и неопределенные цели. Тогда Совет управляющих ведомствами пошел по линии наименьшего сопротивления и арестовал лиц, заграждавших доступ к государственному сундуку, а затем беспрепятственно изъял из отделения Гос. банка 5 миллионов рублей.
Заслуживают также внимания и расходы Совета в связи с военными обстоятельствами. Сумма последних за время с 10 октября по 8 ноября составляет в общем около 15 миллионов рублей, причем свыше 9/4 миллионов рублей ассигновано в один день, 7 ноября.
Щедрые ассигнования на поддержание и развертывание партизанских отрядов и батальонов Всерос. учр. собрания в полки последовали вслед за известной «грамотой» В. Чернова о необходимости иметь в своем распоряжении батальоны совершенно особого и специального назначения. Мало того, Совет управляющих ведомствами считал себя вправе снимать ценности с эшелонов эвакуируемых казначейств и отделений Государственного банка. Таким путем ему удалось захватить 36 миллионов рублей, и все они израсходованы вышеуказанным порядком.
Сотрудники справа
Если переворот 18 ноября окончательно оттолкнул от омского правительства эсеров, то он зато обеспечил ему поддержку элементов, которые до сих пор держались, в лучшем случае, нейтрально. Убийство Новоселова, переворот 18 ноября — все это косвенно подтверждавшиеся и другими данными симптомы, что первые группы вели такую же подпольную работу, как и эсеры. У них были свои военные организации, своя контрразведка, свои люди в правительственных учреждениях. Переворот 18 ноября удовлетворил эти группы, но они сразу усилили свои позиции и укрепили влияние на власть. Вокруг Верховного правителя в первые же дни появились новые люди, началось забегание с заднего крыльца.
Еще 18 ноября, когда составлялось правительственное сообщение о перевороте, в канцелярию Совета министров приехал один из членов военно-промышленного комитета и просил помочь ему и дипломатическому чиновнику Сукину, только что приехавшему в Омск из Америки, но уже успевшему связаться с некоторыми общественными кругами, выработать текст обращения к населению с объяснением причин перевороту.
Тельберг, тогда уже принявший от меня управление делами правительства, совершенно правильно указал, что составление подобных актов не входит в обязанности военно-промышленного комитета, и составил сообщение сам. Но примеры подобного «участия в делах» стали повторяться.
Грустные эпизоды начала интервенции
Некоторые подробности, относящиеся к начальному периоду интервенции, далеко не безынтересны.
Началась она военною поддержкою со стороны Японии атаманов Семенова и Калмыкова. Первый действовал в Забайкалье. Снабжали его оружием и французы. Он сформировал свой «Особый маньчжурский отряд» в полосе отчуждения и дошел, при поддержке отряда Враште-ля, высланного из Харбина, до р. Онона. Второй расположился на ст. Пограничная, т. е. на восточной границе полосы отчуждения, в сторону Никольск-Уссурийска.
Обоих атаманов поддерживали японцы. Но как? Была ли это случайная помощь отдельным отрядам или систематическая поддержка русских военных формирований? Япония была союзницей России в. войне с Германией, и последнее было бы вполне естественно особенно в то время, когда большевизм считался несомненным детищем Германии. Однако дело было не так.
Летом 1918 г. в Харбине уже появился адмирал Колчак в качестве организатора военных сил. Он стремился достигнуть объединения всех разрозненных отрядов, прекращения их своеволий, централизации управления и восстановления дисциплины. Но военные представители Японии предпочитали поддержать Семенова и Калмыкова непосредственно.
На этой почве произошло столкновение адмирала Колчака с начальником японской военной миссии, генер. Накашимой. Мне неизвестны подробности этого столкновения. Но рассказывали, что вспыльчивый адмирал, лишенный всякой дипломатической выдержки, наговорил Накашиме неприятностей, обвиняя последнего в том, что он мешает русским создать здоровую военную силу. Вслед затем адмирал уехал в Японию и прекратил работу. Вероятно, неправы были обе стороны. Но главной причиной этого инцидента были, как мне казалось, не вспыльчивость адмирала и не коварство Накашимы, а отсутствие ясности в тех взаимных уступках, которые могли бы послужить основою добросовестного сотрудничества обеих наций.
С момента вступления иностранных войск на русскую территорию количество недоразумений стало расти. Не было той признанной русской власти, которая могла бы сразу определить взаимоотношения с интервентами, и в самом начале произошел прискорбный эпизод, как бы предвестник последующего.
Правительство Дербера сообщило союзному командованию, что генерал Хорват и его деловой кабинет подготовляют во Владивостоке переворот при помощи офицерства. Так ли это было или не так, но результатом явилось разоружение русского офицерства.
Не выдержав позора разоружения, один офицер застрелился. Когда его хоронили, английский крейсер салютовал.
Общественное мнение было так возмущено, что под влиянием его вскоре произошел возврат оружия.
Союзные дипломаты
Еще в Харбине Вологодского посетили Высокий комиссар Англии сэр Чарльз Эллиот и начальник японской дипломатической миссии на Д. Востоке граф Мацудайра.
Сэр Чарльз Эллиот, впоследствии английский посол в Токио, уже не раз бывавший в России, свободно говорит по-русски, хорошо знает Восточную Сибирь и Восток вообще. Он проявил большой интерес к положению дел в Сибири и намерениям Вологодского и на другой день отправился на запад, в Омск, для личного ознакомления с обстановкой.
Граф Мацудайра — типичный японский дипломат. Он никогда не отвечает на вопросы без оговорок и предпочитает спрашивать.
Оба посла отнеслись к главе омского правительства с большим вниманием и интересом.
Во Владивостоке круг дипломатических сношений расширился. Там были еще представители Франции и Америки, послы Реньо и Моррис.
Почтенный Реньо долго служил на Ближнем Востоке. Перед приездом во Владивосток он был французским послом в Токио. Более сердечного отношения к правительству, чем проявил он, я не представляю себе. Это был действительно благожелательный друг. Он отлично понимал, как трудно положение Вологодского во Владивостоке, где в его распоряжении не было никакой реальной силы и где все, и русское и иностранное, было одинаково расчленено, запутано, сложно и непонятно. И он охотно давал советы и указания, помогая или ускоряя решение.
Совершенно иначе встретил Вологодского Моррис. Он не только не сделал визита главе Сибирского правительства, даже после признания его всеми группировками Д. Востока, но и не отдал визита, к чему, казалось, обязывала обычная вежливость. По впечатлениям лиц, сопровождавших Вологодского при поездках к американскому послу, Моррис встречал его надменно и иронически.
Каково было людям, сохранившим в себе национальное чувство, видеть себя в русском городе на положении худшем, чем положение иностранцев! В то время как чехи, обладавшие военною силою, были на положении, равном со всеми союзниками, мы, «хозяева» страны, должны были просить разрешения на проезд по некоторым загородным шоссе. Так, однажды, когда я с кем-то из членов делегации выехал кататься за город, наш автомобиль остановил американский часовой, потребовавший пропуска.
Через несколько дней после нашего приезда уезжал на запад Гайда. Провожать его собрался весь дипломатический корпус. В блестящем обществе дипломатов серенькие фигуры скромных омских представителей совершенно терялись. На вагоне Гайды, быть может намеренно, была оставлена надпись «Иркутск — Москва». Публика проводила Гайду овациями.
Переговоры во Владивостоке
Обстановка, в которой оказались союзники во Владивостоке, многое объясняет в их поведении и отношении к попыткам каких-либо практических соглашений. Многочисленность «правительств», из которых ни одно не признавалось в своем бессилии, взаимная травля и стремление опозорить друг друга, без всякого внимания ко всей неприличности подобных самопосрамлений на глазах посторонних, — все это только роняло престиж русских вообще, и появление во Владивостоке представителей примиряющего и выдержанного в своих внешних и, в частности, межобластных отношениях омского правительства не могло изменить создавшееся во Владивостоке настроение. Для Морриса Вологодский был, вероятно, не больше, чем представитель новой забавной комбинации власти. Задавшись, прежде всего, целью помощи чехословакам и объяснив так свое появление на Дальнем Востоке, союзники не проявляли желания ознакомиться с самостоятельными нуждами каких-то областных правительств. Они могли бы вести переговоры о помощи только с правительством общероссийского масштаба.
Вот отчего до окончания работ Уфимского совещания и объединения власти никаких серьезных шагов для соглашения о помощи Сибири не могло быть сделано.
Было, однако, два выхода.
Один заключался в использовании чехословацкого вопроса в качестве основы соглашения. Можно было просить о различного рода помощи, мотивируя невозможностью, в противном случае обеспечить безопасность чехословаков. Мы учли это, и когда Гайда стал домогаться назначения его командующим сибирскою армиею вместо Иванова, мы, члены дальневосточной делегации, решили согласиться на такую комбинацию, рассчитывая, что назначение Гайдн обеспечит помощь Америки. В этом смысле я вел переговоры с Омском. Мотивы к назначению Гайды были еще и другого рода. Ко мне постоянно приходил во Владивостоке поручик Калашников, сыгравший впоследствии роковую роль в организации иркутского переворота. Он говорил о тех интригах, которые наблюдались в русском командном составе, о жажде получить беспристрастного начальника, который бы давал движение и назначение только по заслугам, о личной популярности Гайды. Я отнесся к словам Калашникова с доверием, тем более что Омск уже страдал от соперничества генералов и военного кумовства. Назначение Гайды, однако, не состоялось вследствие энергичного сопротивления Омска: «назначение Гайды сделает его несменяемым», телеграфировали оттуда.
Другой выход был в соглашении с японцами. Об этом Вологодский начал беседы с графом Мацудайрой. Он не ответил определенно, но не отрицал возможности военной помощи, если Сибирское правительство будет об этом ходатайствовать письменно. Это указание на необходимость специального письменного ходатайства было сделано очень ясно. Как нужно было поступить? Мы не могли решить такого вопроса сразу. Япония могла быть заинтересована в поощрении сибирского сепаратизма в целях обеспечения своего влияния в Сибири. Мне называли даже фамилию депутата Усуи, который усиленно работал за признание сибирской автономии. Это нам не казалось страшным, так как движения, подобного украинскому, в Сибири никогда не могло возникнуть. Привлечение японского капитала в Сибирь нам представлялось желательным, а конкуренция японской промышленности и японской торговли не представлялась опасной русским торгово-промышленникам.
Соображения другого порядка останавливали нас. Ясно, что Япония не могла бы оказывать военную помощь бескорыстно, рано или поздно за нее пришлось бы заплатить и, по всей вероятности, не золотом. Чувство ответственности перед Россией заставило нас быть сугубо осторожными во всем, что могло связать Россию, и Вологодский воздержался от обращения к Японии за помощью, отложив этот вопрос до разрешения в Омске…
Генерал Жанен
Между тем в Омск прибыл эффектный французский генерал Жанен. Его сопровождал целый штаб. Можно было ожидать, что он готов взять на себя руководство военными действиями.
Однако Жанен не настаивал на предоставлении ему активной роли, а русские генералы были, конечно, против этого. Мне кажется, что в связи с поражением Германии французам уже нежелательно было связывать себя какими-либо ответственными ролями в военных операциях, но посол в Париже, Маклаков, приписал согласие французов примириться с более скромным положением Жанена в Сибири дипломатическому успеху и скромности самого генерала («Должен отметить, — телеграфировал Маклаков, — что и сам Жанен присоединился к вашей точке зрения»).
После некоторых заседаний русских и иностранных генералов вопрос разрешился. Было опубликовано следующее правительственное сообщение:
«Прибывший по поручению союзных правительств генерал Жанен представитель высшего межсоюзного командования, вступает в исполнение своих обязанностей в качестве Главнокомандующего войсками союзных с Россией государств, действующими на Востоке России и в Западной Сибири. Для достижения единства действий на фронте высшее русское командование, осуществляемое Верховным главнокомандующим адмиралом Колчаком, будет согласовывать с генералом Жаненом общие оперативные директивы, о чем Верховным главнокомандующим даны соответствующие указания начальнику штаба.
Одновременно вступает в исполнение своих обязанностей генерал Нокс, сотрудник генерала Жанена по вопросам тыла и снабжения, предоставляемого союзными правительствами для нужд русского фронта, вследствие чего Верховным правителем предписано военному министру согласовать свою работу с задачами, возложенными на генерала Нокса».
Кто же этот генерал Жанен, которому довелось сыграть такую видную роль в Сибири?
Сын военного врача французской армии, он сделал карьеру благодаря своим способностям. В начале войны он командовал полком, но скоро достиг высокой и почетной должности в штабе Жоффра. В мае 1916 г. он был назначен состоять при ставке Верховного главнокомандующего и пробыл в России до переворота. Когда Жанен прибыл в Россию, граф де Мартель, заместитель Высокого комиссара Реньо, объяснил задачу генерала Жанена в самых широких масштабах. «Ему поручено, — сказал граф, — организовать русскую армию. Франция, как и все союзники, решила открыть генералу Жанену для создания армии в России большой кредит».
После таких заявлений было, мне казалось, дипломатической ошибкой, а не победой отстранение генерала Жанена на второй план. Но таково было желание Верховного правителя, а он, казалось, лучше знал, насколько нужна и полезна может быть помощь французского генерала.
Охрана железных дорог
Одним из наиболее важных и срочных мероприятий, входивших в программу союзной помощи, был вопрос о железных дорогах. Но время проходило, а ничего в этом направлении не делалось.
Сукин начал прежде всего с охраны дороги. Он пред-дожил союзным представителям встать на такую точку зрения: «Охрана дороги производится не как вмешательство во внутренние дела, а как обеспечение доставки снаряжения на фронт и коммуникации чехословаков». Эта точка зрения была принята сэром Чарльзом Эллиотом и послом Реньо.
Расположение союзных войск вдоль линии Сибирской магистрали было признано возможным. Но как, в каком порядке? Была выдвинута прежде всего такая схема: Англия охраняет Китайскую Восточную железную дорогу, Япония — Забайкальскую, Франция — Томскую и Америка — Омскую. Но схема эта была слишком теоретической. Жизненным в ней было только то, что попечению Японии поручалась дорога, которая ею уже была занята и которая входила в сферу ее экономического влияния. Америка не могла забираться так далеко, и притом ее роль в Сибири, сводившаяся к контролю за действиями Японии, требовала оставления войск на Д. Востоке. Что же касается Англии и Франции, то они не обладали достаточным количеством войск, их войска должны были быть заменены чехословаками, польскими и румынскими частями.
Так, в конце концов, и вышло. Америка и Япония расположились в шахматном порядке на территории дальневосточных линий, а все протяжение дороги от Омска до Байкала заняли чехи.
Восстановление транспорта
Рассчитывая добиться не только охраны дороги, но и материальной помощи железнодорожному хозяйству, Сукин решил действовать наступательно.
Об участии союзников в деле восстановления транспорта говорилось много еще на Д. Востоке, где предварительные переговоры об этом велись генералом Хорватом и инженером Уструговым. Я не буду касаться подробностей этих переговоров и различных выдвинутых тогда вариантов управления железными дорогами; скажу только, что со стороны союзников выдвигалась преимущественно формула «контроля» над дорогами, с нашей стороны — формула «помощи». Союзники говорили о передаче им управления, мы говорили о помощи нашему управлению.
Компромиссный проект был построен на следующих основаниях. Во главе каждой железной дороги остается русский управляющий, который действует на основании прав, предоставленных ему русскими законами, но общее техническое, административное и хозяйственное управление всеми железными дорогами поручается американскому инженеру Джону Ф. Стивенсу, которому предоставляется звание генерал-директора.
Этим не ограничивалась роль иностранцев. Проект предоставлял им еще ряд прав:
1) Общее наблюдение над железными дорогами будет регулироваться и контролироваться специальным межсоюзным комитетом, который будет состоять из представителей союзных держав, имеющих войска в Сибири, по одному от каждой, и председателем которого будет русский.
2) Согласование перевозок, «которые будут производиться по указаниям» союзных военных властей, предоставляется военному союзному бюро.
3) Охрана железных дорог должна быть вверена союзным военным силам.
Такова была та декларация прав иностранцев на русских железных дорогах, которая была положена в основу переговоров. Меньше всего здесь говорилось об обязанностях союзников, но нельзя сказать, чтобы достаточно точно были определены и права их. Неопределенность была выгодна только союзникам: в отношении пользова-ни я дорогами они могли толковать их распространительно, а в отношении техническом и организационном, где права переходили в обязанности, — ограничительно.
Но Реньо советовал торопиться с началом переговоров, для того чтобы ускорить разрешение вопроса. «Лучше внести хоть что-нибудь, для того чтобы продемонстрировать готовность идти на все уступки и переложить ответственность за дальнейшее промедление на союзников, чем медлить самим». Так рассуждали мы, приглашая всех гражданских и военных представителей союзных держав прибыть в здание Совета министров для обсуждения железнодорожного вопроса.
Заседание состоялось под председательством П. В. Вологодского. По правую руку от него занял кресло Реньо, по левую — сэр Чарльз Эллиот. Присутствовали также генерал Жанен, генерал Нокс, майор Скайлор, консул Гаррис, представители чехов и члены японской миссии: полковник Фукуда и майор Мике.
Вологодский сказал несколько слов о важности для нас той помощи, которую союзники могли бы оказать российскому транспорту. Вслед за тем был прочитан журнал Совета министров, которым поручалось ускорить переговоры о железных дорогах.
«1. Согласно докладу министра путей сообщения, Совет министров признает состояние железнодорожного хозяйства угрожающим и требующим неотложного принятия исключительных мер.
2. Восстановление железнодорожного хозяйства не может быть произведено средствами Российского правительства ввиду непосильности для его бюджета расходов, которые для этого потребовались бы, отсутствия в распоряжении правительства необходимого технического оборудования и, наконец, затруднительности без содействия иностранных специалистов провести в жизнь в короткое время новые методы работы дорог
3. Оставление железных дорог в их теперешнем положении являлось бы угрожающим для фронта и, таким образом, воспрепятствовало бы восстановлению России и укрепило бы большевизм.
4. При создавшихся условиях Российское правительство вправе рассчитывать, что союзные держаны, выразившие готовность содействовать восстановлению России и искоренению гибельного для всего культурного мира большевизма, окажут России, в воздаяние ее военных заслуг, деятельную и скорую помощь в области улучшения железнодорожного транспорта,
5. Хотя содействие союзных держав России в деле улучшения ее железнодорожного транспорта и явится временным, связанным с военными действиями против советских войск, но Совет министров ожидает помощи союзных держав не в виде частичных мер применительно к потребностям периода военных перевозок, а в виде широких и планомерных мероприятий, коренным образом улучшающих состояние железных дорог.
6. Совет министров признает, что деятельная и широкая помощь союзных держав будет наиболее обеспечена в случае предоставления им активного участия в управлении и надзоре за работой железных дорог.
7. Наиболее приемлемыми для России условиями совместной работы союзников в деле улучшения железнодорожного транспорта представляются начала, доложенные в основание проекта управления сибирскими дорогами при участии иностранных специалистов, одобренного в общих чертах большинством союзников.
8. В соответствии с изложенными соображениями Совет министров поручает министрам иностранных дел и путей сообщения принять все зависящие от них меры к скорейшему завершению переговоров с представителями союзных держав об оказании им помощи нашему железнодорожному хозяйству, на основаниях названного выше проекта».
После объяснений Устругова и Сукина относительно сущности намеченного проекта совместного с союзниками управления дорогами присутствовавшие Высокие комиссары заявили, что они, не входя в детали проекта, охотно протелеграфируют своим правительствам о выдвинутых ими пожеланиях.
Заседание закрылось. Вопрос, казалось, сдвинулся с мертвой точки. Разрешение его пришло, однако, только в марте.
Межсоюзный комитет
14 марта во Владивостоке была подписана представителем России, инженером Уструговым, и представителями союзных держав декларация, которая, для большей ясности того, что союзники принимают на себя заботу о транспорте не произвольно, а по соглашению, была опубликована одновременно от Российского правительства на русском языке и от представителей союзных держав на английском.
«Союзные державы, — говорится в декларации, — воодушевленные искренним желанием помочь русскому народу и в соответствии с соглашением, достигнутым между ними и представителями России, решили воссоздать и восстановить успешную деятельность транспорта на Китайской Восточной и сибирских железных дорогах, путем осуществления следующего плана наблюдения за указанными железными дорогами в районах, в которых союзные военные силы ныне действуют: 1). Общее наблюдение за железными дорогами в указанных районах будет осуществлено особым межсоюзным комитетом, состоящим из представителей каждой союзной, в том числе и России, державы, имеющей военные силы в Сибири. Председателем этого комитета является инженер Л.А. Устру-гов. Нижеследующие учреждения созданы и поставлены под контроль межсоюзного комитета: а) технический совет, состоящий из специалистов по железнодорожному делу наций, имеющих военные силы в Сибири, для руководства техническим и хозяйственным управлением всех железных дорог в означенных районах; б) союзный совет по воинским перевозкам для согласования воинских перевозок по указаниям подлежащих военных властей. 2). Охрана железных дорог вверена союзный военным силам. 3). Во главе каждой из железных дорог останется русский начальник или управляющий, с полномочиями, предоставленными ему русскими законами. 4). Техническая эксплуатация железных дорог вверена председателю Технического совета. Председателем этого Совета является г. Джон Стивенс. В делах, касающихся таковой эксплуатации, председатель может преподавать указания русским должностным лицам, упомянутым в предыдущей пункте. Он может назначать помощников и инспекторов на службу Технического совета, выбирая их из граждан держав, имеющих вооруженные силы в Сибири, причислять их к центральному управлению Совета и определять их обязанности. В случае надобности он может командировать группы железнодорожных специалистов на наиболее важные станции. При командировании железнодорожных специалистов на какую-либо станцию будут приняты во внимание удобства соответствующих держав, под охраной которых будут находиться данные станции.
Мы желаем подчеркнуть принцип, что проводимый выше план должен быть выполнен без нарушения каких бы то ни было суверенных прав русского народа и в сотрудничестве с русским железнодорожным персоналом. Союзники искренно желают сделать все, что в их силах, дабы старания вышеуказанного комитета и советов были бы плодотворны и благодетельны для России. После обследования железных дорог и выяснения нужд таковых будут сделаны представления о той помощи денежными средствами, подвижным составом, материалами в т. п., ко-торую необходимо будет оказать русским железным дорогам для улучшения их состояния и провозоспособности.
Мы убеждены, что русский народ, сознавая насущную необходимость немедленного восстановления движения, примет с полным доверием дружественную помощь, предлагаемую союзниками, и будет сотрудничать с вновь созданными организациями в их стремлении улучшить настоящее положение вещей на Китайской Восточной и сибирских железных дорогах. Подписано: представители в межсоюзном комитете — от Китая Муцин-Джен, от Франции — Гастон Буржуа, от Великобритании — сэр Чарльз Эллиот, от Италии — Гаско, от Японии — Цунео Мацудайра, от России — Леонид Устругов, от Соединенных штатов Северной Америки — Чарльз Смит. 14 марта 1919 года».
Нетрудно видеть, что декларация эта представляла собою только улучшенную редакцию того проекта, который в январе оглашался в торжественном заседании с союзниками в «белом доме» омского правительства.
— Наконец-то! — вздохнули все.
Но на этом бумажном успехе и закончилось все дело союзной помощи транспорту…
Российский масштаб
Армии находились за Уралом, на берегах Камы и недалеко от Волги. Деятельность правительства, «российского» по названию, начинала действительно приобретать российское значение. На первый план выдвинулись вопросы: земельный и финансовый. Пора было приняться за подготовку Учредительного собрания, поднялся вопрос о сотрудничестве с общественностью в законодательной работе.
Пережив солидную встряску, видя безрезультатность попыток пересоставить Совет, министры углубились в работу, и апрель месяц отмечен рядом важных и ответственных мер.
Земельный вопрос
Еще в марте в министерстве земледелия кипела работа над составлением земельных законов.
Я интересовался этой работой и в качестве гостя посетил одно из заседаний земельной комиссии.
Кроме чиновников присутствовали представители различных общественных организаций, землевладельцы и экономисты.
Большую речь произнес помещик Казанской губернии князь Кропоткин. Он сопоставлял цифры и ярко рисовал картину крестьянского малоземелья. Чтобы победить большевизм, говорил он, надо дать крестьянам нечто такое, что воодушевило бы их. Из таких средств лучшим явилось бы закрепление в их собственность находящихся в крестьянском обладании земель.
— И помещичьих? — спросил кто-то из членов совещания.
— О помещичьих я буду говорить особо, — ответил князь.
Он был глубоко прав по существу, когда указывал, что надо нести крестьянам практическое и немедленное разрешение земельного вопроса. Но как закрепить собственность, когда для этого требуется сложный землеустроительный процесс на десяток лет? Как удовлетворить земельную нужду, не закрепляя за крестьянами и помещичьих земель? Этого князь не мог бы объяснить.
Правительство приступило к разрешению земельного вопроса законом о посевах.
Крестьяне освобожденных губерний Европейской России желали знать, будет ли им принадлежать урожай с засеянных ими чужих земель. Не только в интересах общей политики, но и в интересах продовольственных необходимо было немедленно объявить, что урожай принадлежит тому, кто сеял.
Соответствующее постановление 5 апреля было принято. После этого Совет министров приступил к обсуждению общей декларации по земельному вопросу. И вот тут-то и сказалось отсутствие у Совета министров однообразного взгляда и решительности.
Декларация — не закон. Она не нуждается в оговорках, в детализации. Ее основная мысль должна быть высказала так ярко, чтобы каждый читающий сразу ее воспринял. Проект министерства земледелия не отличался этим качеством. Он носил на себе следы учреждения, которое разрабатывало вопрос в подробностях и потому декларировало программу ведомства, а не основную цель правительства.
Придавая большое значение этой декларации, я горячо убеждал Совет министров заявить в ней, что восстановления помещичьих владений производиться не будет.
Но большинство высказалось против такого категорического заявления, указывая, что оно может поощрить к захватам даже там, где их раньше не было.
Тогда я предложил иную редакцию: «Восстановления тех владении помещиков и казны, которые в течение 1917 и 1918 гг. перешли в фактическое обладание крестьян, производиться не будет».
Но и эта редакция не была принята.
В результате декларация оказалась вылизанной и едва ли достаточно ясной для крестьян…
Однако она вызвала возражения со стороны начальника штаба верховного главнокомандующего, генерала Лебедева.
Несмотря на то, что он присутствовал на заседаниях, где обсуждался первоначальный проект, и именно вследствие его настояний были внесены поправки, смягчавшие главную мысль о закреплении за крестьянами фактических владений, он заявил при обсуждении окончательной редакции, что не имел возможности с нею познакомиться, и просил отложить утверждение.
Сукин и Михайлов поддерживали Лебедева, который мотивировал свое настояние тем, что против большевиков сражается много офицеров-помещиков, которые внимательно следят за всем, что относится к земельному вопросу, и всякое неосторожное слово, направленное против помещичьего землевладения, может повлиять разлагающим образом на настроение офицерства.
О настроении солдатской массы и о настроении крестьянской России Лебедев не думал.
Нам было известно, что ставка находится в оживленных сношениях со скопившимися в Омске аграриями, что некоторые офицеры уже содействовали в прифронтовых губерниях восстановлению помещичьих земель, и потому заявление Лебедева было встречено с враждебным холодом. Большинством против двух или трёх голосов было решено утвердить декларацию немедленно. Она была принята, а Лебедев подал письменный протест и покинул заседание, отказавшись впредь посещать Совет министров.
Декларация была, тем не менее, подписана Верховным правителем на следующий день.
Судьба помещичьих земель
Надежда на дальнейшее победоносное движение в глубь России была так велика, что никто не считал возможным удовлетвориться одною декларацией. Что будет с помещичьими землями, если, скажем, они не засеяны? Раздаются ли они крестьянам или возвращаются владельцам? На каком праве они будут передаваться? Об этом заинтересованные лица спрашивали членов правительства. Запрашивали об этом из Пермской и Самарской губерний.
Министерство земледелия представило свой проект. Основная идея его заключается в том, что государство устанавливает особое управление всеми землями, вышедшими из обладания их прежних владельцев.
Эти земли описываются и принимаются в ведение государства, причем до окончательного разрешения земельного вопроса они сдаются в аренду землевладельческому населению.
Этот закон вызвал яростные нападки аграриев. Они считали крайне опасным и предрешающим судьбу частного землевладения начало государственного распоряжения землями и передачу их уже не на началах захвата, а на законных основаниях в аренду трудовому населению. Таким путем, говорили они, укрепляется сознание, что земля перешла в обладание крестьян, и окончательное решение земельного вопроса предопределяется в известном направлении.
Левые круги были тоже недовольны законом. Они, наоборот, считали, что сдача земель в аренду есть, в сущности, реставрация частной собственности и что крестьяне иначе и не поймут этого. Нечего и говорить, что социалистические партии, стоящие на платформе упразднения частной собственности, были бы довольны только таким законом, который подписал бы смертный приговор частному землевладению, в том числе и крестьянскому. Проектом министерства были недовольны, однако, не только социалисты, но и умеренные демократические элементы, которые считали задачею государственной власти расширить в стране мелкое трудовое землевладение за счет крупного.
Я был на стороне этих последних и возражал против проекта в Совете министров.
Основная идея его предоставлялась мне во‘ многих отношениях опасной. Еще в Первой Государственной думе проф. Петражицкий справедливо указывал, что передача земель в распоряжение государства заставляет, прежде всего, остановиться на вопросе о власти. «Судьбы неисповедимы!» Не приведут ли они к власти реакционной, которая использует государственное распоряжение зем-лями для самой определенной реставрации латифундий. Политическая опасность принятия земель в распоряже-ние государства заключается в том, что самый процесс принятия земель в ведение государственной власти, сопровождающийся обмером, установлением границ, описью инвентаря, внушает определенное представление о восстановлении прежнего владения, прежних прав. Начало «аренды» только укрепляет это представление, потому что у крестьян аренда ассоциируется только с чужою собственностью. Если крестьянин видит, что приехали чиновники, обошли границу прежнего помещичьего имения и затем объявили правила аренды земли «из состава этого имения», то как иначе может он понять происходящее, как не восстановление имений и охрану их государством? Стоит прочесть ту статью правил о принятии земель в заведование государства, где говорится, что «пространство и местоположение земель устанавливаются в отдельности по каждому владению», чтобы вся картина практического осуществления закона и неизбежных впечатлений крестьян предстала воочию.
Политическая опасность законопроекта представлялась мне несомненною, и я вполне разделял точку зрения одного из наиболее ожесточенных критиков закона, Е.Е. Яшнова, который сказал, что подобный закон будет лучшим орудием пропаганды со стороны большевиков. Им надо будет только отпечатать его и распространять среди крестьян.
Помимо политических дефектов законопроекта я считал его практически неосуществимым, невыгодным с фискальной точки зрения и, наконец, ненужным с точки зрения момента.
В самом деле, разве законопроект (а потом закон) не переоценивал сил государства, когда он устанавливал начало государственного управления всеми помещичьими землями? Откуда же было взять столько чиновников, какими силами и средствами произвести восстановление разрушенных межей, когда все почти границы стерты, крепостные архивы и документы уничтожены? Одним из мотивов закона была указана необходимость определить условия владения землею на ближайшие годы, во избежание сокращения запашек. Но решало ли этот вопрос то, что предложено было министром земледелия, с его сложным порядком если не фактического, то юридического восстановления помещичьих земель, когда по каждому отдельному имению составлялся особый акт принятия его в ведение государства (ст. 5 правил) и особый процесс оспаривания этого акта. Нет! С полной уверенностью повторяю и сейчас. Это было практически неосуществимо. Ни людей, ни средств для этого не хватило бы.
Фискальная невыгода закона заключалась в том, что государство принимало на себя охрану и, стало быть, ответственность за все убытки индивидуализированного владения, поступившего в заведывание государства. Сгорел дом, раскраден инвентарь, прорвана плотина — кто возмещает убытки владельца? Естественно, что он будет спрашивать прежде всего со своего заместителя — государства, которое приняло на себя обязанность временного хозяина.
Я не ограничивался критикою. Указывая, что подобный закон сейчас не нужен и что его можно отложить, так как еще нет достаточных данных о фактическом положении земельного вопроса в Советской России, и так как уже издано постановление о праве посевщиков на урожай, что устраняет продовольственную проблему из аграрного вопроса, я предложил свой проект закона, в противовес проекту министра Петрова.
Мои предложения вкратце сводились к следующему:
1. Частное землевладение не восстанавливается. Иски о восстановлении владения землею не могут быть принимаемы к рассмотрению судебных мест и органов впредь до разрешения вопроса о правах на землю в законодательном порядке.
2. Частичное восстановление нарушенных в 1917–1919 гг. земельных прав происходит лишь в смысле охраны хуторских и отрубных владений и хозяйств промышленного значения. Разрешение споров этого рода возлагается на местные земельные органы, с участием крестьян.
3. Земли незахваченные, если владельцы их отсутствуют, передаются в пользование трудового населения.
4. Устанавливается особый земельный сбор, который (вместо арендной платы) поступает в фонд возмещения убытков бывших владельцев земель.
Мои предложения имели некоторый успех. Они собрали в Совете министров шесть голосов. Но семь голосов было подано за проект министра земледелия, и он стал законом.
Важнейший вопрос прошел перевесом одного голоса.
Я невольно схватил карандаш и тут же стал писать особое мнение. Но я его не подал. Нервное настроение и некоторая озлобленность, которые создались во мне голосованием Совета, нашли себе отражение в дневнике. Я редко заносил на бумагу свои «министерские» впечатления, но на этот раз чувствовал большое желание излить душу.
Из дневника
13 апреля 1919 г. «Сегодня в дневном заседании принят земельный закон исключительной важности. Принят семью против шести. Эта игра голосов становится невыносимою.
Как странно! Со мной шли правые. Мои предложения поддерживал аграрий Мельников, и именно поэтому к нему не присоединились левые: Шумиловский, Преображенский. А между тем Сукин передает сплетню, что в ставке меня считают социалистом. Как это все несносно, и какая безнадежность кругом. Уйти — значит омыть руки. Оставаться — но кто поручится, что будет лучше! Притом, расходясь с большинством о конструкции закона, я согласен с его конечными целями: ведь мы все сходимся на том, что реставрации помещичьих земель не должно быть, и только выражение этой мысли избрано неудачно.
Подумаю. Завтра мне предстоит возобновить работу Государственного экономического совещания. У меня на него большие надежды».
14 апреля. «Уговаривают не подавать особого мнения, чтобы не демонстрировать разногласия по такому важному вопросу. Выяснилось, что Тельберг даже не докладывает особых мнений Верховному правителю. Только сегодня узнал процедуру утверждения законов адмиралом. Нечто невероятное! Председатель Совета министров считает свою роль исчерпанной после того, как он проголосует предложение и подсчитает голоса. Докладывает все Тельберг. Стенограммы прений, которые так старательно пишутся во время заседаний, не сообщаются адмиралу. Хоть бы они сохранились для истории! Как много в них поучительного. Адмирал никогда не знает, какие разногласия возникают в Совете министров, не знает мнения меньшинства.
Хороша система доклада — подсунуть к подписи. «Подписано, так с плеч долой».
И это не только наверху. Старый бюрократ, который заведует у Петрова земельным отделом, представил в Совет министров проект закона, не доложив ни одного из тех очень существенных замечаний, ни одной из тех поправок, которые предлагались при обсуждении законопроекта в совещании с общественными деятелями. Хорошо, что я присутствовал на этом совещании и мог воспроизвести некоторые детали. Какой общий упадок трудолюбия и добросовестности.
Петров говорит, что он немедленно внесет поправки к закону, как только выяснятся его отрицательные стороны. Для опыта имеются всего одна-две губернии. Я опоздал. Уходить надо было после декларации, когда мы (и я в том числе) не сумели отстоять главного положения: «восстановления помещичьих земель производиться не будет». Теперь я только повторял то же самое. Сам виноват».
14 апреля вечером. «Решено, остаюсь. Если Совет министров поддается влиянию Сукина, который разводит руками: «как можно, мол, не соглашаться с вождями победоносного войска» — и демонстрирует, находя подражателя в Михайлове, свою преданность и солидарность со ставкою, то этого не будет в Государственном экономическом совещании.
Сегодня было первое заседание под моим председательством.
Я пригласил тех представителей земских управ, которые случайно находились в Омске.
Земцы и кооператоры поразили меня бессодержательностью. Одни только представители торгово-промышлен-ников, Гаврилов и кн. Кропоткин, дали свежий материал и приводили солидные аргументы. Но все же это много лучше келейного обсуждения проектов в Совете министров. Присутствие корреспондентов подтягивало.
Итак, ставка на совещание! Остаюсь и буду вести борьбу за дальнейшее привлечение общественности. Но удастся ли это?»
Дела внутренние
Между тем в Совете Верховного правителя выпекались блины из недоброкачественной муки. Решения, которые приносились оттуда, поражали необдуманностью и неожиданностью…
Влияние военных кругов все больше сказывалось. Министр внутренних дел Гаттенбергер боролся против этого возрастающего влияния, но сам он терял престиж ввиду неважных своих отношений как с военным министром, так и со ставкою и с самим адмиралом.
Стоявший во главе военного министерства генерал Степанов, человек с хорошим военным образованием, обнаруживал, однако, много бюрократизма. Военное министерство он раздул неимоверно, а вся постановка снабжения и формирования носила у него характер мертвой, бездушной системы. Стаж Степанова — чисто кабинетный. Даже во время войны он был большею частью, в штабах, но самоуверенности в нем было хоть отбавляй. Он считал себя компетентным во всех вопросах. Главным образом из-за Степанова как военного министра ушел министр внутренних дел Гаттенбергер. Впрочем, против Гат-тенбергера очень настроены были правые круги, которые выдвигали кандидатом в министры В. Н. Пепеляева. Он сам был человеком военным по духу, и военные крути приветствовали его назначение на пост министра внутренних дел…
Обновление кабинета
Вслед за уходом Зефирова и Гаттенбергера последовали другие перемены.
Так называемая группа Михайлова действовала в этом направлении еще с Пасхи. Вологодский уехал в отпуск, а заменивший его Краснов горячо убеждал адмирала в необходимости перемен в Совете. Соотношение восьми и семи голосов становилось невыносимым. В мае ожидался переезд в Омск министерства народного просвещения, во главе с Сапожниковым. Этот непартийный и подпавший под влияние министр внес бы еще большую пестроту в голосование. Старынкевичу вменялась в вину его бездеятельность в дни декабрьского бунта; он, кроме того, утомил всех длинными речами и постоянною пикировкою с Михайловым, Степанова считали негодным военным министром. Велась большая агитация против управлявшего министерством торговли Щукина, которого обвиняли в отсутствии активности. Так, поиски политической солидарности, сливаясь с личными симпатиями и антипатиями, привели, в конце концов, к уходу Старынкевича, Сапожникова и Щукина. Во избежание приглашения новых лиц место Старынкевича занял Тельберг, Сапожникова заменил его товарищ Преображенский, который фактически и раньше участвовал в Совете как представитель министерства, пока оно находилось в Томске, и, наконец, министерство торговли временно поручено было Михайлову, которого должен был заменить приглашенный из Парижа Третьяков.
Таким образом, Михайлов оказался министром в квадрате, так же, как и Тельберг, который, приняв портфель министра юстиции, сохранил, однако, и место управляющего. Это было сделано вопреки решению Совета министров, одобрившего проект указа о назначении управляющим делами одного из помощников Тельберга.
Получилось не столько обновление, сколько сокращение состава Совета.
Опять о премьере
Когда в марте высказывалось большое недовольство бездеятельностью Совета министров, вопрос о премьере был поставлен в первую очередь. Или Вологодский уходит, или у него будет помощник, который поможет ему сделать правительство активным. Но первая попытка на-» значить помощника Вологодскому не удалась, а работа наладилась, и он остался.
Теперь он сам поднял вопрос о своем уходе. Но кто же будет решать этот вопрос? Неужели сам Совет министров? Это был бы такой печальный прецедент, такой источник происков и интриг, что смена председателя принесла бы больше вреда, чем пользы. Нужно было раз и навсегда покончить с этой системой, и Вологодский опять остался.
6 мая нараставший правительственный кризис, хотя и не без шероховатостей, был, наконец, разрешен. Нарыв прорвался. Работа пошла усиленным темпом.
Совет министров в новом составе стал работать дружнее. Голосование стало единодушнее, законы стали проходить быстрее, а главное, исчезло томительное взаимное недоверие, которое, несмотря на то, что весь апрель был посвящен ряду ответственных актов (земельные законы, Учредительное собрание, реформа Экономического совещания), постоянно сквозило раньше даже в самые торжественные моменты большой работы.
Новый кабинет
Совет министров, как я уже указывал, скорее сократился, чем обновился. Новыми были Пепеляев, Неклю-тин, Преображенский…
Военный министр Степанов ушел позже других. Михайлов и Сукин напрягали все усилия, для того чтобы вытеснить этого генерала, который благодаря прежней совместной работе с адмиралом на Дальнем Востоке пользовался влиянием на него, бывал часто запросто в доме Верховного и, вероятно, кое-когда вредил другим. Ставка действовала тоже против Степанова.
Вопрос разрешился совершенно неожиданно. Лебедев, которого считали виновником многих зол, был внезапно назначен военным министром, с оставлением в должности начальника штаба. Совету министров дело было представлено так, как будто поглощение военного министерства ставкой) является настоятельно необходимым в интересах улучшения постановки формирований и снабжения и в то же время политически целесообразным ввиду включения в состав совета начальника штаба — лица, которое раньше действовало совершенно самостоятельно и несогласованно.
Лебедев, однако, и после нового назначения не появлялся в Совете министров. Вместо него, стал ходить генерал барон Будберг, который оказался солидным и знающим человеком.
В отношении Совета министров можно было как будто сказать: «Все обстоит благополучно».
Приветствие союзников
В конце апреля адмиралу Колчаку были переданы через генералов Жанена и Нокса приветствия Клемансо и британского военного министра.
«Я не сомневаюсь, — телеграфировал Клемансо, — что сибирская армия под руководством своих выдающихся вождей, поддерживаемая качествами храбрости и выносливости, которые она недавно доказала, осуществит ту цель освобождения России, которую вы себе поставили».
Вслед за этим приветствием получена была декларация французского правительства, переданная Пишоном.
«Считаю своим долгом от себя и от имени всего французского народа принести поздравления Франции и высказать вам чувства ее восхищения перед доблестью ваших войск, которые в чрезвычайно тяжелых условиях нанесли поражение большевикам — врагам человечества. Глубоко веря в будущее России, единой и свободной, мы будем продолжать оказывать вам материальную и моральную поддержку, достойную того дела, на защиту которого вы встали. Франция, сохранившая полное доверие к русскому народу, и будучи убеждена, что из Сибири придет возрождение, не сомневается, что вся Россия в целом вернется в ряды союзников, как только она сможет свободно выразить свою волю и окончательно изгнать захватившие власть элементы беспорядка и анархии, враждебные всякому организованному обществу».
Международная обстановка становилась все более благоприятной омскому правительству.
Югославия, эта самая преданная России страна, положила начало официальному признанию правительства адмирала, уведомив, что она считает назначенного в Белград посланника Штрандтмана полномочным представителем Российского правительства.
Сообщение пяти держав
3 июня Верховному правителю вручено было сообщение, подписанное президентом Вильсоном, Клемансо, Ллойд Джорджем, Орландо и японским делегатом, маркизом Сайондзи.
Категорически удостоверяя общее решение о невозможности установления каких-либо отношений с советскою властью, представители великих держав выразили желание получить осведомление по ряду вопросов. Если «те, с которыми они готовы вступить в общение, придерживаются одинаковых с ними взглядов», то они «готовы оказать поддержку правительству адмирала Колчака и объединившимся вокруг него, а также помогать ему снабжением и продовольствием, с тем чтобы оно утвердилось в качестве Всероссийского».
Без промедления был послан ответ. Политические задачи власти были совершенно ясны адмиралу и его правительству. Омск приступал к творческой работе возрождения хозяйственной жизни страны. Власть обновилась и оживилась. Фронт оставался устойчивым. На севере энер-гичным ударом был занят город Глазов.
Адмирал Колчак поднялся на высоту, и перед его глазами уже белели стены Кремля и сияли купола московских церквей.
На Омск
В июле выяснилось, что красные поставили себе целью взять Омск.
Я побывал в одном из больших лазаретов у раненых солдат и с удивлением узнал, что там происходит междоусобная брань. Сибиряки стоят за большевиков, волжане и уральцы — против. Первые говорят, что нужен мир, вторые — за войну до конца.
Это было потрясающим открытием. Несчастна власть, которая только случайно узнавала о настроениях армии. Никто из военных этого не знал.
Гайда всегда уверял, что сибирская армия — самая прочная из всех. Никогда у него не опускался бело-зеленый флаг, символ снегов и лесов сибирских, и он был уверен в местном патриотизме своих солдат. Но это оказалось ложным. В составе сибирской армии было много мобилизованных из Прикамья. При отступлении они разбежались. Вслед за ними стали разбегаться и сибиряки. От армии остались одни воспоминания, и начальники корпусов и дивизий летали, как духи из потустороннего мира, не имея реального существования. Сибиряки, не знавшие большевизма, не желали воевать, а штабы Гайды и Пепеляева, приютившие представителей демократии, обратились в источники разложения собственной воинской силы. Наоборот, южная армия (третья), состоявшая из людей, выстрадавших большевизм, оказалась самою стойкою.
Генерал Дитерихс решил беречь эту армию и собрать все силы на Тоболе, чтобы здесь остановить наступление. Генерал Лебедев, еще оставшийся начальником штаба, стремился, наоборот, использовать эту армию для немедленного нанесения удара противнику.
Не мне судить, кто из двух генералов был более прав. Но только удар, который Лебедев хотел нанести красным под Челябинском, кончился неудачей. Войска дрались с доблестью, не оставлявшею желать ничего лучшего, но несколько тысяч рабочих челябинского депо вышли против колчаковцев и решили судьбу сражения в пользу красных.
Некоторые военные говорили, что если бы войска не были задержаны у Челябинска и не дали бы там боя, то они разложились бы раньше, чем достигли Тобола. Может быть, это и так, но план генерала Дитерихса был нарушен и привел к неудаче. Лебедев понял, что ему надо уйти.
За несколько дней до его отставки состоялось заседание Совета министров, которое было посвящено создавшемуся положению на фронте. Все чувствовали, что наступает критическое положение.
Еще недавно я был в центре Акмолинской области и мог удостоверить, что если большевики подойдут к ее границам, то население перейдет на их сторону. Как председатель Экономического совещания я мог засвидетельствовать, что после взятия Омска продовольствие армии станет задачей для Сибири непосильной.
Омск надо защищать во что бы то ни стало, и нельзя сомневаться, что красные будут стремиться к Омску со всем упорством, на которое только они способны.
Тельберг придумал в это время свой рецепт спасения. Он стремился создать Особый военный совет из министров и генералов для совместного обсуждения всех вопросов, затрагивающих компетенцию как военных, так и гражданских властей. Надежды на то, что генерал Лебедев, после того как он совместил положение начальника шта-ба с должностью военного министра, инкорпорируется с Советом министров и, таким образом, сблизит военные дела с гражданскими, совершенно не оправдались. Лебе-дев даже не появлялся в Совете министров. Его заменял генерал Будберг, который проявлял большую трезвость суждений, деловитость и подготовленность. Но он не был вершителем судеб, потому что блестящая ставка оставляла военное министерство в тени.
План Тельберга казался целесообразным, и Совет министров его в принципе одобрил.
Настроение омской общественности
Во время неудач ищут виновного. В описываемое время виновным считался Совет министров. На него все обрушивались.
Никто не знал, какое скромное положение занимал он в действительности. Но, если бы даже это было известно, все равно, он был бы виноват: зачем «дошел до жизни такой?»
Между тем совет Верховного правителя приобретал все большее значение. Тут решалась судьба всей страны. Здесь увольнялся генерал Хорват, назначался генерал Розанов, составлялся план внешней политики, ответы Финляндии, указания Юденичу и т. д., а Совет министров ничего не знал.
Среди членов Совета царило уныние. Одни долго боролись против закулисных влияний, жаловались на ненормальность своего положения, просились в отставку, но, когда неудачи на фронте свалились, как снег на голову, уходить уже было поздно. Это было бы сочтено за трусость.
— Они взяли на себя ответственность — пусть делают, — говорил, бывало, Преображенский про Совет Верховного.
Что касается блока, то он пришел к убеждению в необходимости сменить председателя Совета министров и обновить кабинет. На место Вологодского выдвигали теперь кооператора Балашкина и журналиста Белоруссова-Белецкого. В Совете министров к этим кандидатурам по разным соображениям относились отрицательно. Прежде всего возражал против смены Вологодского Сукин. С международной точки зрения он находил его смену крайне вредною.
— Мы накануне признания, и вдруг демократ Вологодский уходит; это очень повредит, — говорил он, как всегда, твердо, на английский манер, выговаривая букву «е».
Теперь же в пользу оставления Вологодского высказывались очень многие. Пепеляев удостоверял как министр внутренних дел, что смена Вологодского произведет крайне невыгодное впечатление внутри страны. Тельберг говорил, что он боится ухода Вологодского из какого-то суеверия. Преображенский, Шумиловский и некоторые другие заявили, что они не останутся членами Совета министров, если уйдет Вологодский, потому что они верят только ему.
Впрочем, Сукин указал, что он уже выписал нового председателя Совета министров с юга России, а именно Н.И. Астрова.
Решающим фактором при переменах в правительстве должны быть, конечно, не внутренние настроения самих членов правительства, а внешние воздействия: отношения и взгляды общества. Омский блок отличался, однако, тем, что он обсуждал, но не действовал. У него было два-три человека, которые после каждого решения забегали узнать мнение министров по этому поводу, и если не встречали сочувствия, то на этом дело и кончалось. Так было и сейчас. Блок поговорил, но скоро выдохся.
В Омске явилась в это время другая общественная сила, на которую возлагались большие надежды. Это была казачья конференция.
Сначала предполагалось, что съезд представителей казачества будет заниматься некоторыми вопросами устройства казачьей жизни, но в связи с общим политическим положением и возрастающею ролью казачества конференция стала выносить решения по всем решительно вопросам и особое внимание уделила устройству государственной власти.
Конференция признала необходимым сократить число министров до пяти, упразднить Сенат и еще что-то в этом роде.
Обновление кабинета
Заместитель председателя Совета министров, министр юстиции, главноуправляющий делами, сенатор и профессор Тельберг отличался большою самоуверенностью. Он, очевидно, решил, что его проект военного совета — единственное средство спасти гибнущее «российское правительство», и, не спросясь Совета министров, не устроив, как об этом просили, совместного заседания министров с Верховным правителем, провел свой проект в форме чрезвычайного указа.
Тельберг, Михайлов и Сукин становились окончательно вершителями судеб, потому что к ведению Совета отнесены были все важнейшие дела.
Как раз в это время возвратился из отпуска Вологодский. В первом же заседании, 12 августа, ему был предъявлен вопрос о незакономерности указа, проведенного Тельбергом помимо Совета министров. Тельберг выдержал ожесточенную атаку.
Бедняга подвергся нападению с двух сторон. Чтобы провести указ, ему пришлось проявить большую настойчивость у Верховного правителя, который не понимал смысла этого указа. Тельберг рассказывал, что дело не обошлось без крика. Какой-то проект был разорван, и, в конце концов, все-таки было подписано нечто сходное с первоначальным проектом.
Генералы тоже не понимали сущности проекта. Им казалось, что это совет обороны, наподобие того, который был учрежден в Австрии накануне ее падения. Когда Дитерихс узнал, что издан подобный указ, он сказал:
— Если так, то в таком случае… в таком…
Он еще не кончил, как адмирал — все это я передаю со слов Тельберга — уже начал доказывать, что, в сущности, ничего не будет, что это только так…
Бороться с Советом Верховного правителя оставалось лишь путем личных перемен. Вологодскому было дано знать, что сохранение влияния за Тельбергом, Михайловым и Сукиным признается большинством недопустимым.
На этот раз Вологодский проявил характер.
Адмирал долго колебался относительно Михайлова и без охоты подписал указ об его отставке. Сукина он ни за что не хотел отпустить. Назначение меня на место Тельберга подписал без колебаний.
Против Михайлова выставлены были, главным образом, деловые аргументы. Серьезной финансовой программы у него нет. Изъятие керенок оказалось крайне неудачной реформой. Технического улучшения сибирских знаков так и не было достигнуто, а сама фигура Михайлова приобрела к этому времени общий подиум. В Государственном экономическом совещании его встречали с крайнею враждебностью, а когда он ушел в отставку, пресса единодушно осудила его деятельность, приписав ему заговоры, в которых он не участвовал, и забыв его положительные черты и заслуги.
Что касается Сукина, то он к этому времени сумел внушить к себе антипатию самых разнообразных кругов. Без каких-либо ясных оснований к нему относились с недоверием. Этому способствовали, впрочем, некоторые частные известия из Америки. Одни из них сообщали о кампании, которую ведет против признания омского правительства глава дипломатической миссии Бахметьев, «высокий» друг Сукина. Другие говорили о некоторой заинтересованности близких к миссии лиц в распределении омских заказов и предостерегали от сношений с Америкой через Сукина. Последний же упорно настаивал, чтобы вся переписка с заграницею шла непременно через него. Доверять глухим обвинениям было трудно. Сукин остался. Он забронировал себя тем, что проводит политику Сазонова и что ни в чем не отступает от указаний Верховного правителя.
Я принял на себя тяжелые обязанности главного управляющего, как жертву. Я предлагал другого кандидата на это место, недавно приехавшего в Сибирь Н. К. Волкова, бывшего товарища министра земледелия при Шин-гареве, но провести назначение нового человека было тогда очень трудно. Верховный правитель приезжал в Омск на день-два и сейчас же опять уезжал, а назначать, не познакомившись с кандидатом, он не хотел.
Если уход Михайлова, уменьшение роли Тельберга и уход Лебедева, совпавший с прочими переменами, были вообще приветствованы, то зато сменившие их лица была встречены очень холодно.
Вместо Михайлова был назначен фон Гойер.
В Омске находилось в то время всего два лица, которых можно было считать сведущими в финансах: Фео-досьев и Гойер. Первый, однако, всегда уклонялся от предложений, которые ему делались раньше. Он считал себя обиженным и демонстративно не ходил в Экономическое совещание, членом которого был избран. Что касается Гойера, то он был представителем Русско-азиатского банка, который считался одним из главных виновников падения рубля, хотя некоторые сведущие лица и горячо утверждали, что эти обвинения — обывательские.
Вместо Лебедева был назначен Дитерихс.
В то время он еще не пользовался престижем в Сибири. Он принял командование в июле и непрерывно отступал. Его считали монархистом и мистиком. На Урале, накануне оставления его войсками, он мобилизовал все мужское население, что вызвало озлобление рабочих. Призывая на борьбу с большевиками, Дитерихс говорил только о храмах и о Боге и объявляя священную войну. Это казалось диким: «Гора родила мышь». Общество осталось неудовлетворенным переменами, последовавшими в середине августа…
Две программы
Я поставил себе целью приблизить Совет министров к Верховному правителю, заставить всех членов Совета почувствовать, что они не только законодатели, оживить самую деятельность Совета министров, изъяв из повесток все ненужное, чиновничье, и, главное, добиться скорейшего преобразования Государственного экономического совещания.
С первых же дней вступления в должность я увидел, насколько работа главного управляющего стала сложнее, чем была во времена Сибирского правительства.
Я был в свое время управляющим. Тельберг переименовался в главного управляющего. Действительно, масштаб расширился.
Законодательная работа Совета министров стала разнообразнее и обильнее. Необходимо было обдумывать повестку, подготовлять дела к слушанию, рассматривать заключения юрисконсультской власти, редактировать журналы Совета.
Верховный правитель постоянно уезжал. Между тем накопилось множество неутвержденных законов. Требовалось изучить их и доложить адмиралу, который относился в то время ко всем законам как к бумагомаранию.
В ведении главного управляющего был отдел печати — «Правительственный вестник» и бюро обзоров. Кроме того, при моем предместнике возник так называемый Особый отдел, своего рода контрразведка, действовавшая в советском тылу.
У меня же на руках, хотя и «временно», оставалось Государственное совещание.
Все это было ничего. Осложняло дело, главным образом, то, что для успешности проведения какого-нибудь большого вопроса необходимо было подготовить председателя Совета министров, обеспечить большинство среди членов Совета (а их было пятнадцать человек), наконец, убедить Верховного правителя. Иной раз, протащив дело через две стадии благополучно, на третьей можно было сломать ногу. Наиболее трудной стадией оказался Совет министров. Эти пятнадцать человек, у которых соотношение голосов складывалось самым неожиданным образом, приводили меня нередко в мрачное отчаяние. «Группы» уже не было. Для того чтобы укрепить взаимное доверие, было решено встречаться для обсуждения каких-нибудь вопросов только всем вместе. Но сговориться всем вместе было только мечтою…
Ирония судьбы…
Конец августа — начало сентября — период смятения умов, крушения фронта и в то же время проявление всероссийской власти: инструкция Деникину, конституция для Архангельска и, как это ни странно при вопиющем недостатке офицеров, жалоба полковника, перебежавшего от красных, что его оставляют без дела и содержания.
Слушается очередной доклад Совету министров о положении дел на фронте. Элегантный генерал, профессор Андогский, водит кием по карте.
«На Сибирском фронте, как видите, положение мало изменилось. В некоторых направлениях, впрочем, противник слегка потеснил нас. На севере (Архангельский фронт) наши войска перешли в наступление и по всему фронту теснят противника. Нами занят город Онега, за время боев захвачено более 4000 пленных и не менее ста пулеметов. На Северо-западном фронте наши войска, под командой генерала Юденича, перешли в наступление на Лужском направлении. На Западном фронте главные силы польской армии достигли Днепра. На Южном вся железнодорожная магистраль Курск — Киев перешла в руки наших войск. В боях около Царицына захвачено более 7000 человек, около Киева более 6000, кроме того, при занятии Киева захвачено около 5000 пленных, 14 орудий, много пулеметов, несколько блиндированных поездов и колоссальные запасы всякого рода. Таким образом, оценивая общее положение фронта и всех сил, находящихся под Верховным командованием адмирала Колчака, следует признать, что оно неблагоприятно для большевиков».
Так докладывалось в сентябре 1919 года о положении дел на фронте.
— А каково настроение солдат? — спрашивали министры.
— Они дерутся безотказно, — был неизменный ответ.
О настроении тыла в Сибири и у Деникина не спрашивали; это должны были знать мы, «российские» министры.
Общее заблуждение
С конца августа в Сибири стало появляться много «знатных» гостей из России. Они выезжали оттуда в мае, июне, когда звезда адмирала Колчака ярко разгорелась.
Приезжали — и разочаровывались переменами, которые произошли за два-три месяца их путешествия.
Многие тут же раскланивались и, недвусмысленно отклоняя от себя разные почетные предложения, стремились обратно, «для связи», как им будто бы было предложено генералом Деникиным. Получив на обратное путешествие солидный куш, соразмерно знатности положения, они, обыкновенно жестоко понося колчаковщину, устремлялись во Владивосток, для нового странствования в Россию или для выполнения патриотической миссии за границей.
Я был очень удивлен, когда генерал Дитерихс, который меньше всего был склонен поощрять подобные путешествия, внес в Совет министров предложение выдать генералу Нагаеву, только что приехавшему с юга России, четыре тысячи фунтов стерлингов для формирования на юге России отдельной сибирской дивизии. Этому же генералу выдано было еще на миллион рублей мелких керенок.
— Помилуйте, генерал, — говорили мы Дитерихсу, — ведь он не успеет доехать, как война кончится победою или поражением.
Под свежим впечатлением работ комиссии по продовольствию и снабжению армии я горячо утверждал, что зиму мы продержаться не сможем. Я был против командировки Нагаева и убеждал в этом адмирала.
Но генерал Дитерихс, в свою очередь, настаивал.
— Нагаев, — говорил он, — сорганизует дивизию из застрявших на юге России сибиряков и с ними через Туркестан будет пробиваться весною 1920 года к нам.
Предложение Дитерихса было принято. Нагаев получил деньги и уехал.
Сентябрьские победы и предостережения
Когда в середине сентября войска перешли в наступление, генерал Дитерихс прислал на имя председателя Совета министров секретное письмо, в котором предупреждал, что значение первых побед не следует преувеличивать. Неприятель обладает большими резервами, а у нас их нет. Спустя некоторое время красные могут подвезти свежие силы, а тогда весь наш успех будет ликвидирован.
Письмо это было оглашено в заседании Совета министров.
Несмотря на это, оптимизм господствовал.
Как-то ко мне явился офицер из ставки с проектом грамот на имя эмира бухарского, хана хивинского и нового Амударьинского казачьего войска, которое, по его мнению, надлежало организовать.
Я доложил адмиралу об этих проектах; он отнесся к ним одобрительно.
Грамоты были заслушаны в Совете министров. Присутствовавший вместо военного министра генерал Буд-берг упорно настаивал, чтобы этих грамот не подписывал Верховный правитель. Основания он приводил очень неопределенные, вроде того, что судьба переменчива, мало ли что может случиться.
Я не сразу понял эти основания, но спустя некоторое время догадался, что Будберг, трезво оценивая положение, опасался общего краха, а так как в грамотах описывались победы по всему фронту, то он боялся, что адмирал окажется в смешном положении. В осторожной форме я передал адмиралу эти опасения.
— Нет, почему же? Я подпишу сам.
Грамоты были изготовлены на особых пергаментных листах, разрисованных в восточном стиле, с прикрепленными на шелковых шнурах печатями. С подписью адмирала они отправились в путешествие.
Дошли ли они по назначению? Получил ли эмир бухарский выражение благоволения Верховного правителя и титул высочества? Узнал ли хан хивинский, что он произведен в генералы? Или грамоты эти погибли где-нибудь в пути? Не знаю. По некоторым косвенным данным, думаю, что они в надежных руках. Но в этом маленьком эпизоде конца сентября ясно проявилось, как мало было в Омске лиц, которые понимала, что приближается конец. Верховный правитель и министры к числу этих немногих понимавших не принадлежали. Из-за деревьев не видно леса. Текущие дела поглощали все внимание правительства.
На фронте
В руках главного управляющего сосредоточивалось много данных о положении на фронте. То попадалось какое-нибудь красочное ходатайство, то анонимное письмо, то отчет ездившего по делам чиновника. Ко мне попадали, между прочим, некоторые данные о положении дел в том районе, который занимал казачий корпус.
Почему крестьяне относились враждебно к казакам? Прежде всего потому, что последние предпочитали брать все, что им было нужно, не платя. Но этого было мало. Если казак видит в огороде арбузы, он сорвет все, чтобы перепробовать; если он ночует в хате, то на прощанье поломает скамью или швырнет в колодезь ведро. Какое-то непонятное озорство, неуважение к чужому труду и праву, презрение к крестьянам, которые якобы не воюют. Все, мол, должны выносить на своей спине казаки.
Многие офицеры не отставали от солдат. Они, правда, не ломали вещей, но зато очень редко расплачивались, должен повторить — я это уже указывал и раньше, — что правительство не умело обеспечить офицерство, и это было одной из главных причин описываемых явлений.
Адмирал Колчак издал приказ, предписывающий ничего не брать у населения без платы. Когда в одном селе, где стоял отряд, староста расклеил этот приказ, и между прочим, может быть из иронии, на стене избы, где квартировал начальник отряда, последний рассвирепел, велел сорвать его, а старосту выпороть за «неуважение» к власти. Адмирал приказал проверить этот случай и строго наказать виновного.
В другом месте, где офицеру указали на то, что приказом адмирала порка и мордобитие запрещены, офицер дал классический ответ: «Приказ приказом, Колчак Колчаком, а морда мордой». Эта фраза взята из перлюстрированного в ставке письма священника.
Тяжела была моральная атмосфера. Когда я принимал должность главного управляющего, я не представлял себе, что эта атмосфера до такой степени безнадежно мрачна. Почему ничего не предпринималось раньше для того, чтобы расчистить ее? Я не могу понять. Теперь я стал осязать ту «военщину», которую считали причиною крушения фронта.
Забывая, что война ведется на русской земле и с русскими людьми, военачальники, пользуясь своими исключительными правами, подвергали население непосильным тяготам. Я ездил на Урал, проезжал плодородные и богатые районы Шадринского и Камышловского уездов. Местное начальство уверяло меня, что население живет спокойно, ни в чем не нуждается, довольно властью и порядком. Но вот отступавшие войска докатились до этих районов. Что сталось с населением, почему стало оно большевистски настроенным? Почему не защищалось всеми силами против нашествия красных?
Вспомним приказы главнокомандующего о поголовной мобилизации всех мужчин, представим себе картину отступления, когда в одном, Шадринском уезде было отобрано у крестьян около 5000 лошадей и повозок, — и мы поймем, что никто не «обольшевичился», но все крестьяне проклинали власть, которая причинила им столько бедствий. «Пусть лучше будут большевики».
Я сам видел в Акмолинской области домовитых, зажиточных крестьян, будущих фермеров свободной частновладельческой России; я ни одной минуты не допускаю мысли, что они стали большевиками. Между ними и коммунизмом ничего общего быть не может. Но они не могли не поддаться настроению «большевизма», как революционной психологии, когда через их деревни прошли казаки.
Прибавлю еще, что войскам нашим приходилось наступать в районе, где они еще недавно отступали. Многие деревни испытывали в третий раз разорительные последствия прохождения войск…
Всероссийские имена
Со времени организации Российского правительства при Директории и власть, и общество тосковали по всероссийским известностям. Что мы такое? Кто у нас есть? Вот если бы приехали Чайковский, Астров, Третьяков, Бурышкин — «тогда бы музыка пошла не та». Летом изъявил согласие приехать в Омск на пост министра торговли С. Н. Третьяков. Раньше, чем он, приехали в Омск от Национального центра: А. А. Червен-Водали, Н. К. Волков и П. А. Бурышкин.
Многие, в их числе и я, обрадовались приезду гостей с юга — авось найдутся кандидаты в министры. Прибывшие привезли с собой приветствие Национального центра, в основе которого лежало одобрение начал власти «единоличной и непреклонной» как единственной, которая «способна довести страну до того состояния устроен-ности и умиротворения, когда возможно будет передать правление постоянной власти, законно поставленной и всенародно признанной».
Червен-Водали, уроженец Бессарабии, тверской земец, член правления Национального центра, занимался у Деникина вопросами внутреннего управления и приехал с намерением осуществить в Сибири те проекты, которые привез с юга, а привез он оттуда, конечно, теорию, а не практику.
Волков — сибиряк. Он был членом Государственной думы. При Шингареве, после переворота, занимал место товарища министра земледелия.
Бурышкин был кандидатом в министры во времена Керенского. Еще молодой человек, он выдвинулся за время войны общественною работою в качестве товарища председателя Всероссийского союза городов и товарища московского городского головы.
Все трое были немедленно представлены мною в члены Государственного экономического совещания. Волков был вскоре избран товарищем председателя вместо уехавшего на восток Виноградова, а Червен-Водали и Бурышкин приняли самое деятельное участие в работах комиссий и выступали постоянными докладчиками в общем собрании.
Бурышкин был, кроме того, приглашен занять место начальника главного управления заграничных заготовок. Этому учреждению предстояло выполнять крайне ответственную задачу упорядочения заготовок и сокращения числа заграничных агентов. Главного управления еще не существовало, его нужно было создать.
Волков со времени моего назначения главным управляющим исполнял всю текущую работу председателя Государственного экономического совещания. Председателем по назначению он не хотел стать. У него не заметно было честолюбия, он был полезен и, по свойственной ему, редкой в наше время скромности, был удовлетворен своим положением.
Остался без ответственной роли один Червен-Водали. Ему предложено было занять место чиновника особых поручений при председателе Совета министров, с тем чтобы выехать на места, на фронт и в тыл, и ознакомиться с положением дел, но он отклонил это предложение, заявив, что предпочитает работу в центре.
В пользу диктатуры
Все три «гостя с юга» были удивлены, когда узнали, что в Сибири установлена диктатура не чистого типа, что адмирал разделяет верховную власть с Советом министров.
Как раз в то время, когда они приехали, сибирская общественность была враждебно настроена по отношению к власти. Роль Макара, на которого валились все шишки, играл, главным образом, Совет министров. Новые люди заразились общим настроением; они считали, что адмирал должен эмансипироваться от Совета министров. Но как?
Проект государственного совещания нашел в лице вновь приехавших новых защитников. Они присоединились к нему, исходя, однако, из других предпосылок, чем авторы законопроекта, которые стремились ограничить диктатора.
При разработке проекта победила первая точка зрения. Диктатор получал большую свободу, он получал возможность выбора, право одобрить либо решение Совета министров, либо мнение большинства, либо мнение меньшинства. Оставалось, стало быть, сделать еще один шаг: признать возможность и совершенно независимого решения — тогда диктатура была бы полной.
Этот проект казался мне крайне неудовлетворительным. Зная адмирала Колчака, я мог предвидеть случайность его выбора, и мне казалось, что переложение на него ответственности за решение должно было бы только ослабить влияние гражданской власти.
Кроме того, проект не удовлетворял и тем стремлениям приблизить власть к народу, которые продиктовали грамоту 16 сентября.
16 сентября
[Адмирал] немедленно по возвращении с фронта, созвал совет Верховного правителя, куда привлек, кроме обычных членов, генерала Дитерихса и атамана Дутова. Появление последнего объяснялось очень просто. Он ездил с адмиралом на фронт, а адмирал быстро привыкал к людям.
Говорить в пользу созыва земского совещания оказалось излишним, и генералы высказались в пользу этого учреждения. Но генерал Дитерихс очень резко подчеркнул одну, несомненно, правильную мысль: совещание тогда только окажется полезным власти, способным ее поддержать, если оно будет состоять не из интеллигентов, а из крестьян. Эта мысль была всеми одобрена, и ее решено было подчеркнуть в актах.
В тот же вечер я написал грамоту Верховного правителя и рескрипт на имя П. В. Вологодского. Все было так быстро составлено, что Омск не успел заранее узнать о происходившем, я был поражен, когда 17 сентября, в день Веры, Надежды и Любви, прочел следующие исторические акты:
«После длительной подготовки к наступлению оружию нашему в тяжких и упорных боях ниспослан крупный успех.
Приближается тот счастливый момент, когда чувствуется решительный перелом борьбы, и дух победы окрыляет войска и подымает их на новые подвиги.
И здесь, на востоке, куда устремлено ныне главное внимание противника, и на юге России, где войска генерала Деникина освободили от большевиков уже весь хлебородный район, и на западе, у границ Польши и Эстлян-дии, — большевики потерпели серьезные поражения.
Укрепление успехов, достигнутых наступающими под верховным моим командованием армиями, предрешает завершение великих усилий и искупление тяжких жертв, принесенных на борьбу с разрушителями государства, врагами порядка и богоотступниками.
Глубокое волнение охватывает борцов, чувствующих благословенное и радостное приближение мирной и свободной жизни.
И вся страна, весь народ в едином непреклонном порыве к победе должны слиться с правительством и армией.
Исполненный глубокою верою в неизменный успех развивающейся борьбы, почитаю я ныне своевременным созвать умудренных жизнью людей земли и образовать Государственное земское совещание для содействия мне и моему правительству прежде всего по завершению в момент высшего напряжения сил начатого дела спасения Российского государства, Государственное земское совещание должно, далее, помочь правительству в переходе от неизбежно суровых начал военного управления, свойственных напряженной гражданской войне, к новым началам жизни мирной, основанной на бдительной охране законности и твердых гарантиях гражданских свобод и благ личных и имущественных.
Такие последствия продолжительной гражданской войны всего сильнее испытывают на себе широкие массы населения, представляемые крестьянством и казачеством. Вызванная не нами разорительная война поглощала до сих нор все силы и средства государственные. Справедливые нужды населения по неизбежности оставались неудовлетворенными, и Государственное земское совещание, составленное из людей, близких земле, должно будет также озаботиться вопросами укрепления благосостояния народного.
Объявляя о принятом мною решении созыва Государственного земского совещания, я призываю все население к полному единению с властью, прекращению партийной борьбы и признанию государственных целей и задач выше личных стремлений и самолюбий, памятуя, что партийность и личный интерес привели Великое государство Российское на край гибели.
Верховный правитель адмирал Колчак».
Из рескрипта П. В. Вологодскому
«Постоянной заботой моей было создание тесного сближения власти и народа.
Еще при открытии Государственного экономического совещания мною предсказана была необходимость привлечения широких кругов населения к разрешению важнейших государственных вопросов.
Ныне, когда с началом решительного наступления наших армий приближается момент наивысшего напряжения сил и когда опытом работ Государственного экономического совещания подготовлено дальнейшее развитие начатого уже сотрудничества в деле законодательства власти и народа, я признаю своевременным созыв Государственного земского совещания по преимуществу из представителей крестьянства и казачества, на которых выпала главная тяжесть борьбы.
Объявляя об этом своем решении особою грамотою, я поручаю вам, как председателю Совета министров, разработать в ближайшее время проект положения о Государственном земском совещании, как органе законосовещательном, с правом запросов министрами и с правом выражения пожеланий о необходимости законодательных и административных мероприятий».
…Хорошим был день 17 сентября, когда члены правительства принимали поздравления с мудрым решением.
Но торжество недолго продолжалось. Иностранцы спрашивали: когда же будет издан закон — грамот мы уже читали много. Правые говорили: зачем эти парламенты? Левые были недовольны: почему «законосовещательный», а не законодательный? Опять повторялось то, что было в июне, при открытии Государственного экономического совещания.
Но хуже всего то, что недовольно было время. Оно безжалостно твердило: поздно, поздно…
В тылу беспокойно. В то время, когда мы так усердно работали над проектом Государственного совещания, с тем чтобы открыть возможность населению непосредственно влиять на власть, на местах происходила оживленная работа подполья.
Генерал Гайда, окруживший себя эсерами в армии, создавший в своем штабе гнездо интриг, которые разложили прежде всего его собственные силы, отправился после своей отставки на Восток вместе с наиболее активными своими сотрудниками, вроде капитана Калашникова. Везде по дороге он останавливался и, по донесениям контрразведки, вел переговоры с представителями революционных партий. Во Владивостоке он засел в поезде и продолжал деятельные сношения с Якушевым, Моравским и другими деятелями эсеровского подполья. Узнав об этом, адмирал разжаловал Гайду, лишив его чинов и орденов. Это было в сентябре.
Хотя Гайда не пользовался популярностью среди чехов, но увольнение его было использовано очень ловко для агитации против Колчака: «Вот какова благодарность!» И когда мне пришлось как-то коснуться вопроса о Гайде в беседе с адмиралом, я сказал ему:
— Вы сделали Гайду героем.
Приказ о Гайде прошел без ведома хотя бы одного министра. Кто составлял этот приказ, я так и не знал..
Надвигающиеся тучи
Некоторое время общая обстановка оставалась неопределенной. Победы Деникина окрепли. На Тоболе было как будто устойчиво.
Многие ехали выписывать обратно эвакуировавшиеся в августе семьи.
Но вдруг посыпались неприятные известия одно за другим.
20 октября было получено сообщение о взятии Петрограда. Все ликовали, хотя такое же сообщение в июне оказалось ложным, 21-го известие не подтвердилось, а затем оказалось, что упорные бои под Царским Селом и Гатчиной окончились победой красных. Юденич начал отступление.
День 23 октября был тяжелым днем. Орел отошел обратно к красным. Коммунисты сплотились и все до единого вышли защищать себя, а тыл Деникина и Юденича разлагался: деревня, в лучшем случае равнодушная к добровольческому движению, ничего ей не сулившему, не поддерживала Добровольческую армию, а города были полны недовольных военным режимом.
Подъем настроения красных сказался и в Сибири. Наши войска начали отступать.
Омск уже с августа казался военным лагерем. Он уже потерял свой прежний безмятежный вид. Над городом летали аэропланы и даже гидроплан, который пугал гулявших, опускаясь на уровень крыш. На Иртыше трещали автосани. Кругом города в рощах поселились беженцы. Они нарыли в роще землянки, грелись у костров. Тут же паслись их лошади и скот. Иногда казалось, что Омск в осаде и вокруг него расположены военные лагеря.
На площади у собора служили всенародные молебны. В Омске собралось около пяти архиереев-беженцев. Молебны проходили торжественно и усиливали впечатление грозной опасности положения.
По улицам ходила крестоносцы, поступившие в ряды армий для защиты веры православной. Рядом с ними маршировали мусульмане со знаком полумесяца. Это было движение «святого креста» и «зеленого знамени», развивавшееся под руководством энергичного и смелого идеалиста профессора Болдырева и религиозного генерала Дидерикса.
Верховный правитель на собрании беженцев сказал им:
— Бежать больше некуда, надо защищаться.
Но все жаждали помощи извне.
Чехи или японцы
— Мы ближе к признанию, чем когда-либо, — продолжал утешать Сукин. — Союзники боятся победы Деникина, правительство которого считается более правым, чем омское.
— Вся власть должна быть у Деникина, — твердили в это время правые крути в Омске, опасаясь, что омские министры будут настаивать на своем первенстве. Но было не до того, да и Деникин начал отступать.
В Омске чувствовалась напряженная работа. Всероссийский союз городов, оживившийся с приездом Кириллова, Бурышкина, Червен-Водали, энергично развертывал свою деятельность. Составлялись санитарные отряды, производились сборы, открывались лазареты. Опытные руки умело налаживали помощь армии.
Не оставались бездеятельными и другие. В Омске была успешно разыграна на улицах американская лотерея.
Но всего этого было мало. Нужна была живая сила.
В день отъезда адмирала в Тобольск у Вологодского происходил дружеский завтрак с чехами. Соглашение о привлечении чехов добровольцами как будто налаживалось.
В сентябре предложили свои услуги карпаторуссы. Их вооружили, одели, обласкали и отправили на фронт. Но пришло тяжелое известие, что карпаторуссы изменили и перешли к красным. Это обвинение осталось непроверенным. Другие данные говорили о том, что карпаторуссы не сдались, а были захвачены, так как их часть была слишком выдвинута и при отступлении оказалась покинутой без связи.
Во всяком случае, известие о карпаторуссах повергло в уныние всех славянофилов, мечтавших привлечь на фронт и чехов, и поляков. Левые группы уверяли, что чехи слишком любят Россию и слишком культурны, чтобы оставить на произвол большевизма освобожденную благодаря их вмешательству Сибирь. Совет министров ни в чем не отказывал чехам, принимая все их условия, и Вологодский говорил с Павлу по прямому проводу, надеясь на успех.
Чешский представитель, майор Кошек, уехал в Иркутск, обещая поддерживать там воинственное настроение. Но в то время рассылалась из Иркутска по чешским войскам карикатура, на которой молодой в действительности чешский генерал Сыровой был представлен стариком, едущим на кляче, а сзади него в плохоньких телегах, на худых лошаденках тряслись обнищавшие чехи с детьми и внуками. Под карикатурой стояла надпись: «Чехи, которые эвакуируются через сто лет».
В конце октября чехи стали продавать в Омске свое имущество и готовиться к отъезду. Оптимисты уверяли, что они поедут на запад, а не на восток. Демократия ставила на чехов, буржуазия же верила в японцев.
В Омске с половины октября находился высокий комиссар Японии, член верховной палаты Като.
Зачем он прибыл в Омск в его предсмертные часы? В августе, когда после совещания с Моррисом было решено просить Японию принять на себя охрану сибирской дороги к западу от Байкала и послать для этого две дивизии, Токио ответило отказом, ссылаясь на климатические затруднения и на непопулярность в парламенте и обществе сибирских экспедиций.
Но, говорили дипломаты из обывателей, Япония заинтересована в сильной России или, по крайней мере, Сибири и теперь, видя большевистскую опасность, придет на помощь.
Японский посол дал интервью:
«Гласная цель моей поездки, — сказал он, — установление тесной связи с Омским правительством. Никаких специальных поручений я не имею. Япония стремится в настоящее время оказать помощь омскому правительству и помочь ему в дальнейшем стать всероссийским. Как только положение в Восточной Сибири окрепнет, наши войска будут немедленно уведены: их пребывание здесь, а равно уход зависят от желания омского правительства. Кроме помощи живой силой, по мере возможности, Япония окажет и помощь экономическую».
Интервью оставляло смутное впечатление. Каковы намерения Японии, какую помощь она может оказать? Оставалось неясным. Но общий тон заявлений посла был настолько благожелателен, что нужно было немедленно попытаться выяснить положение. Сукину это не удавалось. Посол Като прибыл в Омск, дни проходили за днями, а переговоры не налаживались. Трудно сказать, как и откуда, но в обществе сложилось убеждение, что японцы с Сукиным разговаривать не будут, из опасения, что подробности переговоров немедленно будут сообщены в Америку. Сукин же уверял, что японцы ни в коем случае не пойдут западнее Байкала.
Совет министров искал выхода.
Министр финансов Гойер, человек, хорошо осведомленный в восточных делах, казался наиболее подходящим средством связи с Като. Министр Третьяков, как представитель торговли и промышленности, мог помочь ему. Им обоим поручено было войти в переговоры с японским послом относительно тех экономических выгод, которые могли бы быть предоставлены Японии на Дальнем Востоке в случае ее помощи правительству. Като отказался обсуждать вопрос в плоскости компенсаций; он заявил, что японское правительство готово помочь из дружеских чувств к России, но, что касается интересов Японии на Дальнем Востоке и тех выгод, которые она могла бы себе обеспечить там, он рад обсудить их совместно с министрами, и если точка зрения правительства будет изложена письменно, он охотно передаст ее в Токио.
Сведения, полученные позже из Японии, подтверждали, что там происходил в то время перелом настроений. Для обеспечения специальных интересов на Дальнем Востоке необходимо было оберечь от большевизма Сибирь. Япония послала в Забайкалье новую дивизию. Это казалось благоприятным признаком, но российский посол в Токио ничего о переменах настроений не сообщал, и министерство иностранных дел омского правительства не приняло всех необходимых мер для использования новых настроений Японии.
Тем не менее еще в конце октября мы продолжали надеяться, что положение не безнадежно.
Взбаламученное море
По всей Сибири разлились, как сплошное море, крестьянские восстания. Чем больше было усмирений, тем шире они разливались по стране. Они подходили к самому Омску из Славгородского и Тарского уездов, с юга-востока и северо-запада, прерывая линию сообщений Семипалатинск — Барнаул, захватили большую часть Алтая, большие пространства Енисейской губернии. Даже местным усмирителям становилось, наконец, понятно, что карательными экспедициями этих восстаний не потушить, что нужно подойти к деревне иначе. Зародилась мысль о мирных переговорах с повстанцами, так как многие присоединились к движению…
Приходили сведения о жестоких расправах в городах с представителями местной социалистической интеллигенции. Делавшие это помпадуры не понимали, что интеллигенция — мозг страны, что она выражает настроение широких кругов населения и заражает их своими настроениями, что всякая излишняя, а тем более произвольная жестокость вредна не только потому, что убивает без смысла, но и потому, что создает тысячи новых врагов.
Трудно было проверить все, что приходило с мест. Красильников, один из участников переворота 18 ноября, повесил на площади городского голову города Кан-ска, и, как рассказывают, когда ему сообщили о жалобе на него Верховному правителю, то он пьяным, заплетающимся языком ответил:
— Я его посадил, я его и смещу…
…Омск висел на волоске, а на Дальнем Востоке разыгрывалась трагикомедия атаманщины…
На фронте
Что же происходило на фронте? Бои проходили с небывалым ожесточением. Обе стороны дрались со страшным упорством. Наше командование бросило на фронт все резервы. Пошли крестоносцы, морской батальон, состоявший из квалифицированных техников, часть конвоя Верховного правителя. Смерть безжалостно косила ряды бойцов.
Погода установилась отвратительная. Обмундирование, которое было выслано на фронт, каталось по рельсам, так как непрерывное отступление не давало возможности развернуться. Солдаты мерзли в окопах.
Беспрерывные мобилизации дали несколько десятков тысяч новых солдат, но этим солдатам нельзя было доверять. Не было гарантий, что они не перейдут к красным, не потому, что они сочувствовали им, а потому, что больше верили в их силу, чем в силу Колчака. Кто наступал, тот вел за собой солдат.
Ряды первой армии так поредели, что, когда красные повели наступление на армию ген. Пепеляева, ему некого было выслать…
Генерал Дитерихс объехал всех командующих армиями: Сахарова, Лохвицкого и Пепеляева. По соглашению с ними он решил отступать, не останавливаясь перед сдачей Омска.
Омск начал разгружаться. Дитерихс наметил новую линию фронта и начал отводить армии. Первой уходила сибирская армия, как наиболее поредевшая.
К омскому вокзалу потянулись длинной вереницей возы.
Эвакуация
В конце октября у Верховного правителя состоялось заседание Совета министров. Вопреки уверению Тельбер-га, что адмирал не любит многолюдных заседаний, он быстро привык к совместным заседаниям с министрами.
Поставлен был вопрос об эвакуации.
— Правительство, армия и золото должны быть вместе, — такова была формула адмирала. Все речи только развивали эту тему.
Горячо говорил Третьяков. Он призывал оставаться в Омске до последнего.
— Может быть, вам, — сказал он, обращаясь к адмиралу, — суждено повторить бессмертный поход Корнилова. Мы пойдем с вами.
Но адмирал больше одобрял практические действия, чем слова. Он требовал, чтобы разгрузка совершалась быстрым темпом.
Я вполне разделял это стремление. Работать в Омске было невозможно. Он был военным лагерем. Правительство только мешало своим присутствием, а между тем тыл все больше отрывался от власти. В Иркутске избрана была социалистическая Городская дума, в Благовещенске тоже. Контрразведка доносила о большой агитации земцев. Можно было предвидеть, что правительство опоздает и с переездом, что раньше, чем оно приедет, на Востоке образуется другое.
Поэтому я со своими учреждениями не медлил и в первую очередь двинул в Иркутск Государственное экономическое совещание и бюро печати. Я считал, что для существования правительства нужно как минимум перенести в Иркутск управление делами, как центральный аппарат, Экономическое совещание, как некоторую общественную спору, и, наконец, средства печати как орудие агитации. Другие министры не спешили. Эвакуация подготовлялась уже раньше, в августе, но была отменена. Это всех развратило. Всем казалось, что так будет и теперь. Заниматься эвакуацией считалось проявлением трусости, а не благоразумия. Омская общественность требовала защиты Омска во что бы то ни стало. Государственное экономического совещание, выслушав указ о перерыве работ, постановило выразить Верховному правителю полную готовность по первому призыву вновь приступить к работе по содействию правительству в его тяжких трудах, была избрана делегация к адмиралу в составе Червен-Водали, Щукина и полковника Березовского.
Адмирал согласился принять ее. Но когда утром 31 октября я пришел вместе с делегацией к адмиралу, он был в таком настроении, что я боялся скандала. Он пригласил к себе сначала меня одного, стукнул кулаком по столу и спросил:
— Вы с делегацией?
— Да.
— Просите! — Это было сказано таким тоном, что я ожидал возможности самой невероятной выходки.
Однако обошлось благополучно. Волнуясь за адмирала, престиж которого я всячески охранял, волнуясь и за престиж совещания, председателем которого я был, я прочел резолюцию совещания, принятую в связи с указом о перерыве работ. Потом Червен-Водали деликатно и тактично стал развивать мысль о том, что запасный центр нужен, но что Омск, по мнению всех членов совещания, так важен политически, что его надо защищать.
Адмирал успокоился и оживился. Это было и его мнение. Он подчинился одно время авторитету Дитерихса, стоявшего за оставление Омска, но был рад слышать все, что говорило в защиту Омска.
Дальше речь пошла о председателе Совета министров, о необходимости перемен. Адмирал рассказал о своей беседе с Вологодским, о доверии своем к Пепеляеву, о том, что он ждет его возвращения.
После этого произошло то частное заседание министров, на котором была признана большинством необходимость смены премьера. Только общая обстановка разгрузки, под видом которой происходила фактическая эвакуация, помешала осуществлению перемен в кабинете.
Только одну неделю пробыл после этого в Омске Совет министров, и вся эта неделя проходила в колебаниях: эвакуироваться или нет? Верховный правитель поддался господствующему настроению. Он решил защищать Омск. На этом решили сыграть генералы-карьеристы.
Командовавший третьей армией генерал Сахаров просил у Верховного разрешения приехать в Омск. Ему разрешили. Однажды адмирал вызвал Третьякова, Неклюти-на, Устругова, Пепеляева и меня к себе. Это был не совет Верховного, а импровизированное заседание. Присутствовали Сахаров и назначенный его помощником Иванов-Ринов. Сахаров сделал доклад о положении на фронте, о нуждах армии, о настроениях ее. Из всего вытекало, что защищаться нельзя. Но, к общему удивлению, он сделал неожиданно и нелогично вывод, что защищаться нужно. Дитерихс не присутствовал.
Выслушав доклад, мы хотели возражать, но испортил дело Устругов. Вместо того чтобы сразу изложить свои сомнения, он задал вопрос, будем ли мы обсуждать доклад командующего армией.
— Конечно, нет! — резко заметил адмирал. Я пригласил вас только для информации.
Поделившись своими соображениями о неустранимо-сти беспорядка в деле снабжения и транспорта, пока будет существовать многовластие, мы разошлись.
На другой день пришлось очень долго ожидать адмирала. Было за двенадцать, когда он вышел принять доклад.
— Знаете, — сообщил он мне, — я всю ночь обсуждал здесь положение и решил защищать Омск. Главнокомандующим будет Сахаров.
Указ был уже подписан. Сахаров, который накануне держал себя с неприличною самоуверенностью, был мне совершенно не знаком. Я съездил к Ноксу узнать его мнение. Он сказал, что Сахаров смелый офицер, что, может быть, ему и удастся выполнить свой план и защитить Омск.
Все распоряжения Дитерихса об эвакуации были отменены. Поезда, следовавшие из Омска, были задержаны. Некоторым частям приказано было выйти из Новонико-лаевска в Омск, выехавшим чинам военного министерства — вернуться. Все перевернулось вверх дном.
Адмирал ободрился. Но прошел день, другой, и выяснилось, что остановить отступление невозможно. Распоряжения Сахарова внесли только лишний сумбур. Чтобы оправдать себя, он обвинял во всем Дитерихса.
Адмирал не мог спокойно говорить о Дитерихсе. Он называл его чуть ли не изменником, обвиняя, главным образом, в том, что он увел с фронта сибирскую армию и таким образом обнажил фланг остальных. Докладчики не хотели быть честными и не сообщали, что они сами присоединились к плану Дитерихса и что уведенная армия фактически состояла из штабов, обозов и небольших потрепанных отрядов.
Между тем совершалось нечто непредвиденное.
Взоры всех с тревогой впились в сторону Иртыша. Он це замерзал. Падал мокрый снег, стояла распутица, зима упорно не приходила.
Незамерзшая, непроходимая река на пути отступающей армии — это грозило такой катастрофой, о которой язык отказывался говорить.
Последние заседания в Омске
Совет министров все еще ничего не понимал. Против эвакуации упорно возражали несколько министров. Вологодский беспомощно разводил руками. Никто не хотел видеть, что творится в Омске. Город перешел всецело во власть военных. Приехавшего из Архангельска Игнатьева, бывшего члена Северного правительства, посадили в тюрьму, без ведома кого-либо из министров. Добиться, почему он посажен, никто не мог. Подозревали дикое.
Жардецкий приехал сообщить мне, что подготовляется арест Сукина, Михайлова и меня ввиду вредного влияния нашего на адмирала. Уже самое сопоставление фамилий людей, резко расходившихся в политике и ее приемах, свидетельствует о нелепости плана. Но все было возможно.
В то время, как пребывание правительства в Омске лишало его последнего влияния, страна потеряла всякую связь с столицей. «Правительственный вестник» дальше Омска не выходил. Учреждения перестали работать. Сам Совет министров тратил время на бесплодные споры об эвакуации.
Я не верил искренности некоторых возражавших. Это были случайные люди для Сибири, люди, которые могли смотреть на оставление Омска как на конец своей карьеры. Иркутск, по-видимому, их не интересовал, и потому они нисколько не входили в рассмотрение перспектив переезда. А может быть, они были дальновиднее других и были уверены, что власть, оставляя Омск, неминуемо погибнет.
Вопрос решил сам адмирал. Он приказал выезжать. Спешно приняли мы положение о Государственном экономическом совещании, на всякий случай закон о денежной реформе, закон о предоставлении законодательных прав Совету министров, на случай разобщения с Верховным правителем, — и собрались в путь.
В субботу, 8 ноября, состоялось последнее совместное заседание Совета министров с Верховным правителем. Адмирал утвердил все законы. Он остановился только на вопросе о назначенных членах совещания. Некоторые министры находили, что от назначения лучше совсем отказаться, адмиралу казалось, наоборот, что надо увеличить число назначенных членов.
В соседней комнате ждал чиновник, чтобы отнести закон в типографию. На следующий день он появился в «Правительственном вестнике», последнем его номере, вышедшем в Омске.
Министры сердечно простились с адмиралом.
Военный план
Я посетил адмирала еще и на следующий день. У него были также Пепеляев, который не хотел уезжать и придумывал предлоги, чтобы остаться, и Сукин, который решил уехать и оставить вместо себя Жуковского. Адмирал приказал Пепеляеву и мне ехать вместе с правительством.
Настроение у него было мрачное. Он производил впечатление нравственно измученного человека.
Казалось, все было сделано для защиты Омска. Начальник гарнизона докладывал Совету министров, какие у него части, какие приняты меры, и выходило, что беспокоиться не о чем. Был издан указ о призыве всего мужского населения. Я лично провел ночь в типографии, чтобы этот указ был своевременно опубликован. Защита города была поручена одному из самых энергичных и смелых генералов, Войцеховскому. Я видел его у адмирала. Это было поздно, часов в 12 ночи. Адмирал вызвал меня и просил распорядиться, чтобы в три дня было очищено здание судебных установлений. Войцеховский был в это время у адмирала. Он показался мне глубоко сосредоточенным, как-то несоответственно явной молодости, и своим печальным и серьезным видом он резко отличался от других генералов.
Но что-то подсказывало внутри, что Омск не уцелеет. И я не удержался, чтобы не спросить адмирала, окончательно с ним прощаясь: а что, если Омск падет, что будет дальше? Есть ли у него какой-нибудь план?
Он был очень удивлен моим вопросом.
— Какой же план? Будем отступать на Восток. Не можем же мы бросить железнодорожную линию.
Я был, в свою очередь, удивлен. А продовольствие? Откуда будет приходить оно на Восток? Мне раньше казалось, что даже правительство, если оно не успеет эвакуироваться, должно будет попытаться уехать на юг, по направлению к Семиречью, куда как будто перст божий указал путь, даровав осенью большую победу.
Невольно я подумал о Дутове, который формировал армию в глубине Акмолинской области и не спешил усилить левый фланг армий. Где он, не направится ли он на юг?
Мы простились с адмиралом. Я обещал ему позвонить со станции, когда поезд будет отправляться. Он очень беспокоился о своих министрах и не мог скрыть беспокоившую его мысль, что правительство не сможет выехать.
Отъезд
В воскресенье распутица усилилась еще больше. Улицы и тротуары были залиты водой. Не переставал падать мокрый снег. Комендант Совета министров сам разъезжал на паровозе, формируя состав. Одни вагоны не находились, другие нельзя было вывезти, потому что на пути произошло какое-то крушение. Трудно было думать, что все это случайности.
Вечером здание Совета министров превратилось в станционный зал. Повсюду набросаны были груды багажа и сидели фигуры в пальто и шубах. Освещение было тусклое. Арматуру намеренно сняли.
Только к десяти часам вечера получено было сообщение, что часть поезда готова.
Мы тронулись в путь на другой день утром, 10 ноября. На станции были расклеены объявления о том, что адмирал решил защищать Омск и что он не оставит армии. Говорилось, что красные еще далеко, но никто не знал точно где. Однако адмирал так торопил правительство с отъездом, так беспокоился о министерском поезде, что все чувствовали инстинктивно, что опасность гораздо ближе, что она вокруг нас.
В вагонах
В день отъезда ударил мороз. Стало легче на душе: армия сможет отойти на Иртыш.
По обе стороны пути тянулись обозы отступающих частей. На станциях стояли длинной цепью эшелоны эвакуирующихся министерств и штабов. Платформы были наполнены всяким скарбом.
В Новониколаевске мы получили известие, что дела Деникина идут очень плохо. Я посетил стоявшего там Ди-терихса. Он показал мне торжествующее радио большевиков.
— А вы знаете, — сказал Дитерихс, — что вам лично грозила опасность в Омске? Я просил генерала Домонто-вича вас об этом предупредить.
Мы тронулись дальше. Ехали спокойно, но чувствовали себя путешественниками, а не правительством. Все разбилось, разорвалось на части и жило своею жизнью по инерции, не зная и не ища власти. Только начиная от Красноярска, где путь уже не так был разбит, стали выходить местные администраторы, чтобы встретить и получить инструкции.
Но что мог дать им Вологодский, который в это время больше походил на путешественника, чем когда-либо! И встречавшие получали только последний номер «Правительственного вестника» с положением о Государственном экономическом совещании. Это была последняя ставка правительства.
Любопытно, что одна из последних телеграмм Деникина извещала о разработке проекта учреждения законодательного органа. Этого же хотел и Миллер в Архангельске. Все пришли к одному выводу. Но Миллер просил одновременно дать ему право производить в чины и награждать орденами. Эту телеграмму мы оставили без ответа.
Министры ехали в разных вагонах и с разными мыслями. Несколько раз мы встречались на заседаниях в вагоне Вологодского.
Одни вносили проекты, касавшиеся перевода денег на обеспечение послов, о нормах обеспечения уходившим министрам — это были холодные практики, другие — о расширении прав губернаторов, о порядке использования эвакуированных чиновников — это были неисправимые оптимисты и люди, которые страдали.
В Иркутске
Поезд прибыл в новую столицу вечером [19 ноября]. Правительство встретили с музыкой. Командующий войсками Артемьев представил председателю Совета министров тут же, на вокзале, весь генералитет. Прибывший раньше правительства государственный контролер Краснов представил всех гражданских чинов.
Представителей общественности не было. Земство и город демонстративно уклонились от встречи.
Кто же поддерживал правительство? Неужели только те самые военные, высшие представители которых его же бессознательно губили? Неужели правительство было только организацией для обслуживания армии и только с нею было связано?
Да, оглядываясь назад, приходится сознаться, что это было так.
Сибирское правительство устроило свою Сибирь. Население Сибири знало, что оно имеет свое правительство, обращалось к нему, требовало от него и обещало ему. Но пришло Российское правительство и сразу оторвалось от Сибири. Население почувствовало, что правительство живет не им, что оно глядит на запад, а власть увлекалась военными перспективами — такова была идея диктатуры: сначала победить, потом устраивать.
Правительство было «омским», и в Иркутске оно оказалось чужим. Тяжело было его положение.
В тот же вечер Краснов, который вместе с товарищами министров, ранее откомандированными на восток, разрешал там до прибытия правительства текущие вопросы, доложил Совету министров последние новости.
Первым и самым неприятным сюрпризом был чешский меморандум. Затем следовали неприятности с востока. Поведение Семенова казалось загадочным. Он задерживал золото, направленное дальше на восток; дальнейшая эвакуация ценностей через Забайкалье представлялась опасной. Правительство боялось своего офицера. Во Владивостоке создалось очень тревожное положение, назревал мятеж. Подробное донесение Розанов послал Верховному правителю, так что в Иркутске знали только поверхностно о подготовлявшемся во Владивостоке выступлении. Наконец, в самом Иркутске было тоже неблагополучно. Перед приездом правительства там был раскрыт заговор и произведен ряд арестов. По докладу Краснова, для противоправительственной агитации было много поводов. Иркутск питается привозным продовольствием. Расстройство сообщения в связи с грандиозною эвакуацией уже заставило почувствовать недостаток многих продуктов. Дороговизна увеличивалась с каждым днем. Между тем кассы опустели. Экспедиция заготовления государственных бумаг не работала, рабочие и служащие не получали полностью всех полагавшихся им выдач. Единственным спасением казался немедленный выпуск, в качестве денежных знаков художественно исполненных облигаций выигрышного займа, полученных из Америки, где они были изготовлены еще по заказу Временного правительства в Петрограде. Было о чем задуматься…
Обращение Совета министров
Прибыв в Иркутск, Совет министров должен был дать о себе знать. Отношение к нему было слишком безучастно. Министр труда Шумиловскдей составил еще в поезде декларацию, которая была опубликована с датою приезда в Иркутск, 19 ноября.
«Тяжелы условия работы, — говорится в декларации. — Экономические затруднения достигли небывалых размеров, правопорядок расшатан постоянными волнениями и непрекращающимся своеволием. Дух корысти обладал целыми слоями общества, не удовлетворен ряд насущнейших нужд, многое еще осталось незаконченным в строительстве, и, играя на неудовлетворенных нуждах обывателя, большевистская агитация ведет усиленную подпольную борьбу против власти. В настоящий момент более чем когда-либо необходима для власти такая обстановка, в которой она могла бы с возможно большей быстротой разрешить самые острые вопросы дня, удовлетворить наиболее насущные нужды общества. Совет министров постановил перенести свою резиденцию в Иркутск, наиболее крупный культурный центр Сибири, рассчитывая установить отсюда более тесную связь со всеми частями страны и объединить возле себя все государственно настроенные круги населения. Для правительства не существует иных соображений и целей, кроме спасения раздираемой внутренними распрями России. Оно непреклонно верит в конечное торжество того великого дела, начало которому положено в 1918 году временным Сибирским правительством, и которое ныне объединило под верховным руководством адмирала Колчака все национальные силы страны. В дни тягчайших испытаний оно обращается к стране со словами бодрого призыва. Предстоящая работа правительства немыслима вне самой тесной связи с широкими прогрессивными кругами общества, хотя бы их взгляды и не всегда совпадали с взглядами власти. Положение о государственном земском совещании утверждено Верховным правителем, и народные представители будут созваны в Иркутске в ближайший сррк. В сотрудничестве правительства и общественности будут познаны обоюдные ошибки, неизбежные и неотвратимые в обстановка спешной работы и лихорадочной гражданской войны. Признанные полезными и необходимыми мероприятия найдут себе скорейшее завершение. Осуществление того, что не может быть претворено в действительность силами одной власти, будет проведено в жизнь при активном содействии общества. Родина с благодарностью вознаградит мужественных бор-цов за свободу, но строго покарает малодушных и лукавых. За землю, за охраненный законом свободный труд, за культуру, законность, истинное народоправство, за Учредительное собрание!»
Искренней была эта декларация, и если бы зимою 1919 года не начало господствовать в Сибири настроение в пользу соглашения с большевиками, если бы представители левых течений были более благоразумны — они нашли бы общий язык с властью, которая звала общественность в Государственное земское совещание для совместной борьбы против произвола…
Верховное совещание
…Со всех сторон предлагались рецепты спасения.
В то время, как Чита предлагала милитаризировать всю Сибирь, разделив ее на два генерал-губернаторства, на западе Верховный правитель создал новый орган управления, «Верховное совещание», на котором были заметны следы административного творчества ставки. Автором этого учреждения был, по всей вероятности, Ива-нов-Ринов.
В ставке проявлялось бурное творчество. Воззвания выводили за воззваниями. Как в старину, адмирал объявил: «Отечество в опасности!»
Он просил население Сибири защищать себя:
«Я обращаюсь, — говорил он между прочим, — ко всему имущему населению Сибири. Пора понять, что никакие пространства Сибири не спасут вас от разорения и позорной смерти. До сих пор вы думали, что правительство и армия будут вас защищать без всякого участия с вашей стороны, но настал час, когда вы должны сами взяться за оружие и идти в ряды армии. Идите же в армию и помогайте своим достоянием, деньгами, одеждой и продовольствием. Забудьте о чужой помощи. Никто, никто, кроме вас самих, не будет вас защищать или спасать».
С тем же обращался адмирал и к крестьянам. В обращении сквозила господствовавшая в ставке нервность.
Сумбурнее и немощнее, чем это обращение, был приказ от 25 ноября о добровольческом движении:
«Для борьбы за возрождение великой свободной России повелеваю: широко охватившие страну добровольческое движение объединить и использовать для самоохраны и формирования народного ополчения.
На всей территории страны объявляю призыв всенародного ополчения. Призываю все население государства к широкой самодеятельности»
Понять, где здесь кончалось добровольчество и начинался призыв, никто не мог. Это так и оставалось загадкой.
К числу актов этого нервного творчества относится и учреждение Верховного совещания указом 21 ноября.
«Считаясь с необходимостью моего пребывания при армии, доколе обстоятельства того требуют, я, на основании 2 части ст. 3 Положения об устройстве государственной власти в России, повелеваю:
1. Совет Верховного правителя упразднить.
2. Образовать при мне и под моим председательством Верховное совещание, в составе главнокомандующего фронтом, его помощников, начальника его штаба, генерал-квартирмейстера при верховном главнокомандующем, председателя Совета министров и министров военного, внутренних дел, иностранных дел, путей сообщения, финансов, снабжения и продовольствия или их заместителей.
3. На Верховное совещание возложить разработку общих указаний по управлению страной для объединения деятельности отдельных ведомств и согласования ее с работой армии и поручить преподачу указаний по вопросам удовлетворения многообразных потребностей армии, которые должны ввести строгую согласованность действий представителей правительственной власти на местах и сосредоточить всю работу прежде всего на служении фронту
Полная закономерность в деятельности всех органов как военной, так и гражданской власти, нелицемерные и действенные заботы о благе народа, об ограждении общественной безопасности и защите личной собственности, наконец, ясное сознание своего долга служить верою и правдою в деле восстановления единой, великой и мощной России — да будет путеводной звездой всех представителей правительства, осуществляющих мои повеления по Верховному управлению государством.
Указ сей ввести в действие по телеграфу до опубликования его правительствующим сенатом.
Верховный правитель, адмирал Колчак».
Указ упразднял, в сущности, не только Совет Верховного правителя, но и Совет министров, заменяя их наполовину военным, наполовину гражданским учреждением.
Идея приказа была подсказана намерением адмирала остаться при армии и невозможностью согласовать управление страною, так как правительство, состоявшее из Верховного правителя и Совета министров, оказалось в это время разорванным на части. Ни первый, ни второй не могли ничего решить окончательно. Предвидя это, я в свое время настаивал в Омске, что адмирал должен переехать в Иркутск вслед за Советом министров, но он категорически отказался: «Я буду разделять судьбу армии». Но вышло так, что он оторвался затем и от армии.
Обновление кабинета
Верховное совещание на практике ограничивалось составлением плана необходимых мер, из которых главными были повышение содержания военнослужащим и расшире-ниє прав военных начальников по расходованию средств. Все намеченные меры были целесообразны. Окончательная обработка их поручалась Совету министров.
Пепеляев был назначен председателем Совета министров. Вологодский временно принял назначение в председатели комиссии по выборам в Учредительное собрание. Временность его назначения объяснялась тем, что на эту должность был намечен Н. В. Чайковский, который уже изъявил согласие, приняв предложение быть одновременно и членом Совета министров. Вызов его из Парижа мы, однако, намеренно задерживали ввиду переживавшихся тяжелых обстоятельств…
В. Н. Пепеляев изложил Совету министров свою программу, в основных частях сводящуюся к следующим пунктам: 1) управление страной только через министров, приглашаемых по выбору председателя Совета министров и утверждаемых Верховным правителем; 2) отказ от системы военного управления страной; 3) борьба с произволом и беззаконием, кем бы они ни чинились; 4) расширение прав Государственного земского совещания; 5) приближение власти к народу, сближение с оппозицией, объединение всех здоровых сил страны; 6) сближение с чехословаками; 7) всемерная поддержка добровольческого движения; 8) радикальные мероприятия в борьбе с кризисом продовольствия и снабжения армии и населения; 9) дальнейшее сокращение ведомств. Вся программа построена на лозунге борьбы с большевизмом до возрождения государственно-народных сил.
В заключение своего доклада Пепеляев подчеркнул, что главное значение он придает не переменам в личном составе Совета министров, а скорейшему планомерному проведению программы в жизнь…
Попытки Пепеляева ввести в состав Совета министров представителей левых партий окончились неудачей. Колосов дипломатично отказался, указав, что его вхождение будет лишним, если Пепеляев и без того уверен, что он осуществит свою программу. Кооператоры тоже отказались выставить кандидатов.
Пепеляев решил обратиться с предложением к членам Государственного экономического совещания: Чер-вен-Водали и Бурышкину. Они согласились войти в кабинет, но лишь при условии, что Третьяков будет заместителем председателя Совета и управляющим министерством иностранных дел.
…Быть может, В. Н. Пепеляев сумел бы вдохнуть в Совет единую волю, но он после первого же заседания Совета министров отбыл на запад к Верховному правителю, чтобы решить с ним вопрос о возвращении к должности главнокомандующего генерала Дидерикса, о военном и морском министрах, которых Пепеляев хотел сменить, и о Государственном земском совещании, которому предполагалось предоставить законодательные нрава.
События на западе
В. Н. Пепеляев застрял на западе. Быть может, он скрыл даже от самых близких к нему людей, что он был в заговоре со своим братом, генералом, и решил тогда же добиться отъезда адмирала Колчака из Сибири и созыва Земского собора, но вернее, что он уже на месте, ознакомившись с положением, которое оказалось гораздо хуже, чем мы ожидали, и увидев непримиримое отношение к Верховному правителю со стороны оппозиции, нашел новые решения, которых у него не было при отъезде. Но только он забыл о всех текущих делах, не доложил адмиралу ни одного из присланных нами законопроектов и вместо расширения прав и демократизации состава Государственного экономического совещания потребовал созыва Земского собора.
Адмирал протестовал. Пепеляев почти вымогал решение.
Адмирал отказал. Он прислал телеграмму Совету министров, просил совета и поддержки. Читая его телеграмму, мы чувствовали, какую драму переживает этот несчастный человек.
— Я готов отречься, — говорил он, — но Пепеляев этого не хочет.
В то же время Пепеляев телеграфировал: «Я сделал все, что мог, я настаивал до конца, пусть теперь нас рассудят Бог и народ».
Мы не были уверены, что Пепеляев не совершит какого-нибудь насилия над Верховным правителем. Поступки и телеграммы премьера казались дикими. Мы отправили ему в ответ резкую отповедь.
Это оказалось, однако, уже ненужным. Пепеляев обладал психикой, напоминавшей взрывчатое вещество. Взорвется — кончено. Прошлого не вернешь. Долго гореть ровным пламенем он не мог. Его телеграмма была взрывом. Он сделал только одно: добился назначения главнокомандующим вместо Сахарова генерала Каппеля. Сахарова братья Пепеляевы арестовали, и Совет министров по предложению адмирала назначил расследование его действий.
Как ни относиться к Сахарову, но арест его был лишь демонстрацией общего развала. Он дал сигнал к повсеместному проявлению произвола и распущенности.
Адмирал отправился в Иркутск. Пепеляев последовал за ним через сутки. Он отстал, по-видимому только для того, чтобы арестовать Сахарова.
Все законы, которые с такою поспешностью и тщательностью вырабатывали мы в Иркутске, остались не-утвержденными.
Мы превратились в Иркутске в собрание людей, которых ошеломляли известиями, не давая времени ни действовать, ни даже опомниться.
Через наши головы адмирал переговаривался с Ди-дериксом. Последний дал согласие вернуться к главнокомандованию только при том условии, что адмирал покинет Сибирь. Пепеляев уже остыл, догнал поезд адмирала и, следуя за ним по пятам, не только не проявлял никакого расхождения с Верховным правителем, но, скорее, поддерживал его. Получавшиеся с запада телеграммы создавали впечатление, что Пепеляев не спешил в Иркутск, академически спокойно обсуждая с адмиралом положение и как будто предоставляя все воле судьбы.
Солидарный кабинет
Создалось положение, при котором правительство перестало быть властью. Оно стало безвольно и беспомощно и болталось, как рука и нога паралитика.
Нашей последней ставкой было Земское совещание. Первым актом обновленного кабинета было исключение из состава совещания назначенных членов, расширение представительства.
Когда же, наконец, это будет утверждено? Уже «Правительственный вестник», по непростительной небрежности редактора, напечатал проект закона, еще не утвержденного адмиралом, все знали, что постановило правительство, а закона все еще не было.
Наконец мы потеряли терпение и, не ожидая представления Пепеляева, сами обратились к Верховному правителю с просьбой утвердить закон. Он отказал.
Разногласие произошло из-за трех евреев. Совет министров не хотел отказать еврейству в особом представительстве, хотя, по существу, такое представительство и признавалось искусственным. Адмирал не хотел, несмотря на все наши настояния, согласиться, что отказ в утверждении бестактен, после того, как решение уже состоялось.
Так все наше законодательство осталось пустым звуком. Другие труды разделили судьбу первого.
Еще хлопотал о чем-то А.А. Червен-Водали…
Но у прочих членов Совета министров не было такого победного настроения…
Непобедное настроение было и у «премьера поневоле» — С.Н. Третьякова. Он рвался на восток. Он хотел привести из Забайкалья семеновцев и японцев. Но чувствовалось, что он смотрит на положение безнадежно.
Третьяков уехал. В «Модерне» шли в пари: вернется или нет? Ставить на возвращение решались немногие. Вместо Третьякова остался председателем Червен-Водали. Он принял на себя тяжелое бремя…
Вокруг Иркутска стягивалось кольцо восстаний…
Примечания
1
Речь идет о Крымской войне 1854–1855 гг. — Примеч. ред.
(обратно)2
Резидент «Интеллидженс сервис» в России в 1916–1917 гг. — Примеч. ред.
(обратно)3
Бьюкенен Джордж Уильям (1854–1924) — посол Великобритании в России в 1910–1918 гг. Был тесно связан с кадетами и октябристами, был близок к А.Ф. Керенскому. В 1917 г. имел большое влияние на политику Временного правительства. Деятельность Бьюкенена освещается им в его «Мемуарах дипломата». — Примеч. ред.
(обратно)4
Имеется в виду приказ Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов об образование солдатских комитетов в армии, контроле с их стороны за всеми действиями командования и т. д. Этот приказ фактически ставил армию под контроль Советов. — Примеч. ред.
(обратно)5
Масарик Томаш (1850–1937) — президент Чехословакии в 1918–1935 гг. В 1900–1920 гг. — руководитель либеральной Чешской народной, затем Прогрессистской (реалистической) партии. — Примен. ред.
(обратно)6
Жюссеран Жан-Адриан-Антуан-Жюль (1855–1932) — французский дипломат и писатель. — Примеч. ред.
(обратно)7
Сдача Перми армии Колчака произошла при прямом попустительстве местных советских руководителей. Подробнее о «Пермском деле» см. книгу А. Севера «Антикоррупционный комитет Сталина». М.,«Алгоритм», 2008. — Примеч. ред.
(обратно)8
Правильное написание фамилии — Стивенс. — Примеч. ред.
(обратно)9
Пишон Стефан (1857-?) — французский политический деятель. Неоднократно выбирался депутатом в парламент. С 1906 г. — министр иностранных дел Франции. — Примеч. ред.
(обратно)10
Гине Георгий Константинович (1887–1971) — российский ученый-юрист, политический деятель. Член правительства А.В. Колчака в 1919 г. — Примеч. ред.
(обратно)


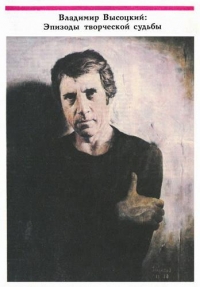





Комментарии к книге «Операция «Адмиралъ» . Оборотни в эполетах», Иван Иванович Иванов
Всего 0 комментариев