Филипп-Поль де Сегюр История похода в Россию Мемуары генерал-адъютанта
Предисловие виконта Мельхиора де Вогюэ
Утром 18 брюмера VIII года (9 ноября 1799 г.) молодой человек, лет девятнадцати, стоял облокотившись на решетку Тюильрийского сада, в том месте, где мост соединяет этот древний королевский сад с площадью Революции, теперь площадью Согласия. Юноша с враждебным любопытством следил за движениями войск, которые собирались под деревьями, и на ходивших взад и вперед генералов, поспешно направлявшихся на улицу Шантерен или возвращавшихся оттуда, предшествуя генералу Бонапарту или сопровождая его. Наконец показался и сам избранник судьбы! Он обратился с приветствием к солдатам в саду и направил лошадь прямо к Тюильрийскому дворцу, где намеревался продиктовать свою волю Совету старейшин.
В душе юноши, взволнованного и смущенного, видевшего, как проходит перед его глазами судьба Франции, боролись разнообразные чувства. В этой душевной борьбе отражалось смятение, господствовавшее в городе, где подготовлялась революция, и волнение толпы, стекавшейся на площадь. Душа юноши была так же утомлена своими внутренними волнениями, как и эта толпа, и так же, как она, готова была отдать себя тому, кто указал бы ей смысл жизни и дал направление ее до сих пор бесплодной жажде деятельности.
Ничем не занятый, бедный и обуреваемый великими мечтами, этот юноша с пылкой душой попеременно увлекался то светской жизнью, то военной, то политикой, то литературой, неся на себе — как тяжелое и тяготившее его бремя — одно из громких имен старинного разрушенного общества. Внук маршала Франции, военного министра при Людовике XVI, Сегюра, прославившегося своим героизмом в Лауфельде и Клостере, сын графа Луи-Филиппа Сегюра, бывшего посланником в России, того самого, который так восхищал своим остроумием и элегантностью версальский двор и Екатерину Великую в Петербурге и соперничал в милостях и расположении императрицы с великолепным принцем де Линь, — этот юноша, прижавшийся к решетке Тюильрийского сада, с трудом зарабатывал себе кусок хлеба писанием водевилей и кропанием стишков для газеты.
Он родился в 1780 году и мальчиком, двенадцати лет, видел разорение и изгнание своих близких во время террора. Его дядя, маршал Франции, брошенный в тюрьму Лафорс, только чудом избежал гильотины. Его отец, которому ежедневно грозила такая же участь, укрылся в деревенском доме, в Шатенуа, и воспитывал там своих сыновей среди лишений и в страхе завтрашнего дня. Мальчик вступил в жизнь среди грохота разрушений того мира и социального порядка, в котором он должен был занимать одно из самых привилегированных мест. Рев Революции раздавался в его ушах, точно завывание какого-то чудовищного и странного зверя, обладающего притом необузданной силой. Мальчик чувствовал на себе влияние этой силы, которую он ненавидел, но под этим влиянием его внутренний мир пошатнулся так же, как и внешний: исчезала всякая вера в прошлое и всякая опора для совести и рассудка в будущем.
В превосходном вступлении к своим «Мемуарам» Филипп Сегюр с изумительной проницательностью анализирует этот нравственный кризис своей юности. По его словам, многие из его соотечественников переживали такой же кризис. «Все верования пошатнулись, всякое направление исчезло или стало неопределенным, — говорит он. — И чем пламеннее были души этих новичков, тем сильнее в них было раздумье, тем больше они блуждали, утомляясь, без поддержки, в беспредельном, пустынном пространстве, где ничто не сдерживало их заблуждений и где многие, истощив, наконец, свои силы, впадали в уныние, разочарованные, не видя сквозь пыль и прах бесчисленных обломков ничего верного и ничего другого, кроме смерти!.. Скоро этот призрак смерти, всё увеличивавшийся в этой пустоте, начал представляться мне единственной и неоспоримой истиной, вытекающей из такого разрушения, — прибавляет Сегюр. — Я видел только смерть, во всём и везде!.. Моя душа ослабевала, увлекая за собой всё остальное. Я томился, изнемогая, и меня ожидал жалкий и глупый конец…»
Странное совпадение! Вблизи маленького домика в Шатенуа, где бедный юноша пытался осмыслить свои неясные душевные страдания, не видя для них иного исхода, кроме самоубийства, другой потерпевший крушение во время революции, виконт де Шатобриан, должен был вскоре искать убежища в доме Савиньи, где он написал «Ренэ», — эту почти не замаскированную автобиографию, описывающую в точно таких же выражениях «болезнь века». Сравните это произведение с первой частью «Мемуаров» Сегюра. Вам покажется, что тут и там изображается одно и то же лицо. И еще неизвестно, какой из двух портретов более искренний и более трогательный!
Это отвращение к жизни, представляющее лишь замаскированную жажду деятельности, сильно возросло в душе Филиппа в последние дни Директории. Напрасно он старался отвлечься литературными трудами… Кризисы уныния возвращались к нему всё чаще и чаще и становились всё тяжелее. И вот как раз во власти одного из таких кризисов он и находился в тот момент, когда стоял у решетки Тюильрийского сада утром 18 брюмера.
Вдруг открылись ворота моста и промчался галопом полк. Это были драгуны Мюрата, отправлявшиеся занять Сен-Клу. Вид кавалеристов произвел на юношу такое же потрясающее действие, как то видение, которое поразило Павла на пути в Дамаск. Юноша чувствовал, что какая-то непреодолимая сила увлекает его вслед за этими революционными солдатами, которых он ненавидел еще несколько часов назад. Магнетическое влияние героя действовало через них на сердце юноши и говорило ему, что там, в этом полку, заключается для него искупление. «Воинственная кровь, наследие предков, кипела в моих жилах, — рассказывает он. — Я понял свое призвание. С этой минуты я стал солдатом! Я мечтал только о битвах и презирал всякую другую карьеру…»
Несколько дней спустя, несмотря на сопротивление близких и возмущение друзей, Сегюр записался в новообразованный гусарский полк Бонапарта. На миг у него возникла было химерическая надежда «роялизировать» консульскую армию, но вскоре он, телом и душой, уже принадлежал обаятельному генералу.
Первый консул, довольный тем, что вырвал новобранца из вражеского лагеря, сразу произвел его в лейтенанты. В несколько лет он заслужил высшие чины в битвах, где не щадил себя и бывал тяжело ранен. Сделавшись адъютантом императора, генералом в тридцать лет и почти всегда состоя при Наполеоне, Сегюр служил ему до последнего дня.
Когда Империя пала, он сложил оружие и, как в молодые годы, снова взялся за перо, но уже не для того, чтобы писать легкие произведения, а чтобы рассказать ту эпопею, которой он сам был и свидетелем и участником. Его история похода в Россию, яркое повествование о героизме и страданиях Великой армии, появилась в 1824 году и имела огромный, вполне заслуженный успех. В три года разошлось не меньше десяти изданий этой книги.
Автор был избран членом Французской академии в 1830 году. Там он встретился со своим отцом, многочисленные исторические труды которого пользовались тогда большим успехом. В течение нескольких месяцев, которые еще оставалось прожить старому графу, он мог подумать, что вернулся к прежним дням Директории, когда ему приходилось работать вместе с сыном в маленьком домике в Шатенуа, чтобы обеспечить свое существование.
Филипп Сегюр заседал в Академии сорок три года. Солдатом его столько раз оставляли на поле битвы, думая, что он мертв, а он дожил до глубокой старости и умер в 1873 году. Сегюр — автор семи томов «Мемуаров», охватывающих весь период существования Империи и опубликованных только после его смерти.
Если бы все исторические труды о Наполеоне и его времени нужно было уничтожить, оставив только один, то я не колеблясь указал бы на капитальный труд Сегюра как на самый поучительный и лучше всего передающий чувства и настроения той эпохи и саму личность Наполеона. Однако полное издание этого труда Сегюра не имело того огромного успеха, какой выпал на долю его первой части, которая была опубликована во времена Реставрации под названием «Histoire de Napoleon et de la grande-armee pendant l’annee 1812» и к которой я пишу это предисловие.
«Мемуары» Сегюра, опубликованные в 1873 году, появились еще при жизни Адольфа Тьера, историка и в то время президента Франции. Его громкое имя являлось авторитетом во всём, что касалось наполеоновской эпохи. Он царствовал деспотично над этим периодом нашей истории и не терпел никакого вторжения в него, никакого новшества. Он был сам убежден, да и все ему верили, что его книга сделала ненужными все дальнейшие исследования по этому предмету. Критика не желала, конечно, возбуждать неудовольствие столь могущественного человека в литературном мире. С другой стороны, надо было, чтобы прошло еще двенадцать — пятнадцать лет, прежде чем отвращение или по меньшей мере равнодушие к имени Наполеон уступило место возрождающемуся увлечению эпической легендой и усилению интереса к мемуарам, которые в таком огромном количестве были извлечены из-под спуда в последние годы XIX века, когда этот уходящий век с каким-то страстным любопытством обращал взор к своей колыбели.
Впрочем, и стиль генерала Сегюра, несколько устаревший, заставил бы улыбнуться читателей Эмиля Золя, если б они заглянули в эти мемуары. Наверное, они нашли бы слог их слишком высокопарным и отшлифованным и, пожалуй, иронизировали бы над автором. Но совсем иное впечатление вынесли бы они, если бы им была поднесена устаревшая проза какого-нибудь автора, уже прославленного и занявшего определенное место три четверти века тому назад. Ну разве можно являться с подобной новинкой в век полного торжества реализма и натурализма! Представьте себе, например, книги Шатобриана, в первый раз явившиеся французской публике в конце, а не в начале девятнадцатого столетия!
Воспитанный на классических авторах, Сегюр, видимо, стремится усвоить себе манеру Фукидида и Тита Ливия. Он любит ораторские приемы и порою даже вкладывает фиктивные речи в уста своих действующих лиц. Кроме того, он был, как и все люди его поколения, пламенным читателем и бессознательным поклонником и учеником Руссо. Вот почему в его рассказе встречаются некоторая напыщенность, чрезмерная изысканность и рассуждения в стиле Руссо. Он хочет быть историком, и притом историком великого человека, и никогда не впадает в безыскусственно непринужденный тон авторов таких мемуаров, которые не предъявляют никаких претензий. Но под этим старомодным одеянием внимательный взор тотчас же различит жизненную силу, драматизм и глубокий реализм повествования, читающегося с возрастающим интересом, тем более что автор был подлинным его свидетелем.
Эта несправедливость в настоящее время заглажена. Наша новая историческая школа поняла важность и оценила достоинства этого документа, стоящего много выше других. Она возвратила ему почетное место в исторической литературе и обратила на него внимание публики, интересующейся историей. Не желая сравнивать совершенно различные произведения, мы всё-таки не можем не вспомнить по этому случаю судьбу мемуаров Сен-Симона. Прошло почти целое столетие, прежде чем история Людовика XIV была возрождена посредством этих мемуаров. Они читались сначала тайком, только некоторыми привилегированными лицами. «Это чтение позабавит вас, — писала в 1770 году мадам Дюдеффан, — хотя слог этого произведения отвратителен и портреты плохо сделаны. Автор не отличается остроумием…» Это образцовое произведение, написанное таким странным, удивительным языком, несмотря на все свои достоинства, приобрело популярность только в издании 1829 года.
Покойный историк Альбер Сорель, один из людей, лучше всего знавших и понимавших время Наполеона, частенько говорил, что рассказы Сегюра осветили ему эту эпоху лучше, чем все архивные документы. Я знаю, что мой собрат, член Академии Альбер Вандаль, готов подкрепить эти слова своим высоким авторитетом.
В красивых повествованиях Адольфа Тьера мы знакомимся с фактами. Он превосходно изображает нам все действующие пружины Империи, величие и подробности ее гражданских, военных и дипломатических учреждений, ее консула и императора. Но внутренний образ великого строителя, отчего и как он мог воздвигнуть новое здание в такое короткое время, посреди необозримого поля развалин и опираясь на волнение народа, покорившегося ему точно по волшебству, — с этим Тьер знакомит нас только на основании своих умозаключений. Сегюр же заставляет нас чувствовать это и понимать интуитивно. Он воспроизводит нам современников чуда — людей, охваченных теми чувствами, которые сделали это чудо возможным. Потому что великое чудо, интересующее нас больше всех рассказов о битвах, которое мы и теперь еще постигаем с трудом, — это внезапный и полный поворот, совершившийся в нации, только что с яростью разрушившей все свои вековые устои, этот восторженный отказ от свободы, отданной в руки невысокого корсиканского офицера, и провозглашение нового Цезаря через пять лет после революционных сатурналий, продолжавшихся в анархии Директории. Сегюр дает нам ключ к волнующей нас загадке, при этом разоблачая собственную тайну. Я распространился здесь — да простят мне это! — о молодости этого писателя-солдата, о его духовной подготовке, о решительном моменте, когда в его душе произошел внезапный перелом и жизнь его приняла то направление, против которого он так горячо протестовал бы еще накануне. Я подчеркнул это обстоятельство потому именно, что оно представляется мне символом, превосходно изображающим нацию, подвергшуюся, как и он, метаморфозе, восхищенную и брошенную в одном порыве древними, наследственными силами к ногам своего властителя.
Сегюр разъясняет нам императора лучше и полнее, чем все другие свидетели. Приближенный к нему, он занимал такое место, откуда мог видеть всё. Он наблюдал императора в течение пятнадцати лет, он смотрел на него сочувствующими, но проницательными глазами. Он дает нам возможность во всякую минуту, если позволено будет так выразиться, ощущать пульс этого гения — то ускоренный, то замедленный, — до того дня, когда он, этот преданный слуга, с огорчением констатирует крах своего господина. Для тех, кто предъявляет истории требование, чтобы она была по преимуществу психологической наукой и разоблачала тайну толпы и души великих людей, «Мемуары» генерала являются несравненным источником знания.
Тысяча восемьсот двенадцатый год! Отступление из России! Это кульминационный и трагический момент всей эпопеи, поражающий ужасом воображение, увлекаемое и вместе с тем возмущающееся героическим безумием, охваченное восторгом перед великим военным мужеством и содрогающееся перед зрелищем таких страшных, невыразимых страданий и бедствий, которые заставляют удивляться, что люди могли их пережить!
Сегюр был одним из переживших. Но он слишком хорошо воспитан, чтобы занимать читателей своей личной ролью. Его товарищи по несчастью рассказали за него, как стоически выдерживал он это великое испытание. Этот генерал, ежедневно утром совершавший свой туалет и брившийся среди снега бивуаков, поддерживал всех других примером твердости духа. И эта твердость духа дала ему возможность сохранить в неприкосновенности всю свою наблюдательность. Он всё видел и мог подробно описать те страшные сцены, которые представлялись его товарищам лишь сквозь туман кошмара.
С первых же страниц его повествования читатель увлечен драматизмом, и это впечатление не исчезает до конца повествования. Сначала он видит мощное и грозное движение Великой армии, отправившейся в поход, чтобы возобновить сказочные подвиги Александра, и увлекающей за собой войска всех наций Европы, которые она хочет вести к границам Азии. Потом — первые разочарования, свирепое сопротивление, оказанное русским народом и стихиями, обманчивое преследование ускользающего врага, противопоставляющего французской пылкости пустоту в Смоленске. Начало колебаний, ропот благоразумных военачальников, озлобленное соперничество маршалов Бертье, Нея, Даву и Мюрата! Наполеон, делающий вид, что он уступает благоразумным предостережениям, и с чисто итальянской хитростью, угадываемой Сегюром, скрывающий свое желание идти вперед! Это желание увлекает его, он повинуется обольщению миража, который манит его вдаль, в пустынную степь, где он тешит себя надеждой раздавить, наконец, врага. А там Бородино, бесконечная битва, неопределенная победа, окровавленное поле, где каждая из армий ложится спать на грудах трупов!
(Мы можем сравнить с этим французским рассказом подробные и реалистические описания Толстого в главах «Войны и мира», где он дает яркую, художественную картину всех перипетий этого дня. Я разговаривал однажды с русским священником из Бородина. Мы говорили о надеждах на будущий урожай, этот предмет постоянной заботы сельского населения. Тогда виды на урожай были не особенно хорошие. Священник небрежно заметил: «В дни моего детства урожай в здешних местах был гораздо лучше, чем теперь. Земля наша была хорошо удобрена, и этого хватило надолго!..»)
Сегюр подмечает у императора некоторый упадок внимания в самые критические минуты, какую-то фатальную покорность и небывалую для него нерешительность тогда, когда надо было отдать неотложное приказание. Уже произошло помутнение той остроты взгляда, которая решила победу при Маренго и Аустерлице. Это влияние физической болезни, которой страдал Наполеон, говорит нам историк, распознавший ее первые приступы. Затем вступление в Москву, изумление армии перед этим восточным городом, завоеванным ею, надежда на мир, подписание которого русский царь, казалось, больше не может откладывать, и вскоре после этого — завеса пламени, опускающаяся на завоевателей и город, точно призрачная мечта исчезающий в костре, зажженном Ростопчиным! Сегюр с восхищением говорит об этом удивительном человеке. Он разрешает таким образом вопрос, возбуждающий и теперь еще столько споров в России. Он превозносит этого генерал-губернатора за тот патриотический подвиг, в котором он, замкнувшись в своем загадочном молчании, сам никогда не хотел сознаться.
(Интересное совпадение! Дочь этого поджигателя спустя несколько лет стала, путем замужества, племянницей генерала, вторгшегося в святую Москву. Более того, графиня Сегюр прибавила потом еще одну жемчужину в литературный венец семьи, в которую она вступила: книги ее приводили в восторг многие поколения детей.)
Потом — продолжительное отступление, бегство Великой армии в окровавленных снегах, процессия голодных призраков, убывающая с каждым днем, возрастающее бедствие, мрачное отчаяние — ледяной круг дантовского ада, бесконечно расширявшийся перед ними! Наконец, переход через Березину, эту коварную реку, где многие, избежавшие казачьих пуль, нашли страшную могилу. Наполеон, покидающий обломки своей армии, которые увязают в болотах Польши… В описаниях историка — свидетеля с точностью воспроизводятся эти зловещие сцены. В них он выражает то непрерывное ощущение скорби, которое Мейсонье сумел передать в своей знаменитой картине, изображающей маршалов, бредущих с поникшей головой за своим императором по обледенелой грязи под хмурым небом России…
Я хотел было привести здесь несколько избранных строк, заимствованных из страниц, где сила кисти художника обнаруживается всего ярче. Но зачем? В сущности, все страницы одинаковы, все стоит прочесть, и я нисколько не сомневаюсь, что волнение, которое будет чувствовать читатель, оправдает мою предварительную хвалу этой прекрасной книги.
Читатель увидит в ней императора, каким его видел проницательный взор наблюдателя, — снисходительного, но не поддававшегося иллюзиям и внушающего нам доверие к истинности его суждений. Он изображает Наполеона, еще не искаженного легендой, то гуманного и чувствительного, то бесчеловечного и сверхчеловечного, когда он отдается во власть демона гордости и безумия своей мечты. Это — гений, то равный себе и трудностям безумной задачи, которую он сам поставил перед собой, сильный своею властью над людьми, приносимыми им в жертву, то уже не удовлетворяющий требованиям, предъявляемым ему его старыми слугами, выбитый из седла бурей, но не желающий в том сознаваться, постепенно клонящийся к упадку, подстерегаемый болезнью и в конце концов ускользающий, посредством бегства к своим подданным, от своих солдат, освобожденных из-под его власти, уменьшенной его поражением.
Перед этими портретами, поражающими нас своей реальностью и так ярко рисующими жизнь исключительную, но действительную и понятную нам, читатель, конечно, должен будет согласиться, что художник не слишком преувеличивал свой труд, когда написал в начале своих мемуаров такие слова:
«В этом рассказе читатель увидит героя в человеке и человека в герое и поймет его могучее влияние на поколения, остатки которых уже исчезают…»
От автора
Товарищи!
Я собираюсь рассказать здесь историю Великой армии и ее предводителя в 1812 году.
Этот рассказ я посвящаю тем из вас, кого обезоружили северные морозы и кто не может больше служить своему отечеству ничем другим, кроме воспоминаний о своих несчастьях и своей славе! Ваша благородная карьера была прервана, но вы продолжали существовать еще более в прошлом, нежели в настоящем, а когда воспоминания так велики, как эти, то можно жить воспоминаниями! Я не боюсь поэтому, что, напомнив вам самый роковой из ваших походов, я нарушу ваш покой, купленный такой дорогой ценой. Кто же из нас не знает, что взоры человека, пережившего свою славу, невольно обращаются к блеску его прошлого существования, хотя бы этот блеск окружал скалу, о которую разбилось его счастье, и освещал бы только обломки величайшего из всех крушений.
Я должен сознаться, что какое-то непреодолимое чувство заставляет меня самого постоянно возвращаться мыслями к этой печальной эпохе наших общественных и частных бедствий.
Не знаю, отчего я нахожу также грустное удовольствие в воспоминаниях обо всех этих ужасах, запечатлевшихся в моей памяти и оставивших в ней столько болезненных следов?
Не гордится ли душа своими многочисленными и глубокими рубцами от ран? Не доставляет ли ей удовольствие показывать их другим? Не должна ли она гордиться ими? Или, может быть, она хочет только заставить и других разделить свои чувства? Чувствовать и вызывать сочувствие — не является ли это самым могущественным стимулом нашей души?
Но каковы бы ни были причины того чувства, которое увлекает меня, в данном случае я уступаю только потребности поделиться с вами тем, что я испытал во время этой роковой войны. Я хочу воспользоваться моим досугом, чтобы разобраться в своих воспоминаниях, рассеянных и смешанных, привести их в порядок и резюмировать.
Товарищи, я обращаюсь к вам! Не дайте исчезнуть этим великим воспоминаниям, купленным такой дорогой ценой, представляющим единственное достояние, которое прошлое оставило нам для нашего будущего. Одни против стольких врагов, вы пали с большею славою, чем они возвысились. Умейте же быть побежденными и не стыдиться! Поднимите же свое благородное чело, которое избороздили все молнии Европы! Не потупляйте своих глаз, видевших столько сдавшихся столиц, столько побежденных королей! Диктуйте же истории свои воспоминания. Уединение и безмолвие, сопровождающие несчастье, благоприятствуют работе. Пусть же не останется бесплодным ваше бодрствование, освещенное светом истины во время долгих бессонных ночей, сопутствующих всяким бедствиям!
Что касается меня, то я воспользуюсь жестоким и в то же время приятным преимуществом, потому что хочу рассказать то, что я видел. Может быть, я со слишком большой тщательностью буду описывать здесь всё до мельчайших подробностей. Но я думаю, что нет ничего мелочного в том, что касается того удивительного гения и тех гигантских дел, без которых мы не могли бы знать, до каких пределов может доходить сила, слава и несчастье человека!
Книга I
Глава I
С 1807 года расстояние от Рейна до Немана было уже пройдено; обе эти реки превратились в соперницы. Своими уступками в Тильзите за счет Пруссии, Швеции и Османской империи Наполеон приобрел благосклонность только одного Александра, но этот договор был результатом поражения России и началом ее подчинения континентальной системе. Он задевал честь русских, что было понято лишь некоторыми, и их интересы, что было понято всеми.
Посредством своей континентальной системы Наполеон объявил беспощадную войну англичанам. Он связывал с нею свою честь, свое политическое существование и существование Франции. Эта система не допускала на континент никаких товаров английского происхождения — или же таких, за которые была уплачена Англии какая-либо пошлина. Эта система могла иметь успех лишь в случае единодушного согласия и только посредством утверждения единой и сильной власти.
Но Франция восстановила против себя народы своими завоеваниями, а королей — своею революцией и своей новоиспеченной династией. Она не могла иметь больше ни друзей, ни соперников, а только подданных, так как ее друзья могли быть только фальшивыми, а соперники — беспощадными! Следовательно, нужно было, чтобы все ей подчинялись, иначе бы она подчинялась всем!
Император, увлекаемый своим положением и предприимчивым характером, лелеял грандиозный проект — остаться единственным господином в Европе, раздавив Россию и отняв у нее Польшу. Он с трудом сдерживал свои стремления, и они постоянно давали себя чувствовать. Громадные приготовления, которые требовал такой далекий поход, огромное количество провианта и боеприпасов, весь этот звон оружия, грохот повозок и шум шагов такого множества солдат, это всеобщее движение и величественный и страшный подъем всех сил Запада против Востока — всё это возвещало Европе, что два колосса намерены помериться силами.
Чтобы достигнуть России, необходимо было пройти через Австрию и Пруссию и двигаться между Швецией и Османской империей.
Наступательный союз с этими четырьмя державами являлся неизбежным. Австрия подчинялась превосходству Наполеона, а Пруссия — его оружию. Достаточно было ему только показать свой план, чтобы Австрия сама присоединилась к нему. Пруссию же ему легко было подтолкнуть. Опутанная, точно железною сетью, договором от 24 февраля 1812 года, Пруссия согласилась выставить от 20 до 30 тысяч человек и отдать в распоряжение французской армии большинство своих крепостей и складов.
Австрия не без умысла присоединилась к этому плану; занимая положение между двумя колоссами Севера и Запада, она была довольна, когда они вступали в драку. Она надеялась, что они обессилят друг друга и что ее собственные силы выиграют от истощения этих двух врагов. Четырнадцатого марта 1812 года она обещала Франции 30 тысяч человек, но благоразумно приготовила для них тайные инструкции. Австрия добилась неопределенных обещаний относительно расширения своих границ, вознаграждения за военные издержки и заставила гарантировать ей обладание Галицией. Однако она всё же допускала возможность уступки части этой провинции Польскому королевству и в этом случае должна была получить в виде удовлетворения Иллирийские провинции; статья 6-я тайного договора ясно указывала на это.
Таким образом, успех войны не зависел от уступки Галиции и от необходимости щадить австрийскую щепетильность в вопросе о владении этой провинцией. Наполеон, следовательно, мог по вступлении в Вильну открыто объявить освобождение всей Польши, а не обманывать ее ожиданий и не вызывать ее изумления, стараясь охладить ее пыл неопределенными высказываниями.
Между тем это был один из тех важных пунктов, имеющих как в политике, так и в войне решающее значение; поэтому-то на них и надо настаивать. Но оттого ли, что Наполеон слишком рассчитывал на превосходство своего гения, на силу своей армии и на слабость Александра; или же оттого, что принимал во внимание то, что оставалось позади, и находил, что такую отдаленную войну опасно вести медленно и методично; или, наконец, оттого, что, как он сам говорил потом, он не был уверен в успехе, — но он пренебрег объявлением независимости страны, которую только что освободил. Может быть, он не решился на это?
Тем не менее Наполеон направил представителя в ее сейм. Когда ему указали на это несоответствие, он ответил, что назначение — враждебный акт, который только свяжет его в ходе войны, «в то время как эти слова оставляют пути как для войны, так и для мира». Таким образом, его единственным ответом на энтузиазм литовцев были неясные выражения, и это в то самое время, когда он наступал на столицу империи Александра.
Он даже не позаботился очистить южные польские провинции от бессильных русских отрядов и не обеспечил себе посредством хорошо организованного восстания прочную операционную базу. Привыкнув идти кратчайшим путем и обрушиваться, подобно удару молнии, он хотел и тут подражать самому себе, несмотря на разницу места и обстоятельств. Но такова уже слабость человека, что он всегда подражает кому-нибудь или самому себе; последнее встречается особенно часто у великих людей. Поэтому-то необыкновенные люди и погибают так часто вследствие наиболее сильных сторон своего характера.
Наполеон положился на успех сражений. Он приготовил армию в 650 тысяч человек и думал, что этого достаточно для победы. Он ждал всего от этой победы. Вместо того чтобы всё принести в жертву, лишь бы достигнуть победы, он думал именно посредством нее достигнуть всего! Он видел в ней средство, тогда как она должна была служить целью! Победа была безусловно необходима ему. Но он так много надежд возложил на нее, обременил ее такою ответственностью за будущее, что сделал ее безотлагательной и неизбежной. Отсюда и происходило его стремление достигнуть ее как можно скорее, чтобы выйти из своего критического положения.
Однако всё же не надо торопиться судить великого гения! Скоро мы услышим его самого, и станет понятно, какая необходимость увлекала его. Несмотря на то что стремительность его экспедиции была безрассудна, она всё же, вероятно, увенчалась бы успехом, если бы преждевременное ослабление его здоровья не отняло у него физических сил, той бодрости и энергии, которые всё еще сохранял его дух.
Глава II
Неизвестно, что в 1811 году послужило причиной отказа Наполеона заключить союз с Пруссией (которой он владел полностью), ведь она сама его предлагала, но в 1812 году он продиктует ей именно эти условия. То ли он еще не определил ее дальнейшую судьбу, то ли не знал, когда начнет войну.
Он питал отвращение к Фридриху-Вильгельму. Часто слышали, как Наполеон неодобрительно отзывался о договорах Прусского кабинета с Французской республикой. Он говорил: «Это была измена делу королей; переговоры берлинского двора с Директорией стали проявлением робкой, эгоистичной, подлой политики, которая приносила в жертву мелким выгодам достоинство и общее дело монархов». Всякий раз, когда он обводил своим пальцем очертания прусских границ на карте, он выглядел злым и восклицал: «Разве возможно, что я оставил этому человеку такую большую территорию?»
Эта неприязнь к монарху мягкого и мирного нрава удивительна. Поскольку в характере Наполеона всё достойно исторического воспоминания, то стоит изучить ее причину. Некоторые люди склонны видеть истоки этой неприязни в отказе, который Первый консул в свое время получил от будущего Людовика XVIII на свои предложения, сделанные при посредничестве короля Пруссии; они полагают, что Наполеон винил в этом отказе посредника.
Другие вспоминают захват Румбольда, английского агента в Гамбурге, по приказу Наполеона; Фридрих, как гарант нейтралитета севера Германии, вынудил Наполеона уступить. До этого Фридрих и Наполеон вели секретную переписку столь интимного свойства, что сообщали друг другу подробности жизни своих семейств; обстоятельства положили этому конец.
В начале 1805 года Россия, Австрия и Англия делали безуспешные попытки вовлечь Фридриха в их третью коалицию против Франции. Берлинский двор, королева, принцы, министр Гарденберг и все молодые прусские военные в порыве энтузиазма и стремлении быть достойными славы Фридриха Великого, желая стереть из памяти позор кампании 1792 года, искренне разделяли убеждения союзников, однако их сдерживала пацифистская политика короля и его министра Гаугвица; так продолжалось до тех пор, пока французские корпуса не нарушили прусскую границу у Анспаха. Это до предела накалило страсти пруссаков, и раздался массовый призыв к немедленной войне.
Затем Александр был в Польше; будучи приглашенным в Потсдам, он направился туда безотлагательно; 3 ноября 1805 года он вовлек Фридриха в третью коалицию. Прусская армия была немедленно отозвана с русских границ, и граф Гаугвиц направился в Брюнн угрожать Наполеону. Однако битва при Аустерлице заставила его закрыть рот; не прошло и двух недель, как лукавый министр встал на сторону завоевателя, подписав с ним договор о дележе плодов победы.
Наполеон, однако, скрывал свое недовольство; он должен был реорганизовать армию, отдать Великое герцогство Берг Мюрату, своему зятю, Невшатель — Бертье, завоевать Неаполь для своего брата Жозефа, продолжать политическое посредничество в Швейцарии, покончить со старой Германией и создать Рейнскую конфедерацию, где он объявил себя протектором; превратить Голландию из республики в королевство и отдать его своему брату Луи; всё это были причины, побудившие его 15 декабря уступить Ганновер Пруссии в обмен на Анспах, Клеве и Невшатель.
Обладание Ганновером поначалу прельщало Фридриха, но перед подписанием договора ему стало стыдно, и он колебался; он хотел одобрить его только наполовину и держать как залог. Наполеон отвергал столь робкую политику. «Что, этот монарх не решается ни вести войну, ни заключить мир? — говорил он. — Предпочитает мне англичан? Там уже другая коалиция готовится? Он презирает союз со мной?» Возмущенный, он новым договором от 8 марта 1806 года вынудил Фридриха объявить войну Англии, вступить во владение Ганновером и согласиться на размещение французских гарнизонов в Везеле и Гамельне.
Король Пруссии подчинился, и его двор и подданные были возмущены: они упрекали Фридриха в том, что он позволил победить себя без попытки сражаться, и поднимали себе настроение напоминаниями о былой славе; они мечтали о чести победы над покорителем Европы. В своем нетерпении они оскорбляли посла Наполеона: они точили шпаги о порог его резиденции. Они осыпали бранью самого Наполеона. Даже королева, столь грациозная и привлекательная, приняла воинственную позу. Их принцы предложили себя в вожди. Рыцарская страсть и ярость возбудили умы.
Утверждалось, что в то же время были люди, предатели или обманутые, которые убеждали Фридриха в следующем: Наполеон был вынужден проявить миролюбие, этот воин питал отвращение к войне; они добавляли, что он вероломно договаривался о мире с Англией при условии восстановления Ганновера, который он должен забрать назад у Пруссии. Наконец, увлеченный общим чувством, король позволил воспылать всем страстям. Его армия наступала и угрожала Наполеону; через пятнадцать дней у него не было ни армии, ни королевства, сам он спасался бегством, и Наполеон, находясь в Берлине, выпустил свои антианглийские декреты.
Наполеон должен был прочно удерживать униженную и покоренную Пруссию, иначе она немедленно восстановилась бы с помощью русского оружия. Он считал невозможным проявить великодушие и привязать ее к себе, как Саксонию; следующим планом стал ее раздел, и то ли из сострадания, то ли ввиду присутствия Александра, он не мог решиться ее расчленить. Это была ошибочная политика, как бывает в большинстве случаев, когда мы останавливаемся на полпути, и Наполеон вскоре это почувствовал. Когда он воскликнул: «Разве это возможно, чтобы я оставил этому человеку такую большую территорию?» — вероятно, он не простил Пруссии протекцию Александра; он ненавидел ее, потому что чувствовал ее ненависть.
В самом деле, искры завистливой и нетерпеливой ненависти воспламеняли молодежь Пруссии; разжиганию чувств способствовала система образования — национальная, либеральная и мистическая. Возникла сильная оппозиция Наполеону, состоявшая из униженных и обиженных его победами; эти слабые и угнетенные, а также сама природа, мистика, фанатизм, желание мести — всё увеличивало ее силу. Желая поддержки на земле, она искала помощи небес, и вся материальная мощь Наполеона была бессильна против этого настроения. Возбужденная стойким и неистощимым духом яростной секты, она следила за малейшими движениями и слабостями врага, проникала во все щели его власти и была готова использовать любую возможность для удара; она ждала тихо, терпеливо и хладнокровно, что весьма характерно для немцев: с одной стороны, эти качества были причинами их поражения, но они же способствовали нашему истощению.
Этот широкий заговор получил название «Тугендбунд»[1], или «Союз Доблести». Его главой, или человеком, придавшим точное и определенное направление его взглядам, был Штейн. Наполеон мог иметь его на своей стороне, но обошелся с ним сурово. Его план был раскрыт благодаря одной из тех случайностей, которым политика обязана лучшей частью своих чудес; но когда заговоры становятся частью интересов, страстей, сознания людей, невозможно уследить за всеми ответвлениями; все понимают друг друга, даже не вступая в контакты, более того, все, связанные общей и одновременно возникшей симпатией, становятся частью единой системы коммуникаций.
От этого центра тянулись нити, и число сообщников росло каждый день; он наносил удары по Наполеону от имени всей Германии, это влияние достигло Италии и угрожало его полным ниспровержением. Было бы понятно, что если обстоятельства стали бы для нас неблагоприятными, то не было бы недостатка в людях, готовых этим воспользоваться. В 1809 году, даже перед неудачей при Эсслингене, первыми, кто отважился поднять знамя независимости против Наполеона, были пруссаки. Он послал их на галеры; он считал очень важным погасить этот призыв к революции, который казался испанским эхом и мог стать всеобщим.
Вне зависимости от всех этих примеров проявления ненависти, положение Пруссии, между Францией и Россией, вынуждало Наполеона оставаться ее хозяином; он не мог править там одной силой, он не мог быть там сильным только благодаря ее слабости.
Он разрушал страну, хотя должен был знать, что бедность порождает бесстрашие, что жажда наживы становится движущим принципом тех, кому нечего терять, и, наконец, что, не оставляя им ничего кроме шпаги, он в некотором смысле вынуждает их направить эту шпагу против него. Вследствие этого в преддверии 1812 года и связанной с ним ужасной борьбы Фридрих, покорный, беспокойный и усталый, намерен был покончить со своим подчиненным положением либо с помощью союза, либо на поле боя. В марте 1811 года он сам предложил Наполеону помощь в той экспедиции, которая готовилась. В мае и августе он повторял это предложение; не получив удовлетворительного ответа, он объявил следующее: поскольку военные силы, окружающие королевство, пересекающие его и выкачивающие ресурсы, настолько велики, что возникают опасения, не существуют ли замыслы полного разрушения государства, он берется за оружие, «потому что обстоятельства настоятельно требуют этого, и гораздо лучше умереть со шпагой в руке, чем пасть с позором».
Это было сказано в то время, когда Фридрих тайно предложил Александру во владение Грауденц с его складами, а также возглавить инсургентов, если русская армия вторгнется в Силезию. Если можно верить сообщившим это, Александр принял предложение очень благосклонно. Он немедленно послал Багратиону и Витгенштейну запечатанные приказы о выступлении в поход. Инструкции гласили: не вскрывать до получения нового письма от монарха, которое он так и не написал, поскольку изменил решение. Причины этой перемены могли быть самыми различными: во-первых, желание не стать зачинщиком такой большой войны и его забота о том, чтобы иметь божественное правосудие и общественное мнение на своей стороне, вместо того чтобы явиться агрессором; во-вторых, Фридрих стал меньше бояться замыслов Наполеона и решил участвовать в его проектах. Возможно, после всего, что выраженные Александром в его ответе королю добрые чувства были его единственными мотивами; нас уверили, что он написал: «В войне, которая может начаться с поражений и потребует стойкости, я сохраню мужество, однако неудачи союзника могут поколебать мою решимость; я буду глубоко опечален, если Пруссия разделит мой плохой жребий; но если удача будет на моей стороне, то я всегда готов разделить ее с союзником, что бы для этого ни потребовалось сделать».
Эти подробности нам сообщил свидетель, хотя и младшего чина. Независимо от того, были ли эти намерения выражением благородной политики Александра, или Фридрих сам подчинился необходимости, ясно, что для него наступило время принятия важного решения. В феврале 1812 года обмен посланиями с Александром (если таковой имел место) или надежды на получение лучших условий из Франции заставили Фридриха колебаться в ответ на конкретные предложения Наполеона; последний терял терпение, слал дополнительные силы в Данциг и приказал Даву вступить в Померанию. Его мотивы захвата шведской провинции были привычными — недозволенная торговля жителей Померании с англичанами и необходимость срочного принуждения Пруссии к принятию его условий. Князь Экмюльский даже получил приказы быть готовым полностью овладеть этим королевством и захватить монарха, если в течение восьми дней после выпуска названных приказов последний не заключит наступательного союза, продиктованного Францией; однако когда маршал сделал несколько переходов, необходимых для проведения этой операции, он получил сведения о ратификации договора от 21 февраля 1812 года.
Эта уступка не вполне удовлетворяла Наполеона. Он использовал и силу, и уловки: подозрения толкали его к оккупации крепостей, оставленных в руках Фридриха; он потребовал от короля, чтобы тот держал только по 50 или 80 инвалидов в некоторых из них, и хотел, чтобы французские офицеры были допущены в другие; все они должны были посылать ему рапорты и выполнять его приказы. Наполеон беспокоился обо всем. «Шпандау, — отмечал он в письме Даву, — является цитаделью Берлина, как Пиллау — цитадель Кёнигсберга». Французские офицеры имели приказы быть готовыми представляться по первому сигналу — то была манера, введенная им. В Потсдаме, который король сохранил для себя и куда нашим войскам было запрещено входить, французские офицеры по приказу Наполеона должны были часто показываться как наблюдатели, чтобы местные жители привыкли к их виду. Он рекомендовал, чтобы королю и его подданным оказывались все знаки уважения, но в то же время чтобы у людей были отняты все виды оружия, которые могут быть использованы ими во время мятежа; при этом были названы даже самые малые средства возможного нападения. Принимая во внимание возможность проигрыша битвы и последующих прусских вечерен, он приказал разместить войска в бараках или лагерях, дополнив инструкции описанием тысячи предосторожностей с мельчайшей детализацией. В качестве последнего средства обеспечения безопасности, на случай высадки английского десанта между Эльбой и Вислой (хотя Виктор, а затем Ожеро должны были оккупировать Пруссию с 50 тысячами солдат), он добился содействия 10 тысяч датчан на основе договора.
Все эти предосторожности всё же не сделали его доверчивым: когда принц Хатцфельд пришел к нему с просьбой о субсидии в 25 миллионов франков на военные расходы, он ответил Дарю, что он бы специально позаботился о том, чтобы не снабжать врага оружием против себя. Таким образом Фридрих, помещенный в полном смысле слова в железную клетку, которая совершенно стесняла его, покорно согласился передать от 20 до 30 тысяч солдат, главные крепости и склады в распоряжение Наполеона[2].
Глава III
Эти два договора, с Австрией и Пруссией, открывали Наполеону дорогу в Россию, но чтобы проникнуть вглубь этой империи, надо было еще обеспечить себя со стороны Швеции и Порты.
Все военные расчеты приняли настолько огромные масштабы, что для составления плана кампании уже нельзя было ограничиться только изучением очертаний какой-нибудь провинции, горной цепи или течения реки. Когда такие государи, как Наполеон и Александр, начинают оспаривать Европу друг у друга, то приходится принимать в соображение общее и относительное положение всех империй. И политика их должна начертать свои военные планы не на картах отдельных стран, а на карте всего мира.
Россия властвует над высотами Европы. Своими боками она упирается в моря севера и юга. Ее правительство трудно припереть к стене и заставить капитулировать, так как пространство слишком велико и завоевание потребовало бы долгих военных походов, чему препятствует климат России. Таким образом, без содействия Османской империи и Швеции трудно обойтись. Надо было с их помощью захватить врасплох Россию и нанести ей удар в самое сердце, по ее старой столице, затем обойти на большом расстоянии, в тылу левого фланга, ее немецкую армию, а не производить атаки только на одну часть ее фронта, и притом на равнине, где пространство не допускает беспорядка и оставляет открытыми тысячи дорог для отступления армии!
Вот почему даже самые наивные в наших рядах все-таки ожидали услышать о комбинированном движении великого визиря на Киев и Бернадотта на Финляндию. Уже восемь монархов встали под знамена Наполеона, но эти два государя, наиболее заинтересованные в этой войне, еще не присоединились к нему. Достоинство великого императора требовало, чтобы все державы, все религии Европы содействовали осуществлению его великих проектов. Тогда успех их был бы обеспечен, и если бы не нашлось нового Гомера для этого короля королей, то всё же голос девятнадцатого века, ставшего великим веком, заменил бы этого певца, и возглас изумления, проникнув в будущее, разнесся бы — сквозь поколения — до самого отдаленного потомства!
Но столько славы не было суждено нам!
Кто из нас, во французской армии, не помнит, какое удивление испытали все мы, находясь среди русских полей, когда пришло известие о роковых договорах Александра с турками и шведами! С каким беспокойством обращали мы тогда взоры на свой открытый правый фланг, на ослабленный левый и на то, что отступление могло быть нам отрезано! В ту пору мы лишь смотрели на фатальные последствия мира между нашими союзниками и нашим врагом; теперь нам хочется знать причины этого.
Договоры, заключенные в конце последнего столетия, подчиняли слабого турецкого султана России; Египетская экспедиция вооружила его против нас. Но с тех пор как Наполеон взял в свои руки бразды правления, хорошо понятный общий интерес и интимность тайной переписки примирили султана с Первым консулом — тесная связь была установлена между двумя правителями; они обменивались портретами друг с другом. Селим пытался осуществить великое преобразование турецких обычаев. Наполеон поощрял его и помогал вводить европейскую дисциплину в оттоманской армии. Победа при Йене, война в Польше и влияние Себастиани способствовали тому, что султан сбросил ярмо Александра. Англичане делали торопливые попытки помешать этому, но они были вытеснены из моря, на берегах которого стоит Константинополь. Затем Наполеон написал следующее письмо Селиму:
«Остероде
3 апреля 1807 года
Мой посол сообщил мне о храбрости и хорошем поведении мусульман в борьбе против наших общих врагов. Ты показал себя истинным наследником Селимов и Сулейманов. Ты просил у меня офицеров, я посылал их тебе. Я сожалею, что ты не потребовал у меня несколько тысяч человек, а просил только пятьсот; я дал приказы, чтобы они немедленно отправились в путь. Я хочу, чтобы они оплачивались и одевались за мой счет и чтобы тебе возместили связанные с ними расходы. Я дал приказы командующему моими войсками в Далмации послать тебе вооружение, амуницию и всё, что от меня потребуется. Я дал такие же приказы в Неаполе, и артиллерия уже предоставлена в распоряжение паши Янинского. Генералов, офицеров, любое оружие, даже деньги я предоставил в твое распоряжение. Только попроси, попроси в ясной форме, и я немедленно вышлю тебе всё, что ты захочешь. Договорись обо всём с персидским шахом, который также является врагом русских; пусть он будет непреклонным и энергично атакует общего врага. Я побил русских в большом сражении; я взял у них семьдесят пять пушек, шестнадцать знамен и большое число пленных. Я нахожусь на расстоянии восьмидесяти лье[3] от Варшавы и намерен с выгодой использовать пятнадцатидневную передышку, которую я дал своей армии для отдыха, направиться туда и там принять твоего посла. Я с пониманием отношусь к твоей нужде в артиллерии и пехоте; я предложил и то и другое твоему послу, но он отказывается из страха напугать мусульман. Сообщи мне обо всех своих нуждах; я достаточно силен и достаточно заинтересован в твоем процветании как друг и политик и ни в чем тебе не откажу. Здесь мне предложили мир. Мне предложили все преимущества, какие я могу пожелать; но они хотели, чтобы я утвердил положение вещей, установленное договором в Систове между Портой и Россией, и я отказался. Мой ответ был таким: «Необходимо, чтобы Порта имела гарантии полной независимости и чтобы все преимущества от подписанных ею договоров, которых она была лишена, пока Франция спала, были ей возвращены»».
Письмо Наполеона предварялось и сопровождалось устными, но твердыми уверениями, что он не спрячет шпагу в ножны, пока Крым не вернется под власть полумесяца. Он даже уполномочил Себастиани предоставить дивану копию инструкций, содержащих эти обещания.
Таковы были его слова, и его дела поначалу им соответствовали. Себастиани потребовал дать возможность прохода французской армии через территорию Османской империи. Наполеон дал Селиму обещание предоставить 9 тысяч солдат, включая 5 тысяч артиллеристов; эти войска следовало доставить в Константинополь на одиннадцати линейных кораблях. В то время турецкому послу оказывались величайшие почести в лагере французов: он сопровождал Наполеона на всех смотрах, принимая самые льстивые знаки внимания, и обер-шталмейстер императорского двора Коленкур уже договаривался с ним о союзе, наступательном и оборонительном, но неожиданная русская атака прервала переговоры.
Посол вернулся в Варшаву, где к нему относились с тем же уважением, и так продолжалось до дня решительной победы при Фридланде. На следующий день иллюзия рассеялась, теперь им пренебрегали, поскольку не было больше Селима, которого он представлял. Революция только что смела с трона монарха, который был другом Наполеона, вместе со всеми надеждами на реформу турецкой армии. Наполеон рассудил, что он более не может полагаться на этих варваров, и изменил свою систему. С этого времени он хотел сделать Александра своим сторонником, и поскольку он был гением, не знавшим колебаний, то уже готов был отдать Восточную империю этому монарху, чтобы ему самому позволили свободно владеть Западом.
Поскольку эта великая цель была продолжением континентальной системы, которой следовало охватить всю Европу, содействие России должно было поставить точку в этом деле. Александр должен будет закрыть для англичан север и вынудить шведов вступить в войну с ними; французы вытеснят их из центра, с юга и запада Европы. Наполеон уже обдумывал экспедицию в Португалию, если это королевство не присоединится к его коалиции. С этими мыслями (а Османской империи теперь отводилась лишь второстепенная роль в его планах) он согласился на перемирие и на конференцию в Тильзите.
Однако из Вильны только что прибыла депутация с целью восстановления независимости Литвы, которая демонстрировала ту же приверженность делу Наполеона, как ранее Варшава; усталый от войны Бертье, чьи амбиции были удовлетворены, грубо обошелся с литовскими депутатами, назвав их предателями своего монарха. Даву, напротив, был хорошо расположен к ним и представил их Наполеону. Наполеон рассердился на Бертье за его обращение с литовцами и принял их любезно, хотя не обещал им поддержки. Напрасно Даву говорил ему о благоприятной возможности, указывая на распад русской армии; Наполеон ответил, что Швеция только что объявила о перемирии, Австрия предложила посредничество между Францией и Россией, что он рассматривает как враждебный шаг, пруссаки, видя его на большом расстоянии от Франции, могут оправиться от шока; и, наконец, Селим, его верный союзник, только что лишен трона, и его место занял Мустафа IV, о намерениях которого он ничего не знает.
Французский император продолжал переговоры с Россией; турецкий посол, отвергнутый и забытый, бродил по нашему лагерю, не получая приглашения принять какое-либо участие в переговорах о прекращении войны; вскоре он вернулся в Константинополь в великом расстройстве. Ни Крым, ни даже Молдавия и Валахия не были возвращены этому варварскому двору по договору в Тильзите; возвращение двух последних провинций предусматривалось по условиям перемирия, но даже не предполагалось, что условия реституции когда-либо могут быть выполнены. Однако Наполеон взялся быть посредником между Мустафой и Александром, министры двух держав направились в Париж. В ходе переговоров, долгих и несерьезных, турецкие полномочные представители так и не были к ним допущены.
Если сказать всю правду, то утверждалось, что на встрече в Тильзите и впоследствии согласовывались условия договора о разделе Османской империи. России были предложены Валахия, Молдавия, Болгария и часть горы Хемус. Австрия должна была получить Сербию и часть Боснии; Франция — другую часть этой провинции, Албанию, Македонию и всю Грецию до Фессалоник; Константинополь, Адрианополь и Фракия оставлялись туркам.
Неизвестно, были ли переговоры о разделе серьезными, или их следует рассматривать просто как обмен идеями. Вполне определенно то, что вскоре после встречи в Тильзите амбиции Александра были очень существенно умерены. Соображения благоразумия заставили его увидеть опасность появления на месте невежественной, дикой и немощной Порты активного, сильного и неуступчивого соседа. Тогда он заметил в разговоре, что у него уже слишком много пустынной территории; что он знает слишком хорошо на примере освоения Крыма, который всё еще не населен, трудности покорения народов с чуждыми и враждебными верованиями и обычаями; кроме того, Франция и Россия слишком сильны для того, чтобы стать такими близкими соседями; две мощные державы немедленно коснутся друг друга и наверняка столкнутся, поэтому гораздо лучше, чтобы между ними находились другие государства.
С другой стороны, французский император также не был активен в этом деле; испанское восстание отвлекало его внимание и настоятельно требовало его присутствия со всеми силами. Перед свиданием в Эрфурте, после того как Себастиани вернулся из Константинополя, хотя Наполеон всё еще придерживался идеи раздела европейской части Порты, он признал правильность доводов своего посла: «Преимущества этого раздела обернутся против нас, Россия и Австрия потребуют смежных провинций, которые придадут их владениям законченную форму, в то время как мы будем обязаны постоянно держать 80 тысяч солдат в Греции, чтобы обеспечить ее покорность; такая армия, находящаяся на большом расстоянии от Франции, потери, которые она будет нести от долгих маршей, непривычный и нездоровый климат потребуют 30 тысяч рекрутов ежегодно для ее поддержания, и это будет истощать Францию; безразмерная операционная линия растянется от Афин до Парижа и может быть перерезана австрийцами в районе Триеста, что лишит нашу обсервационную армию в Греции коммуникаций с Италией и Францией».
Здесь Наполеон воскликнул: «Австрия определенно всё усложняет; она — обуза, и от нее нужно избавиться; Европа должна быть разделена между двумя империями, а демаркационную линию следует провести по Дунаю, от Черного моря до Пассау, от гор Богемии до Кёниггреца, по Эльбе до Балтийского моря. Александр должен стать императором севера, а я — императором юга Европы». Отказавшись затем от этих великих идей и вернувшись к замечаниям Себастиани по поводу раздела европейской части Порты, Наполеон закончил обсуждения, продолжавшиеся три дня, такими словами:
— Вы правы, и сказать тут нечего! Я уступаю. Кроме того, это затрагивает мои планы в отношении Испании, которую я собираюсь присоединить к Франции.
— Что я слышу, — воскликнул потрясенный Себастиани, — присоединить! А ваш брат?
— Что значит мой брат? — парировал Наполеон. — Разве кто-то отдает такое королевство, как Испания? Я намерен присоединить его к Франции. Я дам этой нации большое национальное представительство. Я сделаю так, что император Александр согласится на это, поскольку позволю ему овладеть Портой до Дуная, и я выведу войска из Берлина. Что касается Жозефа, то он получит компенсацию.
Конгресс в Эрфурте состоялся сразу после этого. Наполеону тогда было не до турок. Французская армия, которая безрассудно вторглась в самое сердце Испании, терпела неудачи. Прибытие ее предводителя и его армий с Рейна и Эльбы день ото дня становилось всё более необходимым, и Австрия использовала этот момент для вооружения. Беспокоясь о состоянии Германии, Наполеон имел еще большие сомнения в отношении намерений Александра и поэтому хотел заключить с ним наступательный и оборонительный союз и даже вовлечь его в войну. Таковы были причины его отказа от раздела Османской империи.
Очень скоро у Порты появилась причина обвинить нас в возобновлении ее войны с Россией. Несмотря на это, в июле 1808 года, когда Мустафа был свергнут с трона и заменен Махмудом, последний объявил о своей верности французскому императору; однако Наполеон не реагировал на это сообщение, поскольку должен был договариваться с Александром, слишком сожалел о смерти Селима, ненавидел варварство мусульман и с презрением относился к частым сменам турецкого правительства. В течение трех лет он ничего не отвечал султану, и это молчание могло быть истолковано как отказ признать последнего.
Отношения с турками оставались неясными, и вдруг 21 марта 1812 года, за шесть недель до начала войны с Россией, Наполеон обратился к Махмуду с предложением союза; он требовал, чтобы в течение пяти дней с момента этого сообщения все переговоры между турками и русскими были прерваны и чтобы армия численностью 100 тысяч человек под командованием самого султана отправилась на Дунай в течение девяти дней. В обмен на это он обещал Порте те самые провинции (Молдавию и Валахию), которые при сложившихся обстоятельствах русские были очень рады вернуть в качестве платы за быстрое заключение мира; он также дал обещание обеспечить быстрое возвращение Крыма — то самое обещание, которое шестью годами ранее он давал Селиму.
Мы не знаем, то ли время прибытия этого послания в Константинополь было плохо выбрано, то ли Наполеон считал турецкую армию более сильной, чем она была на самом деле, то ли он льстил самому себе, считая свое неожиданное предложение очень выгодным и надеясь на быстрое положительное решение дивана. Сомнительно, чтобы он не знал о неизменных обычаях мусульман, не допускавших, чтобы такая важная персона, как султан, сама вставала во главе армии.
Не может быть, чтобы гений Наполеона пал так низко, что предстал перед диваном в образе грубого невежи, не думающего о реальных интересах другой стороны. Он, видимо, не ожидал, что мусульмане отнесутся к его новым обещаниям с полным недоверием, а ведь последнее было вполне возможно, особенно если вспомнить, в какой манере он пренебрег интересами Порты в 1807 году. Он забыл, что они слишком невежественны, чтобы быть ему признательными за перемены в его политических взглядах, вызванные последними обстоятельствами, и что эти варвары не вполне понимают, какие нехорошие чувства они вызвали в нем свержением и убийством Селима, к которому он был привязан и вместе с которым надеялся превратить его империю в военную державу, способную сражаться с Россией.
Возможно, он всё еще мог привлечь Махмуда на свою сторону, если бы использовал более действенные аргументы; но, как сам он это объяснял, цель достигается не гордостью, а подкупом. Мы увидим, как он короткое время сомневался, начинать ли войну с Александром, и преувеличивал впечатление, которое его грандиозные военные приготовления должны были произвести на этого монарха. Также возможно, что его последние предложения туркам, равносильные объявлению войны русским, были придержаны из желания обманывать царя до момента вторжения. Наконец, то ли по всем указанным причинам, вместе взятым, то ли из уверенности в том, что две нации друг друга ненавидят, или основанной на только что подписанном договоре о союзе с Австрией, который сохранял Молдавию и Валахию за турками, он задержал посла, которого отпустил было домой, и ждал, как мы только что видели, до последнего момента.
Но диван был окружен русскими, английскими, австрийскими и шведскими дипломатическими представителями, которые оказали свое влияние, выразившееся следующим образом: «Турки всецело обязаны своим существованием в Европе разделению христианских монархов; когда они объединятся, магометане в Европе будут побеждены; поскольку французский император стремится к созданию всемирной империи и делает быстрые шаги в этом направлении, то он и есть тот, кого турки должны более всего бояться».
Но этого мало, в дело вмешались два греческих принца Морози. Они были одной веры с Александром и с его помощью они рассчитывали овладеть Молдавией и Валахией. Разбогатев благодаря его протекции и английскому золоту, эти драгоманы убеждали ничего не подозревавших и невежественных турок в том, что французские военные стоят у границ Оттоманской империи и собирают разведывательные данные. Более того, первый из принцев влиял на настроения дивана и класса богатых, а второй — на султана и армию; поскольку гордый Махмуд не поддавался этому влиянию и соглашался только на почетный мир, эти вероломные греки сумели распустить его армию и, организовав мятежи, вынудили его подписать с русскими унизительный мирный договор в Бухаресте.
Такова сила интриг в серале; два грека, которых турки ненавидели, решили судьбу Оттоманской империи вопреки воле султана. Поскольку существование последнего зависело от интриг в его дворце, он, как и все ведущие изолированный образ жизни деспоты, обязан был уступить; Морози одержали победу, но затем он обезглавил обоих.
Глава IV
Так мы лишились поддержки Порты, но Швеция еще могла быть нашей. Ее монарх вышел из наших рядов, был солдатом нашей армии, и именно ей он обязан своей славой и своим троном; могло ли случиться, что он предаст нас при первой возможности? Немыслимо было предвидеть такую неблагодарность. И как он мог пожертвовать истинными и постоянными интересами Швеции из былой ревности к Наполеону — возможно, общей слабости выскочек, баловней судьбы? Всё же подчинение людей, которые только что приобщились к величию, тем, кто гордится наследственным титулом, есть скорее продиктованная положением необходимость, а не ошибка себялюбия.
В этом великом споре аристократии и демократии ряды первой пополнил один из ее самых убежденных врагов. Бернадотт, брошенный почти в одиночку между старыми дворами и знатью, делал всё, чтобы заслужить их одобрение, и преуспел в этом. Но успех должен был стоить ему дорого, поскольку, чтобы добиться его, он должен был вначале отказаться от своих старых товарищей, творцов его славы в час опасности. Позднее он пошел еще дальше: его видели перешагивающим через их окровавленные трупы вместе со всеми их (а прежде и его) врагами, и он делал это для победы над страной, в которой родился.
С другой стороны, стало ясно, что личность Бернадотта и важность Швеции в той решительной борьбе, которая должна была начаться, не имели достаточного веса в политическом балансе Наполеона. Его пылкий, уникальный гений рисковал слишком много: он перегрузил крепкий фундамент и тем разрушил его. Он считал, что интересы Швеции естественным образом связаны с его интересами; в тот момент, когда он хотел ослабить мощь России, он воображал, что может отнять всё у шведов, не обещая им взамен ничего: его гордость не позволяла ему оказывать им помощь, он полагал, что они слишком заинтересованы в успехе его дела, чтобы когда-либо думать об отделении.
Однако мы должны посмотреть, что было немного раньше. Факты говорят о том, что причинами отступничества Швеции в равной степени были ревнивые амбиции Бернадотта и непоколебимая гордость Наполеона. Мы увидим, что большую долю ответственности за разрыв несет новый монарх: он предложил союз ценой предательства.
Когда Наполеон вернулся из Египта, он не стал первым среди равных по общему согласию. Затем те, кто уже тогда ревниво относились к его славе, стали завидовать его власти. Поскольку они не могли оспаривать славу, они пытались быть непослушными. Моро и несколько других генералов, по убеждению или принуждению, содействовали революции 18 брюмера — впоследствии они раскаивались в этом. Бернадотт отказался в ней участвовать. Находясь в собственной резиденции Наполеона посреди ночи, один в окружении тысячи преданных офицеров, ожидавших приказов завоевателя, Бернадотт, рьяный республиканец, был достаточно смел для того, чтобы не соглашаться с его аргументами, отказаться от второй роли в Республике и отвечать угрозами на гнев Наполеона. Тот позволил ему гордо удалиться; Бернадотт прошел через толпу сторонников Наполеона, унося свои секреты и объявив себя его врагом и обвинителем. То ли из уважения к брату, с которым Бернадотт был связан родственными узами, то ли из умеренности, обычной спутницы силы, или просто из удивления, Наполеон позволил ему тихо уйти.
Той же ночью в доме S***[4] шла тайная встреча, на которой присутствовали десять депутатов Совета пятисот; туда же направился Бернадотт. Они решили, что следующим утром, в девять часов, Совет пятисот проведет заседание, на которое должны быть приглашены только единомышленники; там по примеру Совета старейшин, послушно назначившего Бонапарта командующим своей гвардией, будет принят декрет о назначении Бернадотта командующим гвардией Совета пятисот. Эти солдаты, соответствующим образом вооруженные, должны были ждать приказа. Этот план родился в доме S***. Хозяин дома немедленно побежал к Наполеону и всё ему рассказал. Заговорщики боялись Наполеона, и никто из них не появился в Совете. На следующий день революция 18 брюмера была завершена.
Бернадотт был достаточно благоразумным для того, чтобы впоследствии притвориться покорным, но Наполеон не забыл его сопротивления. Он внимательно следил за всеми действиями Бернадотта. Вскоре он начал подозревать, что Бернадотт стоит во главе республиканского заговора на западе страны, направленного против него. Преждевременно выпущенная прокламация сделала заговор явным; офицер и сообщник Бернадотта, подвергавшийся аресту по другим делам, донес на ее авторов. На этот раз Бернадотт не должен был избежать наказания, если бы Наполеон решился осудить заговорщика.
Он удовлетворился высылкой его в Америку с титулом посла в ранге министра республики, однако фортуна была благосклонна к Бернадотту: он находился в Рошфоре, и погрузка на корабль задерживалась до тех пор, пока не возобновилась война с Англией. Бернадотт отказался отправиться в путь, и Наполеон не мог его к этому принудить.
Их отношения свелись к тому, что они ненавидели друг друга, и эта история лишь увеличила ненависть. Некоторое время спустя Наполеону пришлось упрекать Бернадотта в бездействии во время битвы при Ауэрштедте, поведении завистливом и предательском; во время битвы при Ваграме Бернадотт издал приказ, которым присвоил себе честь этой победы. Наполеон осуждал его характер, в котором было больше амбиций, чем патриотизма; в то же время он был обаятельным; говоря в целом, Бернадотт обладал свойствами, которые считаются опасными для молодого правительства; несмотря на всё это, Наполеон присвоил ему высокое звание и осыпал титулами и знаками отличия, в то время как Бернадотт, вечно неблагодарный, считал награды справедливым признанием своих заслуг и следствием собственной важности и нужности. Таким образом, недовольство Наполеона не было безосновательным.
Со своей стороны, Бернадотт злоупотреблял умеренностью императора и объяснял действия Наполеона неприязнью по отношению к себе. Он вопрошал, почему Наполеон поставил его в опасную и неправильную позицию при Ваграме? Почему рапорт об этой победе был таким неблагоприятным для него лично? Почему его авторитет принижается? До этого времени слабая и скрытая оппозиция этого генерала императору не имела значения; однако их взаимное непонимание росло.
По Тильзитскому договору Швеция и Оттоманская империя приносились в жертву России и континентальной системе. Ошибочная и безумная политика Густава IV была причиной этого. С 1804 года этот монарх находился на содержании Англии; именно он разрушил старый союз между Францией и Швецией. Он упрямо придерживался этой ошибочной политики и продолжал бороться с Францией, когда последняя побеждала Россию, а затем и с обеими державами, ставшими союзниками. Потеря Померании, Финляндии и Аландских островов, присоединенных к России в 1808 году, не поколебала его решимости.
Тогда его разгневанные подданные вернули власть, отнятую у них в 1772 и 1788 годах Густавом III, которую его преемник так плохо употребил. Густав Адольф IV был заключен в тюрьму, лишен трона, его наследники по прямой линии были лишены права наследования, его дядя занял его место, и принц Гольштейн-Аугустенбургский был выбран наследным принцем Швеции. Поскольку война была причиной этой революции, ее результатом стал мир, который был заключен с Россией в 1809 году; однако недавно избранный наследный принц вскоре неожиданно умер.
В начале 1810 года Франция вернула Померанию и остров Рюген Швеции в качестве цены ее присоединения к континентальной системе. Шведы, измученные, обедневшие и ставшие почти островитянами вследствие потери Финляндии, очень неохотно шли на разрыв с Англией; с другой стороны, они испытывали страх перед сильным правительством соседней России. Слабые и одинокие, они смотрели вокруг и искали поддержки.
Бернадотт только что был назначен командующим французской армией, стоявшей в Померании. Его военная репутация, в еще большей степени репутация его народа и его монарха, его восхитительная мягкость, великодушие, льстивое ухаживание за шведами, с которыми он должен был общаться, заставили нескольких из них обратить на него серьезное внимание. Похоже, они ничего не знали о непонимании в отношениях маршала и императора; они воображали, что, выбрав его своим принцем, они получат не только способного и опытного генерала, но и влиятельного посредника между Францией и Швецией, их защитника перед императором. Всё вышло наоборот.
Это обстоятельство способствовало интригам, и Бернадотт полагал, что к своим прежним жалобам на Наполеона он должен добавить новые. Когда, в пику королю и большинству членов национального парламента, его предложили в качестве наследника шведской короны, когда его притязания были поддержаны премьер-министром Карла (человеком безродным, который, как и он, сделал себя сам) и графом Вреде, единственным членом парламента, отдавшим за него голос, когда он просил Наполеона вмешаться, почему он, когда Карл XIII пожелал узнать о его намерениях, проявил такую индифферентность? Почему он предпочел объединение трех северных корон во главе с принцем Дании? Если бы он, Бернадотт, преуспел в этом предприятии, то он вовсе не был бы обязан своим успехом французскому императору; в этом случае причинами успеха стали бы притязания короля Дании, который соперничал с герцогом Аугустенбургским[5], своим самым опасным врагом, прекрасная отвага барона Морне, который первым предложил выборы, и антипатия шведов к датчанам; сверх того, он был бы обязан им паспорту, полученному его агентом от министра Наполеона. Говорили, что этот документ был дерзко сфабрикован секретным эмиссаром Бернадотта и должен был служить доказательством желания французского императора видеть одного из своих помощников и родственника своего брата на троне Швеции.
Бернадотт также чувствовал, что он обязан своей короной случаю, благодаря которому его вероисповедание было похоже на религию шведов, рождению сына-наследника, который обеспечивал продолжение рода, посланию агентов, поразивших бедных скандинавов обещанием четырнадцати миллионов, которые при его избрании должны были обогатить государственное казначейство, и, наконец, льстивому ухаживанию, которое дало ему несколько голосов шведских офицеров, бывших его пленниками. Что касается Наполеона, то чем он ему обязан? Какой была реакция первого на сообщение о предложении нескольких шведов? «Я нахожусь на слишком большом расстоянии от Швеции, чтобы вмешиваться в ее дела. Вы не должны рассчитывать на мою поддержку». В то же время правда, что либо по необходимости, либо из страха, что изберут герцога Ольденбургского, мужа русской великой княгини, которая в свое время ему отказала, или просто рассчитывая на удачу, Наполеон объявил, что он предоставляет Швеции самой решить, кого избрать, — и Бернадотт был избран кронпринцем.
Вновь избранный принц немедленно выразил свое уважение императору, который принял его радушно. «Поскольку вам предложили корону Швеции, я позволяю вам принять ее. У меня было другое желание, как вы знаете: но, говоря коротко, ваша шпага сделала вас королем, и вы понимаете, что я не буду стоять на пути вашей счастливой судьбы». Затем он полностью раскрыл свои политические планы перед Бернадоттом, который теперь должен был действовать в полном согласии с ними. Каждый день он присутствовал на утреннем приеме у императора вместе со своим сыном, в числе других придворных. Этими знаками уважения он полностью покорил сердце Наполеона. Он собирался отправиться в путь; не желая, чтобы Бернадотт занял шведский трон без гроша в кармане, как простой авантюрист, император великодушно выделил ему два миллиона из личных средств; он обеспечил его семью средствами, которые Бернадотту как иностранному принцу не полагались; они расстались, будучи взаимно удовлетворенными.
Было естественно, что ожидания Наполеона от союза со Швецией возросли вместе с избранием Бернадотта и сделанными ему благодеяниями. Поначалу тот слал письма благодарного подчиненного, но когда он достаточно удалился от Франции и вышел из состояния долгого и тягостного стеснения, его ненависть к Наполеону стала проявляться в угрозах, и эти слова в правдивом или искаженном виде передавались императору.
Со своей стороны, этот монарх стеснял шведскую торговлю своей континентальной системой, он не желал пускать даже американские суда в свои порты и, наконец, объявил, что его друзьями могут быть только враги Великобритании. Бернадотт должен был сделать выбор; зима и море, с одной стороны, защищали его от атак англичан, но, с другой стороны, не давали им возможности оказывать ему помощь; французы были вблизи его портов; поэтому война с Францией могла быть реальной и эффективной, а война с Англией велась бы только на бумаге. Шведский принц пошел по второму пути.
Наполеон, оставаясь завоевателем даже в мирное время и сомневаясь в Бернадотте, потребовал от Швеции нескольких поставок корабельной оснастки для своего флота в Бресте и отправки войск, которые должны были содержаться за его счет; таким образом он ослаблял своих союзников в целях подчинения врагов, чтобы стать выше тех и других. Он также требовал, чтобы продукция из колоний облагалась в Швеции, как и во Франции, пятипроцентной пошлиной. Известно, что он обращался к Бернадотту с просьбой о размещении французской таможни в Гётеборге, но тот уклонился от ее выполнения.
Затем Наполеон предложил союз Швеции, Дании и Великого герцогства Варшавского, или создание Северной конфедерации, где он стал бы протектором (как на Рейне). Ответ Бернадотта не был полным отказом, но не был и согласием; так же он ответил на предложение Наполеона о наступательном и оборонительном союзе. Следом Бернадотт собственноручно написал четыре письма, в которых прямо заявлял о невозможности выполнения желаний Наполеона и повторял свои протесты против присоединения к его системе; последний не удостоил его ответом. Это неполитичное молчание может быть объяснено лишь гордостью Наполеона, раздраженного отказами Бернадотта. Несомненно, что он считал эти протесты слишком неискренними, чтобы на них отвечать.
Раздражение росло, и согласия не было; сообщения были прерваны вместе с отзывом Алкье, французского посла в Швеции. Поскольку притворная декларация Бернадотта об объявлении войны Англии оставалась ничего не значащей бумагой, Наполеон, которому нельзя было безнаказанно отказывать или лгать, объявил войну шведской торговле силами своих каперов. Эти действия и занятие Шведской Померании 27 января 1812 года стали наказанием Бернадотта за его отклонения от континентальной системы; в плен были взяты несколько тысяч шведских солдат, которых Наполеон не смог получить в качестве союзников.
Затем прервались наши связи с Россией. Наполеон немедленно обратился к шведскому принцу; его письма были составлены в стиле верховного владыки, который говорит в интересах своего вассала. Он потребовал, чтобы Бернадотт объявил настоящую войну Англии, не допускал ее в Балтийское море, и чтобы он послал шведскую армию численностью 40 тысяч солдат против России. За это он обещал протекцию, восстановление Финляндии и 20 миллионов в обмен на равное количество колониальных товаров, которые Швеция вначале должна была поставить. Австрия взялась поддержать это предложение; но Бернадотт, уже утвердившийся на троне, ответил как независимый монарх. Он объявил о собственном нейтралитете, открыл порты для всех наций, заявил о своих правах и обидах; он взывал к гуманности, ратовал за мир и готов был выступить посредником; втайне он предлагал себя Наполеону, называя в качестве цены сотрудничества Норвегию, Финляндию и субсидию.
Читая это письмо, составленное в новом и неожиданном стиле, Бонапарт был полон гнева и удивления. Он увидел в нем, и не без основания, преднамеренную измену Бернадотта и секретное соглашение с его врагами! Он был полон негодования; ударив по письму и столу, на котором оно лежало, Наполеон воскликнул: «Он жулик! Он осмеливается давать мне советы! Диктовать мне законы! Предлагать позорную сделку[6]! И это говорит человек, который всем обязан моей щедрости! Какая неблагодарность!» Затем, ходя по комнате быстрыми шагами, он время от времени восклицал: «Я должен был ожидать этого! Он всегда всем жертвовал в угоду своим интересам! Это тот самый человек, который, недолго будучи министром, пытался организовать бунт мерзких якобинцев! Когда он пытался извлечь выгоду из беспорядка, он противился 18 брюмера! Именно он организовал заговор на Западе, будучи против восстановления закона и религии! Разве его ревнивое и вероломное бездействие не предало французскую армию при Ауэрштедте? Сколько раз я прощал ему интриганство и закрывал глаза на его провинности, поскольку он родственник Жозефа! Более того, я сделал его главнокомандующим, маршалом, герцогом, князем и, наконец, королем! Но вы видите, что все эти благодеяния и многочисленные прощения только во вред такому человеку, как он! Пройдет сто лет, и если Швеция, наполовину поглощенная Россией, всё еще сохранит независимость, она будет обязана ею поддержке Франции. Но дело не в этом: Бернадотт хочет получить крещение старой аристократии! Крещение кровью, французской кровью! И вы вскоре увидите, что для удовлетворения своей зависти и своих амбиций он предаст и родину, и свою новую страну».
Наполеона напрасно пытались успокоить. Сложившаяся ситуация была трудной для Бернадотта: уступка Финляндии России отделила Швецию от континента, сделав ее почти островом и тем самым включив ее в английскую систему. При данных обстоятельствах гордость Наполеона не позволяла ему использовать этого союзника, чьи предложения он считал оскорбительными; возможно, в новом шведском монархе он всё еще видел Бернадотта, своего подданного и подчиненного военнослужащего, который теперь выбрал независимое поприще. С этого момента его инструкции своему министру носили отпечаток этого взгляда; так он, можно сказать, подслащивал пилюлю, однако разрыв становился неизбежным.
Неясно, что более всего способствовало разрыву, — гордость Наполеона или старая зависть Бернадотта; однако понятно, что мотивы первого были благородными.
Дания, как он говорил, была его самым верным союзником; ее приверженность Франции стоила ей потери флота и сожжения столицы. Должен ли он отплатить за верность, подвергшуюся столь жестоким испытаниям, предательским актом — отнять у нее Норвегию, чтобы передать последнюю Швеции?
Что касается субсидии, которую просила у него Швеция, то император ответил так: «Если война велась бы исключительно за деньги, то Англия всегда превзойдет меня в этом. Триумф, достигаемый подкупом, есть проявление слабости и низости». Вернувшись к теме своей раненой гордости, он закончил разговор восклицанием: «Бернадотт ставит мне условия! Он воображает, что после этого будет мне нужен? Я скоро приобщу его к своей победной карьере, и он вынужден будет следовать моей монаршей воле».
Англичане, активно действующие подкупом и находящиеся вне сферы его влияния, здраво оценивали слабости его системы и нашли деятельных союзников в лице русских. В течение последних трех лет они пытались загнать войска Наполеона в испанские ущелья и истощить их там, а теперь они должны были использовать мстительную враждебность шведского принца.
Зная, что активное и неугомонное тщеславие людей, поднявшихся из низов, всегда беспокойно и чувствительно в присутствии старых парвеню, Георг и Александр были щедры на обещания и лесть и таким образом обхаживали Бернадотта. Они ласкали его именно тогда, когда разгневанный Наполеон ему угрожал; они обещали ему Норвегию и субсидию, когда Наполеон, вынужденный отказать ему в Норвегии, которую он не мог забрать у своего верного союзника, овладел Померанией. Когда Наполеон, монарх, возвысивший себя сам, полагавшийся на верность договорам, на память о прошлых благодеяниях и исходивший из реальных интересов Швеции, требовал военной помощи Бернадотта, монархи Лондона и Петербурга почтительно интересовались мнением последнего и осторожно предвосхищали использование его опыта. Наполеон, великий гений, по-прежнему обращался к Бернадотту как к своему помощнику, а они считали его своим генералом. Возможно ли, чтобы он не стремился покончить со своим подчиненным положением и в то же время чтобы он устоял перед ухаживаниями и соблазнительными обещаниями? Всё так и случилось. Будущее Швеции было принесено в жертву, а ее независимость отныне определялась милостью России — таков был смысл договора в Санкт-Петербурге, который Бернадотт подписал 24 марта 1812 года. А 28 мая был подписан договор в Бухаресте между Александром и Махмудом. Мы потеряли поддержку двух наших флангов.
Французский император, во главе шестисот тысяч человек, зашел уже слишком далеко и надеялся, что его сила решит всё, а победа на Немане разрешит все дипломатические затруднения, которыми он, быть может, чересчур, пренебрегал раньше. И тогда все европейские принцы, вынужденные признать его звезду, поспешат вступить в его ряды, а он увлечет за собой, в своем вихре, всех этих спутников.
Книга II
Глава I
Между тем Наполеон всё еще был в Париже, среди своих высших сановников, которые были напуганы перспективами ужасного столкновения. Они больше не хотели ничего приобретать, но могли многое потерять; их интерес соответствовал общему желанию народов, уставших от войны; не обсуждая полезность экспедиции, они трепетали при ее приближении. Но они признавались друг другу в этом лишь по секрету, то ли из боязни нанести обиду или утратить доверие народов, то ли опасаясь за результаты. По этой причине они хранили молчание в присутствии Наполеона и даже делали вид, что не знают о войне, которая уже значительное время была предметом разговоров всей Европы.
Но эта заслуживающая уважения неразговорчивость становилась неприятной; Наполеон подозревал, что ее причиной скорее является неодобрение, чем скрытность. Покорность не удовлетворяла его, он хотел, чтобы она сочеталась с убежденностью, и это была бы новая победа. Кроме того, никто не был уверен больше, чем он, в силе общественного мнения, которое, согласно ему, создавало или разрушало троны. Короче говоря, он хотел убеждать любым образом — средствами политики или эгоизма.
Таковы были чувства Наполеона и окружавших его больших людей; когда завесу секретности собирались снять и война становилась очевидной, их молчание перед ним выглядело более неосмотрительным, чем риск уместных слов. Некоторые из них начали высказываться, и император ожидал того же от других.
Камбасерес указал ему на возможные непредвиденные случайности: «Нужно закончить начатое. Нельзя остановиться в середине быстрого подъема, недалеко от вершины.
Европа приняла ваш гений, Франция должна стать центром и основанием Европейской империи; великую и цельную Францию устроят только слабые государства вокруг нее, они должны быть разделены так, что любая коалиция между ними будет презренной и просто невозможной; но раз цель такова, то почему вы не беретесь подчинять и разделять то, что вас окружает?»
На это возражение Наполеон ответил, что таков был его план в 1809 году, в войне с Австрией, но неудача при Эсслингене расстроила этот проект; после заключения договора в Тильзите он хотел при посредничестве Мюрата укрепить союз с Россией брачными узами, но отказ русской великой княжны и ее торопливый брак с герцогом Ольденбургским заставили его жениться на австрийской принцессе и создать союз с Австрией против российского императора.
Он не создает обстоятельств, но не позволит им обойти его; он осмысливает все обстоятельства и держит себя в наилучшей готовности к наступлению любого из них; он точно знает, что для выполнения его планов нужно двенадцать лет, но он не может терять время и ждать так долго.
Что до остального, то он не провоцировал эту войну; он был верен своим договоренностям с Александром; доказательством этого служит холодность его отношений с Османской империей и Швецией — первая целиком отдана в руки России, вторая лишилась Финляндии и даже Аландских островов, расположенных вблизи Стокгольма; он ответил на обращение несчастных шведов советом сделать уступку.
Несмотря на это, в 1809 году, когда русская армия должна была действовать заодно с Понятовским в Австрийской Галиции, она пришла слишком поздно, была слишком слабой и вела себя предательски; затем Александр указом от 31 декабря 1810 года изменил континентальной системе и своими запретами объявил настоящую войну французской коммерции. Наполеон отлично понимал, что русский национальный интерес и дух заставили Александра сделать это; но затем он дал знать российскому императору, что осведомлен о его положении и готов принять любые меры для обеспечения его покоя; однако Александр, вместо того чтобы изменить указ, собрал 80 тысяч солдат под предлогом поддержки таможенных служащих и позволил Англии подкупить себя, отказался признать 32-ю дивизию и потребовал от Франции вывести войска из Пруссии — требование, равносильное объявлению войны.
Принимая во внимание эти жалобы, многие из которых были хорошо обоснованными, некоторые люди полагали, что гордость Наполеона была задета отказом России принять его предложение о брачном союзе, и поэтому он сделал шаг на пути к войне, лишив русскую принцессу ее Ольденбургского герцогства.
Все эти страсти, которые целиком управляют другими людьми, имели лишь слабое влияние на гений столь непреклонный и громадный; самое большое, что они могли сделать, — дать первый толчок, заставивший его начать действовать раньше, чем он того желал. Но даже не проникая столь глубоко в замыслы его великого ума, можно выделить один очевидный факт: мысль, которая могла подтолкнуть его к началу решительной борьбы, — существование империи, всё еще молодой, соперничавшей с его Империей в величии и растущей день ото дня, в то время как Французская империя, уже зрелая, как и ее император, могла только уменьшиться.
На какую высоту ни вознес бы Наполеон свой трон на западе и на юге Европы, он всё же видел перед собой северный трон Александра, всегда готовый властвовать над ним благодаря своему вечно угрожающему положению. На этих обледенелых вершинах, откуда обрушивалось на Европу в былые времена столько варварских нашествий, Наполеон замечал образование элементов для нового вторжения. До этого времени Австрия и Пруссия являлись достаточной преградой, но он сам ее опрокинул или ослабил. Таким образом он остался один — и только он один являлся защитником цивилизации, богатства и владений народов Юга против невежественной грубости, алчных вожделений неимущих народов Севера и честолюбия их императора и его дворянства.
Было очевидно, что только война могла разрешить этот великий спор, эту великую и вечную борьбу нищего с богатым. Однако, с нашей стороны, эта война не была ни европейской, ни даже национальной. Европа против своего желания участвовала в ней, так как целью этой экспедиции было усиление того, кто ее победил. Франция же, истощенная, жаждала покоя. Сановники, образовывавшие двор Наполеона, пугались этой войны, рассеивания наших армий от Кадиса до Москвы. Сознавая необходимость, вытекающую из великого спора Юга и Севера, Запада и Востока, они всё же не считали доказанной безотлагательность этой войны. Они понимали, что шанс поколебать решимость человека, провозгласившего принцип: «Есть люди, чье поведение обычно определяется обстоятельствами, — и лишь иногда чувствами», — заключается лишь в том, чтобы взывать к его политическому интересу. В соответствии с этим один из министров[7] Наполеона сказал ему, что его финансы «нуждаются в покое», но он ответил: «Напротив, они находятся в затруднительном положении и, следовательно, нуждаются в войне». Другой[8] добавил, что «положение с доходами никогда не было более успешным и, несмотря на предъявленный счет от трех до четырех миллионов, просто восхитительно находить Францию необремененной какими-либо срочными долгами; но это процветание близится к концу, поскольку в 1812 году должна начаться разорительная кампания; до этого времени война окупала себя, но мы более не можем жить за счет Германии, поскольку она стала нашим союзником; напротив, нужно будет поддерживать ее контингенты без надежды на компенсацию, каким бы ни был результат; мы должны оплачивать в Париже каждый рацион хлеба, который будет потреблен в Москве; на новых полях брани ничего нельзя приобрести, кроме славы; Франция не может субсидировать всю Европу, особенно в то время, когда Испания истощает ее ресурсы».
Наполеон выслушал этого министра с улыбкой, сопровождаемой одной из его обычных ласк. Он сказал министру, убежденному в своей правоте: «Значит, вы думаете, что я не смогу найти казначея, чтобы оплатить военные расходы?» Герцог пытался узнать, на кого упадет это бремя, но император одним словом, в котором проявилось всё величие его планов, закрыл рот потрясенному министру.
Он очень аккуратно оценивал все трудности предприятия. Его упрекали в использовании метода, отвергнутого во время войны с Австрией, пример которого подал знаменитый Питт в 1793 году.
В конце 1811 года парижский префект полиции узнал, как говорили, что один печатник втайне подделывает русские банкноты; он приказал его арестовать; последний сопротивлялся, но в итоге в его дом ворвались, схватили его и привели к магистрату, которого он поразил своей уверенностью и еще более тем, что его защищал министр полиции. Печатник был немедленно отпущен; более того, он продолжал свою деятельность по подделке банкнот, а с момента нашего вступления в Литву мы распространяли известие о том, что в Вильне нами была захвачена казна вражеской армии, в которой нашли несколько миллионов русских банкнот.
Каково бы ни было происхождение этих фальшивых денег, Наполеон относился к этому с предельным отвращением; неизвестно даже, приказывал ли он каким-либо образом их использовать; однако во время нашего отступления, когда мы оставляли Вильну, наибольшая часть этих банкнот была найдена нетронутой, и их сожгли по его приказу.
Глава II
Между тем Понятовский, которому эта экспедиция обещала перспективы трона, великодушно помогал императорским министрам доказать, что она опасна. Любовь этого польского князя к родине была великой и благородной страстью, его жизнь и смерть доказывают это; однако она никогда не делала его слепым в отношении истины. Он описал Литву как непроходимую пустыню; ее дворяне стали наполовину русскими, нрав жителей холодный и медлительный; нетерпеливый император прервал его: он ждал доводов в пользу предприятия, а не возражений.
Правда, наибольшая часть этих возражений была лишь слабым повторением его собственных мыслей, с которыми он жил долгое время. Люди не знают, насколько серьезно он оценивал опасность; начиная с 30 декабря 1810 года он разными способами изучал условия страны, которая рано или поздно должна была стать театром решающей войны, и слал множество эмиссаров для составления обзоров; он требовал готовить для него множество записок о дорогах в Петербург и Москву, о нравах жителей, особенно представителей торгового класса, короче говоря, обо всех ресурсах страны. Он упорно добивался этого, поскольку, ничуть не обманывая себя в отношении пределов своих сил, не разделял уверенности некоторых людей, которая, возможно, мешала им понять, насколько важным было унижение России для будущего существования Великой Французской Империи.
В таком духе он еще раз обратился к трем своим высокопоставленным сановникам[9], чьи хорошо известные услуги и верность предполагали искренность в общении с ними. Все трое, будучи министрами, эмиссарами и послами, были знакомы с Россией в различные эпохи. Он пытался убедить их в полезности, правомерности и необходимости этой войны; но один из них[10] особенно часто прерывал его с нетерпением.
Этот высший офицер, не отличаясь гибкостью, но подчиняясь порывам своей искренности, истоки которой следует искать в его характере, военном образовании и, возможно, в его родной провинции, воскликнул:
«Не нужно обманывать себя или пытаться обмануть других, Франция обладает континентом, но разве нельзя обвинить ее союзников в несоблюдении условий континентальной системы? В то время как французские армии заняли всю Европу, в чем можно упрекнуть русских с их армией? Разве теперь ваши амбиции заключаются в том, чтобы обвинить Александра в его амбициях?
Решительность этого государя такова, что если вторгнуться в Россию, то нечего ждать мира, пока хоть один француз останется на ее земле; при этом непоколебимая национальная гордость русских совершенно соответствует решительности их императора.
Да, его подданные обвиняют его в слабости, но они не правы; его нельзя судить по той самоуспокоенности, которая была проявлена в Тильзите и Эрфурте, в нем больше нет восторженности, неопытности и налета амбициозности. Этот государь любит справедливость, он хочет, чтобы правота была на его стороне, он может колебаться до определенной поры, но затем становится твердым; если сказать о его отношениях с подданными, то он навлечет на себя большую опасность, заключая позорный мир, чем ведя неудачную войну.
Более того, как можно не видеть, что в этой войне следует бояться всего, даже наших союзников? Разве вы не слышали ропота недовольных королей о том, что они лишь ваши префекты? Чтобы обернуться против нас, они, все они, только ждут подходящего случая: зачем рисковать, давая им шанс?
С 1805 года система войны, вынуждавшая даже самых дисциплинированных солдат заниматься грабежом, сеяла семена ненависти по всей Германии, которую французские войска теперь собираются пересекать. Намерены ли вы бросить собственную армию за границы государств всех этих народов, чьи раны, которыми они обязаны нам, еще не зажили? Какую ненависть и возмущение вызовет он во Франции, поступая таким образом!
И на кого, на что собираетесь вы опереться? На Пруссию, которую пять лет уничтожали и союз с которой был притворным и вынужденным? Более того, вы собираетесь провести самую длинную линию военных операций, которую когда-либо проводили, сквозь страны, чей страх был молчаливым и чья угодливость может стать предательством, страны, похожие на вулканы, зола которых прячет ужасное пламя, готовое вырваться наружу при малейшем ударе?
В итоге, каким может быть результат столь многих завоеваний? Сделать маршалов королями, которые, будучи более амбициозными, чем генералы Александра, станут, возможно, действовать по их примеру, разве что не желая смерти своего монарха, — смерти, которая однажды неизбежно случится на одном из многих полей сражений и, возможно, до соединения ваших трудов в единое целое, причем каждая война возрождает внутри Франции надежды различных партий и дискуссии, уже законченные.
Желаете ли вы знать мнение армии? Военные считают, что лучшие солдаты находятся в Испании; что полкам, слишком часто формируемым за счет рекрутов, не хватает сплоченности; что солдаты даже не знают друг друга и не уверены, могут ли они положиться друг на друга в случае опасности; что первая линия маскирует слабость двух других, что уже, из-за молодости и слабости, многие из них пали во время первого марша под тяжестью ранцев и оружия.
Тем не менее, в этой экспедиции в большей степени не любят страну, в которой нужно вести войну, чем саму войну. Литовцы, говорят, хотят нашего прихода, но какие условия их ждут? Мы слишком хорошо их узнали во время кампании 1806 года! Где наши солдаты должны квартироваться, среди плоских равнин, непохожих на места, где позиции и укрепления создаются самой природой?
Разве неизвестно, что все стихии защищают эти страны с первого октября по первое июня? Что это время, за малым исключением, представляет собой пору, в которую армия, оказавшаяся в этих пустынях из грязи и льда, должна погибнуть там полностью и бесславно?
Наконец, когда армии сойдутся лицом к лицу в этих пустынях, то какие разные мотивы будут ими двигать! На стороне русских — страна, независимость, интерес частный и общественный, даже тайные пожелания наших союзников. На нашей стороне — одна слава, не подкрепленная даже желанием приобретения.
И каков итог множества усилий? Французы более не будут узнавать друг друга, находясь в центре страны, не ограниченной никакими естественными преградами, где разнообразие нравов, людей и языков столь огромно».
По этому поводу самый старший из высокопоставленных сановников, Сегюр, добавил: «Такие испытания никогда не преодолеваются без истощения соответствующей степени; это не позволит Франции слиться с Европой; когда Франция должна будет стать Европой, она больше не будет Францией. Разве задуманный поход не оставит ее одинокой, пустынной, без главы, без армии, доступной для любой агрессии? Кто тогда должен ее защищать?»
«Моя слава, — ответил император. — Я оставляю свое имя и страх, внушаемый вооруженной нацией».
Он не хотел, чтобы его решение было поколеблено столь многими возражениями, и объявил, что собирается организовать в Империи когорты народного ополчения и доверить французам защиту Франции, его короны и его славы.
Что касается Пруссии, то он обеспечил ее спокойствие, лишив возможности двигаться, даже в случае его поражения или высадки английского десанта на берегах Северного моря и в его тылу; он держит в руках гражданские и военные власти этого королевства, он владеет Штеттином, Кюстрином, Глогау, Торгау, Шпандау и Магдебургом, он разместил офицеров в Кольберге и армию в Берлине и с помощью этих средств и при поддержке верной Саксонии не боится прусской ненависти.
Что касается остальной Германии, то политическая система и недавно заключенные брачные союзы с дворами Бадена, Баварии и Австрии связали ее с Францией, а короли обязаны ему своими новыми титулами. Подавив анархию и связав себя с королями, он стал еще сильнее, а последние не могут на него напасть, не заразив свои народы принципами демократии, и едва ли возможно, чтобы монархи стали союзниками естественного врага всякого трона, — врага, который если бы не был за него, сверг бы их, и против которого он один может их защитить.
Кроме того, немцы — медлительные и методичные люди, и имея с ними дело, он всегда должен располагать временем; он господствует над всеми крепостями Пруссии, а Данциг является вторым Гибралтаром[11]. Россия должна вызывать опасения всей Европы своим военным и захватническим правительством, так же как и своим диким населением, уже столь многочисленным, которое ежегодно прирастает на полмиллиона. Разве ее армии не видели во всех частях Италии, в Германии и даже на Рейне? Требуя вывода войск из Пруссии, она требует невозможной уступки; оставить морально разрушенную Пруссию — значит отдать ее в руки России, что обернется против Франции.
Продолжая с еще большим оживлением, Наполеон воскликнул: «Есть ли угроза со стороны различных партий, которые предположительно существуют внутри Империи, во время моего отсутствия? Где они? Я вижу только одну враждебную мне партию — это роялисты, главная часть старой знати, престарелые и неопытные. Но они боятся моего падения более, чем желают его. Именно это я сказал им в Нормандии. Меня превозносят как великого военачальника, как способного политика, но почти не говорят обо мне как об администраторе; между тем самое трудное и самое полезное, что я сделал, — я остановил революционный поток, который мог поглотить всё, Европу и вас. Я объединил партии, противоположные друг другу, смешал враждебные классы, однако среди вас были твердолобые дворяне, которые этому противились, они отказывались от моих благодеяний. Очень хорошо! Мне-то что? Ради вас, вашего благополучия я это предлагал. Что бы вы делали в одиночку и без меня? Вы просто горстка людей, противная массам. Разве вы не видите, что нужно уничтожить противостояние третьего сословия и дворянства путем полного слияния лучшего, что сохранилось в этих двух классах? Я предлагаю вам руку дружбы, а вы ее отвергаете; но зачем вы мне нужны? Когда я поддерживал вас, я причинял себе вред в глазах народа; раз так, то я король только третьего сословия — разве этого не достаточно?»
Спокойно переходя к другому вопросу, император сказал, что вполне осведомлен об амбициях своих генералов, но война всё расставляла по местам, и французские солдаты никогда не одобрили бы крайностей — они слишком гордятся своей родиной и слишком привязаны к ней. Если война опасна, то и у мира есть свои опасности: если вернуть армии домой, то проявится много слишком дерзких замыслов и страстей, которые сегодня дремлют, но могут пробудиться, и он более не сможет удерживать их в определенных пределах, поскольку всем этим стремлениям нужно давать свободный выход; короче говоря, он боится их меньше за пределами Империи, чем внутри нее.
Наполеон закончил так: «Вы боитесь войны, поскольку она создает угрозу моей жизни? Так было во времена заговора, когда пытались запугать меня Жоржем; он был везде, чтобы найти мой след, это несчастное существо собиралось в меня стрелять. Хорошо! Положим, он сделал бы это! Самое большее, он убил бы моего адъютанта, но невозможно было убить меня! Выполнял ли я в то время предначертания судьбы? Я чувствую, что иду к цели, о которой не ведаю. Поскольку скоро я ее достигну, то стану более не нужен, и будет достаточно атома, чтобы меня низвергнуть; но до этого времени все человеческие усилия против меня бесполезны. Совсем неважно, нахожусь я в Париже или в армии. Когда мой час наступит, то лихорадка или падение с лошади во время охоты сразит меня, словно пуля: наши дни сочтены».
Этот взгляд, зачастую полезный в миг опасности, не дает завоевателям понять цену их завоеваний. Они слишком верят в предопределенность — или потому, что больше других знают о том, что является самым неожиданным в человеческой судьбе, или потому, что это освобождает их сознание от слишком тяжелого груза ответственности. Это было словно возвращение во времена крестовых походов, когда слова «это воля Божья» являлись достаточным ответом на все возражения благоразумной и мирной политики.
В самом деле, экспедиция Наполеона в Россию имеет печальное сходство с походом Людовика Святого в Египет и Африку. Эти нашествия, одно из которых было предпринято в целях небесных, а второе — в интересах земных, закончились похожим образом; и эти два великих примера указывают всему миру на то, что обширные и глубокие расчеты в век разума могут привести к тем же результатам, что и порывы религиозного фанатизма во времена невежества и суеверий.
Однако нельзя даже сравнивать возможности двух экспедиций или их шансы на успех. Последняя была необходимой для завершения великого плана в высшей его точке: цель не была недостижимой, средства не были неадекватными. Может быть, момент был плохим или направление выбиралось порой неосмотрительно, а то и нетвердо; но факты расскажут обо всем, они всё определяют.
Глава III
Наполеон готов был ответить на любое возражение. Он был способен всё осмыслить и обернуть к своей выгоде любую диспозицию; в самом деле, когда он хотел кого-либо убедить, невозможно было противостоять его шарму. Каждый чувствовал себя побежденным его превосходящей силой и вынужден был подчиниться его влиянию. Это было, если угодно, разновидностью магнетического влияния; для его страстного и подвижного гения, полностью охваченного своими желаниями, малый предмет был столь же важен, как и великий; чего бы он ни желал, вся его энергия и все его способности собирались воедино для достижения цели: они проявлялись по его приказу, действуя ускоренно, и, послушные его диктату, тут же принимали желанные формы.
Так получалось, что наибольшая часть тех, кого он хотел переманить на свою сторону, вскоре обнаруживали, что очарованы им. Для вашего тщеславия было лестно видеть властелина Европы, все амбиции и все желания которого были направлены исключительно на то, чтобы убедить вас, наблюдать, как черты, которые многим казались пугающими, выражают одно лишь чувство мягкой и трогательной доброжелательности; слышать этого загадочного человека, каждое слово которого было историческим, поддавшегося, как будто бы только ради вас, непреодолимому импульсу самой доверительной искренности; вы спрашивали себя: ласковый голос, которым он разговаривает с вами, тот ли это голос, принимавший форму тишайшего шепота и звучавший по всей Европе, объявляя войны, решая исход битв, определяя судьбы империй, разрушая и уничтожая репутации? Какое тщеславие может противостоять столь великому шарму? Любая оборона ослабевала по всем фронтам; его красноречие было значительно более убедительным, если он сам был убежден.
В связи с этим не было таких оттенков, которыми это искрящееся и богатое воображение не украшало его план, чтобы убедить и уговорить. Один и тот же текст сопровождался тысячей различных комментариев, каждый из которых был плодом его вдохновения и соответствовал характеру и положению конкретного собеседника; он заручался его поддержкой в своем предприятии, представляя ему это в определенной форме, с определенной окраской и под нужным углом.
Мы только что видели, каким образом Наполеон заставил замолчать того, кого ужаснули расходы на поход в Россию и кто должен был их утвердить: император предложил, чтобы другие заплатили за это.
Он сказал военному, напуганному риском экспедиции, но скорее всего готовому соблазниться величием амбициозных планов, что мир должен быть завоеван в Константинополе, так сказать, на оконечности Европы; тот теперь мог представить, что его притязания вырастут от маршала до монаршего скипетра.
Министру[12] старого режима, которого перспектива пролития большой крови ради удовлетворения амбиций приводила в смятение, он объявил, что это война политическая; в России он атакует одних англичан, кампания будет короткой, и после нее Франция отдохнет; это пятый акт драмы — развязка.
В разговорах с другими Наполеон ссылался на амбиции России, силу обстоятельств, которые втягивают его в войну против его желания. С людьми поверхностного мышления и неопытными он не хотел ни объясняться, ни притворяться и коротко говорил: «Вы ничего в этом не понимаете; вы не ведаете ни истории, ни последствий».
Но принцам, членам своей семьи, он давно доверил свои мысли; он жаловался, что они не совсем понимают его положение. «Разве вы не видите, — говорил им Наполеон, — что, поскольку я не родился на троне, я должен поддерживать себя на нем, ибо взошел на престол благодаря своей славе? Что ради этого нужно добиваться новых успехов? Что частное лицо, ставшее монархом, подобно мне, не может остановиться; что нужно постоянно идти вверх, а быть неподвижным значит проиграть?»
Затем он описал им все древние династии, вооружавшиеся против него, плетущие заговоры, готовящие войны и думающие, как уничтожить, в его лице, опасный пример короля-выскочки. Поэтому он считал, что любой мирный договор — это заговор слабого против сильного, побежденного против победителя и особенно — великого по праву рождения против великого благодаря своим трудам. Так много сменявших друг друга коалиций укрепили его в этом мнении! В самом деле, он часто думал о том, что больше не потерпит старую власть в Европе, откроет новую эпоху, новую эру для тронов, короче говоря, чтобы всё брало отсчет от него.
Он привык доверять самые сокровенные мысли членам своей семьи, рисуя живые картины своего политического положения, которые сегодня не кажутся ни фальшивыми, ни написанными сгущенными красками: даже нежная Жозефина, всегда сдерживавшая и успокаивавшая его, часто давала ему понять, что вместе с сознанием своего высшего гения он, кажется, никогда в достаточной мере не осознавал свою власть, что, как все ревнивые личности, он постоянно требовал новых доказательств существования этой власти. Как это случилось, что среди шумных приветственных восклицаний Европы его беспокойное ухо смогло услышать несколько одиноких голосов, ставивших под сомнение его легитимность? Его беспокойный дух всегда искал тревог, он силен своими желаниями, но не может наслаждаться и неспособен покорить лишь себя самого.
Но в 1811 году Жозефина уже была разведена с Наполеоном, и хотя он продолжал навещать ее в месте ее уединения, голос императрицы уже не имел влияния, которое ему придают постоянное общение, проявления любви и желание сообщать друг другу самое сокровенное.
Между тем новые разногласия с римским папой осложнили жизнь французов. Наполеон обратился к кардиналу Фешу. Феш был усердным священнослужителем, его переполняла итальянская живость, он защищал претензии папы с настойчивым рвением и с жаром спорил с императором: «Кто оспаривает вашу власть? Но сила не аргумент, и если я прав, то вся ваша власть не сделает меня неправым. Кроме того, ваше величество знает, что я не боюсь мученичества». «Мученичества? — воскликнул Наполеон, переходя от давления на собеседника к смеху. — Не надейтесь на это, я умоляю вас, господин кардинал; мученичество не то дело, в котором должны участвовать двое; и что касается меня, то я не хочу делать мученика из кого бы то ни было».
Говорят, что к концу 1811 года эти дискуссии приняли более серьезный характер. Свидетель утверждает, что кардинал, до того времени не участвовавший в политике, теперь начал вести дебаты и по политическим, и по религиозным вопросам, смешивая то и другое; он умолял Наполеона не искушать одновременно людей, стихии, религию, землю и небо; в итоге он выразил мрачные предчувствия, что однажды увидит Наполеона погребенным под тяжестью вражды.
Император так ответил на эту яростную атаку: он взял кардинала за руку, подвел к окну, открыл его и спросил:
— Видите ли вы звезду над нами?
— Нет, сир.
— Посмотрите еще раз.
— Сир, я ее не вижу.
— Очень хорошо. Я ее вижу, — ответил Наполеон.
Потрясенный кардинал хранил молчание и сделал вывод, что никакой человеческий голос не будет достаточно громким для того, чтобы поколебать амбициозные замыслы, уже достигшие небес.
Что касается свидетеля этой необыкновенной сцены, то он понял слова своего монарха по-другому. Они не показались ему выражением чрезмерной уверенности в своем предназначении, но свидетельством большого различия, которое Наполеон видел между размахом своего гения и политикой кардинала.
Душа Наполеона была не свободна от суеверий, но его интеллект был слишком сильным и слишком просвещенным, чтобы позволить столь значительным событиям зависеть от слабости. Одна великая тревога владела им; это была идея той самой смерти, которой он часто бравировал. Он предчувствовал беду и боялся, что, когда его не станет, Французская империя, величайший памятник столь многих трудов и побед, будет разделена на части.
«Русский император, — сказал Наполеон, — единственный монарх, который давит на вершину этого колоссального здания». Молодой и полный вдохновения соперник становится всё сильнее, в то время как он переживает период заката. Ему казалось, что Александр, находясь на берегах Немана, только и ждет сообщения о его смерти, чтобы овладеть скипетром Европы, выхватив его из рук слабого наследника. Когда вся Италия, Швейцария, Австрия, Пруссия и вся Германия маршируют под его знаменами, почему он должен медлить и не предупредить опасность, почему он не должен консолидировать структуру Великой империи и не отбросить Александра и русское владычество, которое будет ослаблено потерей Польши, за Борисфен[13]?
Такими были его мысли, которыми он делился по секрету; они, несомненно, определяли истинные мотивы ужасной войны. Что касается его желания скорее ее начать, то эта торопливость зависела от ощущения приближающейся смерти. Едкая желчь будто проникала в его кровь — он считал ее причиной своей вспыльчивости («Без этого, — добавлял он, — битвы не выигрываются».) — и разрушала его тело.
Глубокое знание устройства и тайн человеческого организма, вероятно, поможет нам понять, не было ли его скрытое заболевание одной из причин неустанной активности, которая ускорила ход событий и стала причиной его возвышения и падения.
Этот внутренний враг всё больше напоминал о себе болями и сильными спазмами желудка. Еще в 1806 году в Варшаве во время одного из мучительных кризисов Наполеон воскликнул[14], что умрет преждевременно от той же болезни, что и его отец.
Недолгая верховая езда во время охоты и самый медленный аллюр утомляли его: как он мог выдерживать долгие путешествия, быстрые и интенсивные перемещения перед боями? Когда большинство людей из его окружения считало, что в Россию его влекут громадные амбиции, не знающий покоя дух и любовь к войне, он в одиночестве оценивал ужасающую ответственность предприятия и, движимый необходимостью, обретал решимость лишь после мучительных колебаний.
Наконец, на аудиенции в августе 1811 года, находясь перед лицом всех послов Европы, он решительно высказался; но взрыв негодования, который был предзнаменованием войны, на самом деле являлся еще одним доказательством его нежелания начать ее. Возможно, что поражение, которое русские только что потерпели при Рущуке, дало ему надежды; вероятно, он вообразил, что может с помощью угроз остановить приготовления Александра.
Он обратился к князю Куракину. Когда посол заявил о мирных намерениях своего повелителя, Наполеон прервал его: «Нет, — воскликнул он, — ваш повелитель хочет войны; я знаю от своих генералов, что русская армия спешит в направлении Немана! Император Александр лжет и обводит вокруг пальца всех моих послов!» Затем, найдя Коленкура, он быстро пересек зал и с силой бросил ему вызов: «Да, и вы тоже стали русским: вас пленил император Александр». Герцог твердо ответил: «Да, сир, потому что считаю, что в душе он француз». Наполеон ничего не ответил, однако впоследствии стал относиться к этому сановнику холодно, но не прогонял его: он даже несколько раз пытался с помощью новых доводов и обычных ласк убедить его, но безуспешно, — тот всегда оставался непоколебимым, готовым ему служить, не одобряя при этом цели, которой служит.
Глава IV
В то время как природный темперамент Наполеона, его положение и обстоятельства подстегивали его желание приблизить начало конфликта, он испытывал трудности, которые скрывал. Тысяча восемьсот одиннадцатый год прошел в разговорах о мире и приготовлениях к войне. Тысяча восемьсот двенадцатый год лишь начался, а на горизонте уже сгустились тучи. Наши армии в Испании терпели неудачи; Сьюдад-Родриго был взят англичанами (19 января 1812 года); споры Наполеона с папой стали только острее; Кутузов разбил турецкую армию на Дунае (8 декабря 1811 года); Франция была озабочена добыванием средств к существованию; короче говоря, казалось, что всё отвлекает внимание Наполеона от России, и оно должно было сосредоточиться на Франции; однако он, далеко не слепой в своих суждениях, увидел в этих противоречиях признаки всегда верной ему удачи.
Бывало, особенно длинными зимними ночами, когда люди предаются размышлениям больше обычного, что его звезда будто особенно ярко ему светила, наделяя даром предвидения; она явила ему гениев покоренных народов, молчаливо ожидающих часа мщения; опасности, с которыми ему предстояло столкнуться, и те, которые остались позади, даже в его собственной семье: что перепись населения Империи столь же обманчива, как бюллетени его армии, — не численно, а в отношении реальной силы, — мужчины, постаревшие от времени и войны, дети, но мало людей в расцвете сил. Где они? Слезы жен, крики матерей будут ответом! Печально поклонившиеся земле, которая без них останется невозделанной, они проклинают бич войны, то есть его!
Тем не менее он собирался напасть на Россию, не подчинив Испанию, забыв максиму, на которую часто ссылался как на принцип и пример: никогда не наносить удары одновременно в двух местах, но только в одном месте и всегда массированно. По какой причине он отказался от превосходного, хотя и не определенного, положения и бросился туда, где малейшее препятствие могло всё разрушить и каждая неудача могла стать решающей?
В то время никакая продиктовавшая положением необходимость и никакие соображения себялюбия не могли побудить Наполеона оспорить собственные доводы. Поэтому он стал задумчивым и взволнованным. Он собирал отчеты о фактическом состоянии европейских правительств, приказал подготовить точные и исчерпывающие записки на этот счет, а затем погрузился в их чтение: его волнение возрастало, для него всякая нерешительность была наказанием.
Его часто видели полулежащим на софе, где он по несколько часов пребывал в состоянии глубокого размышления; иногда он вскакивал, судорожно и с восклицаниями.
Воображая, что услышал свое имя, он кричал: «Кто звал меня?» Затем поднимался, ходил торопливыми шагами и, наконец, добавлял: «Нет! Несомненно, ничто пока в достаточной степени не созрело вокруг меня, даже в моей собственной семье, чтобы согласиться на такую отдаленную войну. Ее нужно отсрочить на три года!» И тут же спешно диктовал проект детальной ноты, с помощью которой император Австрии, его зять, должен был действовать как посредник между Россией, Англией и Францией.
Затем он читал инструкции, которые только что продиктовал, но не подписывал их; когда ему указывали на это обстоятельство, он часто отвечал: «Нет! Завтра утром; никогда не следует слишком торопиться: ночь — хороший советник». Затем он отдавал приказ оставить дело в тайне и указание, чтобы записку, которая напоминала бы ему об опасностях его положения, постоянно оставляли на столе. Это был неизменный предмет его консультаций, и каждый раз он обсуждал его, одобрял и повторял свои прежние выводы.
Человек, писавший эти инструкции, не знал об их участи. Известно, что примерно в это время (25 марта 1812 года) Чернышев передал новые предложения своему государю. Наполеон предложил составить декларацию о том, что тот ни прямо ни косвенно не будет способствовать восстановлению Польского королевства, и прийти к соглашению по другим спорным вопросам.
Позднее, 17 апреля, герцог Бассано (Маре) выдвинул лорду Каслри предложение об урегулировании ситуации на Пиренейском полуострове и в Королевстве обеих Сицилий; по другим вопросам предлагалось договариваться на следующей основе: обе стороны должны удержать всё, что не было отторгнуто в результате войны. Каслри ответил, что взятые обязательства и принцип добросовестности не позволят Англии вступить в переговоры, не потребовав признания Фердинанда королем Испании в качестве предварительного условия.
Двадцать пятого апреля Маре, информируя графа Румянцева об этих контактах, повторил жалобы Наполеона в отношении России: во-первых, указ от 31 декабря 1810 года, который воспрепятствовал ввозу в Россию большинства французских товаров и нарушал правила континентальной системы; во-вторых, протест Александра против оккупации герцогства Ольденбургского; в-третьих, вооружение России.
Этот министр сослался на то, что Наполеон предложил компенсацию герцогу Ольденбургскому и формальное соглашение о невозможности восстановления Польши; в 1811 году он предлагал Александру предоставить князю Куракину необходимые полномочия для ведения переговоров с Маре по всем спорным вопросам, но русский император ответил на инициативу лишь обещанием послать Нессельроде в Париж, но так его и не выполнил.
Посол России почти одновременно передал ультиматум императора Александра с требованиями полного вывода войск из Пруссии, Шведской Померании и уменьшения гарнизона Данцига. С другой стороны, он соглашался на компенсацию за герцогство Ольденбургское, готов был вести переговоры с Францией по торговым вопросам и, наконец, пообещал сделать ничего не значащие изменения указа от 31 декабря 1810 года.
Но было слишком поздно: кроме того, стороны пришли к тому, что ультиматум неизбежно ведет к войне. Наполеон слишком высоко ценил личную и национальную гордость и занимал слишком высокое положение, чтобы уступить тому, кто заявляет о готовности вести переговоры и при этом угрожает освободить Пруссию — и тем самым отдать ее в руки России, — и отказаться от Польши. Он слишком далеко зашел; он должен будет отступить, чтобы найти точку, в которой можно остановиться; в его положении Наполеон рассматривал каждый шаг назад как начало полного и окончательного падения.
Глава V
Его желания отсрочки были тщетными, и он делал смотр своим огромным вооруженным силам; ожили воспоминания о Тильзите и Эрфурте, и он с удовлетворением получал информацию о характере своего противника, которая лишь вводила его в заблуждение. Одно время он надеялся, что Александр уступит при приближении столь пугающих сил, затем пошел на поводу у своего богатого воображения; он допускал в мыслях, что можно развернуть войска от Кадиса до Казани, по всей Европе. В следующий миг его буйная фантазия уносила его в Москву. Этот город находился от него на расстоянии восьмисот лье, и он уже переваривал информацию о нем, как если бы стоял у его ворот. Французский врач, который долго жил в этой столице, известил его, что на складах и в окрестностях Москвы он найдет запасы, достаточные для поддержания его армии в течение восьми месяцев; он тут же прикрепил его к себе.
Хорошо осознавая опасность, которой собирался себя подвергнуть, он стремился окружить себя друзьями. Даже Талейран был вызван; его должны были направить в Варшаву, но подозрительность и интриги вновь навлекли на него немилость; Наполеон, обманутый искусно распространяемыми клеветническими измышлениями, поверил в его предательство. Он был крайне разгневан, проявления этого были ужасными. Савари делал напрасные попытки открыть ему глаза — вплоть до времени нашего вступления в Вильну; там этот министр вновь направил письмо Талейрана императору: оно показывало влияние Оттоманской империи и Швеции на войну в России и содержало предложение предпринять самые большие усилия в переговорах с этими двумя державами.
Наполеон ответил лишь презрительным восклицанием: «Неужели этот человек верит, что он настолько необходим? Он полагает, что будет меня учить?» Он приказал секретарю отослать письмо тому самому министру, который испытывал благоговейный страх перед Талейраном.
Неправда, что в преддверии войны, задуманной Наполеоном, все поголовно были охвачены беспокойством. И во дворце, и за его пределами были военные, которые относились к политике своего правителя с энтузиазмом. Наибольшая часть армии одобряла возможность завоевания России или потому, что они питали надежды что-то приобрести в соответствии со своим положением, или потому, что разделяли энтузиазм поляков, или считали, что экспедиция может быть успешной при предусмотрительном командовании; говоря в целом, они считали, что для Наполеона нет ничего невозможного.
Среди министров было несколько таких, которые не одобряли войну; большинство хранило молчание, а один был обвинен в лести без всякой причины. Правда, слышали, как он повторял: «Император недостаточно велик, нужно, чтобы он стал еще более великим, чтобы быть способным остановиться». В действительности этот министр был таким, каким хочет быть любой придворный: в нем жила настоящая и абсолютная вера в гений и удачу своего государя.
Впрочем, было бы неправильно приписывать его советникам большую часть наших несчастий. Наполеон не был человеком, на которого можно влиять. Как только его цель была выбрана и он начинал предпринимать шаги для ее достижения, он не признавал возражений. Казалось, не хотел слышать ничего, что не укрепляло его решительность, он сердито и с явным недоверием отвергал все донесения, которые противоречили его убежденности, как будто бы боялся быть поколебленным ими. Такой образ действия менял название в зависимости от результата: при удачном ходе дел его называли силой характера, при неудачах — одержимостью.
Зная эту особенность, некоторые подчиненные искажали истину в своих рапортах. Даже министр считал себя обязанным иногда делать это. Он преувеличивал шансы на успех, имитируя надменную уверенность своего правителя и играя роль предвестника удачи. Другой подчиненный признавался, что иногда скрывал плохие новости, чтобы избежать резкого отпора.
Этот страх, который не сдерживал Коленкура и еще нескольких людей, также не имел влияния на Дюрока, Дарю, Лобо, Раппа, Лористона и иногда даже на Бертье. Эти министры и генералы, каждый в своей сфере, не жалели императора, когда нужно было сказать правду. Если он от этого приходил в гнев, то Дюрок принимал индифферентный вид, не уступая при этом, Лобо грубо сопротивлялся, Бертье вздыхал и уходил со слезами на глазах, Коленкур и Дарю — один бледный, другой красный от гнева — отвергали страстные возражения императора, первый с пылким упорством, второй со сдержанной решительностью. Часто видели, как эти перебранки заканчивались их резкой ретирадой и громким хлопаньем дверьми.
Нужно, однако, добавить, что эти горячие споры никогда не имели плохих последствий: хорошее настроение немедленно восстанавливалось, а уважение Наполеона к этим людям увеличивалось вдвойне, поскольку они проявляли благородную искренность.
Я вхожу в эти детали, поскольку они либо не известны, либо не совсем известны, потому что Наполеон вблизи был совершенно другим человеком по сравнению с императором на публике, и его отношения со своим двором до сих пор остаются секретом. Мало было сказано об этом новом и серьезном дворе, который строго делился на группы, так что один салон не знал, что происходит в другом. Наконец, потому что трудно понять великие исторические события без точного знания характера и нравов главных персонажей.
Между тем во Франции вспыхнул голод. Всеобщая паника быстро усугубила положение; принимались обычные меры предосторожности. Алчные скоробогатеи скупили кукурузу по низкой цене и ждали, когда голод заставит покупать ее за золото. Тревога стала общей. Наполеон был вынужден отложить свой отъезд; он нетерпеливо подгонял Государственный совет, нужно было принимать важные меры, и его присутствие являлось необходимым; так война, в которой потеря каждого часа невосполнима, была отложена еще на два месяца.
Император не отступил перед этим препятствием; кроме того, задержка дала время для созревания в России нового урожая. Это обеспечит кавалерию кормом, понадобится меньше транспортных средств, что облегчит и ускорит движение армии; скоро он настигнет врага, и эта великая экспедиция, как многие другие, завершится битвой.
Таковы были его ожидания; он верил в свою счастливую судьбу и рассчитывал, что другие также находятся под влиянием этого представления; он полагал, что эта вера увеличивает его силы. По этой причине он выставлял это на первый план, когда другие средства оказывались недостаточными, не опасаясь того, что и это средство может износиться от постоянного употребления и, будучи убежденным, что его враги придают этой силе даже большее значение, чем он сам. В ходе экспедиции будет видно, что он слишком полагался на свою силу, но Александр смог его перехитрить.
Таким был Наполеон! Он был выше людских страстей и по причине своего естественного величия, и по причине того, что им двигала еще большая страсть! В самом деле, разве властители мира всегда полностью владеют собой? Кровь опять должна была пролиться; великие основатели империй, чей марш не остановят ни войны, ни землетрясения, ни бедствия, посланные Провидением, стремятся к своей цели, ощущая содействие свыше и не снисходя до того, чтобы их цели стали понятными их жертвам.
Книга III
Глава I
Время размышлений прошло, наступило время действия. Девятого мая 1812 года Наполеон, до этой минуты не знавший поражений, вышел из дворца, в который он вернется только как побежденный!
Из Парижа в Дрезден его поход был триумфальным шествием. Вначале путь лежал через восток Франции; эта часть Империи была к его услугам, она весьма отлична от запада и юга и знала Наполеона только со стороны побед и преимуществ. Солдаты блестящих и многочисленных армий, прельщенные немецким изобилием, думали о быстрой и верной победе и с гордостью проходили по этим странам, соря деньгами и покупая продукты.
Позднее, когда они читали победные бюллетени, их воображение воспламенялось этой реальностью, и их охватывал энтузиазм, как во времена Аустерлица и Йены; вокруг курьеров собирались многочисленные группы людей, полученные известия опьяняли их; они расходились с радостными криками «Да здравствует император!», «Да здравствует наша храбрая армия!».
Кроме того, хорошо известно, что эта часть Франции с незапамятных времен является воинственной. Это пограничная территория, ее жители выросли под грохот орудий, и война здесь в чести. Все здесь говорили, что война освободит Польшу, так привязанную к Франции, что азиатские варвары, угрожающие Европе, должны быть оттеснены в пустыни, откуда они вышли, и что Наполеон вновь возвратится со всеми плодами победы. Разве не восточные департаменты более всего от нее выиграют? Разве вплоть до этого времени они не были обязаны войне своим благосостоянием, поскольку вся торговля Франции с Европой проходила через их руки?
Все другие части Империи находились в блокаде, и Франция дышала и получала подпитку только через ее восточные провинции.
В течение десяти лет по их дорогам шли и шли путешественники всех рангов, спешившие выразить восхищение великой нацией, ее столицей, которая с каждым днем становилась всё краше, полюбоваться произведениями всех искусств и всех веков, собранными здесь благодаря победам, и особенно для того, чтобы выразить восхищение необыкновенным человеком, который, казалось, был предназначен для того, чтобы вознести славу нации на доселе неведомую высоту. Люди Восточной Франции всем обязаны победе, их интересы и тщеславие были удовлетворены. Благодарные, они желали императору всего наилучшего; всюду были установлены триумфальные арки и звучали одобрительные возгласы, всюду ощущалась большая преданность.
В Германии было меньше любви, но, возможно, больше уважения. Побежденные и смирившиеся немцы, частью из самолюбия, частью же из склонности к чудесному, готовы были видеть в Наполеоне сверхъестественное существо. Удивленный и точно охваченный восторгом, этот добродушный народ был увлечен всеобщим движением и старался быть чистосердечным там, где надо было только казаться таковым.
Народ стоял шпалерами по сторонам длинной дороги, по которой следовал император. Немецкие принцы покинули свои столицы и наполнили города, где должен был остановиться на несколько мгновений этот властитель их судеб. Императрица вместе с многочисленным двором сопровождала Наполеона. Он шел навстречу всем ужасным случайностям отдаленной и страшной войны так, как будто бы он уже возвращался с нее торжествующим победителем! Не так он в прежние времена отправлялся в поход!
Он желал, чтобы австрийский император, многие короли и целая толпа принцев приехали в Дрезден встретить его. Его желание было исполнено. Все сбежались туда! Одними руководила надежда, другими двигал страх. Но Наполеон хотел только убедиться в своей власти, показать ее другим и насладиться ею!
Его честолюбию льстило, что он мог демонстрировать в этом семейном собрании Германию и свое сближение с древним Австрийским домом. Наполеон думал, что такой блестящий съезд государей составит контраст с изолированным положением русского монарха и тот, быть может, испугается при мысли, что его все покинули. Словом, это собрание союзных монархов как будто указывало, что война с Россией — европейская война.
Там, в Дрездене, Наполеон находился в центре Германии. Он показывал ей свою супругу, дочь Цезарей, сидящую рядом с ним. Целые народы покинули свои места, чтобы броситься по его следам. Бедные и богатые, дворяне и плебеи, друзья и враги — все сбежались туда; толпа, любопытная и внимательная, теснилась на улицах, на дорогах и площадях. Люди проводили целые дни и ночи, не спуская глаз с дверей и окон его дворца. Но не его корона, не ранг и не блеск его двора привлекали толпы любопытных.
Все сбегались смотреть только на него, и его черты хотели сохранить в своей памяти, чтобы потом иметь возможность сказать своим менее счастливым соотечественникам, что они видели Наполеона!
В театрах поэты унизились настолько, что обожествляли его в своих произведениях, и целые народы становились его льстецами!
Короли мало отличались от простых людей в выражениях восхищения, никто не притворялся, согласие было общим. Вместе с тем внутренние чувства были очень различными.
На этом важном свидании мы внимательно наблюдали и то, как правители демонстрируют разную степень усердия, и различные оттенки нашей гордости. Мы надеялись, что его благоразумие — или притупленное желание выставлять напоказ свою власть — не позволят ему оскорблять чьи-либо чувства; но можно ли было ожидать, что в прошлом стоявший ниже этих людей, а теперь завоеватель и господин станет следовать скучным и мелким деталям протокола? Однако он проявил умеренность и даже старался быть милым, но делал это с очевидным усилием и заметной скукой. Он имел вид человека, принимающего этих правителей, а не принимаемого ими.
Можно было подумать, что эти монархи и их подданные, зная его гордость и не надеясь покорить его иначе как силами его самого, лишь унижались перед ним, чтобы обострить впечатление от его непомерного возвышения и таким образом притупить его моральное зрение. Собравшись вместе, они принимали такие позы, говорили такие слова и таким тоном, что всё это свидетельствовало о его власти над ними. Все они собрались здесь только ради него! Они едва отваживались возражать, поскольку находились под полным впечатлением его превосходства, о котором он сам очень хорошо знал. Феодальный властитель не мог иметь большей власти над своими вассалами.
Его утренний выход представлял замечательное зрелище. Владетельные принцы дожидались тут аудиенции победителя Европы. Они до такой степени смешивались с его офицерами, что эти последние часто предупреждали друг друга, чтобы быть осторожнее и как-нибудь не оскорбить этих новых царедворцев. Присутствие Наполеона уничтожало все различия: он был столько же их предводителем, сколько и нашим. Эта общая зависимость, казалось, всё уравнивала вокруг него. Однако плохо сдерживаемая военная гордость многих французских генералов, быть может, тогда-то и шокировала немецких принцев, так как французские полководцы думали, что уже возвысились до них. Ибо каковы бы ни были знатное происхождение и ранг побежденного, победитель всегда будет считать себя равным ему!
Между тем наиболее благоразумные из нас были напуганы. Они говорили, хотя и украдкой, что надо считать себя в самом деле сверхъестественным существом, чтобы безнаказанно всё исказить и переместить подобным образом, не опасаясь быть унесенным этим всеобщим водоворотом. Они видели этих монархов, выходивших из дворца Наполеона с подавленной злобой и жаждой мщения, и представляли себе, как эти государи, оставшись ночью наедине со своими министрами, изливали накопившуюся в их сердцах горечь обид, которые они должны были сносить. Всё складывалось так, чтобы усиливать их скорбь! Как была назойлива эта толпа, через которую надо было им проходить, чтобы добраться до дверей своего высокомерного повелителя! А между тем у их дверей никого не было, так как всё, даже их собственный народ, как будто изменило им! Провозглашая счастье этого властителя народов, разве не оскорбляли их, подчеркивая их несчастье? Они же сами явились в Дрезден, чтобы еще увеличить блеск торжества Наполеона! Ведь это он над ними торжествовал! Каждый восторженный возглас в его адрес заключал в себе упрек им! Его величие было их унижением, его победы — их поражением!
Вероятно, они именно так выражали свое огорчение, и с каждым днем сердца их наполнялись ненавистью всё больше и больше. Один из принцев поспешно уехал, чтобы избежать тяжелого положения. Австрийская императрица, предков которой генерал Бонапарт лишил их владений в Италии, с трудом скрывала свое отвращение к нему. Наполеон улавливал это на ее лице и, улыбаясь, заставлял ее смириться. Но она пользовалась своим умом и грацией, чтобы проникнуть в сердца других и посеять в них свою ненависть к нему.
Французская императрица, помимо своей воли, только усиливала это роковое настроение. Она затмевала свою мачеху блеском украшений, и если Наполеон требовал от нее больше сдержанности в этом отношении, то она противилась и даже начинала плакать. Наполеон уступал, может быть, из нежности к ней, или же вследствие усталости и рассеянности. Уверяют, кроме того, что, несмотря на свое происхождение, эта принцесса не раз оскорбляла самолюбие немцев бестактными сравнениями своей прежней родины с новой. Наполеон бранил ее за это, но слегка, так как этот патриотизм, который он сам внушил ей, нравился ему, и он полагал, что может загладить подарками ее неосторожное поведение.
Это собрание в Дрездене могло лишь вызывать самые разнообразные чувства. Наполеон, стараясь понравиться, полагал, что этим он удовлетворил всех. Дожидаясь в Дрездене результата движения своей огромной армии, многочисленные колонны которой еще проходили через земли союзников, Наполеон преимущественно занимался политикой.
Генерал Лористон, французский посол в Петербурге, получил приказание просить у русского императора разрешения приехать в Вильну для сообщения ему окончательных предложений Наполеона. Генерал Нарбонн, адъютант Наполеона, поехал в Главную императорскую квартиру к Александру, чтобы уверить его в мирных намерениях Франции и постараться, как говорят, заманить его в Дрезден. Архиепископ Миланский был послан, чтобы направлять порывы польского патриотизма. Саксонский король ожидал, что ему придется потерять Великое герцогство, но льстил себя надеждой получить более солидное вознаграждение.
Между тем все обратили внимание в первые же дни, что прусский король не появился при императорском дворе. Скоро, однако, сделалось известно, что вход к этому двору был ему как будто воспрещен. Этого монарх испугался сам, и тем больше, чем меньше был виноват. Его присутствие могло стеснять, но, поощряемый Нарбонном, он все-таки решился приехать. Когда сообщили о его приезде императору, тот рассердился и сначала даже отказался его принять. Что ему нужно? Достаточно уже его назойливых писем и постоянных требований! К чему еще надоедать своим присутствием? Чего он хочет? Но Дюрок настаивал. Он напомнил Наполеону, что Пруссия может понадобиться в борьбе против России, и тогда двери императора открылись для прусского короля. Его приняли с почестями, приличествующими его высокому рангу. От него были получены новые уверения в преданности, которую он, впрочем, доказал уже много раз.
Говорят, что именно тогда ему была дана надежда на получение русских балтийских провинций, куда он должен был отправить свои войска, а также что после завоевания их он должен будет просить инвеституру у Наполеона. Рассказывали еще, хотя очень неопределенно, что Наполеон предоставил прусскому наследному принцу право добиваться руки одной из своих племянниц. Ценой этих услуг Пруссия должна была оказать ему помощь в этой новой войне. Наполеон хотел, по его словам, испытать короля. Таким образом Фридрих, сделавшись союзником Наполеона, мог бы сохранить свой ослабленный престол. Но не было никаких доказательств, подтверждавших, что такого рода союз соблазнял прусского короля, подобно тому, как одна только надежда на такой союз соблазнила испанского принца.
Таким в то время было подчинение правителей власти Наполеона.
Между тем Наполеон всё еще ждал результата переговоров Лористона и генерала Нарбонна. Он надеялся победить Александра одним только видом всей своей армии и в особенности внушительным блеском своего пребывания в Дрездене. Спустя несколько дней он сам сознался в этом в Познани, отвечая генералу Дессолю: «Собрание в Дрездене не склонило Александра к миру, поэтому ждать мира можно только от войны!»
В этот день он говорил только о своих былых победах. Это выглядело так, будто он сомневался в будущем и возвращался в прошлое, считая необходимым вооружить себя самыми славными воспоминаниями, чтобы встретить большую опасность. Очевидно, что теперь Наполеон чувствовал необходимость обманывать самого себя мнимой слабостью характера противника. Поскольку время большого похода приближалось, он сомневался в его определенности, поскольку не обладал более ни сознанием своей непогрешимости, ни воинственной уверенностью, которую придают огонь и энергия молодости, ни тем инстинктом успеха, который эту определенность порождает.
Впрочем, эти переговоры были не только попыткой к миру, но и военной хитростью. Он надеялся таким путем повлиять на русских, которые окажутся либо достаточно небрежными, и силы их будут разбросаны, что даст возможность Наполеону захватить их врасплох, либо же, собрав свои силы, они станут настолько самонадеянными, что осмелятся его ждать. И в том и другом случае война кончилась бы одним решительным ударом и победой.
Но Лористон не был принят Александром.
Что же касается Нарбонна, то он не заметил у русских ни уныния, ни похвальбы. Из всего того, что говорил император, Нарбонн заключил, что там предпочитают войну постыдному миру, однако всё же русские будут остерегаться вступать в бой с таким опасным противником и сумеют принести какие угодно жертвы, чтобы затянуть войну и отбить у Наполеона охоту к ней.
Этот ответ, полученный Наполеоном в самый разгар его славы, был оставлен им без внимания. Если уж надо сказать все, то я прибавлю, что один важный русский сановник[15] тоже содействовал заблуждению императора. Думал ли он это в действительности, или же только притворялся, но этому сановнику всё же удалось убедить Наполеона, что русский император всегда отступает перед затруднениями и что неудачи легко повергают его в уныние. К несчастью для Наполеона, воспоминание об уступчивости Александра в Тильзите и Эрфурте подкрепляло это ложное мнение!
Наполеон оставался в Дрездене до 29 мая, гордясь уважением, которое он знал как отблагодарить, демонстрируя Европе принцев и королей, представителей древнейших семейств Германии, которые теперь составляли многочисленный двор правителя, возвысившего себя самостоятельно. Видимо, он наслаждался, умножая шансы в великой игре фортуны, общаясь с ними в обычной манере и приучая к ним всех, в том числе самого себя.
Глава II
Наконец, сгорая нетерпением поскорее победить русских и прекратить немецкие изъявления чувств, стеснявшие его, Наполеон покинул Дрезден. В Познани он оставался лишь столько времени, сколько это было нужно, чтобы понравиться полякам. Он не поехал в Варшаву, так как война не требовала этого, а там он нашел бы только политику. Он остановился в Торне, чтобы осмотреть его укрепления, склады и войска.
Там его ушей достигли жалобы поляков, которых наши союзники беспощадно грабили и оскорбляли. Наполеон обратился к Жерому со строгими упреками и даже угрозами. Но он понимал, что напрасно расточает их, так как действие его слов теряется среди слишком быстрого движения войск.
Притом же всякая вспышка у него быстро проходила, и тогда, поддаваясь чувству природной доброты, он сожалел о своей вспыльчивости и даже старался смягчить причиненную им неприятность. Вдобавок он мог упрекнуть себя в том, что сам был причиной беспорядков, так сильно раздражавших его. Если запасов провианта и было достаточно, и они были хорошо распределены на расстоянии от Одера до Вислы и Немана, то всё же не хватало фуража, не так легко перевозимого, и наши кавалеристы бывали вынуждены резать зеленую рожь на корню и снимать соломенные крыши с домов, чтобы дать корм лошадям. Правда, они не ограничивались только этим; но если дозволяется одно бесчинство, то как запретить другие?
А что будет на другом берегу Немана? Император рассчитывал на множество легких телег и тяжелых повозок, каждая из которых должна была перевозить груз весом в несколько тысяч фунтов[16] через песчаные территории, которые с трудом пересекают телеги с грузом в несколько центнеров. Эти транспортные средства были организованы в батальоны и эскадроны. Каждый батальон легких телег, называемых comtoises, состоял из 600 повозок и мог перевозить 6000 центнеров муки. Батальон тяжелых повозок, которые тянули быки, перевозил 4800 центнеров. Кроме того, было 26 эскадронов тяжелых повозок, перевозящих военное снаряжение, большое количество повозок с разными инструментами, тысячи артиллерийских и госпитальных повозок, материалы для ведения осады и постройки мостов.
Повозки с провиантом должны были разгружаться на складах, созданных на Висле. Когда армия проходила через эту реку, солдатам следовало запастись провизией на двадцать пять дней, не делая при этом остановки, но не поедать ее до тех пор, пока они не перейдут Неман. В итоге наибольшая часть этих транспортных средств выбыла из строя — и из-за того, что солдаты очень плохо служили в качестве проводников военных конвоев, а мотивы чести и честолюбия не способствовали поддержанию дисциплины, но главным образом потому, что повозки были слишком тяжелыми для этих дорог, расстояния слишком большими, что приводило к усталости и лишениям; несомненно, что большинство этих повозок едва достигли Вислы.
Армия сама добывала провиант во время этого марша. Страна была богатой — повозки, скот, провизия всякого рода изымались, всё буквально сметалось. Несколько дней спустя, на Немане, награбленное было брошено ввиду трудностей перехода, сопровождаемого стремительными движениями врага, и это делалось с индифферентностью, равной жестокости, с которой оно ранее захватывалось.
Однако важность цели оправдывала беспорядочность этих действий. Она заключалась в том, чтобы застать русскую армию врасплох — собранную воедино или рассредоточенную; короче говоря, взять ее в кольцо силами четырехсот тысяч солдат. Война, худшее из бедствий, будет таким образом сокращена во времени. Наши длинные и тяжелые грузовые повозки осложнили бы наши переходы. Значительно удобнее жить за счет ресурсов страны, и впоследствии мы должны компенсировать свои потери. Но излишнее зло причинялось наряду с необходимым злом, ибо кто способен остановиться во время плохого дела? Какой начальник может нести ответственность за толпу офицеров и солдат, рассеявшихся по стране для сбора провианта? Кому жаловаться? Кого наказывать? Всё делалось в ходе быстрого марша, и не было времени искать виновных и проводить расследование. Между вчерашним и завтрашним делом сколько было других дел! В то время дело, на которое обычно отводился месяц, совершалось за один день.
Некоторые начальники подавали пример, и это было соревнование в совершении дурных поступков. Здесь многие наши союзники превосходили французов. Мы были их учителями во всем, однако, копируя наши качества, они подражали нашим порокам. Непристойный и грубый грабеж повторялся вновь и вновь.
Тем не менее император хотел навести порядок среди беспорядка. Слыша обвинительные упреки со стороны двух союзных наций, он негодовал и наказывал. В его письмах мы находим: «Я отстранил от командования генералов N*** и Р***. Я пресек действия бригады У***; я сделал это перед лицом всей армии, иначе говоря, Европы. Я написал X***, информируя его, что он рискует карьерой, если будет столь безответственным». Несколько дней спустя он встретил его во главе войск и, всё еще негодуя, заявил: «Вы обесчестили себя; вы показали пример грабежа. Молчите, или возвращайтесь к вашему отцу; я больше не нуждаюсь в ваших услугах».
Из Торна Наполеон спустился по Висле. Грауденц принадлежал Пруссии, поэтому он миновал его. Эта крепость была нужна для безопасности армии. Туда были посланы один артиллерийский офицер и фейерверкеры, будто бы для изготовления снарядов.
Истинная причина так и осталась невыясненной, так как прусский гарнизон в этой крепости был довольно многочисленный и, очевидно, держался настороже. Император, прошедший мимо, больше об этом не думал.
Император снова увидел Даву в Мариенбурге. Этот маршал, из чувства искренней или напускной гордости, признавал своим главой только повелителя Европы. Еще он обладал властным, упрямым и неуступчивым характером и не сгибался ни перед обстоятельствами, ни перед людьми. В 1809 году, когда Бертье был его начальником в течение нескольких дней, Даву выиграл битву и спас армию, не послушавшись его. Отсюда возникла между ними страшная ненависть, которая еще усилилась во время мира. Но она не вырывалась наружу, пока они жили вдали друг от друга: Бертье — в Париже, а Даву — в Гамбурге; теперь же война с Россией свела их вместе.
Бертье ослабел. С 1805 года всякая война стала ему противна. Его талант заключался лишь в расторопности и памяти. Он умел получать и передавать во всякое время дня и ночи самые разнообразные донесения и приказания. Но в данном случае он счел себя вправе сам отдавать приказания. Однако эти приказания не нравились Даву, и при первом же свидании между ними возник сильнейший спор. Это случилось в Мариенбурге в присутствии императора, который только что приехал.
Даву выражался резко. Он до такой степени вышел из себя, что начал обвинять Бертье в неспособности и чуть ли не в измене. Они угрожали друг другу, и когда Бертье ушел, то Наполеон воскликнул под впечатлением подозрительности, выказанной Даву: «Мне случается иногда сомневаться в верности моих самых старых боевых товарищей, но тогда у меня мутится в голове от огорчения, и я стараюсь прогонять от себя такие ужасные подозрения!»
Даву радовался, быть может, что ему удалось унизить своего врага. Император отправился в Данциг, и Бертье, полный мстительных чувств, сопровождал его. С этого времени ни рвение Даву, ни его слава, ни его старания в пользу новой экспедиции уже не помогали ему — его начали преследовать неудачи. Император написал ему, что война должна вестись на бесплодной равнине, на которой враг будет всё разрушать, и необходимо подготовиться к такому положению вещей, обеспечив себя должным образом. Даву ответил перечислением своих подготовительных мероприятий, что он имеет 70 тысяч солдат, полностью организованных; они несут с собой двадцатипятидневные запасы провизии. Каждая воинская единица имеет пловцов, каменщиков, хлебопеков, портных, сапожников, оружейных мастеров, то есть работников всех категорий. Они несут всё необходимое с собой; его армия словно колония; ручные мельницы также имеются. Он предусмотрел каждую потребность, все средства подготовлены.
Такие великие усилия должны радовать, однако они были представлены в ложном свете и не понравились. Император ответил едкими замечаниями. «Этот маршал, — сказал он, — хотел бы думать, что он предусмотрел, организовал и выполнил буквально всё. Получается, что после этого император — не более чем свидетель его экспедиции? Ее слава перейдет к Даву?»
Они пошли еще дальше и вспомнили забытые подозрения: разве это не тот самый Даву, который после победы при Йене увлек императора в Польшу? Разве он теперь не желал Польской войны? Он, который уже является крупным собственником в этой стране, покорил поляков своей суровой неподкупностью и стремится занять их трон?
Трудно сказать, была ли гордость Бонапарта уязвлена тем, что его подчиненные посягают на его права, или причина в том, что в ходе ведущейся не по правилам войны методичный гений Даву его всё больше раздражал, но дурное впечатление усиливалось и имело роковые последствия: оно лишило его доверия отважного, стойкого и благоразумного воина и поощряло склонность Наполеона к Мюрату, который больше оправдывал его ожидания.
Впрочем, такие раздоры между маршалами скорее даже нравились Наполеону, который извлекал из них полезные сведения. Их согласие, пожалуй, могло его встревожить.
Из Данцига 12 июля император отправился в Кёнигсберг; там был закончен обзор гигантских складов и второго пункта для отдыха, находящегося на линии военных действий. Там были собраны запасы продовольствия — такие же громадные, как и то предприятие, для которого они предназначались.
Никакие мелочи не были упущены. Деятельный и пылкий гений Наполеона был всецело поглощен тогда продовольственным вопросом — важной и наиболее трудной частью своей экспедиции. Он делал указания, отдавал приказы и не жалел денег. Его письма доказывают это. Целые дни диктовал он инструкции, касающиеся этого предмета, и даже вставал ночью, чтобы повторить их. Один генерал получил от него за день шесть подобных депеш!
В одной из них содержалась такая фраза: «Если не будут приняты предосторожности, то для передвижения таких масс не хватит верховых животных ни в одной стране». В другой депеше он указывал: «Необходимо пустить в дело все фургоны и наполнить их мукой, хлебом, рисом, овощами и водкой, плюс всё, что нужно для походных лазаретов. Результат всех моих движений должен соединить в одном пункте четыреста тысяч человек. Тогда уже нечего будет надеяться на страну пребывания, надо всё иметь с собой».
Глава III
Наполеон собрал свои войска в Польше и в Восточной Пруссии, от Кёнигсберга до Гумбиннена. К концу весны 1812 года он уже сделал смотр многим армиям, обращаясь с веселым видом к солдатам и говоря с ними в обычном чистосердечном и подчас даже резком тоне.
Он знал, что в глазах этих простых и огрубевших людей резкость сходит за откровенность, грубость — за силу, а высокомерие считается благородством. Щепетильность и тонкость обращения, заимствованные из салонов, кажутся им слабостью и трусостью. Для них это чуждый язык, которого они не понимают и который кажется им смешным.
Согласно своему обычаю, Наполеон проходил перед рядами военных. Он знал, в каких войнах участвовал каждый из полков вместе с ним, и поэтому останавливался возле самых старых солдат.
Одному он напомнил битву у пирамид, другим — Маренго, Аустерлиц, Вену или Фридланд. Ветеран, слыша ласковое слово и думая, что император узнал его, чувствовал себя возвеличенным в глазах своих более молодых товарищей, которые должны были завидовать ему!
Продолжая обходить ряды, Наполеон не оставлял без внимания и самых молодых солдат. Казалось, что всё, касающееся их, интересует его. Он знал все их нужды и спрашивал: заботятся ли о них их капитаны? Уплачено ли им жалованье? Всё ли у них есть? И выражал желание осмотреть их ранцы.
Наконец, Наполеон останавливался в центре полка, справлялся о вакантных местах и громко спрашивал: кто больше других достоин повышения? Призвав к себе тех, на кого ему указали, он задавал им вопросы. Сколько лет службы? Какие делали походы? Какие раны получены? В чем отличились? После этого он их производил в офицерский чин и в своем присутствии заставлял тотчас же принять новичков в полк, указывая, как это сделать, — мелочи, которые восхищают солдат.
Они говорили себе, что этот великий император, который о нациях судит в массе, к ним, солдатам, относится иначе и обращает внимание на мельчайшие касающиеся их подробности. Они-то и составляют его самую старинную и самую настоящую семью! И вот таким путем он заставлял их любить войну, славу и себя!
Между тем армия продвигалась от Вислы к Неману. Эта река от Гродно до Ковно течет параллельно Висле. Река Преголя, соединяющая их, использовалась для доставки провианта: 220 тысяч солдат прибыли сюда из четырех различных мест и нашли здесь хлеб и фураж. Провизию сплавляли вверх по реке, насколько это было возможно.
Когда армия вынуждена была покинуть флотилию, солдаты взяли с собой достаточное количество провианта: это позволяло им достичь и пересечь Неман, подготовиться к битве и прибыть в Вильну. В этом месте император рассчитывал на местные склады, на запасы врага и свои ресурсы, которые по его приказу должны были доставляться из Данцига.
Мы уже коснулись русской границы. Армия расположилась перед Неманом, справа налево, или с юга на север. На крайнем правом фланге, от Галиции к Дрогичину, находилось 34 000 австрийцев с князем Шварценбергом во главе. С левого фланга, от Варшавы к Белостоку и Гродно, — король Вестфалии (Жером) с 79 200 вестфальцами, саксонцами и поляками. Рядом с ними — вице-король Италии (Евгений), стягивавший к Мариенполю и Пилонам 79 500 баварцев, итальянцев и французов. Затем император с 220-тысячным войском, которым командовали король Неаполитанский (Мюрат), князь Экмюльский (Даву), герцоги Данцигский (Лефевр), Истрийский (Бессьер), Реджио (Удино) и Эльхингенский (Ней). Они шли из Торна, Мариенвердера и Эльбинга и 23 июня двинулись общей массой к Ногаришкам, в одном лье от Ковно. Наконец, Макдональд, с 32 500 пруссаками, баварцами и поляками, образовывал перед Тильзитом крайнюю левую часть Великой армии. От берегов Гвадалкивира и Калабрии и до самой Вислы были стянуты 617 000 человек, из которых налицо уже находились 490 000, затем шесть телег с понтонами и одна телега с принадлежностями для осады, множество возов с провиантом, бесчисленные стада быков, 1372 пушки и множество артиллерийских повозок и лазаретных фургонов — всё это собралось и расположилось в нескольких шагах от русской реки.
Шестьдесят тысяч австрийцев, пруссаков и испанцев готовы были пролить свою кровь ради победителя при Ваграме и Йене и покорителя Мадрида, человека, который четырежды сокрушал Австрию, покорил Пруссию и овладел Испанией. Пока что все были ему верны.
Когда стало ясно, что треть армии Наполеона представляет собой силу чуждую или враждебную ему, то не знали, чему больше удивляться, — храбрости одних или измене других.
Что касается французов, то все мы были полны энтузиазма. Сила привычки, любопытство и сладостное желание вновь стать победителями возбуждали солдат; тщеславие было великим стимулом молодых, которые жаждали приобрести славу, о которой они будут рассказывать в минуты отдыха немного напыщенно и помпезно и с милыми преувеличениями, свойственными солдатам. К этому следует добавить ожидания грабежа. Честолюбивый и суровый Наполеон не терпел беспорядков, поскольку они порочили его славу. В этом отношении необходим компромисс, и с 1805 года налицо было взаимопонимание: он закрывал глаза на грабеж, солдаты терпели его амбиции.
Грабеж и мародерство касались съестных припасов, которые ввиду провалов системы снабжения приходилось отнимать у местных жителей; это часто делалось в совершенно необузданной манере. Самыми злостными грабителями были отставшие солдаты, которых всегда бывает много во время форсированных маршей. К этим беспорядкам относились нетерпимо. Для обуздания грабителей Наполеон оставлял жандармов и летучие отряды на пути следования армии; когда эти отставшие солдаты воссоединялись со своими корпусами, их ранцы проверялись офицерами или, как при Аустерлице, их товарищами по оружию; здесь вершилось строгое правосудие.
Правда, что новобранцы были слишком юными и слабыми, однако армия по-прежнему имела множество храбрых и опытных солдат, привычных к тяжелым условиям; ничто не могло испугать этих воинов. Их можно было узнать с первого взгляда по выправке; война была их прошлым и их будущим, они говорили только о ней. Их офицеры были достойны их, или по крайней мере становились таковыми, ведь чтобы сохранить авторитет начальника над такими людьми, нужно либо продемонстрировать свои раны, либо рассказать о своих подвигах.
Такой была в то время жизнь этих людей; всё становилось действием, и даже слова. Эти люди часто излишне хвастались, но даже это имело свои преимущества: они должны были постоянно подтверждать слова делом и быть теми, кем представлялись. Это особенно касалось поляков: они хвастались, но не более того, на что на самом деле способны. Да, Польша — нация героев! Они ручались, что совершат невероятные подвиги, но затем с честью держали слово, хотя поначалу это не казалось ни реальным, ни даже возможным.
Что касается старых генералов, то некоторые из них более не были отважными и простыми воинами Республики; заслуги, усталость, возраст и император размягчили их. Наполеон заставил их жить в роскошном стиле собственным примером и своими приказами, считая такой стиль жизни средством влияния на массы. Возможно, что это обстоятельство не давало им возможности сосредоточить в своих руках больше собственности, что сделало бы их независимыми; поскольку он был источником богатств, то делал так, чтобы они вынуждены были вновь обращаться к нему за помощью, и тем самым удерживал их в сфере своего влияния. Он загонял их в круг, из которого трудно было выбраться, вынуждая их всё время пребывать в состоянии нужды или становиться расточительными, чтобы вновь впасть в нужду, от которой мог спасти только он.
Несколько генералов не имели ничего, кроме своих назначений, что приучило их к простой жизни, вне которой они себя не мыслили. Если он дарил им земельную собственность, то она не была защищена и могла сохраняться только благодаря войне.
Чтобы удерживать их в зависимости, Наполеон, который был кумиром своего века и творцом истории, распределял всеми желанную славу: для одних она являлась привычкой, для других страстью, но она всегда была достаточным стимулом для всех. Хотя он назначал высокую цену за эту славу, никто не отвергал его условий; всякий устыдился бы признать собственную слабость в присутствии великого и сильного человека, чьи амбиции продолжали расти.
Кроме того, популярность этой большой экспедиции была очень велика; ее успех не вызывал сомнений, она представлялась лишь военным маршем до Петербурга и Москвы. Вероятно, это будет последнее усилие, после чего его войны закончатся. Всякий раскаялся бы, упустив эту возможность; он расстроился бы, услышав славные рассказы участников. Новые победы заставляют состариться все вчерашние! А кто хотел бы состариться?
В самом деле, когда пламя войны всячески разжигается, как можно ее избежать? Воображение рисует сцены будущих военных действий, которые не оставляют равнодушным; сам Наполеон будет командовать; если в другом месте командует другой командир, то достигнутый вместе с ним успех будет чем-то чуждым в отношении Наполеона, от которого тем не менее зависит слава, богатство, буквально всё; поэтому было совершенно ясно, что именно он распределяет блага среди тех, чья слава тождественна его славе, и не столь щедро награждает за подвиги, совершенные не под его началом. Стало быть, обязательно служить в армии, которой он командует, — отсюда страстное желание молодых и старых заполнить ее ряды. Какой правитель в истории имел так много средств влияния? Нет таких надежд, которым он не мог бы польстить, желаний, которые он не мог бы вызвать и удовлетворить.
Наконец, мы любили его как товарища и соратника, как правителя, ведущего нас к славе. Удивление и восхищение, вызываемые им, льстили нашему себялюбию.
Что касается молодой элиты, которая в те времена славы заполняла наши лагеря, то ее энтузиазм был естественным. Были ли среди нас такие, которые в молодости не вдохновлялись описаниями воинственных подвигов древних и наших предков? Разве в ту пору все мы не хотели стать героями, чью настоящую или воображаемую историю мы читали? Если в это время энтузиазма картины прошлого неожиданно возникали перед нами, если наши глаза вместо книг видели, как происходят подобные чудеса, если мы чувствовали, что поле действия находится в пределах нашей досягаемости и мы можем быть рядом с теми храбрыми паладинами, чьи полные приключений жизни и блестящая слава являются предметами зависти для нашего юного и живого воображения, то кто бы из нас колебался? Кто бы не ринулся вперед, полный радости и надежды, презрев гнусный и постыдный покой?
Такими были подрастающие поколения той эпохи, в которую каждый мог проявить честолюбие! Эпохи опьянения и процветания, когда каждый французский солдат, господин по праву победы, считал себя выше дворянина или даже правителя, чьи земли он проходил! Ему казалось, что все короли Европы правят исключительно с позволения его правителя и его воинов.
Бывало так, что привычка удерживала одних, внушала отвращение другим во время лагерной службы, новизна вызывала желание завоевать славу, но всё двигалось благодаря соперничеству. В общем, верили в предводителя, которому всегда сопутствовала удача, и надеялись на скорую победу, которая окончит войну одним ударом и вернет нас к домашним очагам; для всей армии Наполеона война часто была не более чем единственной битвой, или коротким, блестящим путешествием.
Теперь они готовились вести такую войну на краю Европы, где европейские армии никогда не бывали. Они собирались соорудить геркулесовы столпы. Величие предприятия: выступление всей союзной Европы, впечатляющая военная машина — армия численностью 400 тысяч пехотинцев, 80 тысяч лошадей.
Состав армии был хорошим, а каждая хорошая армия хочет воевать.
Книга IV
Глава I
Наполеон, довольный своими приготовлениями к войне, выпустил декларацию: «Солдаты! Вторая Польская война начата. Первая закончилась во Фридланде и Тильзите. В Тильзите Россия поклялась в вечном союзе с Францией и клялась вести войну с Англией. Теперь она нарушает свою клятву. Она не хочет дать никакого объяснения своего странного поведения, пока французские орлы не перейдут обратно через Рейн, оставляя наших союзников на ее волю. Рок влечет за собой Россию: ее судьбы должны свершиться. Считает ли она нас выродившимися? Разве мы уже не солдаты Аустерлица? Она нас ставит перед выбором: бесчестье или война. Выбор не может вызвать сомнений. Итак, вперед, перейдем через Неман, внесем войну на ее территорию! Вторая Польская война будет славной для французского оружия, как и первая. Но мир, который мы заключим, будет обеспечен и положит конец гибельному влиянию, которое Россия уже пятьдесят лет оказывает на дела Европы».
Этот тон, в то время казавшийся пророческим, придавал экспедиции почти мифический характер. Позволительно было взывать к Судьбе и верить в ее силу, когда земная судьба столь многих человеческих существ и столь великая слава вверялись ее милости.
Император Александр также выступил перед своей армией, но в совершенно другой манере. Различия между двумя нациями, двумя правителями и их положениями видны в этих прокламациях. В самом деле, прокламация обороняющейся стороны не приукрашена и умеренна, а другая полна отваги и уверенности в победе. Первая ищет поддержки в религии, вторая в роке, одна — в любви к своей родине, другая — в любви к славе; но ни одна не говорит об освобождении Польши, что являлось настоящей причиной конфликта.
Мы шли на восток, наш левый фланг двигался на север, а правый фланг — на юг. Справа от нас Волынь призывала нас в своих молитвах; в центре были Вильна, Минск, вся Литва и Самогития; перед нашим левым флангом Курляндия и Ливония молча ждали своей участи.
Армия Александра, состоявшая из 300 000 солдат, держала эти провинции в страхе. Наполеон вел наблюдение с берегов Вислы, из Дрездена, из самого Парижа. Он установил, что центр русской армии под командованием Барклая занял позиции от Вильны и Ковно до Лиды и Гродно, упираясь справа в Вилию, а слева в Неман.
Эта река защищает русский фронт своим изгибом, который она делает от Гродно до Ковно; только между этими двумя городами Неман, устремляясь на север, пересекает линию нашей атаки, и служит границей Литвы. Перед тем как достичь Гродно и после Ковно она течет на запад.
К югу от Гродно расположился Багратион с 65 тысячами солдат, к северу от Ковно — Витгенштейн с 26 тысячами солдат.
Между тем другая армия численностью 50 тысяч солдат, называемая резервом, собралась в Волыни, чтобы держать эту область под контролем и наблюдать за Шварценбергом; ею командовал Тормасов; Бухарестский договор позволял Чичагову и наибольшей части армии в Молдавии присоединиться к ней.
Александр и его военный министр Барклай-де-Толли командовали всеми вооруженными силами. Они были разделены на три армии: 1-ю Западную под командованием Барклая, 2-ю Западную под командованием Багратиона и резервную армию под командованием Тормасова. Были сформированы два других корпуса: один в Мозыре, в окрестностях Бобруйска, другой в Риге и Динабурге. Резервы стояли в Вильне и Свенцянах. Кроме того, большой укрепленный лагерь был построен перед Дриссой, в изгибе Двины.
Французский император считал, что эта позиция за Неманом не являлась ни наступательной, ни оборонительной и что русская армия в лучшем случае была способна организовать отступление; что эта армия, будучи разбросана на большом пространстве протяженностью в шестьдесят лье, может быть застигнута врасплох и рассеяна, что впоследствии и произошло.
Дохтуров и Багратион были уже отрезаны от этой линии; вместо того чтобы оставаться вместе с Александром, перед дорогами, ведущими к Двине, и с выгодой защищать их, они заняли позиции в сорока лье вправо.
По этой причине Наполеон разделил свои силы на пять армий. Шварценберг, наступая из Галиции с 30 тысячами австрийцев (он имел приказы преувеличивать их число) держал Тормасова под контролем и отвлекал внимание Багратиона на юг; Жером с 80 тысячами солдат наступал на армию этого генерала с фронта в направлении Гродно, поначалу не оказывая на нее сильного давления; Евгений готов был занять позицию между Багратионом и Барклаем; наконец, на крайнем левом фланге Макдональд, быстро наступая от Тильзита, вторгся на север Литвы и напал на правый фланг Витгенштейна; Наполеон должен был форсированными маршами двигаться на Ковно, на Вильну и на своего врага, чтобы разгромить его.
Если бы российский император отступил, Наполеон намеревался оттеснить его к Дриссе и к центру его операционной линии; затем, двинув свои силы направо, он окружил бы Багратиона и все корпуса левого фланга русских, которые были бы отделены от правого фланга столь быстрым вторжением.
Я дам краткую сводку операций наших флангов, затем вернусь в центр и опишу великие события, происходившие там.
Макдональд командовал левым флангом; его наступление угрожало правому флангу русских, Ревелю, Риге и даже Петербургу. Вскоре он достиг Риги и принес войну под ее стены. Операция имела малое значение, но выполнялась Макдональдом искусно, осмотрительно и со славою; так было даже во время отступления, причинами которого были не зима и не враг, но приказы Наполеона.
Что касается правого фланга, то император рассчитывал на поддержку Оттоманской империи, но не получил ее. Он сделал вывод, что русская армия Волыни будет следовать общему направлению движения армии Александра, то есть отступать. Тормасов действовал иначе и наступал на наш тыл. Французская армия должна была иметь прикрытие. Сорок тысяч саксонцев, австрийцев и поляков оставались там в качестве обсервационной армии.
Тормасов был бит, но другая армия, освободившаяся благодаря договору в Бухаресте, прибыла и соединилась с остатками первой армии. С этого момента война здесь стала оборонительной. Она велась неэнергично, как и можно было ожидать, хотя польские части и французский генерал были оставлены вместе с австрийцами.
Ни одна из сторон не добилась решающего преимущества. Позиция этого корпуса, почти целиком австрийского, становилась всё более важной во время отступления Великой армии.
Глава II
Великая армия, находившаяся между этими флангами, двигалась к Неману тремя отдельными массами. Жером с 80 тысячами человек направлялся к Гродно, принц Евгений с 75 тысячами двигался к Пилонам, а Наполеон с 220 тысячами человек — к Ногаришкам, находящимся в трех лье от Ковно.
Двадцать третьего июня, до наступления рассвета, императорская колонна уже достигла Немана, хотя еще не видела его. Опушка огромного прусского леса в Пильвишках и окаймляющие реку холмы скрывали армию, готовую уже перейти реку.
Наполеон, приехавший туда в экипаже, уже в два часа ночи сел на лошадь и под покровом темноты собрался перейти русскую реку. (Пять месяцев спустя он сможет перейти ее тоже только благодаря темноте!) Когда он подъехал к берегу, лошадь вдруг споткнулась и сбросила его на песок. Чей-то голос крикнул: «Это плохое предзнаменование! Римлянин отступил бы непременно!..» Неизвестно, впрочем, кто произнес эти слова, он сам или кто-то из его свиты.
Произведя смотр войскам, он приказал, чтобы под вечер следующего дня три моста были перекинуты через реку, возле деревни Понемунь. Затем он вернулся на свою стоянку и провел весь этот день частью в своей палатке, частью в одном польском доме, где тщетно искал отдыха, лежа в душной и жаркой комнате.
Как только настала ночь, он отправился к реке.
Прежде всех ее переплыли на лодке несколько саперов. Изумленные, они пристали к русскому берегу и высадились на него без всяких препятствий. Там они нашли мир, война была только на их стороне. Всё было тихо и спокойно в этой чужой стране, которую им рисовали такими мрачными красками!
Однако к ним скоро подъехал простой казачий офицер, командовавший патрулем. Он был один и, казалось, думал, что мир не нарушен.
По-видимому, он не знал, что перед ним находится вся армия Наполеона, и спросил у этих чужестранцев, кто они такие.
— Французы! — последовал ответ.
— Что вам нужно, — осведомился русский офицер, — и зачем вы пришли в Россию?
Один из саперов ответил ему резко:
— Воевать с вами! Взять Вильну! Освободить Польшу!..
Казак удалился и исчез в лесу. Трое наших солдат, в приступе рвения, произвели в него несколько выстрелов. Слабый звук этих выстрелов, на которые никто не ответил, стал для нас знаком, что открывается новая кампания и великое нашествие уже началось.
Была ли это просто осторожность или же предчувствие, но только императора очень рассердил этот первый сигнал войны.
Триста стрелков тотчас же переплыли реку, чтобы защищать постройку мостов. Потом из долин и лесов вышли все французские колонны. Безмолвно продвигались они к реке, покровительствуемые глубокой темнотой. Чтобы распознать их, надо было к ним прикоснуться. Разводить огонь было запрещено, не разрешалось даже высекать искры. Отдыхали с оружием в руке, точно в присутствии врага; зеленая рожь, мокрая от обильной росы, служила постелью людям и кормом лошадям.
Ночь и холод, не дававшие заснуть, темнота, удлинявшая часы и усиливавшая беспокойство, мысли об опасностях завтрашнего дня — всё это делало положение серьезным. Но ожидание великого дня поддерживало бодрость. Было прочитано воззвание Наполеона, шепотом повторялись наиболее замечательные фразы его прокламации. Гений победы воспламенял наше воображение.
Перед нами была русская граница. Сквозь ночную темноту жадные взгляды старались разглядеть эту обетованную землю нашей славы. Нам казалось, что мы уже слышали радостные крики литовцев при приближении их освободителей. Мы рисовали себе эту реку, с берегов которой протягивались к нам руки с мольбой. Здесь мы во всем терпим недостаток, а там у нас всего будет вдоволь. Они позаботятся о наших нуждах! Мы будем окружены любовью и благодарностью. Какое значение имеет одна плохая ночь? Скоро настанет день, а с ним вернется тепло и все иллюзии!..
День настал!.. Мы увидели бесплодные пески, пустынную местность и мрачные, угрюмые леса. Наши взоры грустно обратились тогда на нас самих, и при виде внушительного зрелища, которое представляла наша соединенная армия, мы почувствовали, что в душе снова пробуждаются гордость и надежда…
В трехстах шагах от реки, на самом высоком месте, виднелась палатка императора. Вокруг нее все холмы, все склоны и долины были покрыты людьми и лошадьми. Как только встало солнце, немедленно был дан сигнал к выступлению, тотчас же эта масса пришла в движение и, разделившись на три колонны, направилась к трем мостам. Видно было, как эти колонны извивались, спускаясь по небольшой равнине, которая отделяла их от Немана, и приближались к реке, чтобы, перейдя ее, достигнуть, наконец, чужой земли, которую они собирались опустошить, но которую вскоре сами должны были усеять своими останками!
Горячность, охватившая их, была так велика, что две дивизии авангарда, оспаривая друг у друга честь первыми вступить на чужой берег, начали драку, и только с трудом удалось успокоить их. Наполеон торопился ступить ногой на русскую землю. Без малейшего колебания сделал он этот первый шаг к гибели! Он держался сначала около моста, поощряя солдат своим взглядом. Все приветствовали его обычными возгласами. Солдаты казались даже более воодушевленными, чем он, — может быть, оттого, что такое гигантское нашествие всё же лежало бременем на его душе, а может, потому что его ослабленный организм не выносил чрезмерной жары.
Наконец его охватило нетерпение. Он быстро проехал через равнину и углубился в лес, окаймлявший реку, а затем помчался со всею быстротой, на какую только была способна его лошадь, и, казалось, в своей горячности хотел один настигнуть врага. Он проехал больше лье в одном направлении, но не встретил никого, и в конце концов ему пришлось вернуться к мостам, откуда он уже двинулся с гвардией, направлявшейся к Ковно.
Казалось, уже доносился гром пушек; мы прислушивались, продолжая идти, и старались угадать, где происходит сражение. Но, за исключением нескольких отрядов казаков, ни в этот, ни в следующие дни мы не встретили никого, и только небо было нашим врагом. В самом деле, не успел император перейти реку, как в воздухе пронесся какой-то глухой шум. Вскоре начало темнеть, поднялся ветер, и до нас донеслись раскаты грома. Это угрожающее небо и окружающая нас пустынная местность, где мы не могли найти убежища, нагнали на нас уныние. Многие из тех, кто раньше был охвачен энтузиазмом, испугались, видя в этом роковое предзнаменование.
Правда, эта гроза была такая же величественная, как и всё предприятие. В течение нескольких часов темные тяжелые тучи, сгущаясь, нависали над всей армией, от правого до левого фланга, на пространстве пятидесяти лье. Они угрожали ей огнем и обрушивали на нее потоки воды. Поля и дороги были залиты водой, и невыносимый зной сразу сменился неприятным холодом. Десять тысяч лошадей погибли во время этого перехода и на бивуаках. Огромное количество повозок было покинуто в песках, и много людей умерло потом.
Император нашел убежище в монастыре, где он укрылся от грозы. Но вскоре выехал оттуда в Ковно, где царил полнейший беспорядок. К раскатам грома уже перестали прислушиваться. Эти грозные звуки, раздававшиеся над нашими головами, были как будто позабыты. Если в начале это явление, столь обычное в такое время года, и могло повлиять на некоторые суеверные умы, то всё же для большинства уже миновал период предзнаменований. Остроумный скептицизм одних, грубость и беззаботность других, земные страсти и настоятельные нужды — всё это заставляло людей отводить свои взоры от неба. Среди царившего крутом беспорядка армия видела в этой грозе обычное природное явление, случившееся некстати, вместо того чтобы смотреть на него как на знамение, осуждающее наше гигантское нашествие. Поэтому гроза служила лишь поводом к раздражению против судьбы и неба.
В этот день ко всеобщему испытанию, выпавшему на долю армии, присоединилось еще особенное несчастье. Наполеон после Ковно был очень рассержен тем, что в Вильне, где казаки разрушили мост, Удино наткнулся на сопротивление. Наполеон сделал вид, что презирает это — как все, что составляло ему препятствие, — и приказал польскому эскадрону своей гвардии переплыть реку. Это отборное войско бросилось туда без всякого колебания.
Вначале они шли строгим порядком, а когда глубина увеличилась и они уже не достигали дна, то удвоили усилия и вскоре вплавь достигли середины реки. Но там сильное течение разъединило их, лошади перепугались, уклонились в сторону, и их стало уносить течение. Они уже перестали плыть и просто старались удержаться на поверхности воды. Всадники выбивались из сил, тщетно пытаясь заставить лошадей плыть к берегу. Наконец они покорились своей участи. Их гибель была неизбежна, но они пожертвовали собой перед лицом своей родины, ради нее и ее освободителя! Напрягая последние силы, они повернули голову к Наполеону и крикнули: «Да здравствует император!» Трое из них, еще держа голову над водой, повторили этот крик и затем исчезли в волнах. Армия застыла от ужаса и восхищения перед этим подвигом.
Что касается Наполеона, то он быстро отдал приказания, точно указывая, что надо делать, чтобы успеть их спасти. Он даже не казался взволнованным — оттого ли, что привык подавлять свои чувства, или потому, что считал всякие проявления подобных чувств на войне неуместной слабостью, пример которой он не должен был подавать. Возможно, впрочем, что он предвидел гораздо большие несчастья, перед которыми такой случай был сущим пустяком.
Из Ковно Наполеон прошел за два дня к ущельям, защищающим равнину Вильны. Там он ждал донесений от своих аванпостов и надеялся, что Александр будет оспаривать у него столицу. Звуки выстрелов, казалось, подтверждали эту надежду, как вдруг пришли ему объявить, что вход в город открыт. Он двинулся туда, озабоченный и недовольный. Он обвинял генералов авангарда, что они выпустили русскую армию. Этот упрек был обращен к Монбрену как к наиболее активному из них, и Наполеон так вспылил, что даже пригрозил ему. Однако это были слова и гнев без всяких последствий. Вспышка у такого человека, как Наполеон, заслуживает не столько порицания, сколько внимания — как доказательство, какое огромное значение он придавал быстрой победе.
Однако, несмотря на свою вспыльчивость, он обдумал все нужные распоряжения для своего вступления в Вильну. Впереди него и за ним следовали польские полки! Больше занятый мыслью об отступлении русских, нежели восторженными и благодарными криками литовцев, он быстро прошел через город и отправился к своим аванпостам. Несколько лучших гусаров 8-го полка, вступив в схватку в лесу и не имея поддержки, только что погибли в бою с русской гвардией; Сегюр[17], который командовал ими, отчаянно защищался и пал, покрытый ранами.
Враг сжег мосты и свои склады и отступал по разным дорогам в направлении Дриссы. Наполеон приказал собрать все, что не было уничтожено огнем, и восстановить коммуникации. Он послал Мюрата и его кавалерию следовать за Александром. Затем он направился во дворец Александра в Вильне. Там его ждали развернутые карты, донесения и толпа офицеров. Он находился на театре военных действий в момент самых активных операций; он должен был принимать быстрые и срочные решения, давать приказы о движениях войск, создании госпиталей, складов и операционных линий.
Его задача состояла в том, чтобы задавать вопросы, читать и сравнивать, чтобы найти и понять истинное положение дел, — то, что спрятано среди тысячи противоречивых ответов и донесений.
Но это не всё: находившийся в Вильне Наполеон должен был организовать новую власть, управлять Европой, Францией и вести войну в Испании. Его политическая, военная и административная корреспонденция, накопившаяся за несколько дней, настоятельно требовала внимания. Он обосновался в своем жилище и вначале рухнул на кровать — не столько ради сна, сколько для спокойного размышления; затем он резко поднялся и начал быстро диктовать приказы, которые обдумал.
В это время поступили донесения из Варшавы и австрийской армии. Дискуссии при открытии польского сейма не понравились императору, и он воскликнул, отбросив только что прочитанное: «Это французский язык! А должен быть польский!» Что касается австрийцев, то было совершенно ясно, что во всей их армии ему не на кого положиться, кроме главнокомандующего.
Глава III
Между тем всё способствовало разжиганию литовского патриотизма, который еще дышал. С одной стороны, поспешное отступление русских и присутствие Наполеона, с другой — клич независимости, доносившийся из Варшавы, и особенно вид польских героев, вернувшихся освободителями на землю, с которой они ранее были изгнаны. Первые дни были исключительно радостными, счастье и доверие казались всеобщими.
Эти чувства проникали и проявлялись повсюду — в домах и на площадях. Люди поздравляли и обнимали друг друга при встрече; пожилые мужчины являлись одетыми в старые костюмы, воскрешая идеи полузабытой славы и независимости. Они рыдали от счастья при виде национальных флагов, которые вновь реяли над головами людей, шедших толпами и выкрикивавших приветствия. Этот энтузиазм, который у одних был бездумным, а у других лишь свидетельствовал об их возбужденном состоянии, вскоре угас.
С другой стороны, поляки Великого герцогства всегда были исполнены самого благородного энтузиазма: они были достойны свободы, ради которой жертвовали собственностью, а ведь наибольшая часть человечества поступает наоборот. Они себя не обманывали: Варшавский сейм преобразовался в общую конфедерацию и провозгласил восстановление Польского королевства; были выпущены декларации: об объединении Польши, обращение к полякам, служившим в русской армии, с призывом покинуть Россию; общую конфедерацию должен был представлять Совет; были приняты решения о поддержании установленного порядка, послана депутация королю Саксонии, направлен адрес Наполеону.
Сенатор Выбицкий представил ему этот адрес в Вильне. Он сказал ему, что поляки были побеждены не миром или войной, но предательством; они свободны в своем праве перед Богом и людьми, и поскольку таково положение де-факто, то это право становится обязанностью; они провозглашают независимость своих собратьев литовцев, которые до сих пор являются рабами, и предлагают себя польской нации в качестве центра общего объединения; но именно у того, кто вписывает свою историю в летопись веков, кто является носителем силы Провидения, они ищут поддержки своих усилий, которые он не может не одобрить; именно поэтому они пришли просить Наполеона Великого произнести эти немногие слова: «Пусть королевство Польша существует!»
Наполеон ответил:
«Господа депутаты Польской конфедерации, я с интересом выслушал ваше сообщение. Поляки! Я стал бы думать и действовать, как вы, я проголосовал бы, как вы, в Варшавском сейме: любовь к родине — главная добродетель цивилизованного человека.
Мое положение заставляет меня примирять интересы многих и исполнять многие обязательства. Если бы я правил во времена первого, второго и третьего разделов Польши, я вооружил бы весь мой народ, чтобы поддержать вас. Как только мне позволила победа, я поспешил восстановить ваши древние законы в столице и в части ваших провинций, но не с тем, чтобы продолжать войну и вынуждать моих подданных проливать кровь.
Я люблю ваш народ; уже шестнадцать лет ваши солдаты сражаются бок о бок со мной на полях Италии и на полях Испании.
Я приветствую всё, что вы сделали и собираетесь сделать; я сделаю всё от меня зависящее, чтобы содействовать выполнению ваших решений.
Если ваши усилия будут единодушны, вы можете надеяться на то, что ваши враги признают ваши права; но вы должны возлагать все надежды на единодушные усилия всего населения.
Я говорил вам о том же, когда был у вас в первый раз; теперь же я должен добавить, что обещал императору Австрии целостность его земель и не смогу разрешить никаких маневров и движений, которые станут угрожать его мирному обладанию остатками польских провинций. Пусть Литва, Жмудь, Витебск, Полоцк, Могилев, Волынь, Украина и Подолия воодушевятся единым духом, какой я видел в великой Польше, и тогда Провидение увенчает успехом ваше святое дело; оно вознаградит вашу преданность родине, которой вы приобрели право на мое уважение и на мою защиту: вы можете рассчитывать на нее при любых обстоятельствах».
Поляки думали, что они обращаются к мировому верховному арбитру, не знающему политических компромиссов, каждое слово которого является законом. Они не могли понять, почему он дал столь осторожный ответ. Они начали сомневаться в намерениях Наполеона; рвение одних остыло, безразличие других получило зримое подтверждение, но все были удивлены. Даже его приближенные спрашивали друг друга о причинах этой осторожности, которая была вовсе для него не характерна и казалась столь неразумной, что уместно было задать вопрос: какова цель этой войны? Боится ли он Австрии? Может быть, отступление русских расстроило его планы? Не засомневался ли он в своей удаче, или не хотел брать перед всей Европой обязательства, выполнение которых для него затруднительно?
Или холодность литовцев охладила его пыл? Может быть, он испугался взрыва патриотизма, с которым он не сможет совладать, или всё еще не решил, какую уготовил им судьбу? Каковы бы ни были его мотивы, он хотел, чтобы литовцы сами себя освободили. В то же время он создал для них правительство и задал направление общественным настроениям; это обстоятельство поставило и его, и их в двусмысленное положение: теперь любые действия будут полумерами, а их результатами и последствиями станут ошибки и противоречия. Отсутствие взаимопонимания между партиями порождало общее недоверие. Поляки хотели получить некоторые гарантии в обмен на жертвы, которые их призывали приносить. Но ничего не было сказано об их объединении в одно королевство, и обычный в моменты великих решений страх только усилился; они утратили и доверие к Наполеону, и уверенность в себе. Он назначил семь литовцев в новое правительство. Этот выбор по ряду причин был неудачным: была задета гордость аристократии, которую во все времена сложно удовлетворить.
Четыре литовские провинции с центрами в Вильне, Минске, Гродно и Белостоке имели правительственные комитеты и национальных супрефектов. Каждая коммуна должна была иметь муниципалитет; на самом деле, Литва управлялась имперским комиссаром и четырьмя французскими аудиторами, которые имели должности интендантов.
Причины всеобщей холодности литовцев надо искать и в этих, возможно неизбежных, ошибках, и в бесчинствах армии, которая должна была или умирать с голоду, или грабить наших союзников. Император не мог закрывать на это глаза; он рассчитывал на четыре миллиона литовцев, но к нему присоединились лишь несколько тысяч. Их ополчение, которое он оценивал в 100 тысяч человек, выделило ему почетную гвардию; за ним следовали три всадника. Население Волыни оставалось инертным.
Подобная холодность особенно не волновала Наполеона во времена побед, но и в дни неудач он на нее не жаловался.
Что касается нас, всегда уверенных в нем и в себе, то характер литовцев поначалу нас почти не волновал; но когда наши силы уменьшились, то мы оглянулись, и опасность заставила нас быть более внимательными. Три литовских генерала, которых отличали имена, богатство и суждения, следовали за императором. Французские генералы относились к ним с холодностью, свойственной жителям Литвы, и ставили им в пример энтузиазм варшавян, который те проявляли в 1806 году. Последовала оживленная дискуссия, которая велась в штаб-квартире Наполеона; правда была и на той и на другой сторонах.
Генералы говорили, что они приняли свободу из наших рук, но каждый проявляет свои чувства в соответствии со своим характером; литовцы имеют более холодный темперамент по сравнению с поляками, они менее общительны; чувства могут быть одинаковыми, но способы выражения разные.
Кроме того, ситуация совершенно иная; в 1806 году освобождение Польши происходило после победы над пруссаками, а теперь, если французы и освободили Литву от русского ига, то это случилось до покорения России.
Для поляков естественно было принять свободу с бурным выражением чувств, и столь же естественно для литовцев — принять неопределенную и опасную свободу с осознанием серьезности ситуации; благо не покупают с тем же видом, как при его дарении; шесть лет назад в Варшаве только и требовалось, что готовить фестивали, но в Вильне, где военная мощь России совсем недавно была у всех на виду и где все знают, что ее армия не тронута, и понимают причины отступления, следует готовиться к битвам.
И с какими средствами? Почему эту свободу не предложили им в 1807 году? Литва была богатой и населенной. После этого континентальная система, закрыв единственный канал для ее товаров, разорила ее, в то время как Россия предусмотрительно лишила ее рекрутов, а недавно и множества дворян, крестьян, повозок, скота — всё это потребовалось русской армии.
Они добавили, что голод является результатом сурового 1811 года. Но почему не обратиться на юг? Там есть люди, лошади и всяческая провизия. Нужно только вытеснить Тормасова и его армию. Шварценберг, возможно, шел в этом направлении. Но разве австрийцы, узурпаторы Галиции, будут помогать освобождению Волыни? Почему бы не послать туда французов и поляков? Но затем надо будет остановиться, вести более методичную войну и иметь время для организации; Наполеон испытывает трудности — удаленность от своей страны, большие расходы на провиант для огромной армии; он всем пожертвует в надежде закончить войну одним ударом.
Здесь литовцев прервали, что, по-видимому, они скрывают главную причину инертности их соотечественников, а она заключается в хитрой и успешной политике России в отношении местной знати: ее самолюбию льстят, обычаи уважают, Россия защищает права вельмож в отношении крестьян, которых французы пришли освобождать. Несомненно, национальная независимость является слишком дорогой покупкой, если цена такова.
Этот упрек был хорошо обоснован, и хотя он не был персональным, литовские генералы возмутились. Один из них воскликнул: «Вы говорите о нашей независимости, но она в большой опасности, если вы, во главе 400 тысяч солдат, боитесь принять ответственность за ее провозглашение; более того, вы не признаете ее ни на словах, ни на деле. Вы поставили аудиторов, людей новых, во главе новой администрации, чтобы они управляли провинциями. Они взимают большие налоги, но забывают информировать нас, для кого мы всё это жертвуем; во всяком случае не для своей страны. Мы всюду видим империю, но не республику. Вы не говорите нам о цели нашего марша, но упрекаете нас в том, что мы идем нетвердым шагом. Соотечественников, которых мы не уважаем, вы сделали нашими начальниками. Несмотря на наши просьбы, Вильна и Варшава разделены; и при этом разделении вы требуете от нас уверенности в наших силах, которую способно дать одно лишь единство. Солдаты, которых вы от нас ожидаете, вам предложены: 30 тысяч человек готовы, но вы не даете им оружие, обмундирование и деньги, в которых мы испытываем недостаток».
Все эти обвинения могли быть оспорены, но он добавил: «Да, мы не торгуемся ради свободы, но мы находим, что ее предлагают небескорыстно. Куда бы вы ни направились, весть о ваших бесчинствах опередит вас. В Вильне, несмотря на многочисленные приказы вашего императора, пригороды были ограблены; свобода, которая порождает злоупотребления, не вызывает никакого доверия. Что вы после этого ожидаете от нас? Криков радости, выражения благодарности? И это когда каждый из нас ежедневно ожидает, что его деревни и его амбары могут быть разорены; и то малое, что русские не унесли с собой, ваши голодные эскадроны жадно съедают.
Поэтому что вам надо? Чтобы наши соотечественники стояли вдоль дороги, по которой вы проходите, приносили вам зерно и приводили скот, чтобы они, вооружившись, сами предлагали вам себя, чтобы идти вслед за вами? Увы! Что они могут вам дать? Ваши грабители отнимают всё. Обернитесь, посмотрите на вход в императорскую штаб-квартиру. Видите вон того человека? Он почти голый, он стонет и с мольбой протягивает к вам руку. Этот вызывающий вашу жалость несчастный человек является одним из дворян, на чью помощь вы рассчитываете; вчера он спешил, чтобы встретить вас вместе со своей дочерью, своими слугами и своими ценностями; он шел, чтобы предложить себя вашему императору, но встретил в пути каких-то мародеров из Вюртемберга и был полностью ограблен; он больше не отец, едва ли он является человеком».
Все содрогнулись и поспешили помочь ему; французы, немцы, литовцы — все вместе сокрушались по поводу этих беспорядков, но никто не мог предложить средства от них. Как, в самом деле, возможно было поддерживать дисциплину среди этих громадных масс, двигавшихся столь стремительно и при этом направляемых командирами из многих стран, с различными нравами и характерами, которые вынуждены были прибегать к грабежу ради выживания?
В Пруссии император заставил армию запастись провизией на двадцать дней. Этого было достаточно, чтобы достичь Вильны и дать бой. Победа довершила бы остальное, но она была отложена бегством врага. Император мог ждать своих обозов, но, застав русских врасплох, он рассеял их; он не хотел отказываться от проведения охватывающих маневров и потерять свое преимущество. Поэтому он гнал 400 тысяч солдат, имевших провизии на двадцать дней, в страну, которая была неспособна прокормить 20 тысяч шведов Карла XII.
Это было не из-за недостатка предвидения; огромные массы крупного рогатого скота следовали за армией — стада и отдельные животные, привязанные к повозкам с провиантом. Возчики были организованы в батальоны. Это правда, что последние, устав от медленного движения больших животных, или резали их, или бросали умирать. Многие животные, однако, достигли Вильны и Минска, некоторые даже Смоленска, но слишком поздно: они могли пригодиться только рекрутам и солдатам пополнявших армию частей, которые следовали за нами.
С другой стороны, на складах Данцига хранилось столько зерна, что он один способен был снабжать целую армию; он обеспечивал Кёнигсберг. Эта провизия грузилась в большие баржи и сплавлялась вверх по реке Преголя до Велау, и более легкими плавательными средствами до Инстербурга. Сухопутный канал поставок пролегал от Кёнигсберга до Лабиау; оттуда по Неману и Вилие грузы доставлялись до Ковно и Вильны. Река Вилия пересохла и утратила свое значение, однако поставки должны были продолжаться. Наполеон ненавидел дельцов. Он хотел, чтобы армейская администрация организовала транспортные средства в Литве: пятьсот повозок было собрано, но их внешний вид вызвал у него отвращение. Он разрешил провести переговоры с евреями, которые были единственными торговцами в стране; после этого продовольственные грузы, застрявшие в Ковно, наконец были доставлены в Вильну, но армия уже ушла оттуда.
Глава IV
Более всех страдали солдаты центральной походной колонны. Они шли по дороге, разоренной русскими. Французский авангард расхищал всё, что оставалось.
Колонны, шедшие по боковым дорогам, находили необходимые припасы, но недостаток организации мешал им должным образом собрать и использовать ресурсы.
На Наполеона нельзя возлагать всю ответственность за несчастья этого марша; в армии Даву поддерживались порядок и дисциплина, этот корпус меньше страдал от голода; примерно то же можно сказать о принце Евгении. Когда в этих двух корпусах всё же допускалось мародерство, то даже в этом придерживались определенной системы и причиняли лишь необходимое зло: солдаты должны были добывать провизии на несколько дней и не допускать ее потерь. Столь же предусмотрительными могли бы быть и начальники других воинских частей, но то ли из-за привычки воевать в богатых странах, то ли по складу характера многие из них думали больше о войне, чем об администрировании.
Наполеон часто вынужден был закрывать глаза на грабежи, которые он безуспешно пытался запретить; такой способ существования был привлекательным для солдата, он любил положение вещей, которое его обогащало, оно ставило его над классами общества, которые на самом деле были выше его, и имело всю привлекательность войны бедных против богатых; он наслаждался этим положением и чувствовал себя сильнейшим. Наполеон, однако, негодовал, получая донесения об эксцессах. Он выпустил гневную прокламацию и направил подвижные колонны французов и литовцев, чтобы покарать виновных. Мы были рассержены при виде грабителей и хотели, чтобы они понесли наказание, но когда у них отнимали хлеб и скот и они медленно уходили, порой глядя на нас голодным и отчаянным взором, а иногда и плача, когда они роптали и говорили, что им не дают средств пропитания и к тому же отнимают их с очевидным намерением уморить голодом, мы, в свою очередь, обвиняли себя в варварстве по отношению к своим людям; несчастных возвращали и добычу отдавали назад. Действительно, жестокая необходимость заставляла их становиться мародерами. Офицеры не имели иных средств пропитания, кроме тех, что выделяли им солдаты. Эксцессы следовали один за другим. Грубые люди с оружием в руках, движимые насущными потребностями, не могли оставаться умеренными. Голодные, они входили в селения и поначалу просто спрашивали; затем, из желания быть понятыми и вследствие отказа или неспособности жителей удовлетворить их потребности и потеряв терпение, они затевали ссоры; раздраженные от голода, они приходили в бешенство и, обыскав дом или усадьбу и ничего не найдя, они со всей силой отчаяния обвиняли хозяев в том, что те являются их врагами, и мстили, нанося урон собственности.
Встречались и такие, которые предпочитали умереть сами, чтобы не впадать в крайности, среди них были совсем юные. Они приставляли дуло мушкета к своему лбу и стреляли. Многие просто загрубели и вымещали свое горе на других: находясь на громадном расстоянии от дома, они возомнили, что им всё позволено и их страдания дают им право причинять людям зло.
Вполне естественно, что в многочисленной армии, состоявшей из представителей многих наций, находилось больше нарушителей, чем в меньших по размеру армиях, и зло порождало новое зло. Армия, ослабленная голодом, должна была двигаться вперед форсированными маршами и настичь врага. Солдаты останавливались на ночлег и заполняли жилища; усталые, они зачастую валились на грязную солому. Наиболее выносливые из них находили силы для того, чтобы приготовить что-либо из муки, и разжигали печи, имевшиеся в каждом из этих деревянных домов; их столь же усталые офицеры давали приказы о соблюдении мер осторожности, но не проверяли, как эти приказы выполняются. Кусок горящего дерева из печи или искра бивуачного костра могли вызвать возгорание в доме, стать причиной пожара во всей деревне и смерти многих солдат. Впрочем, такие беспорядки в Литве случались очень редко.
Наполеон знал об этом, но зашел уже слишком далеко. Беспорядки происходили даже в Вильне. Мортье, в числе других, сообщил императору, что он видел от Немана до Вилии только разрушенные дома, брошенные повозки, перевозившие багаж и провиант; «они были разбросаны на больших дорогах и в полях, перевернуты, вскрыты, а их содержимое валялось повсюду и подвергалось грабежу, как если бы они были захвачены врагом: всё выглядело так, будто здесь прошла разбитая армия. Десять тысяч лошадей погибли в результате холодного ливня и бури, а также от поедания зеленых хлебов, их единственного корма. Их туши загромождают дорогу и распространяют зловонный запах, дышать в этом месте невозможно: это новая беда, которую некоторые сравнивают с голодом, но гораздо более ужасная; несколько солдат Молодой гвардии уже умерли от голода».
До этого момента Наполеон слушал спокойно, но здесь он грубо прервал говорившего и воскликнул: «Невозможно! Где же их двадцатидневная провизия? Солдаты, которыми хорошо командуют, никогда не умирают от голода».
Генерал, представивший этот рапорт, также присутствовал. Наполеон повернулся к нему и забросал вопросами; генерал, от слабости или неуверенности, ответил, что солдаты, о которых только что говорили, умерли не от голода, а от опьянения.
После этого император проникся уверенностью, что донесения преувеличивают солдатские беды. Он воскликнул: «Потерю некоторого числа лошадей можно пережить; то же самое можно сказать об экипажах и даже о селениях; это поток, который быстро несется; это худшее, что есть на войне; хорошее приходит на смену плохому, но нельзя обойтись без страданий; богатства и блага возместят потери, великий результат всё изменит; нам нужна единственная победа».
Мортье заметил, что победы можно достичь более методичным маршем, устраивая склады, но его не слушали. Те, кому этот маршал (который только что вернулся из Испании) пожаловался, ответили ему: «Да, Наполеон сердится, получив донесения о бедах, которые он считает непоправимыми, его политика диктует необходимость быстрой и решительной победы».
Они добавили, что они слишком ясно видят, что здоровье императора ухудшилось; и, будучи, тем не менее, вынужденным ставить себя в положение всё более и более критическое, он не сможет обозревать, не впадая в плохое настроение, трудности, через которые прошел и которые только нарастают; к этим трудностям он склонен относиться с презрением и преуменьшать их важность, чтобы сохранить энергию, необходимую для их преодоления. «Это и есть причина того, что, будучи взволнованным и утомленным новой и критической ситуацией, в которой он оказался по своей воле, и желая как можно скорее выбраться из нее, он продолжает идти вперед, чтобы как можно раньше положить этому конец!»
Наполеон был вынужден закрывать глаза на факты. Хорошо известно, что наибольшая часть его министров не были льстецами. Факты и люди достаточно ему говорили, но чему они могли его научить? О чем он не знал? Разве все его приготовления не были основаны на самом ясном предвидении? Что можно было ему сказать такого, чего он сам не говорил и не писал сотню раз? Как могло случиться, что после того, как он предвидел мельчайшие детали, подготовился ко всем неудобствам, обеспечил всё необходимое для медленной и методичной войны, он вдруг отказался от всех предосторожностей, всех приготовлений и позволил себе по привычке заспешить, думая лишь о коротких войнах, быстрой победе и скором мире?
Глава V
Во время этих печальных событий министр русского императора Балашов появился на французских аванпостах с белым флагом. Он был принят, и армия, менее пылкая, чем вчера, с радостью предвкушала мир. Он привез следующее письмо Александра Наполеону: «Еще не поздно договориться; война, которую почва, климат и характер России делают бесконечной, началась; но примирение не является невозможным, и предложения, высказанные на одном берегу Немана, могут быть услышаны на другом». Балашов добавил, что его повелитель перед лицом Европы заявил, что он не агрессор; что его посол в Париже, затребовав свои паспорта, тем самым вовсе не считал, что нарушает мир; однако Франция вторглась в Россию без объявления войны. Балашов не представил новых предложений, устных либо письменных.
Выбор человека, приехавшего с флагом мира, примечателен: то был министр русской полиции; эта должность требует наблюдательности, и очевидно, что он должен был проявить названное качество, находясь среди нас. Переговоры требуют большой умеренности, невозможной при сложившихся обстоятельствах, поскольку ее приняли бы за слабость. Это соображение снижало наше доверие к личности парламентера.
Наполеон не испытывал колебаний. Он не остановился в Париже, как же он теперь может отступать в Вильну? Что подумает Европа? Какой результат может быть представлен французской и союзной армиям как оправдание столь многих трудов, больших маршей и расходов? Это значило бы признать себя побежденным. Кроме того, своими речами перед правителями с момента отъезда из Парижа и своими действиями он взял на себя определенные обязательства. Он начал разговор с Балашовым очень живо: «Что привело вас в Вильну? Чего хочет император России? Он думает сопротивляться? Что касается меня, то мой ум является моим советником, и именно отсюда всё вытекает. Но Александр — кто советует ему? У него только три генерала — Кутузов, которого он не любит, поскольку он русский, Беннигсен, уволенный шесть лет назад и впавший в маразм, и Барклай, который умеет маневрировать; он понимает войну, но этот генерал хорош только для отступления… Все вы думаете, что понимаете искусство войны, поскольку читали Жомини, но если эта книга может научить вас чему-нибудь, думаете ли вы, что я должен разрешить опубликовать ее?» В этом разговоре, русскую версию которого я здесь представляю, он добавил, что император Александр имеет друзей даже в императорской штаб-квартире. Затем, показывая на Коленкура, он сказал русскому министру: «Вот верный рыцарь вашего императора, он русский во французском лагере».
Возможно, Коленкур не понял, что Наполеон хотел лишь указать на него как возможного посредника, приятного Александру; но как только Балашов ушел, герцог Виченцы направился к императору и сердитым голосом спросил, почему тот оскорбил его? Он француз! Настоящий француз! Он это уже доказал, и вновь докажет, повторяя, что эта война неполитична, опасна и разрушит армию Наполеона, Францию и его самого. Что касается остального, то он оскорблен и желает покинуть императора; всё, чего он просит, это командование дивизией в Испании, где никто не хочет служить, и как можно дальше от него. Император пытался его успокоить, но поскольку не мог более его слушать, то ушел; Коленкур устремился за ним, продолжая бросать упреки. Бертье, который присутствовал при сцене, безуспешно пробовал вмешаться. Стоявший сзади Бессьер напрасно пытался удержать Коленкура за мундир.
На следующий день Наполеон не мог вызвать своего великого конюшего без формального приказа, который пришлось повторять. Он долго успокаивал его с помощью ласк, выражая уважение и привязанность. Он отослал Балашова с устными и неприемлемыми предложениями. Александр не ответил! Вся важность этого шага не была в то время правильно понята. Он решил более ничего не направлять Наполеону и ничего ему не отвечать. Это было последнее слово перед полным разрывом.
Между тем Мюрат гнался за ускользающей победой, которую так жаждали; он командовал кавалерией авангарда; наконец, он настиг врага по дороге на Свенцяны и оттеснил его в направлении Двины. Каждое утро русский авангард уходил от него, каждый вечер он вновь настигал его и атаковал, но русские всякий раз занимали сильную позицию, а французы прибывали слишком поздно и после долгого марша, не имея возможности восстановить свои силы; ежедневные схватки не приносили важных результатов.
Другие военачальники шли другими дорогами, но в том же направлении. Удино перешел Вилию за Ковно и был уже в Самогитии; он напал на врага и теснил его. Он шел вперед слева от Нея и Мюрата, справа от которого продвигался Нансути. С 15 июля по берегам Двины от Дисны до Динабурга шли Мюрат, Монбрен, Себастиани, Нансути, Удино, Ней и три дивизии 1-го корпуса под командованием графа Лобо.
Удино появился перед Динабургом и атаковал этот город, который русские безуспешно пытались укрепить. Слишком эксцентричный марш Удино не понравился Наполеону. Две армии были разделены рекой. Удино направился на соединение с Мюратом, а Витгенштейн — на соединение с Барклаем. Динабург остался без нападающих и защитников.
Во время своего марша Витгенштейн увидел с правого берега Двины, как кавалерия Себастиани занимает город, не соблюдая мер предосторожности. С наступлением ночи Витгенштейн переправил один из своих корпусов через реку, и утром 15 июля русские атаковали французские аванпосты; одна из бригад была захвачена, и Себастиани вынужден был отступить. После этого Витгенштейн отозвал своих воинов на правый берег и продолжил свой путь вместе с пленниками, среди которых был французский генерал. Этот маневр русских дал Наполеону повод надеяться на битву; он думал, что Барклай возобновляет наступление, и на короткое время задержал свой марш на Витебск, чтобы сконцентрировать силы и направить их согласно обстоятельствам. Эта надежда вскоре исчезла.
Во время этих событий Даву в Ошмянах, к югу от Вильны, перехватил курьеров Багратиона, который пытался уйти на север, искал выход и волновался по этому поводу. До этого времени разработанный в Париже план кампании в целом успешно выполнялся. Зная, что враг слишком растянул свою оборонительную линию, Наполеон прорвал ее, энергично атакуя в одном направлении, что позволило отбросить основные силы русских к Двине; Багратион всё еще был в районе Немана. Наполеон повторил маневр Фридриха II; отличие было в том, что у Наполеона это заняло несколько дней при длине фронта в восемьдесят лье, в то время Фридрих часто делал это в течение нескольких часов при фронте в два лье.
Дохтуров и множество разбросанных дивизий ушли от нас лишь благодаря обширным пространствам, в силу случая и нашего неведения.
Некоторые утверждают, что в первых операциях кампании было слишком много осторожности или слишком много небрежности; что начиная от Вислы наступавшая армия получала приказы двигаться со всеми предосторожностями, ожидая нападения; поскольку вторжение началось и Александр отступал, авангард Наполеона обязан был двигаться по берегам Вилии с большей стремительностью, и Итальянская армия должна была повторять это движение. Возможно, что Дохтуров, командовавший левым крылом армии Барклая, который должен был прорываться через наши линии, чтобы уйти от Лиды в направлении Свенцян, мог быть взят в плен. Пажоль оттеснил его в Ошмяны, но он ушел через Сморгонь. Удалось захватить только багаж, и Наполеон обвинил в неудаче принца Евгения, хотя сам предписывал ему все действия.
Итальянская армия, Баварская армия, 1-й корпус и гвардия занимали Вильну и окрестности города. Здесь, лежа и изучая карты, Наполеон чертил линии движения русской армии, разделившейся на две части: одна направлялась к Дриссе вместе с Александром, вторая осталась с Багратионом.
Двина и Борисфен отделяют Литву от старой России. Узкое пространство, которое остается между ними перед тем местом, где они берут противоположное направление, образует вход — ворота Московии. Здесь сходятся дороги, ведущие в две столицы империи.
Всё внимание Наполеона было направлено в эту точку. После того как Александр отступил, он пытался определить, каким путем пойдет Багратион. Он намерен был помешать ему уйти и немедленно направил Даву к Минску, между двумя вражескими колоннами, вместе с двумя пехотными дивизиями, кирасирами Баланса и несколькими бригадами легкой кавалерии.
Справа Жером должен был теснить Багратиона в направлении Даву, который перерезал бы его коммуникации с Александром и вынудил его сдаться; слева Мюрат, Удино и Ней, которые уже были перед Дриссой, должны были идти прямо на Барклая и его императора; Наполеон с элитой своей армии, а также Итальянской армией, Баварской армией и тремя дивизиями Даву должен был идти на Витебск между Даву и Мюратом, почти соприкасаясь с ними; короче говоря, русские армии должны были быть разделены. Обстоятельства решат остальное.
Таков был план Наполеона, разработанный 10 июля в Вильне. Немедленно после этого движение, уже начавшееся, стало всеобщим.
Глава VI
Жером пересек Неман в районе Гродно. Саксонская, Вестфальская и Польская армии имели перед собой генерала и страну, которых сложно было победить. Она шла по высоким равнинам Литвы, по которым текут реки, впадающие в Черное и Балтийское моря. Почвы здесь таковы, что воды застаиваются и переполняют страну. Узкие насыпные дороги проложены по этим лесистым и болотистым равнинам; они образуют длинные дефиле, которые Багратиону было легко оборонять от войск Жерома. Последний неосторожно атаковал, его авангард трижды вступал в схватку с врагом: первый бой закончился победой русских, в двух других случаях Латур-Мобур остался хозяином политого кровью поля брани.
В то же время Даву, двигаясь от Ошмян в направлении Минска, завладел выходами из дефиле, в которых Жером сражался с Багратионом.
На пути отступления этого генерала была река, истоки которой находятся в заразном болоте; ее грязные воды текут на юго-восток, а ее имя печально знаменито и напоминает о наших несчастьях.
Деревянные мосты и длинные насыпные дороги, которые построены здесь для перехода через болото, упираются в город Борисов. Этот проход очень важен, и Даву предотвратил движение Багратиона в этом направлении, захватив 8 июля Минск, равно как и весь край от Вилии до Березины. Русский князь и его армия, направленные Александром к северу, наткнулись на Даву и вынуждены были отступить; затем русские немного изменили направление движения и предприняли новую попытку прорыва к Минску, но Даву вновь встал на их пути.
Узнав об этом и видя, что Багратион и 40 тысяч русских отрезаны от армии Александра и окружены двумя реками и двумя армиями, Наполеон воскликнул: «Они мои!»
В самом деле, трех маршей было достаточно, чтобы замкнуть кольцо окружения. Наполеон ранее обвинял Даву в том, что тот четыре дня находился в Минске и позволил уйти левому крылу русских; позднее он обвинил Жерома, и это было справедливо; в итоге он приказал монарху подчиняться приказам маршала. Однако это решение было принято слишком поздно и в разгар операции.
Приказ был доставлен в тот момент, когда Багратион, оттесненный от Минска, не имел иного пути отступления, кроме длинной и узкой насыпной дороги. Даву написал Жерому, требуя быстро теснить русских в это дефиле, выходы из которого он собирался занять. Багратион никогда бы оттуда не вырвался. Но король Вестфалии, раздраженный упреками в нерешительности, не мог допустить, чтобы подчиненный командовал им; он покинул армию, никого не оставив вместо себя и даже не сообщив об этом. Ему позволили уехать в Вестфалию без охраны, что он и сделал.
Тем временем Даву ждал Багратиона в Глуске. Поскольку Вестфальская армия не теснила русского генерала, тот мог пойти окольным путем на юг, чтобы достичь Бобруйска, пересечь Березину и двигаться в направлении Быхова. Однако если бы Вестфальская армия теснила русских более энергично вплоть до Быхова, когда те встретили Даву в районе Могилева, то Багратиону, зажатому между вестфальцами, Даву, Борисфеном и Березиной, пришлось бы сражаться или сдаваться.
Отклонившись далеко от намеченного маршрута, Багратион решил идти на Могилев. Здесь он вновь встретил Даву, который пересек Березину там же, где когда-то это сделал Карл XII.
Но маршал не ждал русского князя на дороге в Могилев. Он думал, что тот уже на левом берегу Борисфена. Их взаимные ошибки обернулись в пользу русских. В это время у Багратиона было 35 тысяч солдат, у Даву 12 тысяч. Последний выбрал для сражения возвышенность, окаймленную двумя лесами. Русские приняли бой и атаковали, уверенные в победе.
Московиты говорят, что в разгар боя их вдруг охватила паника от мысли, что перед ними — сам Наполеон; они думали, что он может быть одновременно везде — таково магическое воздействие гения! Его слава удивительным образом заполнила весь мир и превратила его в вездесущее и сверхъестественное существо!
Русские атаковали страстно и упорно, но без особой изобретательности. Багратион был отброшен, и ему вновь пришлось возвращаться по своим следам. Наконец он пересек Борисфен у Нового Быхова и оказался во внутренних областях России, чтобы соединиться с Барклаем у Смоленска.
Наполеон считал ниже своего достоинства объяснять успех русских способностями их генерала; он приписал его беспомощности своих военачальников. Он уже понял, что должен присутствовать везде, но это было невозможно.
Его операции стали столь обширными, что, вынужденный оставаться в центре, он не мог установить правильные связи со своими генералами. Усталые, как и он, слишком независимые друг от друга и слишком обособленные, но в то же время излишне зависимые от него, они были мало склонны к риску и пассивно ждали его приказов.
Его влияние ослабело, поскольку было рассеяно сверх меры. Нужно было иметь слишком большую душу, чтобы вдохновлять столь большое тело; его великой души на это уже не хватало.
Шестнадцатого июля вся армия пришла в движение, однако Наполеон всё еще оставался в Вильне. Он приказал укрепить город и объявил набор рекрутов в литовские полки. Он назначил Маре губернатором Литвы; тот должен был стать центром административных, политических и даже военных коммуникаций между ним, Европой и генералами, командовавшими армейскими корпусами, которые не шли вместе с ним в Москву.
Мнимое бездействие Наполеона в Вильне продолжалось двадцать дней. Некоторые думали, что, оказавшись в центре своих операций вместе с сильным резервом, он ждал развития событий и готов был направить силы в сторону Даву, Мюрата или Макдональда; другие думали, что необходимость устройства Литвы и европейская политика удерживают его в Вильне; или он не видел препятствий, достойных себя (такой взгляд ему льстил, хотя он себя не обманывал). Спешное отступление русских из Литвы ослепило его, и это видно по его бюллетеню:
«Вот она, Российская империя, столь грозная на расстоянии! Это пустыня, по которой разбросано население, и его здесь совершенно недостаточно. Они будут побеждены той самой обширностью территории, которая должна их защищать. Они варвары. У них почти нет оружия. У них нет готовых рекрутов. Александру потребуется больше времени для того, чтобы их собрать, чем для того, чтобы дойти до Москвы. Это правда, что с момента перехода через Неман нас встречают ливни и зной, но эти беды — не столько препятствие нашему наступлению, сколько помеха русскому бегству. Они побеждены без боя одной лишь своей слабостью, воспоминанием о наших победах и угрызениями совести, диктующей необходимость восстановления Литвы, которой они овладели не по праву мира или войны, но предательством».
К названным причинам задержки Наполеона в Вильне, возможно, слишком длительной, его ближайшие соратники добавляли еще одну. Они говорили между собой, что его великий гений, всё более активный и отважный, более не подчиняется его конституции.
Они были встревожены тем, что он теперь с трудом переносит испепеляющую жару, и делились грустными предчувствиями, наблюдая его заметную склонность к полноте, в которой находили верный признак преждевременной телесной слабости.
Некоторые объясняли ее привычкой часто принимать ванны. Они не знали, что он делает это не ради наслаждения, но лишь облегчает свое болезненное состояние; политические соображения требовали, чтобы серьезный недуг не стал достоянием гласности и не вызывал нежелательных чувств у его врагов.
Таково неизбежное и печальное влияние самых тривиальных причин на судьбы наций. Вскоре мы увидим, как в решительный момент, когда самые глубокие планы, которые должны были обеспечить успех самого смелого и, возможно, самого полезного с европейской точки зрения предприятия, требовали развития, природа парализовала его гений на равнинах Москвы-реки. Больших батальонов России было мало, чтобы защитить ее, однако неожиданный приступ лихорадки стал ее спасением.
Будет справедливо и правильно вернуться к данному наблюдению, когда, рисуя картину битвы на Москве-реке, я буду повторять жалобы и упреки самых преданных друзей и постоянных поклонников этого великого человека. Большинство из них, равно как и тех, кто описывал эту битву, не знали о физических страданиях императора, который, находясь в самом угнетенном состоянии, скрывал его причины. Эти рассказчики увидели вину там, где в действительности было несчастье.
Кроме того, в восьмистах лье от дома, после стольких трудов и жертв, когда победа ускользнула из рук и стала видна пугающая перспектива, естественно было ожидать суровых суждений; и судьи сами страдали слишком сильно, чтобы остаться беспристрастными.
Что касается меня, то я не стану скрывать того, что видел; я убежден, что сказать правду — лучший способ воздать должное великому человеку, который так часто извлекал поразительные преимущества из каждого происшествия, в том числе своих неудач, человека, который вознесся на такую большую высоту, что потомство вряд ли сможет увидеть тень столь блестящей славы.
Глава VII
Между тем Наполеон оценивал реальное положение дел: его приказы выполняются, армия едина, а будущая битва требует его присутствия. Он выехал из Вильны 16 июля в половине двенадцатого ночи; 17 июля он остановился в Свенцянах, когда жара была самой угнетающей; 18-го он был в Глубоком и разместился в монастыре, откуда увидел, что деревня больше похожа на скопище лачуг дикарей, чем на европейское селение.
В армии только что было распространено обращение русских к французским солдатам. Последние увидели в нем нечто правдивое, но сила суровой правды была ослаблена нелепым приглашением в пустыню.
Наполеон читал и гневался; в первом порыве возбуждения он продиктовал ответ, но порвал бумагу; продиктовал второй вариант, но его постигла та же участь; наконец, он продиктовал третью версию, которой остался удовлетворен. Это было обращение за подписью французского гренадера. Так он диктовал даже самые обычные письма; он постоянно принижал своих министров и Бертье до уровня простых секретарей; его мозг был по-прежнему активен, но плоть деградировала; их единство начало нарушаться, и это была одна из причин наших несчастий.
Среди этих трудов он узнал, что Барклай 18 июля покинул свой лагерь в Дриссе и идет в направлении Минска. Это движение открыло ему глаза. Отпор, который Себастиани получил в районе Двины, а также дожди и плохое состояние дорог помогли ему понять (хотя, возможно, слишком поздно), что занятие Витебска было срочной задачей, имевшей решающее значение; что этот город занимает очень важное положение; именно с этой позиции он повернет армию противника в нужном направлении, отрежет ее от южных провинций и сокрушит врага превосходящими силами. Наполеон заключил, что если Барклай опередит его и первым займет эту столицу, то, несомненно, станет защищать город; именно там, возможно, следует ожидать столь желанной победы, которая ускользнула от него на берегах Вилии. Он немедленно направил все свои корпуса на Бешенковичи; туда он вызвал Мюрата и Нея, которые были в районе Полоцка, где он оставил Удино. Сам он проследовал от Глубокого (где он был вместе с гвардией, Итальянской армией и тремя дивизиями Даву) в Камень.
До этого времени наибольшая часть армии шла вперед и удивлялась, не находя противника; теперь солдаты привыкли к обстоятельствам. Днем они видели новые места и проявляли нетерпение в ожидании конца похода; ночь была занята нахождением укрытия и места отдыха, а также поиском пищи и ее приготовлением. У солдат было столько забот, что они больше думали о тяготах пути, чем о войне; но если враг всё время отступает, то как далеко следует заходить в его поисках? Двадцать пятого июля все услышали пушечный выстрел; армия и император воспылали радостными надеждами на победу и мир. Выстрел раздался со стороны Бешенковичей.
Принц Евгений вступил там в бой с Дохтуровым, который командовал арьергардом Барклая. Следуя за своим командующим от Полоцка до Витебска, он прокладывал себе дорогу по левому берегу Двины на Бешенковичи; отступая, он сжег мост. Вице-король захватил город и увидел Двину; он восстановил переправу; несколько русских частей, оставленных на другом берегу реки, пытались помешать проведению операции, но не имели достаточных для этого сил.
Наполеон решил пересечь эту реку. Им двигало не пустое тщеславие, но острое желание своими глазами увидеть, как далеко русская армия продвинулась на пути от Дриссы до Витебска, можно ли ее атаковать или предупредить ее прибытие в Витебск. Направление, взятое вражеским арьергардом, и полученная от пленных информация убедили его в том, что Барклай находится впереди него, что он оставил Витгенштейна перед Удино и что русский главнокомандующий находится в Витебске. В самом деле, он готов был сражаться с Наполеоном и оспаривать дефиле, расположенные у города.
Наполеон ничего не видел на правом берегу реки, кроме небольших сил русского арьергарда. Его дивизии прибывали туда по северным и южным дорогам. Его приказы о движении были выполнены с такой точностью, что все корпуса, покинувшие Неман в разное время и шедшие по разным дорогам, преодолев за месяц расстояние в сто лье, несмотря на всяческие трудности, соединились в Бешенковичах, куда они прибыли в один и тот же день и почти в один час.
Естественным результатом этого стал большой беспорядок; там были многочисленные колонны кавалерии, пехоты и артиллерии, и вспыхнула борьба за первенство; солдатам разных корпусов, раздраженным усталостью и голодом, не терпелось добраться до места назначения. Улицы были забиты толпами ординарцев, штабных офицеров, слуг, множеством верховых лошадей и багажом. Он пробивались вперед с шумом, кто-то искал провиант, кто-то фураж, а некоторые искали ночлег; все перемешивались и толкались, и поскольку наплыв всё увеличивался, то всюду царил хаос.
В одном квартале адъютанты, пытавшиеся доставить срочные приказы, безуспешно старались проложить себе дорогу; солдаты были глухи к их выражениям протеста и даже к их приказам; отсюда ссоры и крики, звуки которых смешивались со звуками барабанов, возгласами возчиков, грохотом повозок и пушек, командами офицеров и, наконец, с шумной суматохой в домах, занятых одними, в то время как другие пытались у них это оспорить.
Ближе к полуночи все эти массы людей, которые чуть ли не проклинали друг друга, наконец разошлись; полки медленно двигались в направлении Островны или вливались в Бешенковичи; самая глубокая тишина пришла на смену самой ужасной суматохе.
Великая концентрация сил, многочисленные приказы, поступавшие со всех сторон, быстрота, с которой различные корпуса шли вперед, даже ночью, — всё говорило о том, что завтра будет бой. На самом деле, Наполеон не мог помешать русским овладеть Витебском, но намерен был выбить их с этой позиции; однако русские прошли через него и готовы были защищать длинные дефиле, прикрывавшие город.
Двадцать пятого июля Мюрат направился в Островну со своей кавалерией. В двух лье от этой деревни Домон, Коэтлоске, Кариньян и 8-й гусарский корпус продвигались колонной по широкой дороге, обозначенной двойным рядом больших берез. Гусары уже почти достигли вершины холма, на котором они заметили только наиболее слабую часть русского корпуса, состоящую из трех гвардейских кавалерских полков и шести орудий. Ни один стрелок не прикрывал этой боевой линии.
Начальники 8-го корпуса полагали, что впереди них идут два полка той же дивизии, которые отправились через поля слева и справа от дороги и были скрыты теперь деревьями. Но эти полки остановились, а 8-й корпус, уже далеко опередивший их, продолжал двигаться, уверенный, что сквозь деревья, на расстоянии ста пятидесяти шагов, он видел эти самые полки, между тем как он прошел мимо, не заметив их.
Неподвижность русских окончательно ввела в заблуждение командующих 8-го корпуса. Они сочли ошибкой приказ стрелять и поэтому послали одного офицера на рекогносцировку, продолжая двигаться без малейшего недоверия. Вдруг они увидели, что их офицер сражен ударом сабли и взят, а неприятельская пушка громит гусаров. Не теряя ни минуты они, развернув под огнем неприятеля свои отряды, не колеблясь бросились к деревьям, где скрывался неприятель, чтобы прекратить его выстрелы. С первого же натиска они захватили пушки, опрокинули полк, находившийся в центре неприятельской линии, разбили его. Среди хаоса этого первого успеха они вдруг заметили справа русский полк, который обогнали раньше. Этот полк остался стоять, словно пораженный неожиданностью, но они обошли его и, набросившись с тыла, сокрушили. В самый разгар этой второй победы они заметили третий неприятельский полк с левого фланга, который тронулся с места, намереваясь отступить. Быстро обернувшись и собрав все силы, какие еще можно было собрать, они набросились на этого третьего врага и рассеяли его.
Воодушевленный этим успехом, Мюрат преследовал неприятеля до самых лесов Островны, где, по-видимому, тот и спрятался. Мюрат хотел проникнуть туда, но его остановило серьезное сопротивление.
Позиция Островны была хорошо выбрана. Она занимала господствующее положение, откуда можно было видеть, не будучи видимым; кроме того, она перерезала большую дорогу. Направо была Двина, впереди овраг, и вся поверхность и левая сторона были покрыты густыми лесами. Вдобавок эта позиция русских находилась вблизи складов и служила прикрытием как им, так и Витебску, столице этих мест. Остерман тотчас же поспешил на выручку.
Со своей стороны, Мюрат, также не щадивший своей жизни теперь, когда он стал победоносным королем, как не щадил ее тогда, когда был простым солдатом, упорно старался проникнуть в лес, откуда его встречали огнем. Но тут он заметил, что впечатление первого натиска уже прошло. Захваченная гусарами местность оспаривалась неприятелем, а авангард колонны Мюрата, состоящий из дивизий Брюйера, Сен-Жермена и 8-го пехотного корпуса, должен был держаться против целой армии.
Защищались, как защищаются победители, то есть нападая! Каждый неприятельский корпус, атаковавший наши фланги, тотчас же сам подвергался нападению. Русская кавалерия была отброшена в лес, пехота же повержена ударами сабель.
Однако победители уже стали уставать, когда на подмогу явилась дивизия Дельзона. Мюрат быстро повернул ее на правый фланг, отрезав отступление неприятелю, который пришел в замешательство и уже более не оспаривал победы.
В тот же вечер к Мюрату присоединился принц Евгений, и на другой день они увидели русских уже на новой позиции. Пален и Коновницын присоединились к Остерману. Оба французских принца, обуздав левый русский фланг, указывали отрадам своего правого крыла ту позицию, которая должна была служить им точкой опоры и исходным пунктом для нападения, как вдруг на левом фланге поднялся сильный шум. Взглянув туда, они увидели, что кавалерия и пехота левого крыла два раза подходили к неприятелю и оба раза были отброшены. Русские, набравшись смелости, вышли из лесов, испуская громкие крики. Теперь уже к ним перешла отвага и горячность атакующих, у французов же появилась неуверенность и робость защищающихся.
Хорватский батальон 84-го полка тщетно старался противостоять атаке. Рады его редели, и земля перед ним была усеяна убитыми, а за ними равнина покрывалась ранеными, выбывшими из строя, и теми, кто уносил их, а также многими другими, которые под предлогом помощи раненым сами прикидывались ранеными и покидали поле битвы. Тогда началось бегство. Артиллеристы, не видя поддержки, отступали со своими орудиями. Еще через несколько минут у входа в лощину должны были встретиться разнородные войска, так как в своем бегстве все направлялись туда. Возникло замешательство, во время которого все усилия начальников восстановить порядок бывают тщетны, а всякие элементы сопротивления исчезают и становятся бесполезными.
Говорят, что при виде этого Мюрат, разъяренный, стал во главе Польского уланского полка. Воодушевленные присутствием короля и его словами, уланы, которых, кроме того, один вид русских приводил в ярость, ринулись за ним.
Но Мюрат хотел только воодушевить их и заставить кинуться на врага. Сам он не желал бросаться с ними в битву, так как тогда не смог бы всё видеть и командовать. Однако уланы сомкнулись позади него, они занимали всю площадь и толкали его вперед, бешено несясь на своих лошадях. Он не мог ни уклониться в сторону, ни остановиться. Пришлось броситься в битву во главе этого полка, и как солдат он охотно сделал это.
В то же самое время генерал Антуар бросился к своим канонирам, а генерал Жирарден — к 106-му полку. Он остановил его и, собрав, снова направил на правое русское крыло, у которого отнял позицию, две пушки и победу. Со своей стороны и генерал Пире, приблизившись к левому флангу неприятеля, обошел его и вновь завладел положением. Русские вернулись в свои леса.
Между тем на левом фланге они продолжали упорствовать, защищая густой лес и свои передовые позиции, которые прорвали нашу линию. Девяносто второй полк, смущенный огнем, направленным на него оттуда, осыпаемый градом пуль, остановился, не смея ни двинуться вперед, ни отступить, удерживаемый страхом стыда и страхом перед опасностью. Но генерал Бельяр, следовавший за генералом Русселем, поспешил туда, чтобы возбудить мужество этого полка своими словами и увлечь его своим примером, — и таким образом лес был взят.
Благодаря этому успеху сильный отряд неприятеля, направлявшийся к нашему правому флангу, чтобы обойти его, сам оказался обойденным. Мюрат заметил это и крикнул, махая саблей: «Пусть самые храбрые следуют за мной!» Но местность, прорезанная оврагами, благоприятствовала отступлению русских. Они углубились в лес, растянувшийся на два лье и представлявший последнюю завесу, скрывавшую от нас Витебск.
После такой жаркой битвы Мюрат и Евгений не решались двинуться туда, где скрывался неприятель. Тут прибыл император, и они бросились к нему, чтобы показать, что было сделано и что еще оставалось сделать.
Наполеон тотчас же направился к возвышенности, находившейся ближе всего к неприятелю. Оттуда его гений, обозревая все препятствия, скоро проник в тайну этих лесов и холмов. Он отдал приказ не колеблясь, и те самые леса, которые остановили отважных принцев, были пройдены, и в тот же вечер Витебск, с высоты своего холма, мог видеть наших стрелков, спускающихся на окружающую его равнину.
Здесь всё останавливало императора: ночь, множество неприятельских огней, покрывавших равнину, неизвестная местность, необходимость произвести рекогносцировки, чтобы руководить дивизиями; а главное, требовалось время, чтобы эта масса солдат, проходивших по узкой и длинной лощине, успела из нее выйти. Был сделан привал, чтобы передохнуть, осмотреться, соединиться, подкрепиться и приготовить оружие к завтрашнему дню. Наполеон спал в палатке на холме слева от большой дороги и позади деревни Куковячино.
Глава VIII
Двадцать седьмого июля император появился на аванпостах еще до рассвета. Первые лучи солнца указали ему, наконец, где находится русская армия, расположившаяся лагерем на возвышенности, господствующей над всеми дорогами к Витебску. У подножия этой позиции протекала речка Лучеса, промывшая глубокое русло. Впереди десять тысяч кавалерии и несколько пехотных отрядов, по-видимому, намеревались защищать подступ к ней. Пехота помещалась в центре на большой дороге. Ее левый фланг находился в возвышенных лесах, а кавалерия на правом фланге вытянулась в двойную линию, упираясь в Двину.
Фронт русских находился, однако, уже не против нашей колонны, а на нашем левом фланге. Он переменил направление вместе с рекой, изгиб которой удалил его от нас. Надо было, чтобы французская колонна развернулась, пройдя по узкому мосту, перекинутому через овраг, отделявший ее от этого нового поля битвы, и переместила фронт налево, выдвинув вперед правое крыло, чтобы с этой стороны опираться на реку и лицом к лицу встретить неприятеля. Император уже обратил внимание на маленький, отдельно стоявший холмик на краю оврага, вблизи моста и налево от большой дороги. Оттуда он мог видеть обе армии и, находясь сбоку от поля битвы, наблюдать ее, как секундант наблюдает дуэль.
Первыми выступили двести парижских стрелков 9-го пехотного полка. Они тотчас повернули налево, на виду всей русской кавалерии, опираясь, как и та, на Двину и обозначая левый фланг нового строя. За ними последовал 16-й конный егерский полк и несколько легких пушек. Русские хладнокровно смотрели, как мы дефилировали перед ними и готовили атаку.
Бездействие русских благоприятствовало нам. Но Мюрат, опьяняемый всеми обращенными на него взорами и увлекаемый своей обычною горячностью, двинул егерей 16-го полка на всю русскую кавалерию. Мы смотрели со страхом, как этот маломощный французский отряд, приведенный в беспорядок шествием по местности, перерезанной глубокими оврагами, двигался к неприятелю; несчастные егеря чувствовали себя приносимыми в жертву и поэтому нерешительно шли на верную гибель. При первом же движении русских гвардейских уланов они повернулись к ним спиной. Но овраги, через которые надо было переходить, задержали их бегство. Настигнутые уланами егеря были опрокинуты, и многие погибли.
При виде этого Мюрат, вне себя от огорчения, бросился с саблей наголо в битву, вместе с шестьюдесятью офицерами и окружающей его конницей. Его дерзость поразила русских уланов, и они остановились. В то время как он сражался и один из ординарцев спас ему жизнь, отрубив руку врага, уже занесенную над его головой, остатки 16-го полка, собравшись вместе, отправились под защиту 53-го полка.
Эта неудачная атака на русских гвардейских уланов привела егерей к подножию холма, откуда Наполеон давал указания корпусам армии. Несколько егерей французской гвардии тотчас же спешились, согласно обычаю, чтобы образовать заслон вокруг него. При помощи карабинов они отбросили неприятельских уланов, которые, отступая, повстречались с двумя сотнями парижских стрелков, оставшихся между двумя армиями вследствие бегства 6-го конного егерского полка. Они атаковали их, и взоры всех обратились сюда.
С той и с другой стороны этих пехотинцев считали уже погибшими. Только они одни не отчаивались. Прежде всего их командирам удалось, сражаясь, достигнуть местности, покрытой кустарниками и рытвинами, у берегов Двины. По привычке к войне все тотчас же собрались туда, чтобы быть вместе и опираться друг на друга ввиду приближающейся гибели. Тогда — как это всегда бывает в минуты неизбежной опасности — все посмотрели друг на друга, и более молодые, глядя на старших и на офицеров, старались прочесть на их лицах, на что они могут надеяться, чего должны бояться и что должны делать. Но все оказались преисполненными уверенности и, полагаясь друг на друга, стали в то же время больше рассчитывать на себя.
Прежде всего они искусно воспользовались условиями местности. Русские уланы, запутавшиеся в кустарниках и задержанные на своем пути рытвинами, тщетно ударяли своими длинными пиками в чащу и старались пробиться сквозь нее. Пули настигали их, и они падали, раненые или убитые, а их тела, вместе с телами лошадей, увеличивали препятствия, которые представляла эта местность. Наконец они отступили. Их бегство, крики радости нашей армии, почетный приказ, немедленно посланный императором и награждавший самых храбрых, его слова, прочитанные позже всей Европой, — всё это уяснило храбрецам, какой славой они себя покрыли. Они сами еще не понимали этого, так как достославные поступки всегда кажутся самыми обыкновенными тем, кто совершает их. Они уже приготовились к тому, чтобы быть убитыми или взятыми в плен, и вдруг увидели, почти в тот же момент, что они — победители и награждены!
Между тем Итальянская армия и конница Мюрата, за которыми следовали три дивизии 1-го корпуса, порученные, со времени Вильны, графу Лобо, произвели атаку на большую дорогу и леса, служившие точкой опоры левого неприятельского фланга. Схватка была горячая, но кончилась быстро. Русский авангард поспешно отступил за овраг Лучесы, чтобы не быть сброшенным туда. Неприятельская армия соединилась на другом берегу. Она насчитывала 80 тысяч человек.
Дерзкое поведение русских, занимавших сильную позицию, притом у одной из столиц, ввело в заблуждение Наполеона. Он полагал, что честь потребует от них, чтобы они удержали за собой это положение. Было только одиннадцать часов. Наполеон приказал прекратить атаку, чтобы спокойно осмотреть линию фронта и подготовиться к решительной битве на следующий день. Он отправился на холм, где были стрелки, и позавтракал среди них. Оттуда он мог наблюдать за неприятелем, причем один из стоявших близко к нему стрелков был ранен неприятельской пулей. Последующие часы были употреблены на рекогносцировку местности и ожидание других армейских корпусов.
Наполеон назначил битву на следующий день. Прощаясь с Мюратом, он сказал: «Завтра в пять часов взойдет солнце Аустерлица!» Эти слова объясняют, почему военные действия были приостановлены в момент успеха, воодушевившего солдат. Последние были удивлены, что их заставляют бездействовать, когда они, наконец, настигли армию, бегство которой истощало их силы. Мюрат, ежедневно обманывавшийся в своих ожиданиях, заметил императору, что Барклай, может быть, потому только выказывает такую отвагу в этот час, чтобы иметь возможность более спокойно удалиться ночью! Но так как ему не удалось убедить в этом Наполеона, то Мюрат смело расположился лагерем на берегу Лучесы, почти среди врагов. Такая позиция вполне отвечала его предприимчивому характеру и желанию услышать первые звуки отступления врага в надежде помешать ему.
Мюрат ошибался, а всё же оказалось, что он был прав. Наполеон же был реально прав, но события обманули его. Такова игра судьбы. Французский император правильно понял намерения Барклая. Русский генерал, полагая, что Багратион направляется к Орше, решил драться, чтобы дать ему время подойти к нему. Но известие, которое он получил вечером, об отступлении Багратиона через Новый Быхов к Смоленску, заставило его внезапно изменить свое решение.
В самом деле, 28-го, на рассвете, Мюрат послал сказать Наполеону, что он отправляется преследовать русских, которых уже не было видно. Наполеон настаивал на своем мнении, продолжая утверждать, что вся неприятельская армия находится там и что необходимо поэтому двигаться осторожно. Наконец он сел на лошадь, с каждым шагом его иллюзия исчезала, и вскоре он очутился посреди лагеря, покинутого Барклаем.
Всё в этом лагере указывало на знание военного искусства: удачный выбор места, симметрия всех его частей, точное и исключительное понимание назначения каждой части и, как результат, порядок и чистота. Притом ничего не было забыто. Ни одно орудие, ни один предмет и вообще никакие следы не указывали, вне этого лагеря, какой путь избрали русские во время своего внезапного ночного выступления. В их поражении было как будто больше порядка, чем в нашей победе! Побежденные и убегающие от нас, они давали нам урок! Но победители никогда не извлекают пользу из таких уроков — может быть, потому, что в счастьи они относятся к ним с пренебрежением и ждут несчастья, чтобы исправиться.
Русский солдат, найденный спящим под кустом, — вот единственный результат этого дня, который должен был решить всё! Мы вступили в Витебск, оказавшийся таким же покинутым, как и русский лагерь.
Напрасно обыскали мы все дороги. Направились ли русские к Смоленску? Или же они пошли вверх по Двине? Иррегулярный отряд казаков увлек нас за собой в этом последнем направлении, между тем как Ней отправился к Смоленску. Мы прошли шесть лье по пескам, среди густых облаков пыли и удушливого зноя. Ночь застала нас около Агапонова.
Изнемогая от усталости, голода и жажды, армия нашла для утоления только грязную, мутную воду. В это время Наполеон, Мюрат, Бертье и Евгений держали совет в императорской палатке, разбитой во дворе одной усадьбы, на возвышенности, на левой стороне большой дороги.
Эта столь желанная победа, которой мы так добивались и которая с каждым днем становилась для нас всё более и более необходимой, еще раз ускользнула из наших рук, как это уже было в Вильне! Русский арьергард был настигнут, это правда, но был ли это арьергард всей русской армии? Не представляется ли более вероятным, что Барклай бежал к Смоленску, через Рудню? До каких же пор надо будет преследовать русских, чтобы заставить их принять сражение? Необходимость организовать завоеванную Литву, устроить склады, лазареты, установить новые пункты для отдыха, обороны и наступления по всей операционной линии, которая удлинялась ужасающим образом, — разве всё это не должно было заставить нас остановиться на склонах Великой России?
Недалеко оттуда произошла стычка, о которой Мюрат умолчал. Наш авангард был сшиблен, и многие из кавалеристов должны были спешиться, чтобы продолжать отступление. Другие же не могли вывести из сражения своих истощенных лошадей иначе как держа их за узду. Император спросил Бельяра, и этот генерал откровенно заявил, что полки уже очень обессилены, что они измучены и нуждаются в отдыхе. Если продолжать идти еще шесть дней, то конница погибнет, поэтому пора остановиться!
К этим изматывающим факторам добавлялись еще палящие лучи солнца, отраженные горячими песками. Император был утомлен и потому согласился. Течение Двины и Днепра обозначало французскую боевую линию. Армия расположилась лагерем на берегах этих двух рек и между ними. Понятовский со своими поляками находился в Могилеве, Даву и 1-й корпус — в Орше, Дубровне и Любовичах, Мюрат, Ней, Итальянская армия и гвардия растянулись от Орши и Дубровны до Витебска и Суража. Аванпосты находились в Лядах, Инкове и Велиже, напротив аванпостов Барклая и Багратиона. Обе неприятельские армии — одна, бежавшая от Наполеона, через Двину, Дриссу и Витебск, другая, выскользнувшая из рук Даву, через Березину и Днепр, через Бобруйск, Быков и Смоленск, — соединились, наконец, между двумя реками.
Отделившиеся от центральной армии большие корпуса были расположены следующим образом: направо — Домбровский, против Бобруйска и против 12-тысячного корпуса русского генерала Эртеля; налево — Удино и Сен-Сир, в Полоцке и в Белой, на Петербургской дороге, которую обороняли Витгенштейн с 30 тысячами человек; на крайней левой — Макдональд и 38 тысяч пруссаков и поляков против Риги. Линия их растянулась направо, по реке Аа и к Динабургу.
В то же время Шварценберг и Ренье, во главе Саксонского и Австрийского корпусов, заняли, по направлению к Слониму, пространство между Неманом и Бугом, прикрывая Варшаву и тыл Великой армии, который подвергался опасности со стороны Тормасова. Виктор двигался от Вислы с резервом в 40 тысяч человек. А Ожеро собрал 11-ю армию в Штеттине.
Что касается Вильны, то там остался Маре вместе с посланцами разных дворов. Этот министр управлял Литвой, переписывался со всеми начальниками, посылал им инструкции, которые он получал от Наполеона, отправлял вперед продовольственные запасы, рекрутов и всё остальное.
Как только император принял решение, он вернулся в Витебск со своей гвардией. Двадцать восьмого июля, входя в императорскую квартиру, он снял саблю и, положив ее резким движением на карты, которыми были покрыты его столы, воскликнул: «Я останавливаюсь здесь! Я хочу здесь осмотреться, собрать армию, дать ей отдохнуть, хочу организовать Польшу. Кампания 1812 года кончена! Кампания 1813 года сделает остальное!»
Книга V
Глава I
С завоеванием Литвы цель войны была достигнута, а между тем война как будто только началась. В действительности же была побеждена лишь местность, но не люди.
Русская армия оставалась в целости. Оба ее крыла, разрозненные стремительностью первой атаки, снова соединились. Было лучшее время года. Но Наполеон при таких условиях все-таки бесповоротно решил остановиться на берегах Днепра и Двины. Тут он лучше всего мог обмануть врага насчет своих истинных намерений — так же, как обманывался и сам!
Его оборонительная линия уже была начертана на картах. Осадная артиллерия должна была идти на Ригу. На этот укрепленный город должен был опереться левый фланг армии. Затем в Динабурге и Полоцке оборона должна была быть усилена особо. Витебск было легко укрепить, и его высоты, покрытые лесом, могли служить для установки лагеря в центре. Оттуда, на юг, Березина и ее болота оставляли лишь несколько проходов, и для защиты их достаточно было небольшого количества войск. Дальше Бобруйск — он отмечал правый фланг этой огромной боевой линии, и был уже отдан приказ завладеть этой крепостью. В остальном рассчитывали на возмущение населения южных провинций. Это должно было помочь Шварценбергу прогнать Тормасова и увеличить армию за счет многочисленных казаков. Один из крупных помещиков в этих провинциях, важный барин, в котором всё, вплоть до внешности, указывало на знатность его происхождения, поспешил присоединиться к освободителям своего отечества. Его-то император и предназначил для руководства восстанием.
В этом плане было всё предусмотрено: Курляндия должна была прокормить Макдональда, Самогития — Удино, плодородные равнины Глубокого — императора. Южные провинции должны были сделать остальное. Притом же главный склад армии находился в Данциге, а большие пакгаузы — в Вильне и Минске. Таким образом армия должна была быть связана с землей, которую она освободила, а на этой земле реки, болота, продукты и жители — всё присоединялось к нам и готовилось нас защищать!
Таков был план Наполеона. Он осматривал Витебск и его окрестности для того, чтобы познакомиться с местностью, словно собирался обосноваться там надолго. Приступили к устройству всякого рода учреждений, построены были 36 хлебопекарен, которые могли одновременно испечь 29 тысяч фунтов хлеба. Но не ограничивались только необходимым, а приступили и к украшениям. Так как вид дворцовой площади портили кирпичные здания, то император приказал гвардии сломать их и убрать обломки. Он даже помышлял уже о зимних удовольствиях — парижские актеры должны были приехать в Витебск. Но так как этот город был теперь безлюдным, то Наполеон рассчитывал, что зрители сами явятся из Варшавы и Вильны.
Его звезда еще светила ему. Было бы счастьем для него, если б он не принял впоследствии порывов своего нетерпения за вдохновение своего гения!
Но, что бы ни говорили, только он сам мог себя поторопить; всё в нем происходило от него самого, и напрасно было пытаться убедить его в чем-либо.
Между тем Мюрат устал от бездействия и жаждал славы; он считал, что враг находится в пределах его досягаемости, и не мог справиться с эмоциями. Он покинул место расположения авангарда и прибыл в Витебск, где в частной беседе с императором дал выход своей импульсивности. Он обвинил русскую армию в трусости; по его словам, она отказалась от рандеву перед Витебском, как будто бы речь шла о дуэли. Эта армия охвачена паникой, и одной его легкой кавалерии достаточно, чтобы обратить ее в бегство. Эта вспышка вызвала у Наполеона улыбку; чтобы умерить его пыл, он сказал: «Мюрат! Первая кампания в России окончена; водрузим здесь наших орлов. Две большие реки очерчивают нашу позицию; построим блокгаузы на этой линии; наши пушки будут стоять по углам квадрата, внутри которого разместятся наши квартиры и наши склады: 1813 год застанет нас в Москве, 1814 год — в Петербурге. Война с Россией — трехлетняя война!»
В этот же день он во всеуслышание обратился к одному администратору со следующими замечательными словами: «Ваше дело, милостивый государь, позаботиться о том, чтобы мы могли жить здесь, потому что, — прибавил он громко, обратившись к своим офицерам, — мы не повторим глупости Карла Двенадцатого». Но вскоре его поступки опровергли эти слова, и все удивлялись равнодушию, с которым он отдавал приказания, касающиеся такого обширного обустройства.
Что касается левого фланга, то он не послал Макдональду ни инструкций, ни средств для овладения Ригой. На правом фланге важно было взять Бобруйск. Эта крепость стоит посреди больших и топких болот, и ведение осады было поручено кавалерии.
Со времен войны с Пруссией Наполеон считал, что нет ничего невозможного. Его приказы предполагали, что нужно пытаться сделать всё, поскольку до сего времени все его предприятия были успешными. Поначалу это породило великие усилия, однако не все из них имели счастливый конец. Люди приходили в уныние, но их предводитель продолжал упорно добиваться цели; он обрел привычку командовать всем, подчиненные привыкли всего не выполнять.
Между тем Домбровский был оставлен перед этой крепостью со своей Польской дивизией, численность которой Наполеон определял в 8000, хотя хорошо знал, что она в то время не превышала 1200 солдат. Он преувеличивал свои силы либо для того, чтобы обмануть врага, либо из желания вдохнуть в своих генералов дополнительные силы.
Впрочем, умеренность первых речей Наполеона не обманула его приближенных. Они помнили, что при виде пустого лагеря русских в покинутом Витебске он резко повернулся к ним, услышав, что они радуются победе, и воскликнул: «Уж не думаете ли вы, что я пришел так издалека, чтобы завоевать эту лачугу?..»
Все знали, впрочем, что, имея в виду грандиозную цель, он никогда не составлял определенного плана и предпочитал руководствоваться обстоятельствами, так как это более отвечало быстроте его гения.
Наполеон был внимателен к солдатам. Если он встречал обоз с ранеными, то останавливал их, расспрашивал о том, что им приходилось переносить, о боях, в которых они получили ранения, успокаивал их и проявлял щедрость.
Особое внимание он уделял своей гвардии: каждый день он проводил смотры и хвалил солдат, а если и ругал, то в основном администраторов, что нравилось воинам.
Он часто посылал вино со своего стола часовому, а однажды собрал элиту своей гвардии, чтобы представить нового командира; он сделал это сам, а затем публично обнял его. Одни думали, что его знаки внимания являются проявлением благодарности за былые заслуги, другие видели в этом признак его тяжелого положения.
Наполеон льстил себя надеждой, что получит от Александра новые предложения о мире. Лишения и ослабление армии заботили его. Надо было дать время длинной веренице отставших и больных добраться сюда и присоединиться к своим корпусам или же лечь в лазареты. Надо было, наконец, создать госпитали, собрать припасы, дать отдых лошадям и подождать походные лазареты, артиллерию, понтоны, которые еще тащились с трудом по литовским пескам. Переписка с Европой должна была служить ему развлечением. Само палящее небо останавливало его здесь: таков уж климат, он состоит из крайностей. Небо либо всё иссушает, либо всё заливает, сжигает или замораживает эту землю, со всеми ее жителями, которых оно как будто должно было защищать.
Коварная жара ослабляла нас и делала более восприимчивыми к холоду, который должен был вскоре дать себя почувствовать.
Император был не менее других чувствителен ко всему этому. Но когда отдых подкрепил его, а от Александра не явилось ни одного посланца, и когда им были сделаны все распоряжения, его охватило нетерпение.
Он стал беспокойным. Может быть, как все деятельные люди, он тяготился бездействием и скуке ожидания предпочитал опасность? Или же он был охвачен жаждой приобретения, которая у большинства бывает сильнее радости сохранения или боязни потерь?
Тогда-то идея взять Москву завладела его мыслями. Это был конец его боязни, цель всех его надежд, и в обладании ею он находил всё! С этой минуты уже можно было предвидеть, что такой беспокойный и великий гений, привыкший к кратким путям, не станет дожидаться восемь месяцев в бездействии, чувствуя, что цель близка, и достаточно будет двадцати дней, чтобы ее достигнуть!
Не следует судить об этом необыкновенном человеке на основании слабостей, присущих всем людям. Пусть выслушают его самого, и тогда станет ясно, до какой степени его политическое положение усложняло его военную позицию. Позднее будут менее осуждать принятое им решение, когда увидят, что судьба России зависела от физических сил и здоровья Наполеона, которое изменило ему у самой Москвы!
Однако сначала он самому себе, по-видимому, не осмеливался признаться в таком дерзком плане. Но мало-помалу он стал смелее и принялся обсуждать его. Тогда-то нерешительность, всё время терзавшая его душу, завладела им совершенно. Он бродил по своим апартаментам, точно преследуемый этим опасным искушением. Ничто уже не могло удержать его внимания. Он брался за работу и снова бросал ее, ходил без всякой цели, справлялся о времени, смотрел на погоду… Он останавливался, поглощенный какою-то мыслью, напевал что-то с озабоченным видом и снова начинал ходить…
В этом состоянии озабоченности он говорил отрывистые фразы тем, кто попадался ему навстречу: «Ну, что ж нам теперь делать? Останемся здесь? Или же пойдем дальше вперед? Можно ли останавливаться на такой славной дороге?» Но ответа он не ждал и отправлялся опять бродить, как будто искал что-нибудь или кого-нибудь, кто помог бы ему решиться.
Наконец, точно сраженный своею нерешительностью и обремененный тяжестью такой важной идеи, он бросился на одну из кроватей, расставленных по его приказанию в разных комнатах. Его тело, истомленное жарой и напряжением мыслей, оставалось прикрытым только самой легкой одеждой. Так он проводил в Витебске большую часть своих дней.
Но когда тело его отдыхало, ум продолжал работать еще напряженнее. Как много побудительных причин толкало его к Москве! Как перенести в Витебске скуку семи зимних месяцев?! Он, который всегда сам нападал, теперь принужден был обороняться! Эта роль была недостойна его! У него не было для нее опыта, и она плохо соответствовала его гению.
В Витебске еще ничего не было решено, но на каком расстоянии он уже находился от Франции! Разве продолжительность предприятия не делала его более опасным? Должен ли он давать России время для вооружения? Как долго может длиться состояние неопределенности, не нанося ущерба представлениям о его непогрешимости (а вред уже нанесен испанским сопротивлением) и не порождая в Европе опасных надежд? Что подумают, узнав, что треть его армии рассеялась либо подвержена болезням, и солдаты больше не в строю? Нужно было как можно скорее ослепить мир блеском великой победы и скрыть все жертвы под ее лаврами.
Затем он предвидел скуку, неудобства, волнения и траты, связанные с обороной, в то время как в Москве будут мир, изобилие, компенсация военных расходов и бессмертная слава. Он убеждал себя в том, что для него смелость и есть наибольшее благоразумие, что в опасных предприятиях всегда есть риск в начале, но он часто оправдывается в конце, и что чем более эти предприятия непозволительны, тем больше потребность в их успехе. Следует закончить это дело, поразить вселенную, сломить Александра своей смелостью и взять приз, который компенсирует столь многие потери.
Та самая опасность, которая, возможно, должна была заставить его вернуться к Неману или оставаться на Двине, гнала его к Москве. Такова особенность плохих позиций: всё в них опасно, безрассудная смелость становится благоразумием, любой выбор является ошибкой, и надеяться можно лишь на ошибки врага или на случай.
Тогда, точно приняв внезапное решение, он вставал, как будто боясь раздумывать, чтобы не поколебаться опять. Его голова была уже полна этим планом, который должен был доставить ему победу. Он спешил к своим картам. На них он видел Смоленск и Москву, Великую Москву, святой город! Все эти названия он повторял с удовольствием, и они как будто еще подстрекали пылкость его желаний. При виде этой карты, разгоряченный своими опасными идеями, он находился как будто во власти гения войны. Голос его становился крепче, взор ярче и выражение лица более жестоким. Его избегали тогда столько же из страха, сколько из почтительности. Но наконец его план был готов, решение принято и путь намечен! Тогда он успокоился, точно освобожденный от груза, тяготившего его, черты его лица прояснились и снова приняли прежнее спокойное и веселое выражение.
Глава II
Решение было принято, но Наполеон хотел, чтобы окружающие его не были недовольны. Однако каждый из них, сообразно своему характеру, выказал оппозицию этому плану. Бертье выражал свое неудовольствие грустным видом, жалобами и даже слезами. Лобо и Коленкур откровенно высказывали свои взгляды: первый делал это громко и с холодной резкостью, извинительной у такого храброго генерала, второй же выражал свое несогласие с горячностью, почти доходившей до дерзости, и настойчивостью, граничащей с упрямством. Император отверг с досадой все их замечания и даже закричал, обращаясь к своему адъютанту, так же, как и к Бертье, что он слишком обогатил своих генералов и поэтому они теперь мечтают только об удовольствиях охоты да о том, чтобы блистать в Париже своими роскошными экипажами. Война им уже надоела!
Честь их была задета, и им ничего больше не оставалось делать, как склонить голову и покориться. Под влиянием досады император сказал одному из своих гвардейских генералов:
— Вы родились на бивуаке и там вы умрете!..
Дюрок не одобрял плана Наполеона. Сначала он выражал свое неодобрение холодным молчанием, потом оно вылилось в откровенные ответы, правдивые доклады и короткие замечания. Император отвечал ему, что он сам прекрасно видит, что русские стараются его завлечь. Но всё же он находит нужным идти на Смоленск. Там он обоснуется, и если весной 1813 года Россия не заключит мира, она погибла! Ключ к обеим дорогам, в Петербург и Москву, находится в Смоленске, поэтому необходимо овладеть этим городом. Оттуда можно будет одновременно идти на обе столицы, на Петербург и Москву, чтобы всё разрушить в одной и всё сохранить в другой…
Он сказал, что обратит свое оружие против Пруссии и заставит ее заплатить военные издержки…
Явился Дарю. Этот министр отличался такой непреклонностью, что казался бесстрастным. Император спросил его, что он думает об этой войне.
«Думаю, что она не национальна, — отвечал Дарю. — Ввоз кое-каких английских товаров в Россию и даже учреждение Польского королевства не могут служить достаточными причинами для столь отдаленной войны. Ни ваши войска, ни мы сами не понимаем ни ее целей, ни необходимости, и поэтому всё говорит за то, чтобы здесь остановиться».
Император воскликнул: «Вы принимаете меня за сумасшедшего? Разве вы не слышали, как я говорил, что войны в России и Испании — это две язвы, которые истощают Францию, и что она не может вынести их одновременно?»
Наполеон сказал, что он очень хочет мира, но для переговоров нужны два человека, а он один. Разве он получил хотя бы одно письмо от Александра?
Чего он может ждать в Витебске? Это правда, что две реки очерчивают французскую позицию; но зимой в этой стране нет рек. Линия — только видимость, это линия демаркации, а не разделения, поэтому необходимо построить города и крепости для защиты от стихий, создать буквально всё, поскольку всё есть дефицит, даже провизия, если не встать на путь истощения Литвы, что сделает ее враждебной; но если они будут в Москве, то смогут взять всё что пожелают; здесь же всё нужно покупать. «Следовательно, — продолжал Наполеон, — вы не можете обеспечить мою жизнь в Витебске, а я не смогу защищать вас здесь; мы оба здесь не в своей стихии».
Император указал, что если он вернется в Вильну, то снабжение станет более простым, однако защищаться там не легче; в таком случае нужно будет возвращаться на Вислу и оставить Литву. В Смоленске же он будет уверен, что получит или решающую битву, или по крайней мере крепость и позицию на Днепре.
Они вспоминают Карла XII, но если экспедиции в Москву пока не удавались, то это потому, что не было человека, способного добиться успеха, который на войне наполовину зависит от счастья; если бы люди всегда ждали наступления благоприятных обстоятельств, то ничего бы не предпринималось; мы должны начать, чтобы закончить; нет таких дел, где всё идет ровно и гладко, и во всех человеческих планах у случая есть своя доля; короче говоря, не правило рождает успех, но успех выводит правило; и если он добьется успеха с помощью новых средств, то этот успех создаст новые принципы.
«Кровь еще не пролита, — добавил Наполеон, — Россия же слишком велика, чтобы уступить без боя. Александр может начать переговоры только после большого сражения. Если понадобится, то я пойду до самого святого города, чтобы добиться этого сражения. Мир ждет меня у ворот Москвы. Но когда честь будет спасена, а Александр все-таки будет упорствовать, то я начну переговоры с боярами, если не с самим населением этой столицы. Население Москвы велико и достаточно просвещенно. Оно поймет свои интересы и поймет свободу». В заключение он прибавил, что Москва ненавидит Петербург, и он воспользуется их соперничеством.
Возбужденный этим разговором, император разоблачил свои надежды. Дарю возразил ему, что дезертирство, голод и болезни привели к тому, что армия уменьшилась на треть. Если не хватит продовольствия в Витебске, то что же будет дальше?
Бертье прибавил, что если мы опять пойдем вперед, то наши фланги слишком растянутся, и это будет выгодно русским. Голод и в особенности русская свирепая зима также будут их союзниками; тогда как, оставшись здесь, император будет иметь зиму союзницей и сделается хозяином войны. Он будет держать ее в своей власти, вместо того чтобы идти за ней следом…
Бертье и Дарю возражали. Император кротко слушал, но часто прерывал их своими ловкими замечаниями, ставя вопрос так, как это было ему желательно. Но как бы ни были неприятны истины, которые были произнесены, Наполеон все-таки выслушал их терпеливо и даже отвечал. И в этом споре его слова, его манера, все его движения отличались простотой, снисходительностью и добродушием. Впрочем, добродушия всегда было у него достаточно, чем и объясняется то, что, несмотря на столько бед, его все-таки любили те, кто жил вблизи него.
Император, не очень довольный этим спором, призвал еще нескольких генералов своей армии. Но его вопросы заранее наводили их на ответ. Некоторые из этих военачальников, рожденных солдатами и привыкших повиноваться звуку его голоса, были так же подчинены ему во время этих разговоров, как и на поле битвы.
Однако все понимали, что зашли слишком далеко. Нужна была победа, чтобы быстро выпутаться из этого положения, а победу мог дать только он! Притом же неудачи умалили армию, и оставшиеся в ней были избранными как в физическом, так и в умственном отношении. Чтобы добраться сюда, надо было противостоять стольким испытаниям! Скука и плохие условия их стоянки волновали генералов. Оставаться было невыносимо, отступать нельзя; следовательно, надо было идти вперед.
Великие имена Смоленска и Москвы не пугали их. В прежние времена эта неизвестная земля, новый народ и отдаленность от всего подействовали бы удручающим образом на обыкновенных людей и заставили бы их отступить. Но именно это и привлекало их. Им нравилось бывать в таких рискованных положениях. Новая грозная опасность придавала всему совершенно особый характер и обещала сильные ощущения, полные привлекательности для деятельных людей, которые испробовали всё и которым постоянно нужно было что-то новое.
Честолюбие Наполеона не знало границ. Всё кругом внушало ему страсть к славе, и будущие успехи казались неисчислимыми. Ах! Как измерить влияние, оказываемое могущественным императором, который мог сказать своим солдатам после победы при Аустерлице: «Дайте мое имя вашим детям, я вам это разрешаю. А если среди них окажется достойный, то я ему завещаю всё свое имущество и назову его своим преемником».
Глава III
Между тем соединение двух крыльев русской армии в Смоленске принудило Наполеона приблизить один к другому и свои армейские корпуса. Еще не было дано ни одного сигнала к атаке, но война окружала его. Она как будто искушала его гений посредством успеха и подстрекала его неудачами.
На левом фланге Удино предпринял смелый марш. Генерал противника Витгенштейн должен был прикрывать дорогу на Петербург. Опасаясь угроз со стороны Удино и Макдональда, он оказался между двух пересекающихся дорог — из Полоцка и Динабурга. Тридцатого июля он увидел, что войска герцога Реджио обходят его с левого фланга, и поспешил туда.
Его решительность расстроила планы Удино, который потерял два дня; в итоге французский маршал утратил свое преимущество. Оказавшись в ограниченном пространстве, он не решился атаковать и покинул опасное место; увидев, что тот отступает, противник расстроил его ряды, и сотня пленных вместе с багажом попали в руки Кульнева.
Воодушевленный этой легкой победой, Витгенштейн перешел все границы. Он приказал Кульневу вместе с двенадцатью тысячами солдат преследовать Альбера и Леграна. Последние укрылись за земляным валом, откуда увидели, как русский генерал опрометчиво устремился в дефиле между ними и рекой; они внезапно на него напали и опрокинули, захватив восемь пушек и восемь тысяч пленных.
Кульнев погиб как герой: пушечное ядро раздробило обе его ноги и отбросило его на собственную пушку; видя приближающихся французов, он сорвал свои награды и в порыве гнева от собственного безрассудства обрек себя на смерть, приказав солдатам оставить его. Вся русская армия горевала о нем.
Неожиданный успех воодушевил французов, их авангард пошел в наступление и оказался перед русской армией. Удино был оттеснен к Двине и до Полоцка. Наполеон, недовольный отступлением, послал Сен-Сира и баварцев в этом направлении, тем самым создав группировку общей численностью в 35 тысяч солдат.
В то же время в Витебске узнали, что авангард принца Евгения имел успех около Суража, но в центре, около Днепра, в Инкове, Себастиани потерпел неудачу из-за численного превосходства неприятеля.
Наполеон написал тогда Маре, чтобы тот ежедневно сообщал туркам про новые победы. Будут ли эти известия истинными или вымышленными — безразлично, лишь бы разорвать мир турок с русскими.
В это время в Витебск приехали депутаты Червонной Руси и рассказали Дюроку, что они слышали, как русские пушки возвестили о мире в Будапеште. Этот мир, подписанный Кутузовым, был теперь ратифицирован.
Дюрок тотчас же передал это Наполеону, и тот сильно огорчился. Молчание Александра больше не удивляло его!
Конечно, это событие сделало в глазах Наполеона еще более необходимой быструю победу. Всякая надежда на мир рушилась. Он читал воззвания русских. Они были грубы, как и подобает грубому народу. Вот некоторые выдержки из них[18]:
«Враг с беспримерным коварством возвещает о разрушении нашей страны. Наши храбрецы горят желанием ринуться на его батальоны и истребить их. Но мы не хотим приносить наших храбрецов в жертву на алтарь этого Молоха. Необходимо, чтобы все восстали против всемирного тирана. Он является, с изменой в сердце и честностью на словах, чтобы покорить нас посредством легионов своих рабов. Изгоним же это племя саранчи! Будем носить крест в наших сердцах, а железо в наших руках! Вырвем зубы у этой львиной головы и низвергнем тирана, который хочет перевернуть землю!..»
Император взволновался. Всё возбуждало его: удачи, оскорбления, неудачи. Движение впереди Барклая, тремя колоннами, на Рудню, и энергичная оборона Витгенштейна — всё, по-видимому, предвещало битву. Приходилось выбирать между ней и обороной — длительной, трудной, кровопролитной и непривычной для Наполеона, вдобавок сопряженной с большими затруднениями из-за отдаленности подкреплений, что, разумеется, поощряло неприятеля.
Наполеон, наконец, принял решение — не безрассудное, но тем не менее дерзкое. Он удалился от Удино, но лишь после того, как подкрепил его Сен-Сиром и приказал соединиться с Макдональдом. Отправляясь на врага, Наполеон переменил, на глазах у него и с его ведома, свою операционную линию — с Витебска на Минск. Его маневр так хорошо был придуман, и он приучил своих подчиненных к такой пунктуальности, точности и тайне, что в четыре дня, в то время как изумленная неприятельская армия напрасно высматривала французов, Наполеон уже находился во главе 185 тысяч человек на левом фланге и в тылу врага, осмелившегося на мгновение подумать, что его можно будет захватить врасплох!
Десятого августа Наполеон отдал приказ двинуться. В четыре дня вся его армия уже должна была быть в сборе на левом берегу Днепра, около Ляд. Он покинул Витебск 13-го, пробыв там две недели.
Книга VI
Глава I
Дело у Инково заставило Наполеона вновь стать решительным: 10 тысяч русских конников вступили в бой с авангардом и опрокинули Себастиани и его кавалерию. Донесение побитого генерала, смелость атаки, надежда, а лучше сказать, острая потребность в решительной битве — всё это привело к тому, что Наполеон воспринял реальность как она есть: русская армия находилась между Двиной и Днепром и направлялась в центр его позиций.
Великая армия была рассеяна, нужно было собрать ее воедино. Наполеон решил оставить свою операционную линию в районе Витебска и пройти узкой колонной, состоявшей из его гвардии, Итальянской армии, трех дивизий Даву, перед фронтом атаки русских. Имея 185 тысяч солдат, он рассчитывал достичь Смоленска раньше русской армии; в случае успеха этого плана он отрезал бы ее не только от Москвы, но и от центра и юга империи.
Таким образом, операционная линия огромной армии неожиданно менялась: 200 тысяч солдат, разбросанных на пространстве в более чем пятьдесят лье, должны были разом собраться вместе. Несомненно, это было одно из тех великих решений, которые мгновенно меняют лицо войны, решают судьбы империй и отражают гениальность завоевателей.
Мы шли вперед: французская армия представляла собой длинную колонну, растянувшуюся от Орши до Ляд и двигавшуюся по левому берегу Днепра. Корпус Даву выделялся среди других своим порядком, его дивизии смотрелись очень гармонично и могли быть приняты за образец для армии. Всё в них было хорошо — и внешний вид солдат, которых заботливо обеспечивали всем необходимым, и внимание к вопросам обеспечения провиантом. Сила этих дивизий была счастливым результатом их суровой дисциплины.
Одна дивизия Гюдена испытывала нужду: из-за плохо составленных приказов она бродила двадцать четыре часа по болотистым лесам; в конце концов, она прибыла, но ее численность уменьшилась на триста солдат.
Император за день осилил дорогу от Двины до Днепра и пересек эту реку перед Расасной. Огромное расстояние от дома, древность самого названия реки и всё с этим связанное разжигало наше любопытство. Впервые победоносное оружие французской армии отразится в водах этой реки московитов. Наши глаза искали ее с честолюбивым нетерпением, и вот мы увидели ее, зажатую между лесистыми и неокультуренными берегами. Днепр предстал перед нами в скромном виде, и наша гордость была принижена.
Император спал в своей палатке перед Расасной; на следующий день армия пошла вперед, готовая развернуться в боевой порядок. Император находился посреди нее верхом на лошади. Авангард гнал перед собой две группы казаков, которые оборонялись, чтобы выиграть время для разрушения мостов.
Мы перешли водную преграду вброд, причем все самостоятельно выбирали место перехода, как будто корпуса, дивизии и каждый солдат не были зависимы от других. Генеральный штаб не заботился о том, чтобы указать правильный путь, если дорог было несколько.
Офицеры проходили мимо отставших и потерявшихся солдат, как будто не замечая их. Каждый был слишком занят собой, чтобы обращать внимание на других. Среди этих отставших было много мародеров, которые симулировали болезнь либо ранение и отделились от общей массы. Это явление всегда будет существовать в больших армиях, стремительно идущих вперед; не может быть индивидуального порядка среди общего беспорядка.
До Ляд деревни на вид были более еврейские, чем польские; литовцы иногда бежали при нашем приближении, евреи всегда оставались: ничто не могло заставить их покинуть их бедные селения; их можно узнать по неясному произношению, многословию и торопливой манере разговора, живости и внешнему виду. Мы отмечали их жадные и пронизывающие взгляды, длинные и заостренные лица и черты, которые почти не менялись, когда на них появлялась злая и предательская улыбка; они высокие, их фигуры худощавые и гибкие, они ведут себя с важностью; у них бороды, обычно рыжие, и длинные одежды, подвязанные вокруг поясницы кожаными поясами; они грязные, как и литовские крестьяне, но во всем остальном от них отличаются; всё в них свидетельствует о деградации.
Кажется, они покорили Польшу, которая кишит ими, и целиком ее высосали. Их религия сделала их врагами человечества; прежде они действовали оружием, теперь берут хитростью. Русские питают к ним отвращение.
За Лядами евреи больше не встречаются, и появляются русские.
Глава II
Пятнадцатого августа, в три часа, армия увидала Красное. Один русский полк вознамерился защищать его. Но он удерживал маршала Нея лишь столько времени, сколько потребовалось, чтобы привести неприятеля в беспорядок. Когда поселение было взято, то увидели вдали разделившихся на две колонны 6000 русских пехотинцев, отступление которых прикрывали несколько эскадронов. Это был корпус Неверовского, который оставил на поле битвы 1200 убитых, 1000 пленных и 8 пушек! Честь этого дня принадлежит французской кавалерии. Атака была настолько же ожесточенная, насколько была упорна защита. Но на стороне последней было больше заслуг, так как она могла употреблять только одно железо против огня и железа.
Этот успешный день был днем рождения императора. Армия никогда не думала его праздновать. В нашем положении не могло быть иного празднества, кроме дня полной победы.
Однако Мюрат и Ней в своих донесениях императору отнеслись к событию с пиететом и отметили его салютом из ста пушек. Император был недоволен и заметил, что в России следует более экономно относиться к французскому пороху; ему ответили, что это был русский порох, взятый днем раньше. Услышав, что его день рождения отпразднован за счет врага, Наполеон улыбнулся.
Евгений также счел своим долгом выразить наилучшие пожелания. Император сказал ему: «Всё готово для битвы; я дам сражение, и мы увидим Москву». Вице-король хранил молчание, пошел прочь, но вернулся, чтобы ответить на вопросы маршала Мортье. Он сказал: «Москва будет нашим крахом». Так началось выражение недовольства. Дюрок, друг и доверенное лицо императора, громко заявил, что не может предвидеть время нашего возвращения. Высшие офицеры знали, что если решение принято, то они все вместе должны его выполнять; чем опаснее становится ситуация, тем более бесстрашными следует быть, и всякое слово, направленное на ослабление усердия, является предательским; с тех пор мы видели, как те, кто выражал несогласие с императором молча или словами, выходили из его палатки полные доверия и надежды. Такое отношение диктуется честью, но большинство видит в этом лесть.
Неверовский, почти совершенно разбитый, бежал в Смоленск, чтобы там запереться. Он оставил позади лишь несколько казаков, чтобы сжечь фураж. Жилища же остались нетронутыми.
Глава III
В то время как Великая армия продвигалась вверх по течению Днепра, по левому его берегу, Барклай и Багратион, находившиеся между этой рекой и озером Каспля, по направлению к Инково, всё еще воображали, что они находятся в присутствии французской армии, и были в нерешительности. Два раза, увлекаемые советами генерал-квартирмейстера Толля, они собирались прорвать линию наших войск, но оба раза, испуганные своей смелостью, останавливались среди начатого движения. Слишком робкие и не решающиеся действовать по собственному усмотрению, они, по-видимому, ждали дальнейших событий, чтобы принять решение и сообразовать свою защиту с нашей атакой.
Наблюдая за движениями русских, можно было догадаться, что между двумя их военачальниками нет должного взаимопонимания. Они были совершенно непохожими друг на друга, их должности, характер, само их происхождение различались. С одной стороны — холодное бесстрашие, научный, методичный и непоколебимый гений Барклая, который должен был всё рассчитать своим немецким умом, даже риск случая, склонный во всем полагаться на свою тактику, а не на удачу; с другой стороны — отважный и страстный инстинкт Багратиона, недовольного своим подчинением генералу, который служил меньше него, ужасного в битве, но незнакомого ни с какой другой книгой, кроме природы, ни с каким иным учителем, кроме памяти, и ни с каким другим советником, кроме собственного вдохновения.
Багратион сгорал от стыда при мысли об отступлении без боя. Вся армия разделяла его пыл, и это настроение подкреплялось, с одной стороны, патриотической гордостью дворянства, успехом в Инково и суровыми замечаниями тех, кто не нес никакой ответственности, а с другой стороны, — нацией крестьян, купцов и солдат, которые видели в нас осквернителей их священной земли. Короче говоря, все требовали битвы.
Один Барклай был против того, чтобы сражаться. Его план, ошибочно приписываемый Англии, сформировался еще в 1807 году, но он должен был сражаться со своей собственной и нашей армиями, и хотя он и был главнокомандующим и министром, но не являлся ни в достаточной степени русским, ни в достаточной степени успешным для того, чтобы завоевать доверие русских. Один Александр доверял ему.
Багратион и его офицеры сомневались, стоит ли ему подчиняться. Они должны были защищать родную землю, посвятить себя спасению всех; это было дело каждого, и каждый считал себя имеющим право судить. Таково положение военачальников: когда они побеждают, то все слепо им подчиняются, когда неудачливы, то все их критикуют.
В один момент Барклай готов был поддаться общему порыву, концентрировал свои силы у Рудни и собирался застать врасплох французскую армию. Он колебался и потерял несколько дней в маршах и контрмаршах. После неудачи Неверовского он больше не помышлял об атаке и поспешил к Смоленску, чтобы защищать его.
Мюрат и Ней уже атаковали город, первый кавалерией, второй пехотой; Понятовский прибыл из Могилева.
Смоленск построен на двух крутых холмах. Он представляет собой как бы два города, разделенных рекой и соединенных двумя мостами. Новый город расположен на правом берегу Борисфена, он полностью занят торговцами.
Старый город, занимающий плато и склоны левого берега, окружен стенами высотой двадцать пять футов и толщиной восемнадцать футов; он защищен двадцатью девятью массивными башнями, земляной цитаделью с пятью бастионами и широким рвом.
Жители города, выходившие из храмов, где все воздавали хвалу Всевышнему за победы их оружия, были ошеломлены: они увидели своих солдат, в крови, побежденных и бегущих перед победоносной французской армией. Беда была нежданной и ужасной.
Вид Смоленска воспламенил пылкое нетерпение маршала Нея. Неизвестно, вспомнил ли он так некстати чудеса Прусской войны, когда крепости падали под саблями наших кавалеристов, или же только хотел произвести рекогносцировку этой первой русской крепости, но подошел он слишком близко. Одна из пуль задела его шею. Раздраженный, он направил батальон в атаку, под градом пуль и ядер, вследствие чего потерял две трети своих солдат. Другие последовали за ним, и только русские стены могли их остановить. Вернулись лишь немногие. Об этой героической попытке говорили мало, потому что она была бесплодна и, в сущности, ошибочна.
Охлажденный неудачей, маршал Ней отступил на песчаную, покрытую лесом возвышенность на берегу реки. Он обозревал город и страну, когда на другой стороне Днепра он заметил вдали движущиеся массы войск. Он бросился к императору и провел его сквозь густую чащу кустарников, чтобы пули не могли его настигнуть.
Наполеон, поднявшись на холм, увидал в облаке пыли длинные черные колонны и сверкающие массы оружия. Эти массы продвигались так быстро, что казалось, будто они бегут. Это были Барклай, Багратион, около 120 тысяч человек — словом, вся русская армия!
Увидя это, Наполеон захлопал в ладоши от радости: «Наконец-то они в моих руках!» Сомневаться не приходилось. Эта армия, замеченная ими, спешила в Смоленск, чтобы развернуться в его стенах и дать нам, наконец, столь желанное нами сражение. Момент, в который должна была решиться судьба России, наконец наступил!
Император тотчас же осмотрел всю нашу боевую линию и каждому указал его место. Даву, а затем граф Лобо должны были развернуться направо от Нея, гвардия оставалась в центре, в резерве, а несколько дальше должна была находиться Итальянская армия. Жюно и вестфальцам было также указано место, но их ввел в заблуждение ложный маневр. Мюрат и Понятовский образовали правый фланг армии. Они уже угрожали городу, но Наполеон заставил их отодвинуться до опушки рощи, чтобы оставить свободной широкую равнину впереди, простиравшуюся от окраины леса до Днепра. Это было поле битвы, которое он предлагал неприятелю. Позади французской армии, размещенной таким образом, находились крутые обрывы, но император не заботился об отступлении, он думал только о победе!
Между тем Багратион и Барклай быстро возвращались к Смоленску; один должен был спасти город посредством битвы, а другой прикрывать бегство жителей и эвакуацию складов. Они решили оставить нам только пепел. Оба генерала достигли, запыхавшись, высот правого берега и вздохнули свободно только тогда, когда увидели, что мосты, соединяющие берега, еще находятся в их руках.
Наполеон напустил на неприятеля тучу стрелков, чтобы перетянуть его на левый берег и заставить принять битву на следующий день. Уверяют, что Багратиона было бы легко увлечь, но Барклай избавил его от этого искушения. Он отправил его в Ельню и взял на себя защиту города.
Барклай полагал, что большая часть нашей армии шла на Ельню, чтобы поместиться между Москвой и русской армией. Он ошибался. Оборонительная война всегда беспокойна и часто преувеличивает действия наступления, а страх, разгорячая воображение, заставляет приписывать неприятелю тысячу таких планов, каких у него нет. Возможно также, что Барклай, имея перед собой колоссального врага, ожидал от него и грандиозных действий.
Русские сами впоследствии осуждали Наполеона за то, что он не решился на этот маневр. Но подумали ли они о том, что, заняв место между рекой, укрепленным городом и неприятельской армией, он, конечно, отрезал бы русским дорогу в столицу, но в то же время отрезал бы и себе всякое сообщение с подкреплениями, другими своими армиями, с Европой? Те, кто удивляется, что маневр этот не был совершен сразу, очевидно, не понимают всех трудностей положения.
Как бы то ни было, но вечером 16-го Багратион выступил по направлению к Ельне. Наполеон разбил свою палатку в середине первой боевой линии, почти на расстоянии выстрела от смоленских пушек, на берегу оврага, окружающего город. Он призвал Мюрата и Даву. Первый заметил движения русских, указывавшие на то, что они готовятся отступить. Впрочем, со времени Немана он постоянно готов был видеть у них признаки отступления и потому не верил, что на другой день произойдет битва. Даву был противоположного мнения. Что же касается императора, то он, не колеблясь, верил тому, чему хотел верить.
Глава IV
Семнадцатого августа, на рассвете, Наполеон проснулся с надеждой увидеть русскую армию перед собой, и хотя поле битвы, приготовленное им, оставалось пустынным, он упорствовал в своем заблуждении. Даву разделял это заблуждение. Дальтон, один из генералов маршала, видел неприятельские батальоны, выходившие из города и выстраивавшиеся для битвы. Император ухватился за эту надежду, против которой тщетно восставали Ней вместе с Мюратом.
Но пока император надеялся и ждал, Бельяр, утомленный неизвестностью, увлек за собой нескольких кавалеристов. Он загнал отряд казаков в Днепр за городом и увидел на противоположной стороне, что дорога из Смоленска в Москву покрыта движущейся артиллерией и войсками. Сомневаться не приходилось: русские отступали! Императору тотчас же сообщили, что надо отказаться от надежды на битву, но что своими пушками он может, с противоположного берега, затруднить отступление неприятеля.
Бельяр предложил даже, чтобы часть армии перешла реку с целью отрезать отступление русского арьергарда, которому было поручено защищать Смоленск. Но кавалеристы, посланные отыскивать брод, проехали два лье, ничего не нашли и только утопили нескольких лошадей. Между тем существовал широкий и удобный проход всего в одном лье от города! Наполеон, сильно возбужденный, сам поехал в ту сторону. Но утомился и вернулся.
С этой минуты он начал смотреть на Смоленск лишь как на проход, которым надо было завладеть силой, и притом немедленно. Но Мюрат, осторожный, когда присутствие врага не воспламеняло его пылкости, и которому нечего было делать со своей конницей в планируемом броске, восставал против этого решения. Такое огромное усилие казалось ему совершенно излишним, так как русские сами отступали. Что же касается предложения настигнуть их, то на это он воскликнул, что так как они, видимо, не желают битвы, то пришлось бы их преследовать очень далеко, и поэтому пора остановиться!
Император возражал. Окончание разговора неизвестно. Однако потом король Неаполитанский говорил, что бросался перед ним на колени, заклинал его остановиться, но Наполеон видел только Москву! Честь, слава, покой — всё сосредоточивалось для него в Москве, и эта Москва должна была нас погубить! Из этого ясно, в чем заключалось разногласие между ними.
Лицо Мюрата выражало глубокое огорчение, когда он выходил от императора. Движения его были резки, и видно было, что он сдерживает сильное волнение. Он несколько раз повторил: «Москва».
Недалеко оттуда, на левом берегу Днепра, в том самом месте, откуда Бельяр наблюдал отступление неприятеля, была поставлена грозная батарея. Русские же противопоставили ей две другие, еще более страшные. Наши пушки стреляли ежеминутно. Мюрат погнал свою лошадь как раз в самую середину этого ада. Там он остановился, спешился и остался стоять неподвижно. Бельяр заметил ему, что он дает себя убить, убить бесполезно и бесславно. Мюрат, вместо всякого ответа, пошел вперед. Для окружавших его было ясно, что он отчаялся в этой войне и, предвидя ее печальный конец, ищет смерти, чтобы избежать такой судьбы! Но Бельяр продолжал настаивать и постарался обратить его внимание на то, что такая безрассудная смелость может быть гибельна для тех, кто его окружает. «Ну так убирайтесь, — отвечал Мюрат, — и оставьте меня одного!» Но никто не захотел покинуть его, и тогда Мюрат с запальчивостью развернулся и ушел с этого места как человек, вынужденный подчиниться.
Был отдан приказ начать общий приступ. Ней атаковал цитадель, Даву и Лобо — предместья у стен города. Понятовский, уже находившийся на берегах Днепра с шестьюдесятью пушками, должен был опять спуститься вдоль реки, разрушить мосты неприятеля и лишить гарнизон возможности отступления. Наполеон хотел, чтобы в то же самое время гвардейская артиллерия разрушила главную стену своими двенадцатифутовыми пушками, бессильными против такой толщины. Артиллерия, однако, не послушалась и продолжала свой огонь, направляя его на прикрытия дороги, пока не очистила ее.
Всё удалось сразу, за исключением атаки Нея, единственной, которая должна была иметь решающее значение, но которою пренебрегли. Враги были внезапно отброшены назад, за свои стены, и все, кто не успел укрыться, погибли. Однако, идя на приступ, и наши атакующие колонны оставили длинный и широкий кровавый след — ранеными и убитыми. Например, в одном батальоне, расположившемся флангом к русским батареям, ядро уложило сразу двадцать четыре человека.
Между тем армия, расположившись амфитеатром на возвышенностях, с безмолвной тревогой смотрела на своих товарищей по оружию. Когда атакующие в удивительном порядке, несмотря на град пуль и картечи, с жаром бросились на приступ, то армия, охваченная энтузиазмом, начала рукоплескать. Шум этих знаменитых аплодисментов был услышан атакующими. Он вознаградил самоотверженность воинов, и хотя в одной только бригаде Дальтона и в артиллерии Рейндра пять батальонных командиров, полторы тысячи солдат и генерал были убиты, все же те, которые остались в живых, рассказывали, что эти аплодисменты, отдававшие дань их храбрости, были для них достаточным вознаграждением за те страдания, которые они испытывали!
Достигнув стен города, осаждающие укрылись за разрушенными ими внешними зданиями. Перестрелка продолжалась. Свист пуль, который повторяло эхо, становился всё громче. Императора он утомил, и он хотел удалить свои войска. Так ошибка Нея, сделанная накануне одним из батальонов по его приказанию, теперь была повторена целой армией. Но первая обошлась армии в триста-четыреста человек, вторая — в пять — шесть тысяч! Однако Даву всё же убедил императора, что он должен продолжить атаку.
Настала ночь. Наполеон ушел в палатку, которую теперь перенесли в более безопасное место, чем накануне. Граф Лобо, завладевший рвом, чувствуя, что он не может больше держаться, приказал бросить несколько гранат в город, чтобы прогнать оттуда неприятеля. Тогда же над городом увидали несколько столбов густого черного дыма, временами освещаемого неопределенным сиянием и искрами. Потом со всех сторон поднялись длинные снопы огня, точно всюду вспыхнули пожары. Скоро эти огненные столбы слились вместе и образовали обширное пламя, которое, поднявшись вихрем, окутало Смоленск и со зловещим треском пожирало его.
Такое страшное бедствие, которое он считал делом своих рук, испугало графа Лобо. Император, сидя перед палаткой, молча наблюдал это ужасное зрелище. Еще нельзя было ни определить причин этого бедствия, ни предугадать его результатов, и ночь была проведена под ружьем.
Около трех часов утра один из унтер-офицеров Даву отважился подойти к основанию стены и бесшумно вскарабкался на нее. Тишина, господствовавшая вокруг него, придала ему смелости, и он проник в город. Вдруг он услышал несколько голосов, речь была славянская. Застигнутый врасплох и окруженный, он решил, что больше ничего не остается, как сдаться или быть убитым. Но первые лучи солнца показали ему, что те, кого он принимал за врагов, были поляки Понятовского! Они первые проникли в город, покинутый Барклаем.
После сделанных разведок и очистки ворот армия вошла в Смоленск и прошла дымящиеся и окровавленные развалины в боевом порядке, с военной музыкой и обычной пышностью. Но свидетелей ее славы тут не было. Это было зрелище без зрителей, победа почти бесплодная, слава кровавая, и дым, окружающий нас, был как будто единственным результатом нашей победы!
Глава V
Когда император узнал, что Смоленск окончательно занят и огонь почти погас, и когда дневной свет и многочисленные донесения достаточно разъяснили ему положение вещей, то он увидел, что и здесь, как на Немане, в Вильне и Витебске, призрак победы, так манивший его, снова ускользнул. Как обычно, он обследовал поле битвы, чтобы оценить потери сторон.
Он увидел, что оно покрыто мертвыми телами: русских было великое множество, и очень мало наших. Большинство из них были голыми; французов можно было отличить по белизне их кожи, менее костлявым и мускулистым телам, чем у русских. Мрачный смотр мертвых и умирающих! Какой печальный отчет предстояло сделать! Боль, которую испытывал император, была очевидной и проявлялась в его возбуждении; однако политика была его второй натурой, и она вскоре заставила замолчать чувства.
Этот подсчет мертвых на следующий день после битвы был обманчивым и имел дурной привкус: большинство наших уже было убрано, но вражеские солдаты всё еще были здесь — естественно, вначале заботились о своих.
Тем не менее император написал, что его потери в предыдущий день были значительно меньшими, чем у русских, что захват Смоленска сделал его хозяином соляных промыслов и его министр финансов может рассчитывать на двадцать четыре миллиона дополнительных доходов.
Продолжая свою разведку, он подошел к одним из ворот цитадели, вблизи Борисфена, напротив пригорода, расположенного на правом берегу и всё еще занятого русскими. Здесь в окружении маршалов Нея, Даву, Мортье, гофмаршала Дюрока, графа Лобо и еще одного генерала он присел на коврики перед хижиной и сделал это не для того, чтобы наблюдать за врагом, сколько для облегчения своего сердца; кроме того, он надеялся, что лесть или пыл его генералов придадут ему силы, необходимые для борьбы с реальностью и с самим собой.
Наполеон говорил долго, страстно и без остановки: какое бесчестье для Барклая отдать без борьбы ключ от старой России! И какое поле славы он предложил ему! Какое преимущество для него! Укрепленный город, который увеличивает его средства! Этот же город и эта река могут послужить тому, чтобы принять и защитить остатки армии в случае неудачи!
И что он теперь имеет для того, чтобы сражаться? Армию, конечно, многочисленную, но стесненную в пространстве, которой теперь можно отступать разве что в пропасти. Она подставлена под его удары. У Барклая есть все, кроме решительности. С Россией всё ясно. Ее армия может быть лишь свидетельницей падения городов и не в состоянии их защитить. В самом деле, на какой более благоприятной почве мог бы Барклай остановиться? Какую позицию он намерен отстаивать? Он, покинувший Смоленск, который он называл Святым Смоленском, сильным Смоленском, ключом Москвы, оплотом России, который должен был стать могилой французов! «Сейчас мы увидим, какие последствия будет иметь эта потеря для русских; мы должны увидеть литовских солдат, нет, даже смоленских, которые покидают ряды армии, возмущенные сдачей их столицы без борьбы».
Наполеон добавил, что надежные источники говорят о слабости русских дивизий, о том, что их численность значительно сократилась; скоро Александр останется без армии. Толпа крестьян с пиками, которую он только что видел в хвосте батальонов, наглядно свидетельствует о том, до чего дошли их генералы.
Когда он это говорил, над его ухом свистели русские пули, однако он взволнованно продолжал. Он метил во вражеского генерала и его армию, как будто бы он мог победить их рассуждениями. Никто ему не отвечал; было очевидно, что он не просил совета и что всё это он говорил самому себе и спорил с самим собой, впадая в иллюзии и стремясь внушить их другим.
Действительно, он никому не давал возможности вставить слово. Никто не верил в слабость и дезорганизацию русской армии, хотя он ссылался на документы, присланные Лористоном, французским послом в России, чьи оценки численности вооруженных сил были верными; однако эти данные были исправлены на основе источников менее надежных, и таким образом численность русской армии была уменьшена на одну треть.
Проговорив целый час, император, оглядывая высоты на правом берегу, завершил свою речь восклицанием: «Русские — бабы, и они признали себя побежденными!» Он пытался убедить себя в том, что эти люди в результате своих контактов с Европой утратили мужество дикарей; предыдущие войны кое-чему их научили, и они всё еще сохраняют свои примитивные добродетели в дополнение к тем, которые успели приобрести.
Он оседлал свою лошадь. Позднее гофмаршал сказал одному из нас: «Если Барклай совершил большую ошибку, не принимая бой, то император не должен был так сильно волноваться, чтобы убедить нас в этом».
Прибыл офицер, недавно посланный к князю Шварценбергу. Он доложил, что Тормасов появился вместе со своей армией на севере, между Минском и Варшавой, и наступает на нашу операционную линию. Саксонская бригада была захвачена в Кобрине, враг вторгся на территорию Великого герцогства, Варшава в тревоге — таковы первые результаты этого вторжения. Ренье позвал Шварценберга на помощь. Тормасов вернулся в Городечно, где он остановился 12 августа между двумя дефиле, на равнине, окруженной лесами и болотами.
Ренье всегда умел хорошо подготовиться к битве и является великолепным знатоком топографии; но когда поле боя становилось оживленным местом и покрывалось людьми и лошадьми, он терял самообладание; быстрые движения, кажется, ослепляли его. Вначале этот генерал увидел слабость русской позиции, затем устремился туда; однако вместо того чтобы прорвать вражескую линию всей массой, он просто начал вести атаки — одну за другой.
Тормасов получил время для организации обороны. Он дождался наступления ночи и увел армию с поля боя, на котором она могла быть побеждена быстрым и массированным натиском. Тормасов потерял несколько орудий, много багажа и четыре тысячи человек. Он отступил и соединился с Чичаговым, который спешил к нему на помощь вместе с Дунайской армией.
Эта победа, хотя и нерешительная, сохранила Великое герцогство: она заставила русских перейти к обороне, что дало императору необходимое время.
Рассказ об этих событиях укрепил Наполеона в его мнении; ни о чем не спрашивая адъютанта, он воскликнул: «Вы видите, они трусы! Даже австрийцы их бьют!» Затем, оглянувшись с опаской, он добавил: «Я надеюсь, нас никто не слышит, кроме французов». Затем он спросил, может ли он положиться на князя Шварценберга; адъютант поклялся в этом.
Когда Наполеон въезжал в Смоленск, граф Лобо воскликнул: «Прекрасное место для квартир!» В ответ император лишь бросил суровый взгляд.
Этот взгляд вскоре изменил свое выражение. Город был превращен в руины, среди которых ползали наши раненые, и в груды дымящейся золы, где лежали высушенные и сожженные человеческие тела. Ужасный вид привел его в расстройство. Что за плоды победы! Этот город, в котором его армия должна была найти убежище, провизию, богатые трофеи, обещанную компенсацию за столь многие лишения, представлял собой развалины, среди которых он должен был стоять бивуаком! Несомненно, он имел огромное влияние на своих людей, но оно не было безграничным. Что они могли подумать?
Уместно заметить, что солдатские лишения ни для кого не были секретом. Он знал, что воины спрашивают друг друга, для чего они прошли восемьсот лье; уж не для того ли, чтобы найти грязную воду, голод и бивуаки на пепелищах? У них нет ничего, кроме того, что они принесли с собой; но раз необходимо было всё тащить на себе, перевезти Францию в Россию, то стоило ли покидать Францию?
Некоторые генералы начали уставать — одни ссылались на болезнь, другие роптали: для чего он их обогащал, если они не могут насладиться своим богатством? Для чего давал жен, если они не видят их, являясь по сути дела вдовцами? Ради чего даровал им дворцы, если всё время заставляет их лежать на голой земле, в холоде и снегу? Год от года всё больше мучений; новые завоевания вынуждают их идти всё дальше в поиске новых врагов. Скоро и Европы не хватит: ему нужна будет Азия.
Несколько военачальников, особенно наших союзников, сделали смелые выводы, что мы потеряли бы меньше в результате поражения, чем в результате победы; оборотная сторона явления, которая, возможно, отвратила бы императора от войны; по крайней мере это приблизило бы его к нам.
Уверенность императора поражала генералов из его ближайшего окружения: «Разве он уже не покинул Европу? Если Европа поднимется против него, то у него не останется иных подданных, кроме его солдат, другой империи, кроме его лагеря; и даже здесь треть из них, будучи иностранцами, сделаются его врагами». Так говорили Мюрат и Бертье, и Наполеон был разгневан этими настроениями.
Глава VI
Примерно в это время появились Рапп и Лористон. Последний прибыл из Петербурга. Наполеон не задал ни одного вопроса офицеру, прибывшему из вражеской столицы. Зная искренность своего бывшего адъютанта и его мнение об этой войне, он не хотел слышать неприятных вещей.
Но Рапп, который прошел по нашим следам, не мог молчать: «Армия наступала, пройдя лишь сотню лье от Немана, но ее облик совершенно переменился. Офицеры, которые ехали на почтовых из Франции, чтобы присоединиться к армии, прибыли обеспокоенными. Он не могли понять, как могло случиться, что победоносная армия оставила позади себя больше брошенных вещей, чем побежденная, хотя сражений не было.
Они встречались с теми, кто был на марше и готов присоединиться к общей массе, и с теми, кто отделился от нее.
В Германии и до Одера, где тысячи предметов постоянно напоминают им Францию, эти рекруты не чувствуют себя полностью от нее отрезанными; они сохраняют пыл и веселость; но за Одером, в Польше, где почва, произведенные продукты, жители, костюмы, манеры, короче говоря, всё, вплоть до самих селений, выглядит чужим, где ничто не напоминает страну, по которой они тоскуют, они начинают приходить в смятение, сознавая, сколь большое расстояние прошли, и на их лицах лежит печать усталости и апатии.
Они уже находятся в незнакомых землях, где всё для них ново и печально, но сколько им предстоит еще пройти и на какое расстояние удалиться от Франции? Сама мысль о возвращении приводит их в уныние, а они должны постоянно идти вперед! Они жалуются, что, с тех пор как они покинули Францию, их тяготы только увеличиваются, а средства их поддержания уменьшаются».
Правда такова, говорил Рапп, что вначале они остаются без вина, затем без пива, закачиваются все спиртные напитки, и наконец они вынуждены пить одну воду, да и ее не хватает. То же самое происходит с провизией и всеми жизненно необходимыми вещами, и эта постоянная нужда вызывает упадок духа и телесную слабость. Охваченные смутным беспокойством, они продолжат путь среди тупого однообразия больших пространств, безмолвных и темных сосновых лесов. Испытав тайный ужас, они не хотят дальше идти по этим пустыням.
Физические и моральные страдания, лишения, постоянные бивуаки, опасные вблизи полюса, как и в районе экватора, воздух, зараженный гниющими трупами людей и лошадей, которыми усыпана дорога, способствовали распространению двух смертельных заболеваний — дизентерии и тифозной лихорадки. Немцы первыми почувствовали их разрушительное действие; они не такие нервные, как французы, и более склонны к употреблению спиртных напитков; к тому же они мало заинтересованы в успехе чужого дела. Из 22 тысяч баварцев, которые пересекли Одер, только 11 тысяч дошли до Двины, хотя они не участвовали в боях. Этот военный поход стоил французам одной четверти, а союзникам — половины их армии.
Каждое утро полки в порядке выступали в путь, но едва они проходили несколько шагов, как их ряды распадались; слабейшие отставали; эти несчастные пытались настичь своих товарищей и свои знамена, но в конце концов теряли их из виду и падали духом. Дороги и окраины лесов были усеяны ими; некоторые из них дергали колосья ржи и жадно ели зерна, затем пытались, часто без успеха, добраться до госпиталя или ближайшей деревни. Многие умирали.
Но не только больные покидали ряды армии: многие солдаты были деморализованы, другие хотели стать независимыми и получить возможность грабить, и все они добровольно покидали свои знамена; число их росло, поскольку зло порождает зло. Они собирались в банды и селились в домах и деревнях, расположенных вблизи дорог. Они ни в чем не знали нужды; среди них было меньше французов, чем немцев, но было отмечено, что командирами этих маленьких независимых отрядов, состоявших их солдат разных наций, неизменно были французы.
Рапп видел все эти беспорядки — и ничего не скрыл от своего повелителя; император просто ответил: «Я собираюсь нанести большой удар, и все отставшие присоединятся к нам».
Генералу Себастиани он дал более подробный ответ. Последний напомнил Наполеону, что тот сказал ему в Вильне: «Я не пересеку Двину: если в этом году пойти дальше, это быстро приведет к краху».
Себастиани обратил особое внимание на состояние армии. «Оно ужасно, я знаю, — ответил император, — после Вильны армия наполовину состояла из отставших, теперь их две трети; однако нельзя терять времени, мы должны добиться мира, а это произойдет в Москве. Кроме того, армия теперь не может остановиться; ее состав и дезорганизация таковы, что только движение удерживает ее воедино. Такую армию можно вести вперед, но нельзя останавливаться или поворачивать назад. Это армия для атаки, но не для обороны, армия для действий, но не для позиционной войны».
Так он говорил с людьми из близкого окружения, но с командирами дивизий общался по-другому. Первым он объяснял причины, которые заставляют его идти вперед, от последних он тщательно их скрывал и будто соглашался с необходимостью остановки.
В тот самый день, когда Наполеон стоял на смоленской улице в окружении Даву и генералов, чьи дивизии более всех пострадали во время штурма города, он сказал, что обязан им этим важным успехом и рассматривает Смоленск как отличное место для размещения по квартирам.
«Теперь, — продолжал он, — моя линия хорошо прикрыта; здесь мы остановимся: за этим крепостным валом я могу собрать свои войска, дать им отдых, получить подкрепления и ресурсы, накопленные в Данциге. Таким образом, вся Польша покорена и защищена, этого достаточно; за два месяца мы собрали плоды, которых можно было ожидать только после двух лет войны, значит, этого более чем достаточно. До весны мы должны дать устройство Литве и реорганизовать нашу непобедимую армию; затем, если во время нашего пребывания на зимних квартирах мир не будет заключен, мы пойдем и добьемся его в Москве».
Затем император доверительно сказал маршалу, что причина, по которой он приказал ему выйти из Смоленска, заключалась лишь в том, чтобы отбросить русских на расстояние в несколько маршей; но он строго запрещает ему ввязываться в какое-либо серьезное дело. Правда, в это же время он передал авангард под командование Мюрата и Нея, двух наиболее энергичных военачальников; он назначил рассудительного и методичного маршала Даву в подчинение импульсивному королю Неаполитанскому, не сообщив первому об этом. Он колебался в выборе решения, и противоречия в его словах проявились в его действиях.
Глава VII
Между тем русские всё еще защищали пригород на правом берегу Днепра. Мы же 18-го и ночью 19-го были заняты перестройкой мостов. Девятнадцатого августа Ней пересекал реку; пригород горел и освещал ему дорогу. Поначалу он увидел только пламя и начал взбираться по откосу. Его солдаты наступали медленно и с опаской, делая тысячу движений, чтобы избежать пламени. Русские умело оборонялись, встречали наших солдат повсеместно и загромоздили главные улицы.
Ней и его передовой отряд молча продвигались по лабиринту из огней, напряженно всматриваясь и вслушиваясь, не опасаясь, что русские могли поджидать их наверху склона, чтобы внезапно обрушиться, опрокинуть и вытеснить их обратно в огонь и в реку. Они вздохнули более спокойно, освободившись от груза мрачных предчувствий, когда увидели на гребне оврага, находящегося на пересечении дорог на Петербург и Москву, один лишь отряд казаков, которые тут же поскакали по этим двум дорогам. Как и в Витебске, не было ни пленных, ни жителей, ни шпионов, у которых можно было бы что-то спросить. Враг оставил множество следов на обеих дорогах, и маршал пребывал в состоянии неопределенности до полудня.
После Смоленска дорога в Петербург отступала от реки. Два болотистых тракта отделялись от нее направо: один — в двух лье от города, другой — в четырех. Они проходили через лес и сливались потом с большой Московской дорогой, сделав большой крюк, один — у Бредихина, в двух лье от Валутиной горы, другой же — дальше, у Злобнева.
В этих теснинах Барклай, продолжавший свое бегство, не боялся застрять со своими лошадьми и повозками — длинная и тяжелая колонна должна была описать два больших полукруга. Большая же дорога, из Смоленска в Москву, которую атаковал Ней, служила хордой этих двух дуг. Каждую минуту, как это часто бывает, всё движение останавливалось из-за какого-нибудь неожиданного препятствия: опрокинутого фургона, увязнувшей лошади, свалившегося колеса, разорванных постромок. Между тем гул французских пушек приближался, они как будто опередили русскую колонну и, казалось, заперли проход, куда спешили русские.
Наконец, после утомительного перехода передовые отряды неприятеля достигли большой дороги как раз в тот момент, когда французам оставалось только взять Валутину гору и проход.
Русские защищались, чтобы сохранить пушки, раненых, багаж. Французы же атаковали, чтобы всё это захватить. Наполеон остановился в полутора лье от Нея. Полагая, что это лишь стычка авангарда, он послал Гюдена на помощь маршалу, собрал другие дивизии и вернулся в Смоленск. Но стычка перешла в сражение, в котором с обеих сторон последовательно приняли участие 30 тысяч человек. Солдаты, офицеры, генералы — всё перемешалось. Битва длилась долго и со страшным ожесточением. Даже приближение ночи не прекратило ее. Овладев, наконец, равниной, Ней, окруженный только убитыми и умирающими, почувствовал усталость и с наступлением темноты приказал прекратить огонь, соблюдать тишину и выставить штыки. Русские, не слыша больше ничего, тоже смолкли и воспользовались темнотой, чтобы отступить.
В их поражении было столько же славы, сколько и в нашей победе.
Один из неприятельских генералов, оставшийся на поле битвы, попытался было ускользнуть от наших солдат, повторяя французские слова команды. Но свет от выстрелов помог узнать его, и он был взят в плен. Другие русские генералы погибли в этой бойне. Но Великая армия понесла гораздо большую потерю. Во время перехода по довольно плохо исправленному мосту через Колодню генерал Гюден, не любивший подвергать себя бесполезным опасностям и притом не доверявший своей лошади, сошел с нее, чтобы перейти через реку, и в этот момент пролетающее ядро раздробило ему обе ноги. Когда известие об этом несчастий дошло до императора, на время прекратились все разговоры и действия. Все были опечалены, и победа при Валутине уже не казалась больше таковой!
Гюден был перенесен в Смоленск, где сам император ухаживал за ним. Но всё было тщетно. Генерала погребли в крепости города, которому его останки делают честь. Это была достойная могила воина, хорошего гражданина, супруга и отца, бесстрашного генерала, справедливого и доброго, и в то же время честного и способного — редкое сочетание качеств в одном человеке, и притом в таком веке, когда слишком часто люди высоконравственные оказывались неспособными, а способные — безнравственными.
Случаю было угодно найти ему достойного преемника. Начальство было передано Жерару, самому старшему из бригадных генералов дивизии. Неприятель, не заметивший нашей потери, ничего не выиграл от того, что нанес нам такой ужасный удар.
Русские, изумленные тем, что нападение на них было сделано только с фронта, вообразили, что Мюрат ограничивается их преследованием по большой дороге. Они даже называли его в насмешку генералом больших дорог.
В то время как Ней бросился в атаку, Мюрат со своей конницей присматривал за его флангами. Но он не мог действовать, так как справа болота, а слева леса затрудняли его движение. Сражаясь с фронта, они оба ожидали результатов флангового движения вестфальцев под командованием Жюно.
Начиная от Стабны большая дорога, избегая болот, образованных различными притоками Днепра, поворачивает налево и, направляясь по возвышенным местам, удаляется от бассейна реки, чтобы приблизиться потом к ней там, где почва становится благоприятнее. Замечено было, что проселочная дорога, более прямая и короткая, как и все такие дороги, пролегала через болота и подходила к большой дороге позади Валутиной горы.
Жюно отправился как раз по этой проселочной дороге, перейдя реку в Прудище. Она привела его в тыл левого фланга русских. Надо было только произвести атаку, чтобы победа стала окончательной. Те, кто противостоял с фронта атаке маршала Нея, услышав, что сзади них происходит сражение, могли бы прийти в замешательство, и тогда беспорядок, возникший во время битвы в этой массе людей, лошадей и экипажей, столкнувшихся на одной-единственной дороге, бесповоротно решил бы судьбу сражения. Но Жюно, при всей своей личной храбрости, колебался в роли командира и не решался брать на себя ответственность.
Между тем Мюрат, полагая, что Жюно уже подошел, удивлялся, что не слышит его атаки. Стойкость русских, отражавших атаку Нея, заставила его подозревать истинную причину. Он покинул свою конницу и один, пройдя леса и болота, поспешил к Жюно и резко упрекнул его за бездействие. Жюно оправдывался тем, что не получал приказа к атаке. Его вюртембергская кавалерия была вялая, а ее усилия только кажущимися. Она не решалась ударить по вражеским батальонам!
Мюрат отвечал на эти слова действиями. Он сам встал во главе вюртембергской кавалерии. С другим генералом и солдаты стали другими. Он увлек их за собой, бросил на русских, опрокинул неприятельских стрелков и, вернувшись к Жюно, сказал: «Теперь завершай! Тут твоя слава, тут и твой маршальский жезл!»
После этого Мюрат покинул его и вернулся к своим отрядам, а Жюно, смущенный, остался по-прежнему стоять неподвижно. Он слишком долго пробыл возле Наполеона, деятельный гений которого входил во все подробности и всё сам приказывал, поэтому Жюно научился только повиноваться. У него не было опыта командования, а усталость и раны состарили его раньше времени.
Выбор этого генерала в качестве командующего корпусом, впрочем, никого не удивил — все знали, что император был к нему привязан по привычке. Это был старейший адъютант Наполеона, и так как с ним были связаны все его воспоминания о счастье и победах, то Наполеон не решался расстаться с ним. Кроме того, самолюбию императора льстило видеть своих близких и своих учеников во главе армий. Наконец, вполне естественно, что он больше рассчитывал на их преданность, нежели на преданность других.
Однако когда на другой день он увидел местность и мост, на котором Гюден был сражен, ему сейчас же бросилось в глаза, что вовсе не там следовало быть армии. Когда же он, воспламенившись взором, оглядел положение, которое занимал Жюно, у него вырвалось восклицание: «Вестфальцы должны были оттуда бросаться в атаку! Судьба сражения заключалась там! А что делал Жюно?..» Раздражение Наполеона было так сильно, что никакие оправдания не могли успокоить его. Он призвал Раппа и закричал ему: «Отнимите у него командование! Отошлите его из армии! Свой маршальский жезл он потерял безвозвратно! Эта ошибка может закрыть нам дорогу в Москву!» Наполеон отдал вестфальцев Раппу, чтобы тот говорил с ними на их языке и сумел заставить их сражаться.
Однако Рапп отказался занять место своего прежнего товарища. Он постарался успокоить императора, гнев которого всегда быстро испарялся, как только он изливал его в словах.
Но неприятель мог быть побежден не только на левом фланге; на правом он подвергался еще большей опасности. Мюран, один из генералов Даву, был направлен в эту сторону, через лес. Он прошел по заросшим лесом возвышенностям и с самого начала битвы находился на фланге русских. Еще несколько шагов, и он очутился бы в тылу их правого фланга. Его внезапное появление должно было неминуемо решить исход битвы и сделать победу неизбежной. Но Наполеон, не знавший местности, велел отозвать его туда, где он остановился вместе с Даву.
В армии спрашивали себя, почему император, заставивший трех отдельных военачальников, совершенно независимых друг от друга, стремиться к одной и той же цели, сам не оказался там, чтобы дать войску то необходимое единство, которое без него было немыслимо. Но он вернулся в Смоленск — потому ли, что устал, или потому, что не ждал, что произойдет серьезное сражение, или просто потому, что, вынужденный заниматься всем сразу, не мог быть нигде вовремя и не мог ничем заняться всецело. В самом деле, предшествовавшие дни подготовления к войне приостановили его работу в Империи и в Европе, а эта работа всё накапливалась. Надо было, наконец, опорожнить портфели и дать ход гражданским и политическим делам, которых накапливалось всё больше и больше. Впрочем, Наполеон сделался очень нетерпеливым, и высокомерие его росло со времени Смоленска.
Когда Борелли, помощник начальника главного штаба Мюрата, привез Наполеону известие о столкновении при Валутиной горе, император колебался, принять ли его? Озабоченность Наполеона была так велика, что понадобилось вмешательство министра, чтобы император принял офицера, привезшего ему это донесение. Однако рапорт Борелли сильно взволновал его. «Что вы говорите? — вскричал Наполеон. — Как, вам этого мало? А у неприятеля было шестьдесят тысяч войска? Но ведь это же была битва!..»
И он снова раздражался, вспоминая непослушание и бездеятельность Жюно. Когда Борелли сообщил ему о смертельной ране Гюдена, огорчение его было очень велико. Оно выражалось в многочисленных вопросах и в возгласах сожаления; затем, со свойственной ему силой духа, он подавил свою тревогу и гнев и, занявшись работой, отложил всякую заботу о битвах, так как уже настала ночь.
Однако надежда на битву все-таки не давала ему покоя, поэтому с рассветом он появился на полях у Валутина.
Глава VIII
Солдаты Нея и дивизии Гюдена, оставшиеся без своего генерала, находились там среди трупов своих товарищей и русских солдат, на местности, изборожденной гранатами и усеянной обломками оружия, лоскутами изорванной одежды, множеством военной утвари, опрокинутых повозок и оторванных конечностей. Вот они, трофеи войны и красота поля битвы!..
Батальоны Гюдена превратились во взводы, но они гордились тем, что численность их так сократилась. Император не мог пройти мимо них, и его благодарность превратила это поле мертвых в место триумфа, где в течение нескольких часов господствовали только удовлетворенные честь и гордость.
Наполеон чувствовал, что настало время поддержать солдат и словом, и наградами. Никогда еще он не смотрел так ласково. Он говорил, что эта битва была самой великолепной из всех сражений нашей военной истории! Солдатам, которые его слушали, он сказал, что с ними можно завоевать весь мир! Убитые же воины покрыли себя бессмертной славой! Он говорил это, прекрасно понимая, что именно среди такого разрушения всего охотнее думают о бессмертии.
В наградах он также обнаружил величайшую щедрость: 12-й, 21-й, 127-й пехотные полки и 7-й егерский полк получили 87 орденов и производство в следующие чины. Император собственными руками вручил знамя 127-му полку и корпусу Нея.
Его благодеяния были велики сами по себе. Но он увеличивал значение этих даров манерой награждать. Он последовательно окружал себя каждым полком, точно своей семьей. Он громко вызывал офицеров, унтер-офицеров и солдат, спрашивая, кто самые храбрые среди храбрых, и тут же награждал их. Офицеры называли имена, солдаты подтверждали слова офицеров, а император награждал. Выбор достойных делался тут же, на поле битвы, и подтверждался восторженными возгласами.
Такое отеческое обращение с простыми солдатами, превращавшее их в товарищей по оружию повелителя Европы, и вообще все эти обычаи Республики приводили солдат в восторг. Это был монарх, но монарх революции, и им нравился государь — выходец из народа, который давал возвыситься и другим! Всё в этом государе поощряло рвение солдат.
Никогда еще поле битвы не представляло зрелища, способного вызвать большее воодушевление. Вручение знамени, столь заслуженного ими, торжественная церемония, раздача наград и чинов, крики радости и слава воинов, награжденных тут же, на месте подвигов, восхваление их доблестей человеком, к голосу которого прислушивалась со вниманием вся Европа, — всё это воодушевляло их. Сколько счастья за один раз! Они были опьянены радостью, и, казалось, сам император был увлечен их восторгом.
Но когда всё это кончилось, то поведение Нея и Мюрата и слова Понятовского, столь же искреннего и рассудительного на военном совете, сколь и бесстрашного в бою, несколько охладили Наполеона. Он испытал разочарование, узнав из донесения, что пройдено было восемь лье, а неприятеля всё же не удалось настигнуть. Возвращение в Смоленск по дороге, усеянной после сражения обломками, длинная вереница раненых, задерживавших движение, которые тащились сами или которых несли на носилках, а в самом Смоленске — телеги, полные ампутированных конечностей, которые вывозили подальше за город, — словом, всё это ужасное и отвратительное окончательно обезоружило его. Смоленск превратился в один огромный госпиталь, и великий стон, стоящий над городом, заглушил крик победы, поднимавшийся с Валутинского поля битвы.
Донесения хирургов ужасали. В этой стране вино и виноградную водку заменяли водкой, которую перегоняли из пшеничных зерен и к которой примешивали наркотические растения. Наши молодые солдаты, истомленные голодом и усталостью, думали, что этот напиток поддержит их силы. Но возбуждение, вызванное им, быстро сменялось полным упадком сил, во время которого они легко поддавались действию болезней.
Некоторые из них, менее воздержанные или более слабые, впадали в состояние оцепенения. Они сидели скорчившись во рвах и на больших дорогах и тусклыми, полуоткрытыми, слезящимися глазами совершенно безучастно смотрели на приближающуюся к ним смерть, и умирали угрюмые, не издав ни одного стона.
В Вильне можно было устроить госпитали только для шести тысяч больных. Монастыри, церкви, синагоги и риги служили приютом для всей этой толпы страдальцев. В этих мрачных убежищах, порою нездоровых и всегда переполненных, больные часто оставались без пищи, без постелей и одеял, даже без соломенных подстилок, и без медикаментов. Хирургов не хватало, и всё способствовало лишь развитию болезней, но не их излечению.
Под Витебском четыреста раненых русских остались на поле битвы, еще триста были покинуты русской армией в городе, а так как все жители были удалены оттуда, то эти несчастные оставались три дня без всякой помощи, сваленные в кучу, умирающие и мертвые, среди ужасного смрада разложения. Их, наконец, подобрали и присоединили к нашим раненым, которых тоже было семьсот человек, столько же, сколько и русских. Наши хирурги употребляли даже свои рубашки на перевязку раненых, так как белья уже не хватало.
Когда же раны этих несчастных стали заживать и людям нужно было только питание, чтобы выздороветь, то и его не хватало, и раненые погибали от голода. Французы, русские — все одинаково гибли.
В Смоленске недостатка в госпиталях не было: пятнадцать больших кирпичных зданий были спасены от огня. Была даже найдена водка, вино и некоторый запас медикаментов. Наконец и наши резервные лазареты присоединились к нам, но всего этого оказывалось мало. Хирурги работали денно и нощно, но уже на вторую ночь не хватило перевязочных средств. Не было белья, и его пришлось заменить бумагой, найденной в архивах. Дворянские грамоты употреблялись вместо лубков[19], а пакля заменяла корпию.
Наши хирурги пребывали в состоянии смятения; об одном госпитале, в котором находилась сотня раненых, совершенно забыли; только через три дня его нашли по чистой случайности — в это обиталище отчаяния проник Рапп. Я не стану описывать весь ужас их положения: такой рассказ может покалечить душу. Рапп не утаил свои впечатления от Наполеона, который приказал передать вина, предназначенного для его стола, вместе с несколькими золотыми монетами этим несчастным людям.
К сильному волнению, которое вызывали в душе императора все эти донесения, присоединялась еще одна страшная мысль. Пожар Смоленска больше уже не был в его глазах роковой и непредвиденной случайностью войны, ни даже актом отчаяния, а результатом холодного, обдуманного решения. Русские проявили в деле разрушения порядок, заботливость и целесообразность, которые обыкновенно применяют, желая что-либо сохранить!
В этот же день мужественные ответы одного священника — единственного, который остался в Смоленске, — еще больше открыли глаза императору, уяснив ему, какая слепая злоба была внушена всему русскому народу. Переводчик Наполеона, в шоке от его ненависти, привел этого батюшку к самому императору. Почтенный священнослужитель прежде всего начал с твердостью упрекать императора в предполагаемых осквернениях святыни. Он, как оказалось, не знал, что сам русский генерал приказал поджечь торговые склады и колокольни, и потом нас же обвинял в этих ужасах для того, чтобы торговцы и крестьяне объединились с дворянством против нас!
Император внимательно выслушал священника и спросил:
— А ваша церковь была сожжена?
— Нет, государь, — отвечал тот. — Бог могущественнее вас и он защитил ее, потому что я открыл двери церкви для всех несчастных, которых пожар города оставил без крова!
— Вы правы, — сказал Наполеон. — Да, Господь позаботится о невинных жертвах войны. Он вознаградит вас за ваше мужество. Идите, добрый пастырь, и возвращайтесь к вашему посту. Если бы все священники следовали вашему примеру, если бы они не изменили низким образом миссии мира, возложенной на них небесами, если бы они не покинули храмов, которые делает священными одно их присутствие, то мои солдаты уважали бы это святое убежище. Потому что мы все ведь христиане и наш Бог — ваш Бог!
С этими словами Наполеон отправил священника в его храм в сопровождении охраны. Но когда там увидели солдат, входящих в храм, то раздались душераздирающие крики. Толпа перепуганных женщин и детей бросилась к алтарю. Батюшка, возвысив голос, закричал им:
— Успокойтесь! Я видел Наполеона, я говорил с ним. О, как нас обманули, дети мои! Французский император вовсе не таков, каким его изображали нам! Знайте же, что он и его солдаты верят и поклоняются тому же Богу, что и мы! Война эта — вовсе не религиозная война. Это просто политическая ссора с нашим императором. Его солдаты сражаются только с нашими солдатами. Они вовсе не режут, как нам это говорили, стариков, женщин и детей. Успокойтесь же, и возблагодарим Господа, что мы избавлены теперь от тяжелого долга ненавидеть их как язычников, нечестивцев и поджигателей! — После этого он начал служить благодарственный молебен, и все повторяли со слезами слова молитвы.
Эти слова указывали, до какой степени был обманут русский народ. Оставшиеся жители бежали при нашем приближении. С этого момента не только русская армия, но всё население, вся Россия целиком отступала перед нами. Император чувствовал, что вместе с этим народом у него ускользает из рук одно из самых могущественных средств к победе.
Глава IX
В самом деле, уже с самого Витебска Наполеон дважды поручал своим агентам разведать настроения местных жителей. Надо было привлечь их на сторону свободы и вызвать общее восстание. Но можно было воздействовать только на нескольких отдельных туповатых крестьян, быть может, оставленных русскими нарочно, чтобы шпионить за нами.
Впрочем, и самому Наполеону этот план был не по душе, так как его натура склоняла его больше на сторону королей, нежели на сторону народов, поэтому он и выполнял его довольно небрежно. Позднее, уже в Москве, он получил несколько писем от различных отцов семейств, где они жаловались, что помещики обращаются с людьми, как со скотом, который можно продавать и обменивать, если пожелаешь. Они просили Наполеона объявить отмену рабства и предлагали себя в качестве предводителей нескольких локальных восстаний, которые обещали сделать вскоре всеобщими.
Предложения эти были отвергнуты. Бывали уже примеры варварской свободы у варварского народа — она превращалась у них в безудержную разнузданность! Мы уже видели несколько примеров этого. Русские дворяне погибли бы, как колонисты в Сан-Доминго. Боязнь такого развития событий взяла верх над другими соображениями и заставила Наполеона отказаться от того, что он не в состоянии был бы контролировать.
Впрочем, и сами господа не доверяли своим рабам. Из всех опасностей, окружавших их, эта была самая грозная. Они постарались воздействовать на умы своих крепостных, отупевших от долгого рабства. Священники, которым они привыкли верить, вводили их в заблуждение лживыми речами. Крестьян уверяли, что мы представляем легионы демонов под командой антихриста, что мы — адские духи, один вид которых внушает ужас, а прикосновение оскверняет.
Но мы приближались, и в нашем присутствии должны были рассеяться все эти грубые сказки. Между тем русские дворяне отступали вместе со своими крепостными внутрь страны, прячась от нас, словно от страшной заразы. Имущество, жилища, всё, что должно было бы удержать их на месте и могло бы нам служить, приносилось ими в жертву, и между собою и нами они воздвигали преграду из голода, пожаров и запустения. Это великое решение было направлено столько же против Наполеона, сколько и против их собственных крепостных. Таким образом, война королей превращалась в классовую войну, в партийную, религиозную, национальную — словом, это была не одна, а несколько войн сразу.
Тогда-то император и постиг всю громадность своего предприятия. Чем дальше он продвигался, тем больше оно разрасталось перед ним. Пока он встречал только королей, их поражение было для него забавой, так как он был более велик, чем все они. Но короли уже были побеждены, и теперь он имел дело с народами. Это была для него вторая Испания, только более отдаленная, бесплодная и беспредельная. Пораженный, он почувствовал нерешительность и остановился.
Каково бы ни было решение, принятое Наполеоном в Витебске, ему все-таки нужен был Смоленск, нужен во что бы то ни стало. Он как будто отложил до Смоленска окончательное решение. Вот почему он был смущен, и это замешательство тем более усугублялось, чем хуже становилось положение вокруг: пожары, эпидемии, жертвы… Охваченный лихорадкой нерешительности, он попеременно обращал взоры на Киев, Петербург и Москву.
В Киеве он мог окружить Чичагова и его армию. Он освободил бы правый фланг и тыл своей армии, занял бы польские провинции, наиболее населенные, богатые продовольствием и лошадьми. Укрепленные же квартиры войск в Могилеве, Смоленске, Витебске, Полоцке, Динабурге и Риге стали бы защищать с севера и востока. За этой укрепленной линией, в течение зимы, он мог бы поднять и организовать всю старую Польшу, чтобы весной обратить ее на Россию и, противопоставив одной нации другую, сделать войну равной.
Между тем в Смоленске он оказался как раз у самого узла дорог на Петербург и Москву. От одной из этих столиц его отделяли двадцать девять переходов, от другой — пятнадцать. Петербург — это правительственный центр, узел, в котором сходятся все нити администрации, мозг России, место, где находятся ее морские и военные арсеналы, и единственный пункт сообщения между Россией и Англией. Победа при Полоцке, о которой он узнал, как будто толкала его в этом направлении. Идя на Петербург, он окружил бы Витгенштейна и заставил Ригу пасть перед Макдональдом.
С другой стороны, в Москве он мог атаковать дворянство в его собственных владениях, затронуть его древнюю честь. Дорога к этой столице была более короткая, представляла меньше препятствий и больше ресурсов. Великая русская армия, которую он должен был истребить во что бы то ни стало, тоже находилась там, там были и все шансы выиграть сражение, и надежда потрясти нацию, поразив ее в самое сердце в этой национальной войне.
Из этих проектов наиболее возможным представлялся ему последний, несмотря на позднее время года. Между тем история Карла XII постоянно находилась у него перед глазами. Но не та, которую написал Вольтер и которую Наполеон отбросил с досадой, считая ее романтичной и неверной, а дневник Адлерфельда. Его он читал постоянно, но и это чтение не остановило его. Сравнивая обе экспедиции, он находил тысячу различий. Никто не может быть судьей в своем собственном деле! И чему может служить пример прошлого, когда в этом мире никогда не встречается ни двух людей, ни двух вещей, ни двух совершенно одинаковых положений?
В то время имя Карла XII часто слетало с его уст.
Глава X
Новости из разных мест разжигали его пыл. Подчиненные, похоже, делали больше, чем он сам: дела у Могилева, Молодечно и при Валутиной горе были настоящими битвами, в которых Даву, Шварценберг и Ней вышли победителями; его операционная линия была прикрыта справа; вражеская армия отступала перед ним; на левом фланге Удино 17 августа подвергся нападению со стороны Витгенштейна. Эта атака была неистовой и настойчивой, но Витгенштейн потерпел неудачу; маршал Удино отстоял свои позиции, но был ранен. Сен-Сир принял у него командование армией, состоявшей из 30 тысяч французов, швейцарцев и баварцев. В тот же день этот генерал, который не любил иного командования, кроме единоличного и с ним во главе, извлек выгоды из своего положения.
С рассвета и до пяти часов вечера он вводил неприятеля в заблуждение, предлагая достичь соглашения об эвакуации раненых, при этом создавая впечатление, что отступает. В то же время он без шума собрал своих воинов, построил их в три атакующие колонны и спрятал их за деревней и неровностями рельефа.
В пять часов, когда всё было готово и бдительность Витгенштейна притупилась, он дал сигнал: его артиллерия немедленно начала обстрел, а колонны ринулись вперед. Русские, застигнутые врасплох, безуспешно сопротивлялись; их правый фланг был прорван, а в центре они беспорядочно отступали. Тысяча русских попали в плен, двадцать орудий были захвачены. Поле боя было усеяно мертвыми.
В этом коротком и кровопролитном бою правый фланг русских оказал упорное сопротивление. Потребовалась штыковая атака, которая развивалась успешно; но когда казалось, что остается лишь преследовать врага, всё вдруг едва не было потеряно: русские драгуны (по другим источникам — конногвардейцы) атаковали батарею Сен-Сира; французская бригада, которая должна была ее поддерживать, пошла вперед, затем неожиданно повернула назад и налетела на пушки, которые теперь не могли стрелять. Русские достигли наших позиций, и началась неразбериха; они рубили саблями пушкарей, опрокидывали орудия и так энергично теснили наших кавалеристов, что последние в беспорядке ринулись в сторону главнокомандующего и его штаба и заставили Сен-Сира спасаться бегством. Сен-Сир бросился на дно лощины и укрылся там. Русские драгуны были уже вблизи Полоцка, когда быстрый и умелый маневр Беркхейма и 4-ш полка французских кирасир положил конец этому жаркому делу. Русские нашли укрытие в лесу.
На следующий день Сен-Сир направил войска для их преследования, но они лишь наблюдали, как русские отходят, и пожинали плоды победы. В течение двух последующих месяцев вплоть до 18 октября Витгенштейн держался на почтительном расстоянии. В свою очередь, французский генерал наблюдал за противником, поддерживал связи с Макдональдом, Витебском и Смоленском, укрепившись на позиции у Полоцка, где, кроме всего прочего, он находил средства для пропитания своей армии.
Узнав об этой победе, император присвоил Сен-Сиру звание маршала Империи. Он направил большое количество крестов в его распоряжение и утвердил большинство представлений, сделанных Сен-Сиром.
После Ватутина утомленный корпус Нея был заменен корпусом Даву. Мюрат как король и зять императора должен был командовать им. Ней покорился этому решению — не столько вследствие уступчивости, сколько вследствие сходства характеров, так как они оба отличались одинаковой горячностью.
Но Даву, методический и настойчивый характер которого представлял резкий контраст с запальчивостью Мюрата, возмутился этой зависимостью, тем более что он гордился двумя великими победами, связанными с его именем.
Оба полководца, одинаково гордые, ровесники и боевые товарищи, взаимно наблюдавшие возвышение друг друга, были уже испорчены привычкой повиноваться только одному великому человеку и совсем не годились для того, чтобы повиноваться друг другу. Мюрат в особенности не годился для этой роли и слишком часто не мог управлять даже самим собой.
Однако Даву всё же повиновался, хотя и неохотно и плохо, как только умеет повиноваться оскорбленная гордость. Он тотчас же сделал вид, что прекращает всякую непосредственную переписку с императором. Наполеон, удивленный, приказал ему продолжать писать по-прежнему, ссылаясь на то, что он не вполне доверяет донесениям Мюрата. Даву воспользовался этим признанием и вернул свою независимость. С этих пор авангард имел уже двух начальников. Утомленный, больной и подавленный множеством всякого рода забот, император вынужден был соблюдать осторожность со своими офицерами и поэтому раздроблял власть и армии, несмотря на свои собственные наставления и на свои прежние примеры. Но раньше он подчинял себе обстоятельства, теперь же они были сильнее и подчиняли его себе.
Когда Барклай отступил без всякой помехи до Дорогобужа, то повод к недоразумению между Мюратом и Даву исчез, так как Мюрат тогда не нуждался в Даву. В нескольких верстах от этого города 23 августа, около одиннадцати часов утра, Мюрат хотел произвести рекогносцировку небольшого леса, но наткнулся на сильное сопротивление, и ему пришлось два раза атаковать этот лес. Удивленный таким сопротивлением, да еще в такой час, Мюрат заупрямился. Он проник сквозь этот лес и увидал на другой стороне всю русскую армию, выстроившуюся в боевом порядке; его отделяла от нее лишь узкая лощина Лужи.
Был полдень. Растянутость русского строя, в особенности по направлению к нашему правому флангу, приготовления, час и место (как раз то, где Барклай соединился с Багратионом), выбор местности, весьма подходящей для великого столкновения, — всё заставляло предполагать, что здесь готовится битва. Мюрат тотчас же послал гонца к императору, чтобы предупредить его. В то же время он приказал Монбрену перейти эту лощину с правого фланга вместе со своей кавалерией, чтобы произвести разведку и вытянуть левый фланг неприятеля. Даву со своими пятью пехотными дивизиями расположился в этой же стороне. Он защищал Монбрена, но Мюрат отозвал его к своему левому флангу, на большую дорогу, желая, как говорят, поддержать фланговое движение Монбрена несколькими демонстрациями с фронта.
Однако Даву отвечал, что это означало бы выдать неприятелю наше правое крыло, через которое он может проникнуть в тыл, на большую дорогу, представлявшую для нас единственный путь к отступлению. Таким образом нас вынуждали к битве, которую он, Даву, имел приказ избегать. И он избегал ее, потому что сил у него было недостаточно, положение — плохое и он находился под командой начальника, который внушал ему мало доверия… Тотчас же после этого он написал Наполеону, чтобы тот поторопился приехать, если не хочет, чтобы Мюрат без него вступил в бой.
Получив это известие в ночь с 24 на 25 августа, Наполеон с радостью покончил со своими колебаниями, ведь для такого предприимчивого и решительного человека, как он, подобное состояние было пыткой. Он поспешил на место со своею гвардией и проехал двенадцать лье не останавливаясь, но уже накануне вечером неприятельская армия исчезла!
С нашей стороны отступление неприятельской армии было приписано движению Монбрена, со стороны русских — Барклаю и ложной позиции, занятой начальником его главного штаба, который плохо рассчитал и не сумел воспользоваться благоприятными условиями местности. Багратион первый заметил это, и ярость его не знала границ. Он приписал это измене.
В лагере русских существовали такие же разногласия, как и в нашем авангарде. Не хватало там доверия к полководцу, что составляет силу армий. Каждый шаг казался ошибкой, каждое принятое решение — худшим. Потеря Смоленска всех ожесточила, соединение же двух армейских корпусов только усилило зло. Чем сильнее себя чувствовала русская армия, тем слабее казался ей ее генерал.
Негодование стало всеобщим, и уже громко требовали назначения другого полководца. Но тут вмешалось несколько благоразумных людей. Было объявлено о прибытии Кутузова, и оскорбленная гордость русских ждала его, чтобы сразиться.
Со своей стороны, Наполеон уже в Дорогобуже перестал колебаться. Он знал, что всюду несет с собой судьбу Европы, и только там, где он находится, решается судьба наций. Он мог, следовательно, идти вперед, не опасаясь предательства шведов и турок. Поэтому он пренебрегал неприятельскими армиями Эссена в Риге, Витгенштейна в Полоцке, Эртеля в Бобруйске и Чичагова в Волыни. Вместе они составляли 120 тысяч человек, и число это могло только увеличиваться. Он, однако, равнодушно дал себя окружить, уверенный, что все эти ничтожные военные и политические препятствия разрушатся от первого же громового удара, который он нанесет!
А между тем его колонна, насчитывавшая при своем выходе из Витебска 185 тысяч человек, сократилась до 157 тысяч. Она стала слабее на 28 тысяч человек, половина которых заняла Витебск, Оршу, Могилев и Смоленск. Остальные были убиты и ранены или же тащились и грабили в тылу армии, и в этих грабежах участвовали как наши союзники, так и сами французы.
Но 157 тысяч человек достаточно, чтобы истребить русскую армию и завладеть Москвой! Несмотря на 120 тысяч русских, которые ему угрожали, он всё же казался вполне уверенным в своих силах. Литва, Двина, Днепр и Смоленск должны были охраняться: со стороны Риги и Динабурга — Макдональдом с 32 тысячами человек; со стороны Полоцка — Сен-Сиром с 30 тысячами; в Витебске, Смоленске и Могилеве — Виктором с 40 тысячами человек; перед Бобруйском — Домбровским с 12 тысячами; на Буге — Шварценбергом и Ренье во главе 45 тысяч человек. Наполеон рассчитывал еще на дивизии Луазона и Дюрютта, численностью в 22 тысячи, которые уже отправились из Кёнигсберга и Варшавы, и на 80 тысяч подкрепления, которое должно было прибыть в Россию в середине ноября.
Таким образом, считая с литовским и польским наборами, Наполеон опирался на 280 тысяч человек, к которым должны были прибавиться еще 155 тысяч, и с этим количеством он намеревался совершить поход в 93 лье — таково было расстояние от Смоленска до Москвы.
Но эти 280 тысяч человек были под командой шести различных полководцев, независимых друг от друга. А самый главный из них, тот, который находился в центре и должен был координировать военные действия пяти других командиров, был магистром мира, а не войны[20]!
К тому же те самые причины, которые уже сократили на одну треть французские военные силы, вступившие первыми в Россию, должны были в гораздо большей степени подействовать разрушительно. Большая часть подкрепления прибывала отрядами, сформированными во временные походные батальоны, под начальством новых и неизвестных им офицеров, которые должны были покинуть их в первый же день прибытия на место. В этих батальонах не было и следа дисциплины, не было ни корпорационного духа, ни жажды славы, а идти им приходилось по истощенной почве, по такой местности, которую климат и время года с каждым днем всё больше превращали в суровую, бесплодную пустыню.
А ведь и в Дорогобуже, и в Смоленске Наполеон нашел всё обращенным в пепел. В особенности пострадал торговый квартал, люди богатые, которых их собственность могла бы удержать на месте или привлечь к нам.
Наполеон чувствовал, что он выходит из Смоленска в том же положении, в каком прибыл туда: с надеждой на битву, которая опять была отложена вследствие нерешительности и разногласий русских генералов. Но его собственное решение уже было принято, и он воспринимал только то, что могло поддержать его в этом. Он с ожесточением шел по следам неприятеля, и его дерзость возрастала соразмерно их осторожности. Их осмотрительность он называл трусостью, их отступление — бегством. Он старался презирать их, чтобы сохранить надежду!
Книга VII
Глава I
Император так быстро примчался в Дорогобуж, что вынужден был там остановиться, чтобы подождать свою армию и предоставить Мюрату возможность подталкивать неприятеля.
Наполеон выехал из Дорогобужа 26 августа. Армия подвигалась тремя колоннами фронта. Император, Мюрат, Даву и Ней — в центре, на Московской дороге, Понятовский — на правом фланге, Итальянская армия — на левом.
Главная (центральная) колонна ничего не находила на дороге, по которой уже прошел авангард и подобрал всё, что оставили русские; во время столь быстрого марша она не могла отвлекаться по сторонам ввиду недостатка времени. Кроме того, правая и левая колонны поглощали всё, что встречалось на их пути.
В Смоленске, как и в Витебске, были выпущены приказы, обязывавшие солдат запастись провизией на несколько дней. Император знал о связанных с этим трудностях, но рассчитывал на усердие офицеров и солдат; они предупреждены — этого достаточно. Активность, предприимчивость и сообразительность французских и польских солдат поддерживали существование армии, которое было настоящим чудом. Воины привычным образом преодолевали все трудности своей ужасной и полной приключений жизни.
В обозе каждого полка было множество маленьких лошадей, которыми полна Польша, много телег, которые постоянно требовали замены, и стада крупного рогатого скота. Солдаты тащили повозки с грузами.
Организация была создана на марше, и армия приспособилась к местным обычаям и трудностям; солдатский гений восхитительным образом использовал скудные ресурсы страны.
Каждый вечер, когда армия останавливалась на ночлег, отряды уходили на поиски всего необходимого. До их возвращения солдаты, остававшиеся под знаменами, жили тем, что могли добыть на своем пути; чаще всего это была рожь, которую они толкли и варили. Поскольку скот имелся в наличии, то потребность в хлебе была большей, чем потребность в мясе; долгие и быстрые марши приводили к потере множества животных: они задыхались от жары и пыли, а когда добирались до воды, то бросались в нее с таким бешенством, что многие из них тонули, в то время как другие пили столь неумеренно, что не могли продолжать путь.
Отмечалось, что, до того как мы достигли Смоленска, дивизии 1-го корпуса были самыми многочисленными и дисциплинированными. Они наносили меньше вреда местным жителям. Все, кто оставались под знаменами, жили за счет содержимого своих ранцев, вид которых радовал глаз, уставший от созерцания беспорядка, носившего почти всеобщий характер.
В каждом таком ранце лежали две рубашки, две пары сапог вместе с гвоздями, дополнительная пара подметок, пара панталон, гамаши, средства гигиены, бинт, корпия и шестьдесят патронов. По бокам лежали четыре куска сухого печенья по шестнадцать унций[21] каждый, на дне помещался длинный и узкий мешок, в котором находилось десять фунтов муки. Этот ранец вместе со своим содержимым, ремешками и крышкой сворачивался и закреплялся наверху. Весил он тридцать три фунта двенадцать унций.
Каждый солдат нес также мешок с двумя хлебами весом по три фунта. Вся его поклажа вместе с саблей, тремя кремнями, отверткой, ремнем и мушкетом весила пятьдесят восемь фунтов; он был обеспечен хлебом и сухим печеньем на четыре дня, мукой — на семь дней.
Повозки были нагружены провизией на шесть дней, но нельзя было совершенно полагаться на эти транспортные средства.
Когда мука заканчивалась, то мешки заполнялись зерном, которое удавалось найти; его размалывали на первой попавшейся мельнице; если мельниц не было, то использовали ручные мельницы, которые имелись в полках или находились в деревнях. Шестнадцать человек должны были работать в течение двенадцати часов, чтобы намолоть зерна, необходимого для дневного пропитания ста тридцати солдат.
В 1-м корпусе имелись специалисты всех профессий, они готовили еду и чинили одежду. Другие военачальники не обладали организаторским гением Даву. Император не уделял достаточного внимания этим различиям, и это привело к гибельным последствиям.
Глава II
Двадцать седьмого августа из Славкова, что за Дорогобужем, Наполеон послал маршалу Виктору, бывшему тогда на Немане, приказ отправляться в Смоленск. Левый фланг маршала должен был занять Витебск, правый — Могилев, а центр — Смоленск. Там он должен был оказывать помощь Сен-Сиру в случае надобности и служить точкой опоры в сообщениях с Литвой.
В той же штаб-квартире он обнародовал подробности сражения при Валутиной горе, называя по именам даже рядовых солдат, отличившихся в деле. Он добавил, что «поведение поляков поразило русских, которые обычно относятся к ним с презрением». Эти слова вызвали взрыв негодования со стороны поляков, и император улыбался этому гневу, который он предвидел и последствия которого должны были почувствовать только русские.
Находясь в сердце старой России, он издал ряд декретов, о которых должны были узнать даже в самых убогих французских деревнях; он хотел быть везде в одно и то же время и чувствовать, что мир всё более ему подчиняется.
Однако в Славкове было так мало порядка, что гвардия ночью стала жечь мост, который должна была охранять; она пустила его на дрова, хотя это был единственный мост, по которому император на следующий день мог покинуть свою штаб-квартиру. Беспорядок вовсе не было следствием отсутствия субординации; так поступили по недомыслию, но когда поняли свою ошибку, то тут же ее исправили.
В тот же день Мюрат оттеснил врага, но русский арьергард укрепился на дальнем берегу узкой реки. Маршал приказал обследовать лощину, и был найден брод. Он отважно устремился вперед по узкому дефиле и оказался между рекой и русскими позициями; ввязавшись в это рискованное предприятие, он не имел путей отступления. Враг спустился с высот и оттеснил его на самый край обрыва. Упорство и мужество Мюрата обратили его ошибку в успех. Четвертый уланский полк удержал позицию.
В момент наибольшей опасности батарея Даву дважды отказывалась открывать огонь. Ее командир ссылался на инструкции, которые запрещали ему стрелять без приказов князя Экмюльского. Эти приказы поступили, согласно одним источникам, вовремя, но другие говорили, что они опоздали.
Я рассказываю об этом эпизоде, поскольку на следующий день произошла новая крупная размолвка между Мюратом и Даву в присутствии императора.
Мюрат упрекал Даву за медлительность, слишком большую осторожность и за его неприязнь, которая существовала со времен Египта. В запальчивости он заявил, что если между ними существует ссора, то они должны ее уладить между собой, а армия не должна от этого страдать!
Даву, раздраженный, обвинял Мюрата в дерзости. По его словам, безрассудная горячность короля Неаполитанского постоянно подвергает опасности его войско, и он бесполезно тратит силы солдат, жизнь и снаряды. В заключение Даву объявил, что так может погибнуть вся кавалерия! Впрочем, прибавил он, Мюрат вправе распоряжаться ею; но что касается пехоты 1-го корпуса, то пока он, Даву, командует ею, он не позволит так расточать ее силы!
Мюрат, конечно, не оставил этого без ответа.
Император слушал их, играя русским ядром, которое он толкал ногой. Казалось, будто в этих разногласиях его полководцев есть что-то такое, что ему нравится. Он приписывал эту вражду их усердию, зная, что слава — самая ревнивая из всех страстей. Ему нравилась пылкость Мюрата. Так как питаться приходилось только тем, что удавалось найти, и всё это тотчас же поглощалось, то надо было как можно скорее справляться с врагом и быстро проходить дальше. Притом же общий кризис в Европе был слишком силен и положение слишком критическое, чтобы можно было оставаться долго в таких условиях, да и Наполеон испытывал чересчур сильное нетерпение. Стремительность Мюрата больше соответствовала его желаниям и беспокойству, нежели методическая рассудительность Даву. Поэтому, отпуская их, он тихо сказал Даву, что нельзя соединять в себе все качества и что он лучше умеет сражаться, нежели вести вперед авангард. После этого Наполеон отослал обоих, приказав им лучше сговариваться в будущем.
Оба полководца вернулись к своим частям с прежней ненавистью в душе.
Глава III
Двадцать восьмого августа армия прошла широкие равнины около Вязьмы. Она шла торопливо, прямо через поля. Большая дорога была предоставлена артиллерии с ее повозками и походным лазаретом. Император, верхом на лошади, поспевал всюду. Письма Мюрата и приближение к Вязьме поддерживали в нем надежду на битву. Слышали, как он вычислял во время перехода, сколько тысяч пушечных выстрелов понадобится ему, чтобы разнести неприятельскую армию!
Наполеон приказал сжечь все повозки, за исключением телег с провизией, поскольку они затрудняли движение колонн и подвергали их опасности в случае нападения. Увидев повозку генерала Нарбонна, своего адъютанта, он приказал немедленно сжечь ее в присутствии генерала, не позволив ее разгрузить; суровый приказ, однако, не был исполнен до конца.
Багаж всех корпусов был собран позади армии. Обоз представлял собой длинную вереницу лошадей и кибиток; повозки были нагружены трофеями, провизией, военным имуществом и людьми, которые должны были за всем этим следить; там же были отставшие, больные солдаты и их оружие. В этой колонне встречалось много безлошадных кирасир, теперь оседлавших маленьких лошадок, которые были не больше наших ослов; эти кавалеристы не могли идти пешком — с непривычки или ввиду отсутствия обуви. Казаки могли тревожить армию, но Барклай боролся только с нашим авангардом и лишь настолько, насколько это было нужно, чтобы замедлить наше движение, не вынуждая нас к отступлению.
Такое поведение Барклая, ослабление армии, взаимные распри ее начальников и приближение решительного момента — всё это беспокоило Наполеона. В Дрездене, в Витебске и даже в Смоленске он напрасно надеялся получить какое-нибудь сообщение от Александра. Двадцать восьмого августа он, по-видимому, сам добивался этого: письмо Бертье к Барклаю, не представляющее, впрочем, ничего замечательного, заканчивалось следующими словами: «Император поручает мне просить Вас передать его приветствие императору Александру. Скажите ему, что никакие превратности войны и никакие обстоятельства не в состоянии изменить дружеских чувств императора Наполеона к нему!»
В этот день, 28 августа, авангард оттеснил русских к самой Вязьме. Армия была измучена переходом, жарой, пылью и отсутствием воды. Спорили из-за нескольких грязных луж и даже дрались у источников. Император сам должен был довольствоваться грязной жижей вместо воды.
В течение ночи неприятель разрушил мосты в Вязьме, разграбил город и поджег его. Мюрат и Даву поспешили туда, чтобы потушить пожар. Хоть неприятель и противился, но армия перешла Вязьму, и часть авангарда вступила в бой с поджигателями, а другая часть старалась потушить пожар, что ей и удалось.
В городе нашли кое-какие запасы, которые быстро были разграблены. Наполеон, проезжая через него, увидел этот беспорядок и страшно рассердился. Он пустил свою лошадь в самую середину толпы солдат, свалил с ног одних, избил других, велел схватить одного маркитанта, тут же судить и расстрелять его. Но все знали, какое значение имели его слова: чем яростнее были вспышки, тем скорее они проходили и сопровождались снисхождением. Поэтому несчастного маркитанта поставили на колени на дороге, по которой должен был проехать император, а возле маркитанта поместили какую-то женщину с детьми и выдали ее за его жену. Император, уже успокоившийся, спросил, чего они хотят, и велел отпустить его на свободу.
Он еще не сошел с лошади, когда увидел направлявшегося к нему Бельяра, боевого товарища Мюрата, в течение пятнадцати лет состоявшего у него начальником штаба.
Изумленный Наполеон подумал, что произошло несчастье, но Бельяр успокоил его и сказал, что за Вязьмой, позади одного оврага, неприятель показался в значительном числе и занял удобную позицию, готовый сразиться. Тотчас же с той и другой стороны кавалерия завязала сражение, и так как оказалась нужной пехота, то Мюрат сам встал во главе одной дивизии Даву и двинул ее на врага. Но прибежал маршал и закричал своим солдатам, чтобы они остановились. Он громко порицал этот маневр, резко упрекая короля Неаполитанского и запрещая своим генералам повиноваться ему. Тогда Мюрат напомнил ему о своем чине и о том, что время не терпит. Всё было напрасно! И вот он посылает сказать императору, что не хочет командовать при таких условиях и что надо выбирать между ним и Даву!
Услышав это, Наполеон вышел из себя и закричал, что Даву забывает всякую субординацию, не признавая его зятя! Он отпустил Бертье с приказом отдать под команду Мюрата дивизию Компана, ту самую, из-за которой вышла ссора. Даву не стал оправдываться, но доказывал только, что, по существу, он был прав и что он мог быть лучшим судьей относительно местности и соответствующих действий.
Между тем битва кончилась. Неприятель перестал отвлекать Мюрата, и он опять вернулся к своей ссоре. Запершись с Бельяром в палатке, он припоминал все выражения маршала, и кровь его кипела от гнева и стыда. Как? Он был оскорблен публично, его не признали, и Даву еще жив? И он его увидит? Что значили для него гнев императора и его решение? Он сам должен отмстить за оскорбление! Какое значение имеет его кровь? Его сабля сделала его королем, и к ней одной он обращается теперь! Он уже схватился за оружие и хотел идти к Даву, когда Бельяр остановил его, указав на обстоятельства, на пример, который надо подавать армии, и на неприятеля, которого надо преследовать. Он сказал ему также, что не следует огорчать своих и радовать неприятеля такой громкой оглаской.
Бельяр рассказывал, что Мюрат проклинал в эту минуту свою корону и старался проглотить обиду, но слезы досады наворачивались у него на глаза. Пока он так терзался, Даву оставался в главной квартире и настаивал на своем, утверждая, что император был обманут.
Наполеон вернулся в Вязьму. Ему надо было пробыть там некоторое время, чтобы разведать, какую пользу он может извлечь из своей новой победы. Известия из центра России говорили, что русское правительство присвоило себе наши успехи, стараясь убедить всех в том, что потеря стольких провинций является результатом заранее установленного генерального плана отступления.
В бумагах, захваченных в Вязьме, сообщалось, что в Петербурге служили молебны по случаю предполагаемых побед под Витебском и Смоленском. Наполеон, изумленный, воскликнул: «Как? Молебны? Они осмеливаются лгать Богу, как и людям?»
В большинстве перехваченных русских писем было выражено то же удивление. «Когда горят наши деревни, — говорилось в них, — мы слышим только звон колоколов, благодарственные гимны и донесения о триумфах. Похоже, они заставляют нас благодарить Бога за победы французов. Ложь во всем — на земле и в небесах, в словах и на бумаге. Власть предержащие относятся к России как к ребенку, но они ничуть не верят, что мы столь доверчивы».
В это время авангард оттеснил неприятеля к Гжатску. После Смоленска русские больше не жгли деревни и особняки. Видимо, они посчитали это мрачное зло бесполезным и удовлетворялись сожжением городов.
Глава IV
Первого сентября, около полудня, Мюрата отделяла от Гжатска только сосновая роща. Присутствие казаков заставило его развернуть свои первые полки. Но вскоре от нетерпения он призвал нескольких кавалеристов и сам, прогнав русских из лесу, который они занимали, прошел через него и очутился у ворот Гжатска. Тут французы воодушевились и хлынули в город, разделенный на две части речкой, мосты которой уже были объяты пламенем.
То ли случайно, то ли по татарской традиции, базар находился в азиатской части города (как в Смоленске и Вязьме). Русский арьергард, защищенный рекой, успел поджечь весь квартал. Стремительное движение Мюрата спасло остальное.
Речку перешли как могли: переплывали на бревнах, лодках, переходили вброд. Русские скрылись за пламенем. Наши разведчики погнались за ними туда, когда вдруг увидели какого-то человека, бежавшего к ним навстречу, который кричал им, что он француз. Его радость и его акцент подтверждали это. Его отвели к маршалу Даву.
Всё, по словам этого человека, изменилось теперь в русской армии. В ее рядах возникло сильное неудовольствие Барклаем и поднялся шум. Дворянство, купцы и вся Москва присоединились к общему крику негодования.
«Этот генерал, этот министр — изменник! — кричали все. — Он предоставлял врагам возможность истреблять по частям все свои дивизии! Он позорил армию своим постоянным бегством! А между тем позор вторжения все-таки приходилось переносить, и города сгорали! Решаться на такое разрушение — значит приносить себя в жертву. Но по крайней мере в этом была бы холь какая-то доблесть! Позволять же иностранцу приносить нас в жертву — значит всё потерять, даже честь самопожертвования!.. Откуда взялся этот иностранец во главе русской армии? Разве не нашлось для нее ни одного из современников, боевых товарищей и учеников Суворова? Надо русского, чтобы спасти Россию!» И все требовали и звали Кутузова и желали битвы…
Француз прибавлял, что император Александр уступил. Неповиновение Багратиона и общее негодование помогли добиться того и другого. Притом же, заманив неприятельскую армию так далеко вглубь страны, сам русский император находил, что великое столкновение становится неизбежным.
Далее этот француз рассказал, что 29 августа в Царево Займище, между Вязьмой и Гжатском, прибытие Кутузова и объявление предстоящей битвы вызвали величайшее ликование в русской армии. Тотчас же все направились к Бородино, но уже не для того, чтобы бежать от неприятеля, как прежде, а чтобы укрепиться там, на этой границе Московской губернии, защищать ее, победить или умереть!
Небольшой инцидент, малопримечательный сам по себе, а именно прибытие русского парламентера, как будто подтверждал это известие. По-видимому, ему нечего было сказать, и все тотчас же заметили, что он явился только для того, чтобы наблюдать. Его поведение в особенности не понравилось Даву, который еще более укрепился в своих догадках. Один французский генерал опрометчиво спросил этого парламентера, что можно найти между Вязьмой и Москвой. «Полтаву!» — гордо ответил русский. Этот ответ как бы указывал на то, что должно произойти сражение, и он понравился французам, которые любят находчивость и с удовольствием встречаются с достойными врагами.
Этого парламентера проводили без всяких предосторожностей, как и привели его. Он видел, что можно беспрепятственно проникнуть к нашей главной квартире. Он прошел через аванпосты, не увидев ни одной сторожевой будки, — всюду замечалась одинаковая небрежность и безрассудная смелость, столь свойственная французам и победителям. Все спали; не было никаких паролей и не было никаких патрулей. Наши солдаты, по-видимому, пренебрегали этими предосторожностями, считая их слишком несущественными. Ведь они нападали, они были победителями! Это русским надо защищаться! Русский офицер впоследствии говорил, что ему хотелось в эту же ночь воспользоваться нашей неосторожностью, но он не нашел ни одного русского корпуса поблизости.
Неприятель, торопясь сжечь мосты через реку Гжать, оставил нескольких казаков. Их пленили и отправили к Наполеону, который ехал верхом. Он захотел сам расспросить их и, позвав своего переводчика, велел этим двум скифам в странных костюмах и с дикими физиономиями ехать по сторонам, около себя, и таким образом вступил в Гжатск и проехал этот город. Ответы этих варваров совпадали с тем, что говорил француз, и в течение ночи с 1 на 2 сентября все известия, полученные с аванпостов, подтвердили это.
Выяснилось, что Барклай, один против всех, поддерживал до последнего момента тот план отступления, который в 1807 году он расхваливал одному из наших генералов как единственное средство спасения России. У нас хвалили его за то, что он держался этой системы разумной обороны, несмотря на все крики гордой нации, раздраженной несчастьем и агрессивными действиями неприятеля. Без сомнения, он сделал промах, дав себя захватить врасплох в Вильне и не признав болотистое русло Березины истинной границей Литвы. Но затем, в Витебске и Смоленске, он повсюду предварял Наполеона: на Лучесе, Днепре и при Валутиной горе его противодействие Наполеону сообразовалось со временем и местностью. Эта мелкая война и причиняемые ею потери были ему выгодны. Каждое его отступление удаляло нас от наших подкреплений и приближало его к своим. Он, следовательно, всё делал кстати — и тогда, когда рисковал, и тогда, когда оборонялся или отступал!
А между тем он навлек на себя всеобщее недовольство! В наших же глазах это было величайшей похвалой ему. Его одобряли у нас за то, что он пренебрегал общественным мнением, когда оно заблуждалось, что довольствовался только изучением всех наших действий и извлекал из них выгоду, зная, что чаще всего нацию можно спасти только вопреки ее собственной воле.
Барклай выказал себя еще более великим в последующую кампанию. Этот главнокомандующий, военный министр, у которого отняли власть, чтобы передать ее Кутузову, захотел служить под его началом! И повиновался ему так же, как сам командовал раньше — с тем же рвением.
Глава V
Наконец русская армия остановилась! Милорадович, 16 тысяч новобранцев и толпа крестьян, с крестами в руках и криками «Так угодно Богу!» присоединились к ней. Нам сообщили, что неприятель изрыл траншеями всю Бородинскую равнину и, по-видимому, решил там укрепиться, чтобы более не отступать.
Наполеон возвестил своей армии, что предстоит битва. Он дал два дня, чтобы отдохнуть, приготовить оружие и запастись припасами. Отрядам, отправленным за продовольствием, он объявил, что если они не вернутся на следующий день, то будут лишены чести сражаться!
Император пожелал получить сведения о своем новом противнике. Ему описали Кутузова как старика, известность которого началась со странной раны и который затем сумел искусно воспользоваться обстоятельствами. Поражение при Аустерлице, которое он предвидел, содействовало его репутации, а последние походы против турок еще более увеличили его славу. Храбрость Кутузова была бесспорна, но ему ставили в упрек то, что он соразмерял ее с личными интересами, потому что всегда и всё рассчитывал. Он обладал мстительным, малоподвижным характером и в особенности хитростью — это был характер татарина! И он умел подготовить, под покровом приветливой, уклончивой и терпеливой политики, самую неумолимую войну.
Впрочем, он был еще более ловким царедворцем, чем искусным генералом. Он был опасен своей популярностью и своим искусством увеличивать ее и заставлять других содействовать этому. Он умел льстить целой нации и каждому отдельному лицу, от генерала до солдата.
Уверяли, что в его внешности, в его разговоре и даже одежде, в его суеверных привычках и в возрасте было что-то напоминающее Суворова, отпечаток Древней Московской Руси и национальных черт, делавших его особенно желанным всем русским сердцам. В Москве известие о его назначении вызвало всеобщее ликование. Люди обнимались на улицах, считали себя спасенными!
Собрав эти сведения и отдав приказания, Наполеон стал ждать событий с тем спокойствием души, которое свойственно необыкновенным людям. Он мирно осматривал окрестности своей главной квартиры. Он обратил внимание на прогресс сельского хозяйства, но при виде реки, впадающей в Волгу, он будто вновь испытал чувства, сопутствующие славе; слышали, как он, покоривший множество рек, хвастался, что стал хозяином вод, которые текли в сторону Азии и будто должны были стать предвестниками его вступления в эту часть земного шара.
Четвертого сентября армия, всё еще разделенная на три колонны, покинула Гжатск и его окрестности. Мюрат опережал ее на несколько лье. Со времени прибытия Кутузова передовые части наших колонн постоянно объезжали казачьи отряды. Мюрат раздражался тем, что его кавалерия вынуждена разворачиваться перед таким ничтожным препятствием. Уверяют, что в тот день, повинуясь своему первому импульсу, достойному времен рыцарства, он бросился один вперед и, подъехав к казачьей линии, вдруг остановился в нескольких шагах от нее. С саблей в руках, он таким повелительным жестом сделал казакам знак удалиться, что варвары повиновались и в изумлении отступили.
Этот факт, который нам тотчас же рассказали, не вызвал у нас никакого недоверия. Воинственная внешность короля Неаполитанского, блеск его рыцарского одеяния, вся его репутация придавали правдивость этому рассказу, несмотря на его неправдоподобность. Но уж таков был Мюрат, этот театральный король по изысканности своего наряда и истинный монарх по необыкновенной отваге и кипучей деятельности! Он был смел, как удалая атака, и всегда имел вид превосходства и угрожающей отваги, самого опасного оружия наступления.
Однако он должен был остановиться. В Гридневе, между Гжатском и Бородино, дорога неожиданно спускается в глубокий овраг, откуда столь же внезапно поднимается; эту высоту Кутузов приказал защищать Коновницыну. Последний поначалу оказал сильное сопротивление передовому отряду Мюрата; армия следовала непосредственно за Мюратом, что придавало атаке дополнительную энергию; авангард принца Евгения атаковал правый фланг русских, где казаки на короткое время остановили итальянских егерей, что было удивительно.
Коновницын был побежден и отступил; его кровавый след тянулся к Колоцкому монастырю. Он не остановился ни здесь, ни в Головино; когда французский авангард вышел из этой деревни на открытое место, то вся равнина и леса были полны казаками, рожь была потравлена, а деревня ограблена. Здесь находилось поле битвы, выбранное Кутузовым.
Наполеон появился на высотах, откуда он обозревал всю местность глазом завоевателя, который видит всё сразу и без всякого смятения, минует препятствия, отбрасывает всё второстепенное, находит главные точки и фиксирует их орлиным взором как свою добычу.
Он знал, что в одном лье перед ним, в Бородине, текущая в лощине река Колоча резко поворачивает налево и впадает в Москву-реку. Он догадывался, что в этом месте находится цепь значительных высот, и они, без сомнения, заняты вражеской армией: с этой стороны ее непросто атаковать. Колоча прикрывает правый фланг русской позиции, но левый фланг остается незащищенным.
Были захвачены деревни и леса. На левом фланге и в центре находились Итальянская армия, дивизия Компана и Мюрат, на правом — Понятовский. Атака была всеобщей, так как и Польская, и Итальянская армии одновременно появились на обоих крылах большой императорской колонны. Эти три массы оттесняли к Бородину русские арьергарды, так что вся война сосредоточивалась в одном-единственном месте.
Как только завеса, образуемая этими арьергардами, приподнялась, открылся первый русский редут. Слишком выдвинувшийся вперед и отдаленный от левого фланга русских позиций, он защищал их, но сам не был защищен.
Компан ловко воспользовался рельефом. Возвышения послужили платформой для его пушек, которые должны были стрелять в редут, а также убежищем для пехоты, выстроившейся тремя колоннами к атаке. Сначала выступил 61-й полк. Редут был взят с первого натиска и при помощи штыков, но Багратион послал подкрепления, которые опять отбили его. Три раза 61-й полк вырывал его у русских, и три раза они вновь возвращали его.
Наконец редут остался за нами — ценою почти истребленного полка.
На другой день, когда император делал смотр этому полку, он спросил, где 3-й батальон. «В редуте», — отвечал полковник. Но дело этим не кончилось. Соседний лес кишел русскими стрелками. Они каждую минуту выходили из этого логова и возобновляли атаки, поддерживаемые тремя дивизиями. Наконец, после атаки Морана на Шевардино и Понятовского на леса Ельни войска Багратиона прекратили свои вылазки, и кавалерия Мюрата очистила равнину. Упорство одного испанского полка в особенности повлияло на неприятеля и заставило его уступить. Этот редут, служивший неприятельским аванпостом, перешел в наши руки.
В то же время император указал каждому корпусу его место. Остальная армия вошла в строй, и возникла общая ружейная перестрелка, перемежавшаяся с пушечными выстрелами. Она продолжалась до тех пор, пока каждая часть не установила своих границ и выстрелы, вследствие наступления ночи, стали неверными.
Один из полков Даву, отыскивая свое место в первой линии, заблудился в темноте и прошел дальше, в самую середину русских кирасир, которые напали на него и, обратив в бегство, отняли три пушки, взяли в плен и убили до трехсот человек. Остаток сомкнулся в бесформенную массу, ощетинившуюся штыками и окруженную огнем. Неприятель уже не мог проникнуть дальше в эту массу, и ослабленное войско вернулось на свое место в боевом строю.
Глава VI
Император расположился позади Итальянской армии, налево от большой дороги. Старая гвардия образовала каре вокруг его палаток. Как только прекратилась перестрелка, зажглись лагерные огни. Со стороны русских они сияли огромным полукругом, с нашей же стороны они представляли бледный неровный свет и не были расположены в порядке, так как войска прибывали поздно и впопыхах, в незнакомой местности, где ничто не было подготовлено и не хватало дров, особенно в центре и на левом фланге.
Император спал мало. Генерал Коленкур[22] вернулся с завоеванного редута. Ни один пленный не попал в наши руки, и Наполеон, изумленный, забрасывал Коленкура вопросами. Разве его кавалерия не атаковала вовремя?
Быть может, русские решили победить или умереть?.. Ему отвечали, что русские, фанатизированные своими начальниками и привыкшие сражаться с турками, которые приканчивают своих пленных, скорее готовы были умереть, нежели сдаться. Император глубоко задумался над этим фактом и, придя к заключению, что наиболее верной была бы артиллерийская битва, отдал приказание, чтобы поспешили подвезти парки, которые не явились.
В эту самую ночь пошел мелкий холодный дождь, и осень дала о себе знать сильным ветром. Это был еще один лишний враг, и с ним надо было считаться, тем более что это время года отвечало возрасту, в который вступал Наполеон, а известно, какое влияние оказывают времена года на соответствующую пору жизни!
Сколько различных волнений было в эту ночь! Солдаты и офицеры заботились о том, чтобы приготовить оружие, одежду, и боролись с холодом и голодом, так как жизнь их представляла теперь непрерывную борьбу с лишениями всякого рода. Генералы же и сам император испытывали беспокойство при мысли, что русские, обескураженные своим поражением накануне, опять скроются, пользуясь ночной темнотой. Мюрат стращал этим. Несколько раз казалось, что неприятельские огни начинают бледнеть и что слышится как будто шум выступающих войск. Однако утром 6 сентября солнце осветило обе армии и показало их друг другу на том же самом месте, где они находились накануне. Радость была всеобщей. Наконец-то прекратится эта неопределенная, вялая война, притуплявшая наши усилия, во время которой мы забирались всё дальше и дальше. Теперь мы приблизились к концу, и скоро всё должно было решиться!
Император воспользовался первыми проблесками в утренних сумерках, чтобы, переходя с одной возвышенности на другую, осмотреть между двумя боевыми линиями весь фронт неприятельской армии. Он видел, что русские занимают все высоты большим полукругом протяженностью в два лье, от Москвы-реки до Старой Московской дороги. Их правый фланг упирается в Колочу, центр от деревни Горки до Семеновского является выступающей частью их позиции. Колоча делает их правый фланг неприступным.
На левом фланге виден холм, возвышающийся над всей равниной; на нем стоит грозный редут, состоящий из двадцати одного орудия. Спереди и справа он окружен Колочей и оврагами.
Окончив разведку, император решился. Он вскричал: «Евгений, останемся на месте! Правый фланг начнет битву, и как только он завладеет, под защитой леса, редутом, который находится против него, он повернет налево и пойдет на русский фланг, поднимая и оттесняя всю их армию к их правому флангу и к Колоче».
Составив общий план, он занялся деталями. В течение ночи три батареи, в шестьдесят пушек каждая, должны быть противопоставлены русским редутам: две против левого фланга и одна против центра. С рассветом Понятовский со своей армией, сократившейся до пяти тысяч человек, должен был выступить по Старой Смоленской дороге, обогнув лес, на который опирались правое французское и левое русское крыло. Его задача — прикрывать французское крыло и тревожить русское. Все будут ждать звука его первых выстрелов. Тотчас же после этого вся артиллерия обрушится на левый фланг русских. Огонь этой артиллерии пробьет их ряды и их редуты, и тогда Даву и Ней устремятся туда. Их поддержат Жюно со своими вестфальцами, Мюрат с кавалерией и, наконец, сам император с 20-тысячной гвардией. Первые усилия будут направлены против этих двух редутов. Через них можно проникнуть в неприятельскую армию, которая окажется после этого поражена, а центр ее и правый фланг открыты и почти окружены.
Но так как русские находились в удвоенном количестве в центре и на правом фланге, угрожая Московской дороге, а Наполеон, бросая свои главные силы и сам устремляясь на левый фланг русских, отделил себя Колочей от этой дороги, представляющей для него единственный путь к отступлению, то он подумал об усилении Итальянской армии, занимающей это место, и прибавил к ней две дивизии Даву и кавалерию Груши. Что же касается его левого фланга, то он полагал, что одной итальянской дивизии, баварской кавалерии и кавалерии Орнано — всего около 10 тысяч человек — будет достаточно для его прикрытия. Таковы были планы Наполеона.
Глава VII
Он находился на высотах Бородина, в последний раз обозревая всё поле битвы и уточняя свои планы, когда явился Даву. Этот маршал только что окончил изучать левый фланг русских, который являлся местом, в котором он должен был действовать.
Даву умолял императора предоставить в его распоряжение пять дивизий общей численностью 35 тысяч солдат, чтобы объединить их с Понятовским, не имевшим достаточных сил для обходного маневра. На следующий день он приведет эти силы в движение, будет наступать под покровом тьмы и леса, расположенного на левом фланге русской позиции; он будет следовать вдоль старой дороги из Смоленска в Москву, затем предпримет стремительный маневр и направит все 40 тысяч французов и поляков на фланг и в тыл левого крыла неприятеля. В то время как император атакует московитов с фронта, он поддержит общую атаку быстрым наступлением от редута к редуту, от одного резерва к другому, тесня противника слева направо, в направлении Можайской дороги, где они должны покончить с русской армией и тем самым завершить битву и войну.
Император внимательно слушал маршала; после молчаливого размышления, продолжавшегося несколько минут, он ответил: «Нет! Это слишком большое движение, оно уведет меня слишком далеко от цели и заставит потерять слишком много времени».
Даву упорно продолжал настаивать на своем; он брал обязательство завершить свой маневр до шести часов утра. Раздраженный Наполеон нетерпеливо воскликнул: «А, вечно вы со своими обходными маневрами, но это слишком опасно!» После столь резкого отказа маршал больше ничего не сказал. Он вернулся на свое место, ворча по поводу этого благоразумия, которое он считал несвоевременным и к которому не привык; он не понимал, в чем его причина, — в ненадежности многочисленных союзников, уменьшении численности армии, удаленности от Франции или в возрасте, сделавшем Наполеона менее предприимчивым, чем раньше?
Приняв решение, Наполеон вернулся в свой лагерь; здесь Мюрат, которого русские часто обманывали, стал убеждать его, что они снова собираются уйти без боя. Напрасно Рапп, посланный для наблюдения за позициями неприятеля, по возвращении говорил, что русские продолжают их укреплять; что их армия многочисленна, хорошо расположена и скорее намерена атаковать, чем отступать. Мюрат настаивал на своем мнении, и император в беспокойстве вернулся на высоты Бородина.
Он увидел длинные черные колонны войск на дороге: они постепенно растекались по равнине; там же было множество повозок с провизией и амуницией; всё указывало на то, что русские заняли позиции и готовятся к битве. В этот момент, хотя он взял с собой лишь нескольких сопровождающих, чтобы не привлекать внимание неприятеля, его всё же узнали и открыли огонь из орудий.
Никогда еще не было так спокойно, как в день, предшествовавший этой великой битве! Всё было определено, зачем же было тревожить себя понапрасну? Разве завтрашний день не должен всё решить? Притом каждому надо было приготовиться.
Император больше не мог сомневаться в предстоящей битве и поэтому ушел в палатку, чтобы продиктовать распорядок. Там он задумался над серьезностью своего положения. Он видел две одинаковые армии, приблизительно по 120 тысяч человек и 600 пушек с каждой стороны; на стороне русских было преимущество: знание местности, общий язык, общая форма и то, что они представляли единую нацию, сражающуюся за общее дело. Но зато у них было много иррегулярных войск и рекрутов. Численность французов была такая же, но солдат было больше. Ему сообщили положение каждого корпуса. У него перед глазами находился подсчет сил всех дивизий, и так как дело шло не о наградах и не о смотре, а о битве, то на этот раз штаты не были искусственно увеличены. Его армия сократилась, это правда, но она была здоровая, крепкая, гибкая, как возмужалый организм, потерявший округлость молодости, но приобретший формы более мужественные и более резкие.
Он заметил, что его армия как будто притаилась и особенно тиха. Это была тишина великого ожидания или великого изумления, какая наблюдается в природе перед сильной грозой или в толпе в моменты великой опасности.
Наполеон чувствовал, что армии нужен отдых, какой бы он ни был, и что она может найти его только в смерти или победе. Он поставил свою армию в такие условия, что ей необходимо было восторжествовать во что бы то ни стало. Он заставил ее занять позицию, дерзость которой была всем очевидна. Но эта ошибка была именно из тех, которые французы прощают всего охотнее, тем более что они не сомневались ни в себе, ни в нем, ни в общем результате, каковы бы ни были частные неудачи.
Он рассчитывал на их привычку и жажду славы, даже на их любопытство; вне всякого сомнения, они желали увидеть Москву, чтобы потом говорить, что были в ней, они хотели получить там обещанные награды, возможно, заняться грабежом и, наконец, отдохнуть. Он не увидел в них энтузиазма, но разглядел нечто более твердое: общую веру в его звезду, его гений, сознание их превосходства и гордую уверенность завоевателей в присутствии побежденных.
Полный этих чувств, он диктовал прокламацию — простую, серьезную и откровенную, соответствующую обстоятельствам и обращенную к людям, которые не были новичками на войне и которых бесполезно было восхвалять после стольких страданий.
Соответственно он обращался исключительно к тому, что является причиной всего, или, что то же самое, к настоящему интересу каждого; он закончил словами о славе, единственной страсти, к которой он мог взывать в этих пустынях, последнему благородному стимулу, действенному для солдат, — победоносных, просвещенных передовой цивилизацией и обогащенных опытом; короче говоря, последней иллюзии из всех, которые они имели. Этим обращением когда-нибудь будут восхищаться, оно достойно главнокомандующего армией и делает честь им обоим:
«Солдаты, — сказал он, — вот битва, которой вы страстно желали. Победа зависит от вас; она нам необходима; она принесет нам изобилие, хорошие зимние квартиры и скорое возвращение домой! Действуйте как при Аустерлице, Фридланде, Витебске и Смоленске, и пусть отдаленное потомство скажет о вашем поведении в этот день: он был в великой битве под стенами Москвы».
Глава VIII
В течение этого дня Наполеон заметил в неприятельском лагере необычное движение. В самом деле, вся русская армия была на ногах и под ружьем. Кутузов, окруженный военной и религиозной пылкостью, выступал среди войск. Этот генерал велел своим священнослужителям надеть великолепное парадное облачение, наследие греческой церкви. Духовенство шло впереди генерала и несло хоругви и образ Богоматери, покровительницы Смоленска, избежавшего, по их словам, чудесным образом поругания врагов.
Когда русский генерал убедился, что его солдаты достаточно взволнованы этим необыкновенным зрелищем, он возвысил голос и заговорил с ними о небе — этой единственной родине, остающейся рабству! И во имя религии равенства он старался побудить этих крепостных рабов защищать имущество и жизнь своих господ; он взывал к их мужеству и старался возбудить их негодование, указывая им на священный образ, укрывшийся в их рядах от святотатственных посягательств. Наполеон, по его словам, — это всемирный деспот, тиран и нарушитель мира, гадина, архибунтовщик, ниспровергающий алтари и оскверняющий святыню, истинный ковчег Господень.
Дальше генерал указывал русским солдатам на их города, обращенные в пепел, напоминал об их женах и детях, говорил об их императоре и кончил призывом к благочестию, патриотизму, ко всем этим примитивным добродетелям грубых народов, находящихся еще во власти ощущений. Но поэтому-то они и являются наиболее опасными солдатами, что рассуждение не отвлекает их от повиновения, а рабство заключает их в узкий круг мыслей, где они вращаются в области лишь небольшого количества ощущений, которые для них являются единственными источниками всех потребностей, желаний и идей.
Притом же они преисполнены гордости, вследствие отсутствия возможности сравнения, и настолько же легковерны, насколько горды; по невежеству они поклоняются образам и настолько идолопоклонники, насколько могут быть идолопоклонниками христиане, превратившие религию духа, чисто интеллектуальную и нравственную, в физическую и материальную, чтобы сделать ее более доступной своему грубому и недалекому пониманию.
Но как бы то ни было, а это торжественное зрелище, эти речи, увещевания офицеров и благословения священников подействовали. Все, до самого последнего солдата, сочли себя предназначенными самим Богом защищать свою святую землю.
У французов же не было никаких церемоний, ни религиозных ни военных, ничего такого, что служило бы средством возбуждения. Речь императора была роздана позднее и прочитана на другой день, почти перед самой битвой, так что многие корпуса вступили в бой раньше, чем могли ознакомиться с ее содержанием. Русских должны были воспламенить различные небесные силы. Французы же искали эти силы в самих себе, уверенные, что истинные силы находятся в человеческом сердце и что именно там скрывается небесная армия!
Случаю угодно было, чтобы как раз в тот день император получил из Парижа портрет короля Римского, своего ребенка, которого Империя встретила как будущего императора восторженными изъявлениями радости и надежды. С момента его рождения Наполеон ежедневно проводил некоторое время возле сына, давая волю самым нежным чувствам своего сердца. И вот теперь, когда он снова увидел этот нежный образ, среди грязных приготовлений, в далекой стране, его воинственная душа была глубоко растрогана. Он сам выставил портрет перед своей палаткой, потом призвал офицеров и солдат Старой гвардии, желая, чтобы они разделили его чувства. Он хотел показать своей военной семье свою мирную семью и заставить этот символ надежды засиять перед лицом великой опасности!
Вечером прибыл адъютант Мармона, отправленный с поля битвы при Саламанке. Это был тот самый Фавье, который теперь стал важной фигурой в наших гражданских спорах. Император любезно принял адъютанта побежденного генерала. Накануне битвы, исход которой был неясен, он был снисходителен к неудаче; он выслушал всё, что ему говорилось о разрозненности его сил в Испании, отсутствии единоначалия, и признал справедливость сказанного.
Настала ночь, а вместе с нею вернулась и боязнь, что русская армия под покровом темноты удалится с поля битвы. Эти опасения не давали спать Наполеону. Он постоянно звал к себе, спрашивал, который час и не слышно ли какого-нибудь шума, и посылал посмотреть, на месте ли еще неприятель? Он до такой степени сомневался, что велел раздать свое воззвание с приказанием прочесть его только на другой день утром, и то лишь в случае, если будет битва.
Успокоившись на несколько минут, он снова поддавался тревоге. Его пугало обнищание собственных солдат. В состоянии ли они будут, такие слабые и голодные, выдержать длительное и ужасное столкновение? Ввиду такой опасности он видел единственный ресурс в своей гвардии. Она как будто отвечала за обе армии. Он позвал Бессьера, того из своих маршалов, которому он больше других доверял командование этим отборным войском. Он хотел знать, не испытывает ли этот избранный резерв недостатка в чем-нибудь? Потом несколько раз снова призывал его и забрасывал вопросами. Он выражал желание, чтобы этим старым солдатам были розданы на три дня бисквиты и рис, взятые в счет запасного провианта из резервных фургонов. Однако он всё же боялся, что его не послушаются, и поэтому встал у входа в свою палатку и сам спросил гвардейских гренадеров, получили ли они продовольствие. Успокоенный их ответами, он вернулся в палатку и задремал.
Но вскоре снова позвал к себе адъютанта. Наполеон сидел, оперевшись головой на руки, и раздумывал о тщете славы. Что такое война? Ремесло варваров, всё искусство которого заключается в том, чтобы быть сильнее в данном месте! Затем Наполеон пожаловался на непостоянство судьбы, которое, по его словам, он уже начинает испытывать. Потом к нему опять вернулись более успокаивающие мысли. Он вспомнил то, что ему рассказывали про медлительность и нерадивость Кутузова, и удивлялся, что не предпочли Беннигсена. Тут он снова подумал о критическом положении, в котором он очутился, и прибавил, что приближается великий день и произойдет страшная битва!
Он спрашивал Раппа, верит ли тот в победу.
— Без сомнения, — ответил Рапп, — но только в кровавую!
— Знаю, — возразил Наполеон. — Но ведь у меня восемьдесят тысяч человек, и с шестьюдесятью тысячами я вступлю в Москву. Там присоединятся к нам отставшие и маршевые батальоны, тогда мы будем еще сильнее, чем перед битвой!
По-видимому, в эти расчеты не входили ни кавалерия, ни гвардия, но тут опять Наполеоном овладело прежнее беспокойство, и он послал посмотреть, что делается у русских. Ему отвечали, что лагерные огни продолжают гореть, а количество подвижных теней, окружающих их, указывает, что там находится целая армия. Присутствие неприятеля на том же месте успокоило императора, и он решил немного отдохнуть.
Однако переход, сделанный им с армией, утомление предшествующих дней и ночей, бесчисленные заботы и напряженное ожидание истощили его силы. На него подействовало похолодание. Его съедали лихорадка, вызванная чрезмерным возбуждением, сухой кашель и сильное недомогание. Ночью он тщетно старался утолить жгучую жажду, мучившую его. Эта новая болезнь осложнялась у него припадками старой. У него начались мучительные приступы той ужасной болезни, которая давно давала себя чувствовать, а именно — затруднение мочеиспускания.
Наконец пробило пять часов. Явился офицер, посланный Неем с извещением, что маршал всё еще видит русских и просит разрешения начать атаку. Это известие как будто вернуло императору силы, ослабленные лихорадкой. Он встал, позвал своих и вышел, восклицая: «Наконец-то они у нас в руках. Вперед, откроем ворота Москвы!»
Глава IX
Было пять с половиной часов утра, когда Наполеон подъехал к редуту, завоеванному 5 сентября. Там он подождал первых проблесков рассвета и первых ружейных выстрелов Понятовского. Взошло солнце, император указал на него своим офицерам и воскликнул: «Вот солнце Аустерлица!» Но это солнце было не на нашей стороне; оно вставало на стороне русских и освещало нас, ослепляя нам глаза. При дневном свете мы заметили, что наши батареи поставлены слишком далеко, так что пришлось их передвинуть. Неприятель не мешал нам; он как будто не решался первым прервать это страшное молчание!
Внимание императора было приковано к правому флангу, когда вдруг, около семи часов, бой разразился на левом фланге. Вскоре ему донесли, что один из полков принца Евгения, 106-й, завладел деревней Бородино и тамошним мостом, который он должен был разрушить. Увлеченный этим успехом, полк прошел мост и произвел нападение на высоту Горки, где русские истребили его огнем своего фронта и фланга. Сообщали, что командир убит и 106-й полк был бы совершенно уничтожен, если б 92-й полк, поспешивший к нему на помощь, не собрал поспешно его остатков и не увел их с собой.
Наполеон сам отдал приказ левому крылу броситься в такую яростную атаку. Может быть, он думал, что его послушаются только наполовину, или же хотел отвлечь внимание врага в эту сторону. Теперь он еще умножил свои приказания, усилил подстрекательства и затеял с фронта битву, которую вначале планировал как фланговую.
В это время император, думая, что Понятовский схватился с врагом на Старой Московской дороге, дал сигнал к атаке впереди себя. Вдруг в этой спокойной и мирной долине среди безмолвных холмов показались вихри огня и дыма, за которыми последовали множество взрывов и свист ядер, летящих в различных направлениях. Среди этого оглушительного грохота Даву с дивизиями Компана, Дессе и тридцатью пушками быстро двинулся на первый вражеский редут.
Началась стрельба со стороны русских, на которую отвечали только пушки. Пехота двигалась, не стреляя.
Она торопилась поскорее настигнуть врага и прекратить огонь. Но Компан, генерал этой колонны, и лучшие из солдат упали раненые. Колонна, растерявшись, остановилась, под градом пуль, чтобы отвечать на выстрелы, но тут прибежал Рапп, чтобы заменить Компана, и с ним его солдаты, которых он увлек за собой. Они бросились, выставив штыки вперед, прямо на вражеский редут.
Рапп первый приблизился к нему, но в эту минуту пуля настигла его. Это была его двадцать вторая рана. Третий генерал, который занял его место, тоже упал. Даву также был ранен. Раппа отнесли к императору, который сказал ему: «Как, Рапп, опять? Но что же там делают наверху?..»
Адъютант ответил, что надо пустить гвардию, чтобы покончить с редутом.
«Нет, — возразил Наполеон, — я не хочу, чтобы ее истребили, я выиграю битву без нее».
Тогда Ней со своими тремя дивизиями, сократившимися до десяти тысяч человек, устремился на равнину. Он спешил поддержать Даву. Неприятель разделил огонь. Ней бросился туда. Пятьдесят седьмой полк Компана, почувствовав поддержку, воодушевился и, сделав последнее усилие, достиг вражеских траншей, взобрался на них и, пуская в ход штыки, оттолкнул русских, опрокинул их и истребил наиболее упорных; остальные обратились в бегство, и 57-й полк водворился на побежденном редуте. В то же время Ней с таким же азартом бросился на другие редуты и отнял их у врага.
Был полдень. Левый фланг русской боевой линии был таким образом разбит, и равнина открыта. Император приказал Мюрату броситься туда со своей конницей и кончить дело. Достаточно было одной минуты, чтобы Мюрат очутился уже на высотах, среди неприятеля, который вновь появился там, так как на помощь первому явился второй русский строй и подкрепления, приведенные Багговутом и посланные Тучковым. Все они спешили к редутам, чтобы вернуть их. У французов еще царил беспорядок после победы, поэтому среди них возникло замешательство, и они отступили.
Вестфальцы, которых Наполеон послал на помощь Понятовскому, проходили в это время через лес, отделявший Понятовского от остальной армии. Они увидели, среди пыли и дыма, наши отряды, которые отступали назад, и, приняв их, вследствие направления их движения, за неприятеля, начали в них стрелять. Эта ошибка, в которой они долго упорствовали, только усилила беспорядок.
Неприятельские кавалеристы мужественно использовали удачу и окружили Мюрата, который забыл о себе, чтобы собрать своих людей. Неприятель уже протянул руки, чтобы схватить маршала, но он бросился на редут и ускользнул от них. Но на редуте он нашел только растерявшихся солдат, которые бегали, испуганные, вокруг парапета и не в состоянии были защищать не только его, но и самих себя. Им не хватало только выхода, чтоб обратиться в бегство.
Король Неаполитанский схватился за оружие и одной рукой сражался, а другой, подняв каску, размахивал султаном, призывая своих людей и воздействуя на их мужество личным примером. В это время огонь Нея остановил неприятельских кирасир, смешал их ряды, и они отпустили свою добычу. Мюрат был, наконец, освобожден, а высоты вновь взяты.
Но только избавившись от одной опасности, он тотчас же кинулся навстречу другой. Бросившись с кавалерией на неприятеля, Мюрат упорными повторными атаками опрокинул боевые линии русских, погнал их и отбросил к центру, завершив в один час полное поражение русского левого фланга.
Однако высоты разрушенного села Семеновского, где начинался левый фланг русского центра, оставались еще неприкосновенными. На них опирались подкрепления, которые Кутузов постоянно брал из своего правого фланга. Их непрекращающийся огонь обволакивал Нея и Мюрата и останавливал победоносное движение. Необходимо было завладеть этой позицией. Сначала Мобур со своей кавалерией смел фронт неприятеля. Фриан, один из генералов Даву, следовал за ним со своей пехотой, Дюфур и 15-й егерский полк первыми взобрались на откосы. Они выгнали русских из этой деревни, развалины которой были плохо укреплены. Фриан, несмотря на рану, поддержал это усилие, воспользовался успехом и упрочил его.
Глава X
Это энергичное действие открывало нам путь к победе. Необходимо было поспешить туда. Но Мюрат и Ней были истощены. Они остановились и, собрав войска, потребовали подкрепления. Тогда-то Наполеон испытал нерешительность, до сих пор ему не известную. Наконец он отдал несколько приказаний гвардии, но тотчас же отменил их, решив, что присутствия сил Фриана и Мобура на высотах будет достаточно, так как, по его мнению, решительный момент еще не наступил.
Но Кутузов воспользовался этой отсрочкой, на которую он не мог надеяться. Он призвал на помощь своему открытому левому флангу все резервы, вплоть до гвардии. Багратион, со всеми своими подкреплениями, перестроил боевую линию. Его правый фланг опирался на большую батарею, которую атаковал принц Евгений, а левый — на лес, ограничивающий поле битвы со стороны Писарева. Его огонь расстраивал наши ряды. Его атака носила бурный, стремительный характер; пехота, артиллерия, кавалерия — все действовали одновременно. Ней и Мюрат с трудом выдерживали эту бурю. Речь шла уже не о дальнейшей победе, а о сохранении того, что было достигнуто.
Солдаты Фриана, выстроившиеся против Семеновского, отразили первые атаки. Но на них обрушился такой град пуль и картечи, что они смутились. Один из начальников, устрашившись, скомандовал отступление. В этот критический момент к нему подбежал Мюрат и, схватив его за шиворот, крикнул:
— Что вы делаете?
Полковник, показав ему на землю, усеянную ранеными и убитыми, отвечал:
— Вы видите, что здесь больше нельзя оставаться!
— А! — воскликнул Мюрат. — Но ведь я же остаюсь!..
Эти слова подействовали на полковника, и, пристально посмотрев на маршала, он холодно проговорил:
— Это правда! Солдаты, вперед! Дадим себя уничтожить!
Мюрат отправил Борелли к императору с просьбой о помощи, но тот медлил посылать своих гвардейцев.
Неизвестно, что вызывало неуверенность Наполеона. Может быть, он сомневался в исходе действий Понятовского и принца Евгения, происходивших на правом и левом флангах? Или он опасался, что крайний левый фланг русских, ускользнув от поляков, завладеет полем боя в тылу Нея и Мюрата? Он отвечал тем, кто торопил его, что он хочет лучше видеть, что битва еще не начиналась, день еще велик, поэтому необходимо уметь выжидать, ибо на всё надо время. Он спрашивал, который час, и прибавлял, что час его битвы еще не наступил, что битва начнется через два часа!
Но она не началась. Целый день он то садился, то опять вставал и медленно прохаживался недалеко от редута, взятого 5-го числа, на берегу овражка, вдали от сражения, которое он едва мог видеть, так как оно перешло за высоты. Он не выказывал ни беспокойства, ни нетерпения, ни досады. Он только делал жест грустной покорности, когда ему докладывали о потере лучших генералов. Он вставал, делал несколько шагов и снова садился.
Окружающие смотрели на него с изумлением. До сих пор в таких серьезных столкновениях он всегда был деятелен и спокоен. Но теперь это было тяжелое спокойствие, вялая, бездейственная кротость. Многие готовы были видеть в этом упадок духа, обычное следствие сильных волнений. Другие воображали, что он уже пресытился всем, даже сильными ощущениями битвы. Некоторые замечали по этому поводу, что спокойная твердость и хладнокровие великих людей с течением времени, когда годы берут свое и энергия истощается, переходят в равнодушие, в отяжеление. Самые ретивые объясняли эту неподвижность Наполеона необходимостью не слишком часто менять место, так как когда командуешь на большом пространстве, надо знать, куда должны направляться донесения. Однако всего правильнее судили те, кто указывал на его пошатнувшееся здоровье, на тайное страдание и на начинающуюся серьезную болезнь.
Артиллерийские генералы, удивлявшиеся тому, что им приходится стоять неподвижно, поспешили воспользоваться разрешением вступить в бой и заняли гребни холмов.
Восемьдесят пушек сразу разразились выстрелами. Русская кавалерия первая разбилась об эту несокрушимую стену и поспешила укрыться за пехоту.
Русская пехота продвигалась плотной массой, в которой наши выстрелы проделывали большие и широкие пробоины. Однако она не переставала приближаться до тех пор, пока, наконец, французские батареи не разгромили ее картечью — целые взводы падали разом. Видно было, как солдаты под этим ужасным огнем старались все-таки сплотить свои ряды.
Наконец они остановились, не решаясь идти дальше и не желая отступать, оттого ли, что окаменели от ужаса среди такого страшного разрушения, или оттого, что в эту минуту был ранен Багратион. Но может быть, после того как не удалась первая диспозиция, их генералы не сумели ее изменить, не обладая, как Наполеон, великим искусством передвигать одновременно большие массы в строгом единстве и порядке. И вот эти инертные массы предоставили истреблять себя в течение целых двух часов, и единственным движением среди них было падение тел. Это было ужасающее избиение, и наши артиллеристы не могли не восхищаться таким непоколебимым мужеством и слепой покорностью врагов!
Наконец Ней выдвинулся вперед, и остатки его армии сделались победителями над остатками армии Багратиона.
Битва прекратилась на равнине и сосредоточилась на оставшихся неприятельских высотах и против Большого редута, который Барклай упорно отстаивал при помощи центра и правого фланга против атаки принца Евгения.
Итак, около середины дня всё правое французское крыло, Ней, Даву и Мюрат, опрокинув Багратиона и половину русской боевой линии, обратились на приоткрытый фланг остальной неприятельской армии, которая была видна теперь вместе с ее резервами, оставленными без прикрытия, вплоть до линии отступления.
Но, чувствуя себя слишком ослабленными, чтобы бросаться в это пустое пространство, маршалы стали громко призывать гвардию: пусть она только покажется и заменит их на этих высотах! Тогда они в состоянии будут докончить!
Они послали Бельяра к императору со следующими словами:
— С нашей позиции можно беспрепятственно видеть всё, вплоть до дороги в Можайск в тылу русской армии. Видна нестройная толпа беглецов, раненых и повозок на пути отступления. Овраг и небольшой редкий лесок еще отдаляют их от нас, это правда, но русские генералы в замешательстве не подумали воспользоваться этим, и теперь достаточно одного приступа, чтобы решить судьбу неприятельской армии и войны!
Но император всё еще продолжал колебаться. Он приказал Бельяру еще раз пойти посмотреть и вернуться к нему с донесением.
Бельяр, удивленный, ушел, но очень быстро вернулся и сообщил, что враг что-то затевает и лесок окружается стрелками. Нельзя терять ни минуты, иначе будет упущен благоприятный случай и понадобится вторая битва, чтобы завершить первую!
Между тем вернулся Бессьер, который был послан Наполеоном на высоты наблюдать за поведением русских. Этот маршал объявил, что русские не находятся в беспорядке и уже удалились на вторую позицию, где они, по-видимому, готовятся к новой атаке. Тогда император сказал Бельяру, что еще ничего не выяснилось и что прежде чем ввести в игру свои резервы, он должен хорошо видеть расположение фигур на шахматной доске! Это выражение он повторил насколько раз, указывая, с одной стороны, на Старую Московскую дорогу, которой Понятовский всё не мог завладеть, и, с другой, на неприятельскую кавалерийскую атаку в тылу нашего левого крыла, а также на Большой редут, которым никак не мог завладеть принц Евгений.
Огорченный, Бельяр вернулся к Мюрату и сообщил о невозможности добиться от Наполеона его резерва. По словам Бельяра, император оставался на том же месте: он сидел с унылым, страдальческим выражением. Черты лица его осунулись, взгляд сделался тусклым, и свои приказы он отдавал каким-то вялым голосом, среди ужасного грохота войны, которая казалась ему чуждой. Когда этот рассказ передали Нею, он вышел из себя и под влиянием своего пылкого, необузданного темперамента воскликнул: «Разве мы для того шли в такую даль, чтобы довольствоваться одним сражением? Что делает император в тылу армии? Там он слышит только о неудачах, а не об успехах нашей армии! Если он уже больше не руководит военными действиями, если он больше не генерал и хочет везде играть только роль императора, то пусть возвращается в Тюильри и предоставит нам быть генералами вместо него!»
Мюрат был сдержаннее. Он вспомнил, что видел, как император объезжал накануне линию неприятельского фронта. Император несколько раз останавливался, слезал с лошади и, опершись лбом о пушки, оставался стоять в этой позе, выражавшей страдание. Мюрат знал, какие беспокойные ночи проводил император, которому мешал спать сильный и частый кашель. Он понимал, что утомление пошатнуло физические силы Наполеона и в его ослабленном организме в критическую минуту деятельность духа была связана телом, изнемогавшим под тройной тяжестью утомления, лихорадки и болезни, которая из всех причин, быть может, скорее всего действует угнетающим образом на физические и нравственные силы человека.
Тотчас же после Бельяра явился Дарю, подстрекаемый Дюма и в особенности Бертье, и сказал шепотом императору, что со всех сторон кричат: «Пора уже двинуть гвардию! Момент наступил!» Однако Наполеон возразил на это: «А если завтра будет вторая битва, с чем я буду вести ее?» Министр не настаивал больше, так как был очень удивлен, что император в первый раз сам откладывает на завтра свое счастье!
Глава XI
Барклай вел упорнейший бой с принцем Евгением. Последний, немедленно после взятия Бородина, миновал Колочу перед большим вражеским редутом. Здесь русские рассчитывали на высоты, окруженные глубокими и болотистыми оврагами, на нашу усталость, на свои укрепления, защищенные тяжелой артиллерией, и на восемьдесят орудий, размещенных на этих берегах, извергающих огонь и пламя! Но все эти силы, естественные и искусственные, были разом побеждены: их захлестнула волна знаменитого французского бешенства, русские вдруг увидели солдат генерала Морана посреди своих позиций и в беспорядке бежали.
Тысяча восемьсот солдат 30-го полка во главе с генералом Бонами только что совершили это великое усилие. Этот полк, один против всей армии, рискнул пойти на нее в штыковую атаку. Его обошли, смяли и вытеснили из редута, где он оставил треть своих солдат и своего бесстрашного генерала, получившего двадцать ран.
Именно там отличился Фавье, адъютант Мармона, прибывший днем раньше из сердца Испании; он добровольно действовал в составе пехоты и встал во главе передовой группы стрелков, как будто бы он пришел сюда, чтобы представлять армию Испании в рядах Великой армии; он с воодушевлением и без страха вступил в соревнование за славу, которое создает героев.
Он пал раненым на этом знаменитом редуте. Триумф был кратковременным, атаку следовало поддержать. Части поддержки должны были пройти через овраг, глубина которого была защитой от вражеского огня. Наши войска остановились. Моран был один перед несколькими русскими линиями. Часы показывали десять утра. Фриан, который находился справа от него, еще не начал атаку на Семеновское, а слева дивизии Жерара, Бруссье и Итальянская гвардия еще не построились для наступления.
Русские, оправившись после первого испуга, сбежались со всех сторон. Кутайсов и Ермолов повели их с решительностью, соответствовавшей великому моменту. Русские, ободренные этим успехом, не ограничились только защитой; они стали нападать. И тогда на одном этом пункте объединились все старания, искусство и свирепость, какие только могут заключаться в войне. Французы держались в течение четырех часов на склоне этого вулкана, под свинцовым и железным дождем. Но для этого надо было обладать стойкостью и ловкостью принца Евгения. Для людей же, привыкших издавна побеждать, конечно, была невыносима мысль признать себя побежденными!
Каждая дивизия несколько раз переменила своих генералов. Евгений переходил от одной дивизии к другой, смешивая просьбу с упреками и напоминая о прежних победах. Он уведомил императора о своем критическом положении, но Наполеон отвечал, что ничего не может сделать! Это его дело побеждать, и от этого зависит успех всего сражения! Принц соединил все свои силы, чтобы двинуться в общую атаку, когда вдруг со стороны левого фланга раздались яростные крики, которые и отвлекли его внимание.
Уваров, два кавалерийских полка и несколько тысяч казаков обрушились на его резерв. Возник беспорядок. Принц Евгений бросился туда и с помощью генералов Дельзона и Орнано прогнал это более шумное, чем опасное войско. Но он тотчас же вернулся и встал во главе решительной атаки.
Как раз в этот момент Мюрат, вынужденный бездействовать на равнине, где он господствовал, в четвертый раз послал к Наполеону с жалобой на потери, которые терпит его кавалерия от русских, опирающихся на редуты, противостоящие принцу Евгению. Мюрат просил помощи гвардии. Поддерживаемый ею, он сделает обход этих укрепленных высот и заставит их пасть вместе с армией, которая их защищает.
Император, по-видимому, согласился. Он послал за Бессьером, начальником гвардейской кавалерии. К несчастью, маршала этого не нашли, так как он, по приказу императора, отправился наблюдать битву с более близкого расстояния. Император ждал его около часа, не выражая никакого нетерпения и не возобновляя своего приказания. Когда же маршал наконец вернулся, то он встретил его с довольным видом, выслушал спокойно его донесение и позволил ему подвинуться вперед так далеко, как он это найдет нужным.
Но было уже поздно! Нечего было думать о том, чтобы захватить русскую армию, а может быть, даже и всю Россию, оставалось только завладеть полем битвы. Кутузову дали время осмотреться. Он укрепился на остававшихся у него малодоступных пунктах и покрыл равнину своей кавалерией.
Русские, таким образом, в третий раз перестроили свой левый фланг перед Неем и Мюратом. Мюрат призвал кавалерию Монбрена. Но Монбрен был убит, и его заменил Коленкур. При виде адъютантов несчастного Монбрена, оплакивающих своего генерала, он закричал им: «Идите за мной! Не оплакивайте его, а отомстите за него!..»
Мюрат показал ему на новый фланг неприятеля: надо прорвать его.
«Вы меня увидите там тотчас же, живого или мертвого!» — воскликнул Коленкур. Он бросился туда, повергая на своем пути всё, что сопротивлялось, затем быстро повернул налево со своими кирасирами и проник первым в окровавленный редут. Там его настигла пуля и уложила на месте. Его победа стала его могилой!
Императору тотчас же донесли об этой победе и об этой потере. Обер-шталмейстер, брат несчастного генерала, слышал это. Сначала он был сражен горем, но потом поборол себя, и если б не слезы, которые тихо стекали по его лицу, то можно было подумать, что он отнесся к этому безучастно. Император сказал ему: «Вы слышали? Хотите уйти?» При этом у него вырвалось восклицание глубокого огорчения. Но в этот момент мы уже двигались на врага. Коленкур ничего не ответил императору, но не ушел, а только чуть-чуть приподнял шляпу в знак благодарности и отказа.
Пока происходила эта решительная атака кавалерии, Евгений уже почти настиг со своей пехотой жерло этого вулкана. И вот огонь его погас, дым рассеялся, и вершина засверкала двигающимися и блестящими медными доспехами наших кирасир. Наконец-то эти высоты, до тех пор находившиеся в руках русских, перешли к французам! Вице-король поспешил разделить эту победу, закончить ее и укрепиться на этой позиции.
Но русские всё же не отказались от нее. Они продолжали упорствовать и сражались ожесточенно, смыкаясь перед нашими рядами с большой настойчивостью. Побежденные, они снова возвращались, приводимые обратно своими генералами, и умирали у подножия воздвигнутых ими укреплений.
К счастью, их атакующая колонна явилась к Семеновскому и Большому редуту без артиллерии. По всей вероятности, ее задержали овраги. Бельяр имел только время собрать тридцать пушек против этой пехоты, и когда она подошла к ним, то пушки разгромили ее так быстро, что она даже не успела развернуться и в сильном замешательстве тотчас же отступила. Мюрат и Бельяр говорили, что если б у них в этот момент были в распоряжении 10 тысяч пехотинцев резерва, то их победа была бы решительной, но, вынужденные ограничиваться только действиями своей кавалерии, они почли себя счастливыми, что сохранили поле битвы.
Со своей стороны и Груши многократными кровопролитными атаками на левый фланг Большого редута утвердил победу и очистил равнину. Но он не мог преследовать остатки русских. Новые овраги, а за ними вооруженные редуты прикрывали отступление русских. Они яростно защищались до наступления темноты, прикрывая таким образом большую дорогу в Москву, их священный город, их склад, их убежище.
Только около трех с половиной часов была одержана, наконец, последняя победа. В этот день было несколько таких побед. Каждый корпус последовательно побеждал то сопротивление, которое находилось перед ним, не извлекая пользы из своего успеха для решения судьбы битвы, потому что, не получая вовремя поддержки, каждый останавливался, истощив свои силы. Неприятель остановился и укрепился в новой позиции. День уже склонялся к вечеру, наши боевые припасы были истощены, и битва была кончена.
Тогда Бельяр в третий раз вернулся к императору. Страдания Наполеона, по-видимому, усилились. Он с трудом сел на лошадь и медленно направился к высотам Семеновского. Там он нашел поле битвы, не совсем еще отнятое у неприятеля, оспаривавшего его и засыпавшего своими ядрами и пулями.
Но даже среди этих боевых звуков и в присутствии Мюрата и Нея, воинственный пыл которых еще не успел остыть, Наполеон оставался таким же, голос у него был слабый и поступь вялая. Увидев русских и услышав их продолжавшуюся стрельбу, он, кажется, вновь испытал подъем; император направился, чтобы взглянуть на их последнюю позицию, и даже вознамерился выбить их оттуда. Но Мюрат, указывая на остатки своих войск, заявил, что для завершения дела необходима гвардия; в ответ Бессьер продолжал настаивать, как он обычно делал, на важности этого элитного корпуса: император здесь слишком далеко от своих подкреплений, между ним и Францией находится Европа, и необходимо сохранить по крайней мере это небольшое количество солдат для обеспечения его безопасности. Шел пятый час дня, и Бертье добавил: теперь слишком поздно; враг укрепляется на позиции, и потеря еще нескольких тысяч солдат не даст нужного результата. После этого Наполеон лишь советовал победителям быть благоразумными. Затем он поехал назад, всё время шагом, к своим палаткам, разбитым позади батареи, взятой два дня тому назад, возле которой он с утра оставался почти неподвижным свидетелем всех превратностей этого ужасного дня.
Он побрел туда и позвал Мортье, которому приказал сохранить это поле битвы! А через час он снова повторил свое приказание не двигаться вперед и не отступать, что бы ни случилось!
Глава XII
Когда Наполеон, наконец, пришел в свою палатку, то к его физическому упадку присоединилась еще глубокая печаль. Он видел поле битвы, и оно говорило красноречивее, чем люди! Эта победа, к которой так стремились и которая была куплена такой дорогой ценой, осталась неполной! Он ли это, всегда доводивший свои успехи до последнего предела? Почему он оставался теперь равнодушным и бездеятельным, как раз тогда, когда судьба в последний раз оказывала ему свое покровительство?
В самом деле, потери были громадны и не соответствовали результатам. Все вокруг него оплакивали смерть кого-нибудь из близких — друга, родственника, брата. Роковой жребий в этой битве пал на самых значительных лиц. Сорок три генерала были убиты или ранены! В какой траур должен был одеться весь Париж! Какое торжество для его врагов! Какой опасный предмет для размышлений в Германии!
Те, кого он позвал к себе, Дюма и Дарю, слушали его и молчали. Но их поза, их опущенные взоры, их молчание были достаточно красноречивы!
Было десять часов. Мюрат, пыл которого не могли угасить двенадцать часов непрерывной битвы, еще раз пришел к нему просить, чтобы ему дали гвардейскую кавалерию. Неприятельская армия, по его словам, поспешно и в беспорядке переходила Москву-реку. Он хотел захватить ее врасплох и нанести последний удар! Однако император отверг этот порыв неумеренного рвения.
Позже Мюрат воскликнул, что в этот великий день он не узнал гения Наполеона! Принц Евгений добавил, что он не понимает причины нерешительности, проявленной его приемным отцом. Ней упорно советовал императору отступать.
Те, кто не покидал его в тот день, ясно видели, что этот победитель стольких наций, в свою очередь, был сражен жгучей лихорадкой и роковым возвратом мучительной болезни, которая возобновлялась у него после каждого слишком резкого движения и слишком долгих и сильных волнений. Они вспоминали слова, написанные им самим за пятнадцать лет до этого, в Италии: «Здоровье необходимо для войны и не может быть заменено ничем!» — а также его восклицание на полях Аустерлица, носившее, к несчастью, пророческий характер. Император вскричал тогда: «Для войны тоже есть свои годы. Меня хватит еще лет на шесть, а затем придется кончить и мне!»
В течение ночи русские давали знать о своем присутствии докучливыми криками. Утром тревога произошла почти у самой императорской палатки. Гвардия должна была схватиться за оружие, что показалось оскорбительным после победы. Армия оставалась неподвижной до полудня. Впрочем, тут больше не было армии, а только один авангард. Остаток ее рассеялся по полю битвы, чтобы поднимать раненых, которых было 20 тысяч. Их относили за два лье назад, в Колоцкий монастырь.
Главный хирург Ларрей набрал помощников во всех полках. Прибыли и походные лазареты. Но всего этого было недостаточно.
Император объехал поле битвы. Никогда еще ни одно место сражения не имело такого ужасного вида! Всё способствовало угнетающему впечатлению: угрюмое небо, холодный дождь, сильный ветер, обгорелые жилища, разрытая равнина, усеянная развалинами и обломками, а на горизонте унылая и темная зелень северных деревьев. Везде виднелись солдаты, бродившие между трупами и искавшие какого-нибудь пропитания, даже в ранцах своих убитых товарищей. Ужасные раны — русские пули были толще наших, — молчаливые бивуаки, нигде ни песен, ни речей, унылое безмолвие, царившее кругом, — вот что представляло это поле!
Около штандартов еще стояли уцелевшие офицеры и унтер-офицеры да несколько солдат — едва столько, сколько нужно для защиты знамени. Одежда этих людей была изодрана, лица, испачканные кровью, почернели от порохового дыма, и всё же в своих лохмотьях и среди окружающего их бедствия и разрушения они сохраняли прежний горделивый вид, и при виде императора даже раздались крики торжества. Но крики всё же были редкими.
Французские солдаты не обманывались. Они изумлялись тому, что так много врагов было перебито, так много было раненых — и так мало пленных! Не было даже восьмисот! А только по числу пленных судили о победе. Убитые же доказывали скорее мужество побежденных, нежели победу. Если остальные могли отступить в таком порядке, гордые и не упавшие духом, то какая польза была в том, что поле битвы осталось в наших руках? В такой обширной стране, как эта, разве не хватит русским земли, чтобы сражаться?
Среди этой массы трупов, по которым приходилось ехать, чтобы следовать за Наполеоном, нога одной из лошадей наступила на раненого и вырвала у него крик, последний признак жизни и страдания. Император, остававшийся до сих пор безмолвным и подавленный видом такого количества жертв, не выдержал на этот раз. Кто-то, чтоб успокоить его, заметил, что это русский солдат. Но император с живостью возразил, что после победы нет врагов, а есть только люди! Затем он разогнал офицеров, сопровождавших его, приказав им оказать помощь всем тем, чьи крики раздавались в разных концах поля.
В особенности много раненых было найдено в глубине рвов, куда было сброшено большинство наших и куда многие дотащились сами, ища защиты от врага и от урагана. Некоторые со стоном произносили: «Франция…» — или звали свою мать. Это были самые молодые. Старые же воины ожидали смерти с равнодушным или злобным видом, не произнося ни просьб, ни жалоб. Другие, впрочем, умоляли, чтобы их прикончили сразу. Но мольбы этих несчастных оставлялись без внимания, и мимо них быстро проходили, так как ни у кого не хватало духу прикончить их и никто не чувствовал бесполезного сострадания, не умея оказать им помощь!
Впрочем, один из этих несчастных, самый изувеченный (у него оставалось только туловище и одна рука), казался таким воодушевленным, полным надежды и даже веселости, что решено было попробовать его спасти. Когда его перенесли, то обратили внимание, что он жалуется на боль в членах, которых у него уже не было. Это часто наблюдается у калек и, по-видимому, служит еще одним доказательством целостности души, которая одна только может чувствовать, в отличие от тела, неспособного ни чувствовать, ни страдать.
Можно было заметить раненых русских, которые тащились к таким местам, где груды мертвых тел могли дать им какое-нибудь убежище. Многие уверяют, что один из этих несчастных прожил несколько дней в трупе лошади, разорванной гранатой, внутренности которой он глодал. Некоторые из раненых выпрямляли свои раздробленные ноги, крепко привязывая их к какой-нибудь древесной ветви и пользуясь другой вместо палки, чтоб дотащиться таким образом до ближайшей деревни. И они тоже не издавали ни единого стона!
Возможно, что вдали от своих они не рассчитывали на сострадание, но верно и то, что они более стойко переносили боль, нежели французы. И это не потому, что они мужественнее переносили страдание. Они действительно страдали меньше, были менее чувствительны как в физическом, так и в умственном отношении — следствия менее развитой цивилизации и закаленности организма.
Во время этого печального смотра император напрасно пытался тешить себя иллюзиями, вновь подсчитывая число пленных и трофеи: семьсот или восемьсот солдат неприятеля вместе с двадцатью разломанными орудиями — всё, что мы взяли в результате этой неполной победы.
Глава XIII
Между тем Мюрат продолжал гнать русских до самого Можайска. Дорога была совершенно чистой. Увидев Можайск, Мюрат мысленно им завладел и послал сказать императору, что он может приехать туда ночевать. Но русский арьергард занял позицию за пределами городских стен, а остатки их армии расположились на высотах за городом. Оттуда они прикрывали Московскую и Калужскую дороги.
Возможно, Кутузов колебался в выборе дороги или хотел оставить нас в неведении на этот счет. Кроме того, для русских было вопросом чести расположиться бивуаком в четырех лье от места нашей победы. Это также давало им время для того, чтобы освободить и очистить нужную дорогу.
Их положение было столь же прочным, как перед битвой. Но Мюрат, пылкий, как в начале кампании или в начале своей военной жизни, пренебрегал препятствиями; он собрал свою кавалерию, страстно призвал ее наступать и прорваться сквозь эти батальоны, ворота и стены! Напрасно его адъютант указывал ему на невозможность выполнения этих приказов: он обращал его внимание на армию, расположившуюся на высотах, и овраг, в котором остатки нашей кавалерии могут увязнуть. Мюрат, более обычного охваченный яростью, настаивал, что они должны идти в атаку, и если впереди есть препятствие, то они его увидят. Он осыпал кавалеристов оскорблениями и гнал вперед. Его приказы уже собирались выполнять, но с обычной задержкой, чтобы дать ему время подумать. Мюрат забавлялся, наблюдая, как его пушка стреляет по группе пьяных, в беспорядке двигающихся казаков, которые его почти окружили и пытались запугать ужасными криками.
Стычка, однако, была достаточно серьезной, поскольку генерал Бельяр получил ранение. Этот офицер, который был большой потерей для Мюрата, занимался разведкой на левом фланге вражеской позиции. Поскольку она была доступной, то можно было атаковать с этой стороны, но Мюрат всегда наносил удар исключительно по тому, что непосредственно находилось перед ним.
Император прибыл на поле боя с наступлением ночи в сопровождении совсем небольшого отряда. Он направился в сторону Можайска медленно и с совершенно отсутствующим видом, не слыша шума схватки и пуль, свистевших вокруг него. Но кто-то остановил его, указав на неприятельский арьергард, находившийся между ним и городом, и огни неприятельской армии в 50 тысяч человек. Это зрелище подтверждало недостаточность его победы и отсутствие уныния у неприятеля. Но он, казалось, остался нечувствительным ко всему этому, вернулся и переночевал в ближайшей деревне.
Русская осень взяла над ним верх! Без этого, быть может, вся Россия склонилась бы перед нашим оружием на подступах к Москве. Преждевременная суровость погоды явилась удивительно кстати для русских. Шестого сентября, накануне великой битвы, ураган возвестил о приближении осени. Наполеон был охвачен леденящим холодом. Уже в ночь, предшествовавшую великой битве, все заметили, что его снедает лихорадка, которая подавляла его дух и истощала его силы во время битвы; это страдание, присоединившееся к другому, еще более сильному, сковывало его гений в течение пяти последующих дней. Это и спасло Кутузова от полного поражения при Бородине и дало ему время собрать остатки своей армии и ускользнуть от нашего преследования.
Девятого сентября Можайск был открыт перед нами. Но когда мы вступили в город, одни — чтобы пройти через него и преследовать врага, другие — чтобы грабить и обосноваться, то не нашли там ни жителей, ни припасов, а только мертвых, которых приходилось выбрасывать из окон, чтобы иметь кров, и умирающих, которых собрали в одном месте.
Последних было везде так много, что русские не решились поджечь эти жилища. Во всяком случае их гуманность, не всегда отличавшаяся большою щепетильностью, не помешала им стрелять в первых французов, вошедших в город, и притом стрелять гранатами, которыми они подожгли деревянный город, и часть несчастных раненых, которых они там покинули, погибли в огне.
В то время как их старались спасти из огня, пятьдесят стрелков 33-го полка взобрались на высоты, занимаемые кавалерией и артиллерией неприятеля. Французская армия, еще стоявшая у стен Можайска, с удивлением смотрела на горсть этих людей, разбросанных на открытых склонах и беспокоящих своими выстрелами тысячи русских кавалеристов. И вдруг произошло то, что уже можно было предвидеть. Несколько русских эскадронов двинулись и в одно мгновение окружили этих смельчаков, которые быстро сомкнулись и лицом к лицу с неприятелем со всех сторон осыпали их выстрелами. Но их было так мало среди этой обширной равнины и множества лошадей, что они скоро исчезли из глаз!
Во всех рядах армии раздались возгласы горя. Каждый из солдат, вытянув шею, напряженно следил за движениями неприятеля, стараясь угадать участь своих боевых товарищей. Одни из них негодовали на расстояние и просили разрешения идти туда, другие машинально заряжали ружья или с угрожающим видом потрясали штыками, точно они могли их спасти. Их взоры то загорались, как во время битвы, то потухали, как во время поражения. Некоторые кричали, давая советы и ободряя, забывая при этом, что они не могут быть услышаны.
Несколько столбов дыма, поднявшихся над этой черной массой лошадей, еще усилили состояние неизвестности. Раздались крики, что наши еще стреляют, что они защищаются, что еще не всё кончено. В самом деле, офицером, командовавшим этими стрелками, был убит один из русских командиров. На требование сдаться офицер отвечал этим выстрелом. Тревожное состояние длилось еще несколько минут, когда вдруг вся армия издала крик радости и восторга, увидев, что русская кавалерия, смущенная таким дерзким сопротивлением, отодвинулась, чтобы избежать столь частых выстрелов, и, наконец, рассеялась. Тогда мы увидели небольшой взвод смельчаков, удержавших за собой это обширное поле битвы, на котором они сами едва занимали несколько метров.
Как только русские заметили, что их серьезно собираются атаковать, они исчезли, не оставив после себя никаких следов. Повторилось то же самое, что было при Витебске и Смоленске, но гораздо более замечательным было то, что это произошло после такой страшной битвы.
Некоторое время наши оставались в нерешительности, какую дорогу избрать, на Москву или Калугу, но Мюрат и Мортье сразу двинулись на Москву.
Их поход продолжался два дня, и при этом они не имели другой пищи, кроме лошадиного мяса и толченой пшеницы, и не могли найти ни одного человека, который указал бы путь отступления русской армии. Эта армия, хотя ее пехота представляла собой беспорядочную массу, не оставляла на дороге никаких следов.
Итальянская армия шла на расстоянии в несколько лье от большой дороги и встретила вооруженных крестьян, не умеющих сражаться; но их глава с кинжалом в руке бросился на наших солдат как сумасшедший: он кричал, что у него больше нет религии, государства или страны, которую следует защищать, и что жизнь ему опротивела; солдаты хотели сохранить ему жизнь, но поскольку он пытался убить окружавших его, то его желание было исполнено.
Армия противника вновь появилась 11 сентября вблизи Крымского и заняла сильную позицию. Мортье поначалу убедил Мюрата в невозможности атаковать, но запах пороха вскоре опьянил этого монарха. Он пошел в наступление и приказал Дюфуру, Мортье и их пехоте поддержать его. Пехота состояла из остатков дивизии Фриана и Молодой гвардии. Было без малейшей пользы потеряно две тысячи солдат резерва; Мортье был так разъярен, что написал императору о своем отказе от подчинения Мюрату.
Генералы авангарда поддерживали сношения с Наполеоном посредством писем. Он оставался три дня в Можайске, не выходя из своей комнаты, истощенный лихорадкой и беспокойством, заваленный делами. Умевший диктовать иногда семи лицам сразу, он должен был ограничиваться теперь тем, что вкратце писал содержание своих депеш, так как почти совсем лишился голоса. Если же возникали какие-нибудь недоразумения, то ему приходилось объясняться жестами.
В ту минуту, когда Бессьер сообщал ему список всех генералов, раненных во время этой битвы, Наполеон испытал такое мучительное чувство, что усилием воли вернул на мгновение свой голос и прервал маршала резким восклицанием: «Неделя в Москве, и больше этого не повторится!»
Однако, хотя он по-прежнему связывал всё свое будущее с этой столицей, он чувствовал, что его надежда ослабела после такой кровопролитной и малорешительной победы. Инструкции, данные им Бертье для маршала Виктора, явно свидетельствовали о его томлении. «Враг, — сказал он, — пораженный в самое сердце, не станет заниматься своими конечностями. Передайте Виктору, чтобы он направил всё — батальоны, эскадроны, артиллерию и отдельных людей — на Смоленск, чтобы оттуда они могли идти в Москву».
Во время этих душевных и физических страданий, которые император старался скрыть от своей армии, Даву проник к нему, чтобы предложить ему себя, хотя и раненого, в качестве командира авангарда, обещая идти днем и ночью, настичь врага и принудить его к битве, не тратя без нужды, как Мюрат, силу и жизнь своих солдат! Но Наполеон начал с аффектацией восхвалять неистощимую отвагу и удальство Мюрата.
Наполеону сообщили, что неприятельская армия вновь найдена. Она не удалилась на правый фланг, к Калуге, как он этого боялся, а продолжала отступать. Только два дня пути отделяли его теперь от Москвы. Это великое имя и великие надежды, связанные с ним, подняли его силы, и 12 сентября Наполеон уже был в состоянии поехать в коляске, чтобы присоединиться к своему авангарду.
Книга VIII
Глава I
Император Александр, застигнутый врасплох в Вильне во время оборонительных мероприятий, бежал вместе со своей разъединенной армией. Ее удалось объединить только в сотне лье от Вильны, между Витебском и Смоленском. Этот правитель, спешно отступая вместе с армией Барклая, нашел убежище в Дрисском лагере, который был неразумной и дорогостоящей затеей.
Александр, однако, был удовлетворен видом этого лагеря и Двины и перевел дух за этой рекой. Именно там он впервые согласился принять одного английского агента. Позднее, оказавшись в Париже по праву победы, он поклялся честью и заявил графу Дарю, что, вопреки обвинениям Наполеона, это было его первое нарушение Тильзитского договора.
В то же время он приказал Барклаю выпустить обращения с целью вызвать упадок духа у французов и их союзников, похожие на те, что так возмутили Наполеона в Глубоком; это были действия, к которым французы отнеслись с презрением; немцы посчитали их неуместными.
У противников русского императора сложилось невысокое мнение о его военных талантах. Оно было основано на том, что он не использовал Березину, являвшуюся единственной линией обороны в Литве, созданной самой природой, он устремился к северу, в то время как остатки его армии двигались в южном направлении, и, наконец, он выпустил указ о наборе рекрутов, которые должны были собираться в городах, вскоре занятых французами. Его отъезд из армии в то время, когда она начала воевать, также не остался незамеченным.
Однако его политические мероприятия в новых и старых провинциях, его воззвания, обращенные к армии и народу, в Полоцке и Москве, были удивительно адекватны месту и людям. По-видимому, во всех его политических мерах действительно существовала очень заметная постепенность.
В литовских провинциях, недавно приобретенных, из поспешности или из расчета, всё было оставлено на прежнем месте при уходе войск. А в Литве, присоединенной раньше, где снисходительная администрация, искусно распределенные милости и более долгая привычка рабства заставили население позабыть о независимости, при уходе войска русские увлекли за собой людей и всё, что они могли захватить с собой.
Но в Великороссии, где всё содействовало власти, — религия, суеверие, невежество, патриотизм населения, — все принимали участие в войне. Всё, что не могло быть захвачено с собой, было уничтожено, и всякий, кто не был рекрутом, становился казаком или полицейским.
Внутри империя подверглась опасности, и Москва должна была подать пример. Эта столица, справедливо называемая поэтами «златоглавая Москва», представляла обширное и странное собрание 295 церквей и 150 дворцов. Каменные дворцы и парки, чередовавшиеся с деревянными домиками и даже хижинами, были разбросаны на пространстве нескольких квадратных лье, на неровной почве. Дома группировались вокруг возвышенной треугольной крепости, окруженной широкой двойной оградой, имеющей около полумили в окружности. Внутри одной ограды находились многочисленные дворцы и церкви и пустое вымощенное мелким камнем пространство. Внутри другой заключался обширный базар, это был город купцов, где были собраны богатства четырех частей света.
Эти здания, эти дворцы, вплоть до лавок, все были крыты полированным и выкрашенным железом. Церкви наверху имели террасу и несколько колоколен, увенчанных золотыми куполами, а затем полумесяц и крест напоминали всю историю этого народа. Это была Азия и ее религия, вначале победоносная, затем побежденная, и полумесяц Магомета, покоренный крестом Христа!
Достаточно было одного солнечного луча, чтобы этот великолепный город засверкал самыми разнообразными красками. При виде него путешественник останавливался пораженный и восхищенный. Этот город напоминал ему чудесные описания в рассказах восточных поэтов, которые так нравились ему в детстве. Если он проникал внутрь городской стены, то удивление его еще больше увеличивалось. Он видел у дворян нравы и обычаи современной Европы, слышал среди них речи на разных языках и замечал богатство и изящество их одежды. Он с удивлением смотрел на азиатскую роскошь и порядки у купцов, на греческие одеяния народа и их длинные бороды. В зданиях его поражало такое же разнообразие, и между тем всё носило на себе своеобразный местный отпечаток, подчас довольно грубый, как это и приличествовало Московии.
Когда, наконец, он увидел пышность и великолепие дворцов, их богатое убранство, роскошь экипажей, представил и оценил множество рабов и слуг, блеск ярких стекол, шум дорогостоящих празднеств и развлечений и крики ликования, раздающиеся в этих стенах, он почувствовал, что находится в городе царей, в собрании правителей с их разнообразными манерами, традициями и слугами со всех частей света.
Дворяне, принадлежащие к самым знаменитым семьям, жили там в своем кругу и как бы вне влияния двора. Они были менее царедворцами и поэтому более гражданами. Оттого-то государи так неохотно приезжали туда, в этот обширный город дворян, которые ускользали от их власти благодаря своему происхождению, своей знатности и которым они все-таки вынуждены были благоволить.
Необходимость привела Александра в этот город. Он отправился туда из Полоцка, предшествуемый своими воззваниями и ожидаемый населением.
Прежде всего он появился среди собравшегося дворянства. Там всё носило величественный характер: собрание и обстоятельства, вызвавшие его, оратор и внушенные им резолюции. Говорил он взволнованным голосом. И не успел он кончить своей речи, как у всех вырвался единодушный, общий крик. Со всех сторон раздавались слова: «Государь, спрашивайте что угодно! Мы предлагаем вам всё! Берите всё!»
Один дворянин предложил сделать набор в полицию — по одному крестьянину от каждых двадцати пяти; сотня голосов прервали его: «Страна требует большей жертвы, необходимо отдать одного крепостного из десяти, и все отобранные должны быть полностью вооружены, экипированы и обеспечены провизией на три месяца». Только московское правительство предложило восемьдесят тысяч человек и огромное количество припасов.
Все немедленно проголосовали за эту меру, хотя наиболее видные дворяне после собрания ворчали по поводу ее экстравагантности: «Разве опасность столь велика? Разве для нашей защиты нет русской армии, в рядах которой, как нам говорили, всё еще находятся четыреста тысяч солдат? Почему нас лишают такого количества крестьян? Их служба, как было сказано, станет временной, но кто пожелает их возвращения? Наоборот, следует этого бояться. Разве эти рабы, которые привыкнут на войне к ненормальным вещам, вернуться такими же покорными, как прежде? Конечно нет: они вернутся, полные новых чувств и новых идей, которыми начнут заражать односельчан; они будут распространять дух непокорности, который лишит покоя их хозяев».
Александр говорил потом речь и купцам, но более кратко. Он заставил прочесть им то воззвание, в котором Наполеон назывался коварным Молохом, явившимся с изменой в душе и лояльными словами на устах, чтобы стереть Россию с лица земли!
Говорят, что при этих словах на всех мужественных загорелых лицах, которым длинные бороды придавали древний вид, внушительный и дикий, отразилась сильная ярость. Глаза засверкали, кулаки сжались, а заглушенные восклицания и скрежетание зубов указывали на силу возмущения. Результат не замедлил сказаться. Их избранный старшина оказался на высоте: он первый подписал пятьдесят тысяч рублей, две трети своего состояния, и на другой же день принес деньги.
Купцы разделяются на три класса, и каждому из них было предложено определить размеры своих взносов. Но один из них, причисленный к последнему классу, объявил вдруг, что его патриотизм не подчиняется никаким границам. Он тут же наложил на себя контрибуцию, далеко превышающую предложенную сумму. Другие последовали его примеру, в большей или меньшей степени.
Говорят, что этот патриотический дар Москвы достигал цифры в два миллиона рублей. Другие губернии повторили, точно эхо, этот национальный порыв Москвы.
Глава II
Между тем Смоленск был в руках врагов, Наполеон находился в Вязьме, Москва была охвачена тревогой, и хотя великая битва не была проиграна, но население уже начало покидать столицу.
Генерал-губернатор граф Ростопчин говорил женщинам в своих прокламациях, что он не держит их, поскольку чем меньше страха, тем меньше опасности; но их братья и мужья должны оставаться, или они покроют себя позором. Он добавил описание вражеской армии, которая, по его утверждению, состоит из 150 тысяч солдат, которые вынуждены поедать конину. Император Александр намерен вернуться в свою верную столицу; 83 тысячи русских, рекруты и полиция, вместе с 80 пушками идут в сторону Бородина, чтобы присоединиться к Кутузову.
В заключение он сказал: «Если этих сил недостаточно, то я скажу вам: идемте, мои друзья, жители Москвы, идемте в поход! Мы соберем сто тысяч человек: мы возьмем образ Богоматери и 150 пушек и разом покончим с этим делом».
Это совершенно оригинальное произведение, большинство прокламаций были написаны в библейском стиле и возвышенной прозой.
В то же время недалеко от Москвы, по приказанию Александра и под руководством одного германского фейерверкера, сооружали чудовищный воздушный шар. Этот громадный аэростат, снабженный крыльями, должен был парить над французской армией и, выбрав какого-нибудь командира, поразить его дождем из огня и железа. Сделано было несколько попыток, но они потерпели неудачу, так как постоянно ломались пружины, приводящие в движение крылья. Но губернатор Ростопчин, делая вид, что он не намерен покидать города, велел, как говорят, приготовить множество ракет и всяких воспламеняющихся веществ. Москва должна была превратиться в громадную адскую машину, ночной и внезапный взрыв которой должен был поглотить императора и его армию. Если бы даже враг избежал этой опасности, то всё же у него не осталось бы ни крова, ни ресурсов, а весь ужас этого страшного бедствия пал бы на него, так как его обвинили бы в нем, как это уже сделали в Смоленске, Дорогобуже, Вязьме и Гжатске, и тогда взрыв негодования заставил бы подняться всю Россию.
Таков был страшный план этого благородного потомка одного из самых великих завоевателей Азии. Этот план возник у него без особенных исканий, он был тщательно обдуман и приведен в исполнение безо всяких колебаний. Потом видели этого знатного русского в Париже. Это был вполне порядочный человек, хороший супруг и превосходный отец. Он был образован, и общество его доставляло удовольствие. Но, как и у многих его соотечественников, в нем соединялись современная культура и какая-то древняя отвага.
Отныне его имя принадлежит истории. Во всяком случае, он принимал наибольшее участие в этом великом жертвоприношении. Но оно было начато еще в Смоленске, и он только докончил его. Это решение, как и всё носящее такой величественный и целостный характер, великолепно. Мотивы, побудившие к нему, могли считаться достаточными и были оправданы успехом. Самоотвержение же было настолько неслыханным и необыкновенным, что историк невольно останавливается перед этим фактом, стараясь в него вникнуть, понять и поразмыслить о нем[23]!
Этот человек, среди великой империи, почти уже разрушенной, один твердым взглядом смотрел в глаза надвигающейся опасности. Он ее измерял, оценивал и осмелился решить, быть может, без всякого полномочия, какая громадная часть общих и частных интересов должна быть принесена ей в жертву. Подданный государства, он решал его участь без согласия своего государя. Сам дворянин, он обрекал на разрушение дворцы всех дворян, не спрашивая на это их согласия. Покровитель, вследствие занимаемой им должности, многочисленной толпы богатых коммерсантов в одной из самых больших столиц Европы, он приносил в жертву все эти богатства, все эти учреждения и весь город. Он сам отдал в жертву пламени один из своих самых богатых и самых красивых дворцов и, гордый, спокойный и удовлетворенный, остался непоколебимым среди всех этих людей, пострадавших в своих интересах, разоренных и возмущенных.
Какой праведный и сильный мотив придал этому человеку потрясающую уверенность? Решив разрушить Москву, он думал в первую очередь не о том, чтобы уморить врага голодом, и не о том, чтобы лишить французскую армию крыши над головой. Пожар должен был сделать вражеский поход в Москву бесцельным.
В этом великом кризисе, переживаемом Россией, Ростопчин видел главным образом две опасности: одна, угрожавшая национальной гордости, — это подписание позорного мира в Москве, к которому будет принужден император, другая — скорее политическая, нежели военная. Тут он боялся обольщений врага больше, нежели его оружия, и революции боялся больше, нежели завоевания.
Не желая заключения договора, Ростопчин предвидел, что в такой многолюдной столице, как Москва, которую сами русские называют оракулом и примером для всей империи, Наполеон должен будет прибегнуть к революционному оружию, единственному, которое останется у него для окончания дела. Вот почему Ростопчин и решил воздвигнуть огненную преграду между этим великим полководцем и всеми слабостями, откуда бы они ни исходили, со стороны престола или со стороны его соотечественников, дворян или сенаторов. В особенности же нужна была эта преграда между народом-рабом и солдатами свободного и обладающего собственностью народа, между французами и массой ремесленников и купцов, образующих в Москве зачатки среднего класса, — того самого, ради которого совершилась Французская революция.
Вся подготовка велась в тиши, о ней не знал ни народ, ни собственники всех классов; вероятно, о ней не ведал и император. Нация не знала о своем самопожертвовании. Это настолько верно, что когда настал момент действия, то мы слышали, как жители, хлынувшие в церкви, его проклинали. Самые богатые дворяне, наблюдавшие события на расстоянии, ошибались наряду со своими крестьянами и обвиняли нас в этом разрушении. Короче говоря, те, кто давали приказы, обращали ненависть в нашу сторону и при этом мало думали о проклятиях со стороны множества несчастных существ.
Молчание Александра оставляет в неизвестности вопрос, одобрял он или осуждал это великое решение. Роль его в этой катастрофе — тайна для русских. Они или не знают, или умалчивают — это результат деспотизма, предписывающего неведение или молчание.
Некоторые думают, что нет человека во всей империи, кроме правителя, который осмелился бы принять столь тяжелую ответственность. За время, прошедшее с той поры, он ни в чем не признался и не осудил это действие. Другие считают, что оно является одной из причин его отсутствия: не желая быть в местах событий, чтобы приказывать или защищаться, он не стал свидетелем катастрофы.
Русские бросали свои дома на всем нашем пути от Смоленска. Их военные описывали нас как злодеев, которые всё разрушают. Крестьяне, проживающие вблизи большой дороги, бежали по проселочным дорогам в деревни, принадлежащие их хозяевам, где им давали приют.
Чтобы построить русскую бревенчатую избу, достаточно топора; внутри избы — скамья, стол и образ; покидая дом, крепостные крестьяне приносят малую жертву; у них нет ничего своего, и сами они себе не принадлежат, являясь для хозяев собственностью и источником дохода.
Уходя, они забирают с собой телеги, инвентарь и скот; большинство из них способны обеспечить себя жилищем, одеждой и всем необходимым; эти люди до сих пор находятся на первой стадии цивилизации и далеки от разделения труда, отличающего высокоразвитое общество.
Но в городах и особенно в столицах, как они могут бросить дома, отказаться от многих удобств и наслаждений, от движимого и недвижимого имущества? В Вене, Берлине и Мадриде знать при нашем приближении раздумывала, покидать ли свои дома, поскольку остаться значит предать. Здесь же торговцы, ремесленники, наемные работники — буквально все считают своим долгом бежать вслед за самыми влиятельными вельможами. Эти люди пока неспособны судить сами и видеть различия: примера знати для них достаточно. Немногие оставшиеся в Москве иностранцы могли их просветить, однако некоторые из них были высланы, и ужас прогнал остальных.
Кроме того, несложно вызвать страхи осквернения, грабежа и разорения в умах людей, живущих изолированно от других народов, и жителей городов, которые часто разграблялись и сжигались татарами. Помня об этом, они не могли спокойно ждать прихода нечестивого и беспощадного врага и думали лишь о сопротивлении; другие, объятые ужасом, помышляли исключительно о бегстве и о спасении в этой и будущей жизни; послушание, честь, религия, страх — всё подвигало их к тому, чтобы бежать вместе с тем, что они могли унести.
За две недели до нашествия французов были вывезены архивы, общественные и государственная кассы, а также имущество дворян и именитых купцов, выехавших из Москвы со всем, что у них было самого драгоценного. Это указывало остальным обитателям города, что им следует делать. Губернатор, торопившийся поскорее опустошить столицу, ежедневно приказывал наблюдать за этим исходом.
Третьего сентября одна француженка, рискуя быть убитой разъяренными мужиками, решилась все-таки выйти из своего убежища. Она долго бродила по обширным кварталам, безмолвие и пустынность которых ее поражали, как вдруг до нее донесся отдаленный и зловещий шум, и ужас охватил ее. Точно гимн смерти этого огромного города! Француженка остановилась и увидела приближающуюся громадную толпу мужчин и женщин, охваченных отчаянием. Они несли свое имущество, свои иконы и тащили за собой детей. Впереди шли священники в полном облачении, несли священные хоругви, взывали к небесам в своих молитвах, выражавших скорбь.
Эти несчастные, подойдя к городским воротам, не без мучительного колебания прошли их. Их взоры постоянно обращались к Москве, как будто они прощались со святым городом. Но мало-помалу их унылое пение, их рыдания затихли вдали, теряясь на обширных равнинах, окружающих Москву.
Глава III
Люди бежали поодиночке или толпами. Дороги в Казань, Владимир и Ярославль на протяжении сорока лье были покрыты беглецами, которые шли пешком, и лишь немногие использовали всякого рода повозки. В то же время принятые Ростопчиным меры к тому, чтобы не допустить упадка духа и сохранить порядок, удерживали многих из этих несчастных до самого последнего момента.
К этому следует добавить назначение Кутузова, оживившее надежды, лживые донесения о победе при Бородине и колебания, естественные в тот момент, когда люди покидают свой единственный дом; наконец, недостаточное число транспортных средств, поскольку много повозок было отдано в армию.
Кутузов, побежденный при Бородине, всюду слал письма, объявляя о своей победе. Он обманывал Москву, Петербург и даже командующих другими русскими армиями. Александр передавал эти лживые донесения союзникам. В первом порыве восторга он бежал к алтарям, осыпал армию и своих генералов почестями и деньгами, приказал провести празднества, благодарил небеса и назначил Кутузова фельдмаршалом за его поражение.
Большинство русских подтверждают, что их император был попросту обманут этим донесением. Они до сих пор не знают о мотивах обмана, который поначалу принес Кутузову знаки отличия, сохраненные за ним впоследствии, а затем навлек на него угрозы, так и не приведенные в исполнение.
Если поверить нескольким его соотечественникам, которые, возможно, были ему врагами, то мотивов могло быть два. Во-первых, он не хотел ужасным донесением поколебать и без того малую устойчивость, которой обладал Александр. Во-вторых, он волновался по поводу того, что его донесение могло прибыть в день именин владыки.
Москва пребывала в заблуждении недолго. Тревожный слух о потере половины армии тут же пронесся по городу. Однако власть предержащие продолжали говорить тоном высокомерным и угрожающим; многие жители, верившие им, оставались; они были охвачены мучительным страхом, испытывали чувство гнева, но не теряли надежды. Они молились и уповали на небеса; вдруг раздались крики восторга, и люди выбежали на улицы. Они увидели крест главного собора и хищную птицу в цепях; последнее было вещим символом того, что Бог схватит Наполеона и доставит его в их руки.
Ростопчин извлек пользу из всех этих событий. Он приказал отобрать самых маленьких людей из числа взятых в плен и показать их народу, чтобы слабость врагов возбуждала мужество; он также лишил Москву всякого рода припасов.
Ему удавалось сохранить порядок, который был особенно необходим в тот момент, когда все увидели живые свидетельства бедствия при Бородине: длинный обоз с ранеными, их стоны, их одежда и белье с запекшейся кровью, самые знатные из них наравне со всеми — непривычное и пугающее зрелище для города, который на протяжении длительного времени не знал ужасов войны.
Ростопчин вновь обратился к народу. Он заявил, что будет защищать Москву до последнего, и добавил, что в течение двух дней даст сигнал. Он советовал людям вооружаться топорами и особенно вилами, «поскольку французы не тяжелее, чем хлебные снопы». Что касается раненых, то он приказал проводить службы в церквях и освящать воду для их скорого выздоровления. На следующий день он собирался направиться к Кутузову «для принятия окончательных мер в целях истребления врага». И затем, сказал он, «мы пошлем этих гостей к черту; мы прогоним вероломных негодяев и сотрем их в порошок».
Кутузов никогда не терял надежду на спасение страны. В ходе битвы при Бородине он использовал народное ополчение для подвоза амуниции и помощи раненым, он поставил ополченцев в ряды армии. Он отступил в порядке, подобрал раненых и оставил неизлечимых на попечение врага. Он приостановил стремительное наступление Мюрата. Тринадцатого сентября Москва наблюдала огни русских бивуаков.
Национальная гордость, выгодная позиция и работы, которые ее укрепляли, — всё возбуждало веру в то, что генерал Ростопчин намерен спасти столицу или погибнуть вместе с ней. Кутузов колебался и, наконец, из соображений политики или благоразумия, решил оставить московского губернатора отвечать за всё в одиночку.
Русская армия, занимавшая позицию в Филях перед Москвой, насчитывала 91 тысячу человек; из них 6 тысяч казаков и 65 тысяч прежнего войска — остаток 121-тысячной армии, находившейся у Москвы-реки, — и 20 тысяч новобранцев, вооруженных наполовину ружьями, наполовину пиками.
Французская армия, насчитывавшая 130 тысяч человек накануне великой битвы, потеряла около 40 тысяч при Бородине; осталось, следовательно, 90 тысяч человек. Маршевые полки и дивизии Лаборда и Пино должны были присоединиться к ней, так что перед Москвой она насчитывала уже 100 тысяч. Движение этой армии замедлялось 600–700 орудиями, 2500 артиллерийскими повозками и 5000 возами для багажа. Военных припасов у нее хватило бы только на один день битвы. Возможно, что Кутузов принял в соображение численное несоответствие своих сил с нашими. Впрочем, мы можем высказывать только предположения на этот счет.
Верно только, что этот старый генерал обманывал губернатора до последней минуты. Он клялся ему своими седыми волосами, что погибнет вместе с ним перед Москвой! И это было тогда, когда губернатор узнал, что ночью, в лагере, в совете, было уже решено покинуть столицу без битвы!
Получив это известие, Ростопчин, взбешенный, но непоколебимый, пожертвовал собой. Терять время было нельзя, надо было торопиться. От Москвы уже не скрывали участи, которая ее ожидала. С остававшимися в ней жителями не стоило церемониться и при том необходимо было заставить их бежать ради собственного спасения.
Ночью эмиссары стучали во все двери и предупреждали о пожаре. Зажигательные снаряды были заложены во все подходящие места и в особенности в лавки, крытые железом, в торговом квартале. Пожарные насосы были увезены. Отчаяние достигло высшего предела, и каждый, сообразно своему характеру, либо негодовал, либо покорялся. Большинство собиралось на площадях. Люди теснились друг к другу, расспрашивали и искали поддержки и совета друг у друга. Многие бесцельно бродили, одни — совершенно растерявшись от страха, другие — в состоянии сильнейшего отчаяния. И вот армия, последняя надежда народа, покинула его! Она прошла через город и увлекла за собой еще довольно значительную часть населения.
Армия прошла через Коломенские ворота, окруженная толпой испуганных женщин, детей и стариков. Люди бежали по всем направлениям, по всем тропинкам и дорогам, прямо через поля. Они не захватили с собой никакой пищи, но были нагружены пожитками. За неимением лошадей многие сами впрягались в телеги и везли скарб, маленьких детей, больных жен и престарелых родителей — словом, всё, что у них было самого дорогого в жизни. Лес служил им убежищем, и они жили подаянием своих соотечественников.
В этот самый день печальная драма закончилась ужасной сценой. Когда настал последний час Москвы, Ростопчин собрал всех, кого только мог, и вооружил. Тюрьмы были открыты. Грязная и отвратительная толпа с шумом вырвалась из них. Несчастные бросились на улицы со свирепым ликованием. Два человека, русский и француз, один — обвиняемый в измене, другой — в политической неосторожности, были вырваны из рук этой дикой орды.
Их притащили к Ростопчину. Губернатор упрекнул русского в измене. Это был сын купца; его настигли в ту минуту, когда он призывал народ к бунту. Но больше всего упреков вызывало то, что была открыта его принадлежность к секте немецких иллюминатов, которых называли мартинистами. Но мужество не покинуло его и в кандалах, и на мгновение можно было подумать, что дух равенства проник и в Россию. Во всяком случае, он не выдал своих сообщников.
В последний момент прибежал его отец. Можно было ожидать, конечно, что он вступится за своего сына. Но отец потребовал его смерти. Губернатор разрешил ему переговорить с сыном и благословить его перед смертью. «Как! Чтобы я благословил изменника?» — вскричал он с яростью и тотчас же, обернувшись к сыну, проклял его, сопровождая свои слова свирепым жестом.
Это был сигнал к казни. Удар сабли, нанесенный неуверенной рукой, свалил с ног несчастного. Но он был только ранен. Быть может, прибытие французов спасло бы его, если б народ не заметил, что он еще жив. Бешеная толпа повалила загородки и, бросившись к нему, разорвала его на куски.
Между тем француз стоял, пораженный ужасом, как вдруг Ростопчин обернулся к нему и сказал: «Что касается тебя, то ты как француз должен был бы желать прибытия французов. Ты свободен. Ступай же и передай своим, что в России нашелся только один изменник и что он наказан!..» Затем, обратившись к освобожденным злодеям, окружавшим его, он назвал их детьми России и призвал их искупить свои проступки службой Отечеству.
Он вышел последним из этого несчастного города и присоединился к русской армии. С этой минуты Великая Москва не принадлежала уже больше ни русским, ни французам, а грязной толпе, яростными выходками которой руководили несколько офицеров и полицейских солдат. Толпу организовали, каждому указали его место и распустили в разные стороны, для того чтобы грабеж, опустошение и пожар начались везде и сразу.
Глава IV
Четырнадцатого сентября Наполеон сел на лошадь в нескольких лье от Москвы. Он ехал медленно, с осторожностью, заставляя осматривать впереди себя леса и рвы и взбираться на возвышенности, чтобы обнаружить местопребывание неприятельской армии. Ждали битвы. Местность была подходящая. Виднелись начатые траншеи, но всё было покинуто и нам не было оказано ни малейшего сопротивления.
Наконец оставалось пройти последнюю возвышенность, прилегающую к Москве и господствующую над ней. Это была Поклонная гора, названная так потому, что на ее вершине, при виде святого города, все жители крестятся и кладут земные поклоны. Наши разведчики тотчас же заняли эту гору. Было два часа. Огромный город сверкал в солнечных лучах разноцветными красками, и это зрелище так поразило наших разведчиков, что они остановились и закричали: «Москва! Москва!» Каждый ускорил шаг, и вся армия прибежала в беспорядке, хлопая в ладоши и повторяя с восторгом: «Москва! Москва!» Подобно морякам, которые кричат: «Земля! Земля!» — завидя, наконец, берег в конце долгого и тяжелого плавания.
При виде этого золотого города, этого блестящего узла, в котором сплелись Азия и Европа и соединились роскошь, обычаи и искусство двух прекраснейших частей света, мы остановились, охваченные горделивым раздумьем. Какой славный день выпал нам на долю! Каким величайшим и самым блестящим воспоминанием станет этот день в нашей жизни! Мы чувствовали в этот момент, что взоры всего удивленного мира должны быть обращены на нас и каждое наше движение войдет в историю.
Нам казалось, что мы двигаемся на огромной и величественной сцене, среди восторженных криков всех народов, гордые тем, что могли возвысить наш век над всеми другими веками. Мы сделаем его великим нашим величием, и он засияет нашей славой!
С каким почтительным вниманием, с каким энтузиазмом должны встретить нас на родине, по нашем возвращении, наши жены, наши соотечественники, наши отцы! Весь остаток жизни мы будем в их глазах особенными существами, на нас будут взирать с изумлением и слушать с восторженным вниманием! Люди будут тянуться к нам и запоминать каждое наше слово! Эта великолепная победа должна окружить нас ореолом славы и создать атмосферу чуда и необычайных подвигов!
Но когда эти гордые мысли уступили место более умеренным чувствам, мы сказали себе, что здесь наступает, наконец, обещанный предел нашим трудам, что мы должны, наконец, остановиться, так как не можем же мы превзойти самих себя после экспедиции, являющейся достойной соперницей Египетской и всех великих и славных войн древности.
В этот момент всё было забыто: опасности, страдания. Можно ли считать слишком дорогой ценой ту, которая была уплачена за счастье иметь право говорить всю оставшуюся жизнь: «Я был с армией в Москве!»
И вот, мои товарищи, даже теперь, среди нынешнего унижения, хотя оно началось для нас с этого рокового города, разве не может служить для нас утешением это гордое воспоминание и разве оно не в состоянии заставить нас поднять головы, склоненные несчастьем?
Наполеон тоже подъехал. Он остановился в восторге, и у него вырвалось восклицание радости. Со времени великой битвы маршалы, недовольные им, отдалились от него. Но при виде пленной Москвы они позабыли свою досаду, пораженные таким великим результатом и охваченные энтузиазмом славы. Они все толпились около императора, отдавая дань его счастью и даже готовые приписать его гениальной предусмотрительности тот недостаток заботливости, который помешал ему 7-го числа завершить победу.
Но у Наполеона первые душевные движения всегда были кратковременными. Ему некогда было предаваться чувствам и надо было подумать о многом. Его первый возглас был: «Вот он, наконец, этот знаменитый город!»
А второй: «Давно пора!»
В его глазах, устремленных на столицу, выражалось только нетерпение. В ней он видел всю Российскую империю. В ее стенах заключались все его надежды на мир, на уплату военных издержек, на бессмертную славу.
Поэтому его взоры с жадностью были прикованы к воротам. Когда же, наконец, откроются эти двери? Когда же увидит он, наконец, депутацию, которая должна явиться, чтобы повергнуть к его стопам город со всем его богатством, населением, с его управлением и наиболее знатным дворянством? Тогда его безрассудно смелое и дерзкое предприятие, счастливо законченное, будет считаться плодом глубоко обдуманного расчета, его неосторожность станет его величием и его победа на Москве-реке, такая неполная, превратится в самое славное из его военных деяний! Таким образом, всё, что могло бы повести к его погибели, приведет его только к славе. Этот день должен решить, был ли он величайшим человеком в мире, или только самым дерзновенным, — словом, создал он себе алтарь или вырыл могилу?
Между тем беспокойство начало одолевать его. Он видел уже, что справа и слева Понятовский и принц Евгений подступали к неприятельскому городу. Впереди Мюрат, окруженный своими разведчиками, уже достиг предместий, но всё еще не было видно никакой депутации. Явился только один офицер Милорадовича с заявлением, что его генерал подожжет город, если арьергарду не дадут времени удалиться.
Наполеон согласился на всё. Первые отряды обеих армий смешались на несколько мгновений. Мюрат был опознан казаками. Эти последние, фамильярные, как номады, и восторженные, как южане, окружили его и жестами и возгласами восхваляли его отвагу и опьяняли его своим восхищением. Мюрат взял у своих офицеров часы и роздал их этим воинам, еще остававшимся варварами. Один из них назвал его своим гетманом.
Мюрат был склонен думать, что среди этих офицеров он найдет нового Мазепу или что он сам сделается им. Он думал, что привлек их на свою сторону. Этот момент перемирия и при таких обстоятельствах поддерживал надежду Наполеона, — до такой степени он нуждался в иллюзии! И в течение двух часов он утешался этим.
Но время проходило, а Москва оставалась угрюмой, безмолвной и точно вымершей. Беспокойство императора возрастало, и всё труднее и труднее было сдерживать нетерпение солдат. Несколько офицеров проникли, наконец, за городскую ограду. Москва была пуста!
Наполеон, отвергший с негодованием это известие, спустился с Поклонной горы и приблизился к Москве-реке у Дорогомиловской заставы. Он остановился, ожидая у входа, но тщетно.
Мюрат торопил его.
«Ну что ж! — отвечал ему Наполеон. — Входите кто хочет!»
Но он советовал соблюдать величайшую дисциплину. Он всё еще надеялся: может быть, эти жители даже не знают порядка сдачи? Ведь здесь всё ново: они для нас, а мы для них!
Однако донесения, получаемые одно за другим, все согласовались между собой. Французы, жившие в Москве, решились, наконец, выйти из своих убежищ, где они прятались в течение нескольких дней, чтобы избежать народной ярости. Они тоже подтвердили роковое известие. Император призвал Дарю.
«Москва пуста? — воскликнул Наполеон. — Что за невероятное известие! Надо туда проникнуть. Идите и приведите ко мне бояр!»
Наполеон думал, что эти люди, застывшие в своей гордости или парализованные ужасом, сидят неподвижно в своих домах, а он, привыкший к покорности побежденных, должен постараться вызвать их доверие и идти навстречу их просьбам!
В самом деле, как можно было поверить, что столько великолепных дворцов, столько блестящих храмов и богатых контор были покинуты своими владельцами, точно те деревушки, через которые он проходил?
Но Дарю потерпел неудачу. Ни один московский житель не явился. Нигде никого не было видно, не слышно было ни малейшего шума в этом огромном и многолюдном городе. Триста тысяч жителей как будто находились в заколдованном сне. Это было безмолвие пустыни!
Однако Наполеон упорствовал и продолжал ждать. Наконец какой-то офицер, желавший понравиться Наполеону, а может быть, и уверенный в том, что всякое желание императора должно исполняться, вошел в город, захватил пять-шесть бродяг и, понуждая их, повел впереди своей лошади к императору, воображая, что привел депутацию. Но с первых же слов этих людей Наполеон убедился, что перед ним несчастные поденщики.
Только тогда он перестал сомневаться, что Москва покинута, и потерял всякую надежду, которую лелеял. Он пожал плечами и с видом презрения, с которым он всегда относился ко всему, что противоречило его желаниям, воскликнул: «Ага! Русские еще не сознают, какое впечатление должно произвести на них взятие их столицы!»
Глава V
Мюрат во главе кавалерии, вытянувшейся в длинную и сомкнутую колонну, въехал в Москву и уже в течение часа объезжал ее. Он проник со своими кавалеристами в этот город, представлявший как будто гигантское тело, еще нетронутое, но уже не живое. Пораженные видом этого пустынного города, французы отвечали таким же торжественным молчанием на величественное безмолвие этих современных Фив. С тайным содроганием в душе кавалеристы Мюрата прислушивались к стуку копыт своих лошадей, проезжая мимо пустынных дворцов. Они удивлялись, что не слышат никаких других звуков среди этих многочисленных жилищ! Никто из них не думал останавливаться, не помышлял о грабеже — оттого ли, что их удерживало чувство осторожности, или оттого, что великие цивилизованные нации должны соблюдать чувство уважения к себе в неприятельских столицах.
Молча рассматривали они этот могучий город, который нашли бы замечательным даже в том случае, если бы встретили его в богатой, населенной стране. Но здесь, среди этой пустыни, он показался им еще более удивительным. Их поразил сначала вид стольких великолепных дворцов, но они тотчас же обратили внимание, что эти дворцы перемешиваются с лачугами. Это указывало на недостаточную разобщенность классов и на то, что роскошь развилась здесь не из промышленности, как в других местах, а предшествовала ей, тогда как при естественных условиях она должна была бы явиться лишь более или менее необходимым последствием развития промышленности.
Но тут в особенности царило неравенство — это зло всякого человеческого общества, являющееся результатом гордости одних, унижения других и испорченности всех. А между тем такое благородное самоотречение и отказ от всего дорогого указывали, что эта чрезмерная роскошь, столь недавнего происхождения, еще не изнежила русских дворян.
Французы продвигались, обуреваемые различными чувствами: то удивлением, то состраданием, но чаще всего благородным энтузиазмом. Многие вспоминали великие завоевания, о которых рассказывала история. Но делалось это ради самовозвеличения, а не из предусмотрительности, потому что себя они ставили слишком высоко и вне всяких сравнений. Все завоеватели древности были оставлены позади! Слава кружила головы. Но следом возникало грустное чувство, вызванное, быть может, утомлением после стольких ощущений. Или оно явилось у нас результатом одиночества из-за чрезмерного возвышения и пустоты, окружавшей нас на этой вершине, откуда мы видели беспредельность и бесконечность, среди которой мы терялись; потому что чем больше возвышаешься, тем больше расширяется горизонт и тем заметнее становится собственное ничтожество.
Вдруг среди этих размышлений, которым благоприятствовал медленный шаг лошадей, раздались выстрелы. Колонна остановилась. Последние лошади еще находились вне города, но центр колонны уже вступил в одну из самых длинных улиц города, а голова касалась Кремля. Ворота крепости казались запертыми, и из-за ее стен доносился какой-то свирепый рев. Несколько вооруженных мужчин и женщин, отвратительного вида, показались на ее стенах. Они были пьяны и изрыгали ужасные ругательства. Мюрат обратился к ним со словами мира, но всё было напрасно. Надо было пробить ворота пушечными выстрелами.
Волей-неволей пришлось проникнуть в толпу этих бездельников. Один из них чуть было не бросился на Мюрата и пытался убить одного из его офицеров. Думали, что достаточно будет просто обезоружить его, но он опять бросился на свою жертву, повалил на землю и хотел задушить. Когда же его схватили за руки, он пытался кусаться. Это были единственные московские жители, дождавшиеся нас, которых нам оставили, по-видимому, как дикий и варварский залог национальной ненависти.
Однако можно было заметить, что в этих взрывах патриотической ярости не было единства. Пятьсот новобранцев, забытых на площади Кремля, спокойно смотрели на эту сцену. После первого же требования они разбежались. Немного дальше повстречался обоз со съестными припасами, и эскадрон, сопровождавший его, тотчас же побросал оружие. Несколько тысяч отставших и дезертиров неприятельской армии добровольно отдались в руки нашего авангарда, который предоставил следовавшему за ним корпусу подобрать их, а тот предоставил это другому отряду и т. д. Таким образом, они остались на свободе, среди нас, пока, наконец, начавшийся пожар и грабеж не указали им на их обязанности и, объединив их в общем чувстве ненависти, заставили вернуться к Кутузову.
Мюрат, задержавшийся в Кремле всего на несколько минут, рассеял эту толпу, вызывавшую лишь его презрение. Он остался таким же пылким и неутомимым, каким был в Италии и Египте, и, несмотря на сделанное им расстояние в 900 лье и на 60 битв, которые ему пришлось выдержать, чтобы достигнуть Москвы, он проехал через этот великолепный город, почти не удостаивая его взглядом и не останавливаясь: он хотел во что бы то ни стало настигнуть русский арьергард и гордо, без малейшего колебания, пустился по дороге во Владимир и Азию. В этом направлении отступало несколько тысяч казаков с четырьмя пушками. Там перемирие прекращалось. Мюрат, утомленный миром, продолжавшимся полдня, тотчас же приказал нарушить его выстрелами из карабинов. Но наши кавалеристы думали, что война уже окончена. Москва казалась им пределом, поэтому аванпостам обеих империй не хотелось возобновлять враждебных действий. Новый приказ Мюрата открыть огонь — и новые колебания кавалеристов! Тогда он, раздраженный, скомандовал сам, и опять возобновились выстрелы, которыми он как будто грозил Азии, но которым суждено было прекратиться только на берегах Сены!
Глава VI
Наполеон вступил в Москву только ночью. Он остановился в одном из первых домов Дорогомиловского предместья. Там он назначил маршала Мортье губернатором этой столицы.
— Главное следите, чтобы не было грабежей, — сказал ему Наполеон. — Вы отвечаете мне за это своей головой! Защищайте Москву против всего и всех!
Ночь была печальной. Одно за другим приходили зловещие донесения. Явились французы, жившие в этой стране, и пришел даже русский полицейский офицер, чтобы донести о пожаре. Он сообщил все подробности. Император, сильно взволнованный, не мог найти покоя. Каждую минуту он звал к себе и заставлял повторять это роковое известие. И все-таки он упорно не хотел верить, пока в два часа ему не сообщили, что начался пожар!
Огонь показался в Гостином Дворе, в центре города, в самом богатом квартале. Наполеон тотчас же отдал многочисленные приказания и на рассвете сам отправился туда. Мортье указал ему на дома, крытые железом: они все были заперты и нигде не обнаруживалось малейших следов взлома, а между тем из них уже поднимался черный дым!
Наполеон вошел в Кремль. При виде этого дворца Рюриковичей и Романовых, выстроенного одновременно в готическом и современном стиле, при виде трона, еще не повергнутого, креста на Иване Великом и лучшей части города, над которой господствует Кремль и которую пламя, сосредоточенное пока в торговых рядах, по-видимому, должно было щадить, в душе Наполеона снова вспыхнула надежда. Его самолюбию льстила эта победа, и он воскликнул: «Наконец-то я в Москве, в древнем дворце русских царей, в Кремле!» Он рассматривал его во всех подробностях с чувством удовлетворенной гордости и любопытства.
Однако он всё же приказал доложить о тех ресурсах, которые были в городе, и в этот короткий момент, весь охваченный надеждой, он написал слова мира императору Александру. В главном госпитале нашли русского штаб-офицера, и ему-то и было поручено отвезти письмо императору. Наполеон окончил его писать при зловещем освещении горевших зданий, и русский офицер выехал. Он должен был отвезти известие об этом несчастье своему государю, единственным ответом которого, в сущности, был этот самый пожар.
Наступивший день помог усилиям Мортье, и огонь удалось притушить. Поджигателей не было видно, и даже сомневались в их существовании. Когда отданы были, наконец, строгие приказания, порядок восстановили и беспокойство несколько уменьшилось; и каждый отправился искать для себя удобное пристанище в каком-нибудь доме или дворце, надеясь найти там столь желанные отдых и удобства, купленные ценой таких долгих и чрезмерных лишений!
Два офицера устроились в одном из зданий Кремля. Оттуда они могли обозревать северную и западную части города. Около полуночи их разбудил какой-то необыкновенный свет. Они взглянули и увидели, что пламя окружает дворцы, сначала освещая красивую архитектуру, но вскоре обрушивая их. Они заметили, что северный ветер гнал пламя прямо на Кремль, и обеспокоились, так как в этой крепости отдыхала избранная часть армии и ее главнокомандующий. Они испугались также и за окружающие дома, где наши люди и лошади, утомленные и насытившиеся, вероятно, погрузились в глубокий сон. Пламя и горячие обломки уже долетали до крыш Кремля, когда ветер вдруг переменил направление и погнал их в другую сторону.
Успокоившись насчет участи армейского корпуса, один из офицеров опять улегся, воскликнув: «Это не наше дело! Это нас больше не касается!» Такова была беспечность, развившаяся под влиянием всех этих событий и несчастий, как бы притупившая чувствительность; таков был эгоизм, вызванный чрезмерной усталостью и страданиями, оставлявшими в распоряжении каждого лишь столько чувства, сколько было ему необходимо для самого себя.
Между тем свет всё усиливался и снова разбудил их. Они увидели пламя уже в других местах: ветер гнал это пламя на Кремль. Они проклинали французскую неосторожность и отсутствие дисциплины, которые считали причиной этого несчастья. Три раза ветер менял направление, и три раза вражеские огни, эти упорные мстители, тоже меняли свое направление, точно ожесточившись против Главной императорской квартиры.
И вот ими овладело великое сомнение. Уж не возник ли у московских жителей, знающих нашу удивительную беспечность, план сжечь Москву вместе с нашими солдатами, опьяневшими от вина, усталости и непреодолимой жажды сна? Может быть, они надеялись даже окружить Наполеона во время пожара? Как бы то ни было, но за гибель этого человека стоило заплатить гибелью столицы! Это был бы уже сам по себе достаточно великий результат и можно было бы принести в жертву ради этого дворцы! Может быть, небо требовало от них такой огромной жертвы, чтобы доставить им столь же огромную победу? В конце концов они пришли к заключению, что для такого гиганта нужен и гигантский костер!
Неизвестно, была ли у них такая мысль, но нет сомнения, что только счастливая звезда императора спасла его от этой беды. В самом деле, не только в Кремле находился склад пороха, о котором мы ничего не знали, но в эту самую ночь заснувшие часовые, расставленные очень небрежно, пропустили целый артиллерийский парк, который вошел и расположился под самыми окнами Наполеона.
Это было в тот момент, когда пламя бушевало со всех сторон, когда ветер с силой гнал огонь к Кремлю и грандиозный костер с каждой минутой становился сильнее. Отборное войско императора и сам он неминуемо погибли бы, если б хоть одна искра из тех, которые летели на наши головы, упала на артиллерийский ящик. Поэтому-то в течение нескольких часов участь целой армии зависела от летавших вокруг маленьких искорок.
Наконец начало светать. Угрюмый пасмурный день присоединился к этому ужасу, отняв у него блеск и заставив побледнеть. Многие офицеры искали убежища в залах дворца. Начальники их и Мортье, побежденные пожаром, с которым они неустанно боролись в течение тридцати шести часов, тоже явились, изнемогая от усталости и отчаяния.
Они молчали, а мы обвиняли себя. Большинство было убеждено, что первоначальной причиной бедствия явилось пьянство и неповиновение солдат, а теперь буря заканчивала начатое. Мы глядели друг на друга с отвращением и с ужасом думали о том крике всеобщего возмущения, который поднимется в Европе. Мы заговаривали друг с другом, потупив глаза, подавленные этой страшной катастрофой, которая оскверняла нашу славу, отнимала у нас плоды победы и угрожала нашему существованию в настоящем и будущем! Мы были теперь армией преступников, и небо и весь цивилизованный мир должны были осудить нас! Из этой мрачной бездны мыслей и взрывов ненависти против поджигателей мы могли выбраться, только отыскав всё, что указывало на русских как на единственных виновников этого страшного несчастья.
В самом деле, офицеры, прибывавшие из разных мест, давали одинаковые показания. В первую же ночь, с 14-ш на 15-е, огненный шар опустился на дворец князя Трубецкого и уничтожил его. Это был сигнал. Тотчас же после этого загорелась биржа. Были отмечены русские полицейские, которые разводили огонь посредством пик, вымазанных смолой. В других местах коварно подложенные гранаты разрывались в печах некоторых домов и ранили солдат, толпившихся возле печки. Тогда, удалившись в уцелевшие кварталы города, солдаты искали там убежище, но в домах, запертых и необитаемых, они слышали слабый звук взрыва, сопровождаемый легким дымком. Дым этот быстро становился гуще и чернее, потом принимал красноватый оттенок, наконец, делался огненным, и вслед за тем пламя охватывало всё здание.
Все заметили мужчин с отвратительными лицами, покрытых лохмотьями, и разъяренных женщин, которые бродили вокруг горевших домов, дополняя собой страшную картину. Эти негодяи, опьяненные водкой и безнаказанностью своих преступлений, даже не скрывались. Они пробегали по улицам, объятым огнем, с факелами в руках и старались распространить пожар. Приходилось саблей рубить им руки, чтобы заставить выпустить факелы. Мы говорили друг другу, что эти разбойники нарочно были выпущены русскими начальниками, чтобы сжечь Москву, и, конечно, такое великое и крайнее решение могло быть принято только из патриотизма, а приведено в исполнение только преступниками.
Тотчас же был отдан приказ судить и расстреливать тут же на месте всех поджигателей. Армия была на ногах. Гвардия, занявшая Кремль, взялась за оружие. Багаж, навьюченные лошади заполнили все пути. Мы были в большом унынии от усталости и огорчения, что лишились хорошей стоянки. Мы были хозяевами Москвы, а между тем нам приходилось уходить из нее без всяких припасов и располагаться лагерем у ее ворот!
В то время как наши солдаты боролись с пожаром и армия старалась вырвать у огня его добычу, Наполеон, которого не решались будить ночью, проснулся при двойном свете — начинающегося дня и пламени. В первый момент он рассердился и хотел приказывать этой стихии, но вскоре смирился, покорившись невозможности. Изумленный тем, что, поразив в самое сердце империю, он наткнулся на другие чувства, нежели покорность и страх, Наполеон почувствовал себя побежденным. На этот раз его превзошли в решительности!
Победа, которой он всё принес в жертву, гоняясь за ней, как за призраком, и уже почти настигнутая, исчезала на его глазах в вихрях дыма и пламени! Им овладело такое сильное волнение, словно его пожирал тот самый огонь, который окружал нас со всех сторон. Он не находил себе места, каждую минуту вскакивал и опять садился. Он быстрым шагом ходил по комнатам, и во всех его жестах, в беспорядке его одежды выражалось сильное беспокойство. Из его стесненной груди временами вырывались короткие, резкие восклицания: «Какое ужасающее зрелище! Это они сами! Столько дворцов! Какое необыкновенное решение! Что за люди?! Это скифы!..»
Между ним и пожаром пролегало большое пустое пространство, дальше была Москва-река и две ее набережные. А между тем оконные рамы, на которые он опирался, были горячими, и, несмотря на постоянную работу солдат, разместившихся на железной крыше дворца, им не удавалось сметать все искры, попадавшие туда. В эту минуту распространился слух, что Кремль минирован. Это передали русские, и это же подтверждалось их листовками.
Несколько слуг потеряли головы от страха, но солдаты невозмутимо ждали приказаний императора и решения своей судьбы. Император, однако, отнесся к этому слуху с улыбкой недоверия.
Но он продолжал взволнованно ходить по комнате, останавливаясь у каждого окна и устремляя взоры на страшную бушующую стихию, вырывавшую у него из рук его лучшую победу, завладевавшую всеми мостами и проходами в его крепость и державшую его самого, точно в осаде, грозя ежеминутно захватить все окружающие дома и оставить ему только стены Кремля!
Воздух был наполнен дымом и пеплом. Ночь приближалась, и к опасностям, окружавшим нас, прибавлялась еще темнота. Ветер всё усиливался. Прибежали Мюрат и принц Евгений, и они вместе с принцем Невшательским проникли к императору, на коленях и со слезами умоляя его, чтобы он покинул это место бедствия. Но всё было тщетно!
Наполеон, завладевший, наконец, дворцом царей, упрямился, не желая уступить этой победы даже пожару, как вдруг раздался крик: «Кремль горит!» Он заставил нас выйти из состояния оцепенения. Император пошел посмотреть, насколько велика опасность. Два раза огонь появлялся и был потушен в том самом здании, в котором находился Наполеон. Но башня Арсенала еще продолжала гореть. Там нашли русского полицейского. Император велел допросить его в своем присутствии. Этот русский был поджигателем. Он исполнил приказание по сигналу, данному его начальником. Значит, всё было обречено на гибель, даже священный и древний Кремль!
Наполеон сделал жест презрения и досады, и несчастного поволокли на двор, где взбешенные гренадеры закололи его штыками.
Глава VII
Этот инцидент заставил Наполеона решиться. Он быстро спустился по лестнице, знаменитой избиением стрельцов, и приказал, чтобы его проводили за город, на дорогу на Петербург, к Петровскому императорскому дворцу.
Мы находились в осаде, среди океана огня, который блокировал все ворота крепости и не допускал выхода из нее. После некоторых поисков удалось найти подземный ход к Москве-реке. И вот через этот выход Наполеон, его офицеры и гвардия вырвались, наконец, из Кремля. Но выиграли ли они что-нибудь от этого? Они находились теперь ближе к пожару и не могли ни двигаться вперед, ни оставаться здесь. Куда идти, как пройти через это море огня? Пепел слепил глаза, а буря оглушала, и даже те из нас, кто уже успел немного ознакомиться с городом, не могли теперь ориентироваться, так как улицы исчезли среди дыма и обломков.
А между тем надо было торопиться. С каждой минутой пламя усиливалось. Единственная узкая, извилистая и всё еще горящая улица скорее казалась входом в ад, нежели выходом из него. Император, не колеблясь, пустился пешком через этот опасный проход. Он продвигался среди горящих сводов, падающих столбов и раскаленных железных крыш. Эти обломки затрудняли путь. Пламя, с яростным шумом пожиравшее здания, среди которых мы шли, и раздуваемое ветром, высоко поднималось, образуя дугу над нашими головами. Мы шли по земле, охваченной огнем, под пламенеющим небом и между двумя стенами огня! Жар обжигал нам глаза, а между тем мы должны были держать их открытыми, чтобы видеть опасность. Жгучий воздух, горячий пепел, огненные искры — всё это затрудняло дыхание. Мы почти задыхались в дыму и обжигали себе руки, закрывая ими лицо от жара и сбрасывая искры, которые ежеминутно осыпали нас и прожигали одежду.
Среди этого невыразимого бедствия, когда, казалось, единственным спасением было быстрое бегство, наш нерешительный и смущенный командир вдруг остановился. Вероятно, тут бы и кончилась его жизнь, полная приключений, если бы грабители 1-го корпуса не узнали императора среди вихрей пламени. Они тотчас же подбежали и помогли ему выбраться из дымящихся обломков квартала, уже обращенного в пепел.
Тут-то нам повстречался Даву. Раненный в сражении у Москвы-реки, он велел принести себя на пожар, чтобы извлечь оттуда Наполеона или погибнуть вместе с ним.
Увидев императора, он с восторгом бросился к нему. Наполеон обошелся с ним ласково и с тем спокойствием, которое никогда не покидало его в минуты опасности.
Прежде чем выйти из этого моря бедствия, ему пришлось пройти мимо длинного обоза с порохом, — еще одна немалая опасность, но по крайней мере последняя, и к ночи он уже был в Петровском.
На другое утро, 17 сентября, Наполеон взглянул в сторону Москвы, надеясь, что пожар уже прекратился. Но он продолжал бушевать с прежнею силой. Весь город представлял сплошной огненный смерч, который поднимался к самому небу и окрашивал его цветом пламени. Наполеон долго смотрел на эту зловещую картину в угрюмом молчании и, наконец, воскликнул: «Это предвещает нам большие несчастья!»
Усилие, сделанное им, чтобы достигнуть Москвы, истощило все его военные средства. Москва была пределом всех его планов, целью всех его надежд — и теперь она исчезала на глазах! Что предпринять дальше? Всегда такой решительный, он начал колебаться. Он, который в 1805 году, не задумываясь, мгновенно отказался от подготовленной с таким трудом и с такими расходами высадки и решил в Булонь-сюр-Мер захватить врасплох и уничтожить австрийскую армию, совершивший все походы Ульмской кампании вплоть до Мюнхена и диктовавший год спустя, с такою же безошибочностью, все движения своей армии вплоть до Берлина, — этот самый человек как раз в день вступления своего в Москву и назначения в ней губернатором того, кого он хотел, почувствовал нерешительность и остановился, пораженный! Никогда даже самым близким людям и своим министрам не поверял он своих наиболее смелых планов, и они узнавали о них лишь из приказов, которые должны были выполнять! И вот он вынужден был теперь советоваться с ними, испытывать нравственные и физические силы тех, кто окружал его.
Во всяком случае, он хотел сохранить прежний порядок. Он объявил, что пойдет на Петербург. Эта победа была начертана на его картах, до сих пор оказывавшихся пророческими. Различным корпусам был даже отдан приказ держаться наготове. Но это решение было только кажущееся. Он просто хотел выказать твердость и пытался рассеять печаль, вызванную потерей Москвы. Поэтому Бертье и в особенности Бессьер без труда отговорили его, доказав, что состояние дорог, отсутствие жизненных припасов и время года не благоприятствуют такой экспедиции.
Как раз в этот момент было получено известие, что Кутузов, бежав к востоку, внезапно повернул к югу и теперь находится между Москвой и Калугой. Это был еще один лишний довод против экспедиции в Петербург. Всё указывало на то, что теперь надо идти на эту разбитую армию, чтобы нанести ей последний удар, предохранить свой правый фланг и операционную линию, завладеть Калугой и Тулой, житницей и арсеналом России, и обеспечить себе короткий, безопасный и новый путь отступления к Смоленску и Литве.
Кто-то предложил вернуться к Витгенштейну и Витебску.
Наполеон оставался в нерешительности среди всех этих проектов. Ему улыбалось только одно — завоевание Петербурга! Все другие проекты казались ему лишь путями отступления, признанием ошибок. И — либо из гордости, либо из политики, не допускающей ошибок, — он отверг их все.
Кроме того, где он должен был остановиться в этом отступлении? Он надеялся на заключение мира в Москве и не подготовил зимних квартир в Литве. Калуга его не прельщала. Где находятся большие нетронутые провинции? Лучше бы угрожать им; тогда, увидев, что им есть что терять, русские будут вынуждены заключить мир. Возможно ли искать другой битвы, новых завоеваний, не оставляя при этом незащищенной операционную линию, состоящую из больных, отставших, раненых и конвоев разного рода? Москва была пунктом общего сбора; как это можно изменить? Какое еще имя будет столь привлекательно?
Наконец — и превыше всего, — как можно было отказаться от надежды, ради которой он принес такие большие жертвы, когда он знал, что его письмо Александру только что миновало русские аванпосты, когда восьми дней было бы достаточно, чтобы получить столь желанный ответ, и когда он должен был использовать это время для сосредоточения и реорганизации армии?
Оставалась едва только треть армии и треть столицы. Но он сам и Кремль еще стояли на ногах. Его слава еще не померкла, и он уверил себя, что два таких великих имени, как Наполеон и Москва, соединенные вместе, окажутся достаточными для завершения всего. Он решился поэтому вернуться в Кремль, который, к несчастью, удалось сохранить одному из батальонов его гвардии.
Глава VIII
Лагерь, через который ему надо было проехать, чтоб достигнуть Кремля, имел странный вид. Он находился среди поля, покрытого густой холодной грязью. Везде были разведены большие костры из мебели красного дерева, оконных рам и золоченых дверей, и вокруг этих костров, на тонкой подстилке из мокрой и грязной соломы, под защитой нескольких досок, солдаты и офицеры, выпачканные в грязи и почерневшие от дыма, сидели или лежали в креслах и на диванах, крытых шелком. У ног их валялись груды кашемировых шалей, драгоценных сибирских мехов, затканных золотом персидских материй, и перед ними стояли серебряные блюда, из которых они должны были есть лепешки из черного теста, испеченные в золе, и непрожаренное, кровавое лошадиное мясо. Странная смесь изобилия и нужды, богатства и грязи, роскоши и бедности!
Между лагерями и городом постоянно встречались толпы солдат, тащивших добычу или гнавших перед собой, точно вьючных животных, мужиков, нагруженных добром, награбленным в их же столице. Пожар обнаружил, что в Москве оставалось еще около 20 тысяч жителей, которых сначала не заметили в этом большом городе. Некоторые из москвичей, мужчины и женщины, были хорошо одеты. Это были купцы. Они укрывались с остатками своего имущества у наших костров и жили вместе с нашими солдатами, опекаемые одними и терпимые или не замечаемые другими.
Около 10 тысяч неприятельских солдат точно так же бродили в течение нескольких дней среди нас, пользуясь полной свободой. Некоторые из них были даже вооружены. Наши солдаты относились к побежденным без всякой враждебности, не думая даже обратить их в пленников, — быть может, оттого, что они считали войну уже конченной или, быть может, здесь сказывались беспечность и сострадание: вне битвы французы не любят иметь врагов. Поэтому они разрешали им сидеть у своих костров и даже больше — допускали их, как товарищей, во время грабежа. Только тогда, когда порядок несколько восстановился и командиры организовали мародерство в правильную фуражировку, замечено было это огромное количество отставших русских солдат. Приказано было их захватить, но около семи-восьми тысяч успело скрыться, и скоро нам пришлось с ними сражаться.
Вступив в город, император был поражен еще более странным зрелищем. От всей огромной Москвы оставалось только несколько разбросанных домов, стоявших среди развалин. Запах, издаваемый этим поверженным колоссом, сожженным и обуглившимся, был очень неприятен. Горы пепла и местами оставшиеся стоять остовы стен и полуразрушенные столбы были единственными признаками пролегавших здесь улиц.
Предместья были заполнены русскими, мужчинами и женщинами, в полуобгорелой одежде. Они блуждали, точно призраки, среди развалин. Одни из них сидели, скорчившись, в садах, другие копали землю, отыскивая в ней какие-нибудь овощи, или оспаривали у ворон останки мертвых животных, брошенных армией. Немного далее можно было видеть, как некоторые из них бросались в реку, чтобы извлечь оттуда зерно, которое Ростопчин велел потопить, и, выловив его, тут же съедали, без всякого приготовления, невзирая на то, что оно уже подмокло и загнило.
Между тем вид трофеев возбуждат солдат. Они роптали: почему их сдерживают? Почему они должны умирать от голода и нужды, когда всё находится в пределах их досягаемости? Разве правильно дать пожару, который не они устроили, разрушить то, что еще можно спасти? Они добавляли, что жители Москвы не только покинули город, но и пытались совершенно его уничтожить; поэтому всё, что можно спасти, должно быть присвоено на законном основании; остатки этого города, как и остатки оружия побежденных, по праву принадлежат победителям, поскольку московиты обратили свою столицу в большую военную машину, чтобы уничтожить нас.
Лишь самые принципиальные и самые дисциплинированные оспаривали это. Поначалу угрызения совести не позволяли выпустить приказы о грабеже, но затем всё было дозволено. Движимые властной необходимостью, все спешили захватить свою долю трофеев, включая солдат гвардии и офицеров. Их начальники вынуждены были закрывать глаза, и только необходимая охрана оставалась под знаменами.
Император видел, что его армия рассеялась по всему городу. Его путь затруднялся длинной вереницей мародеров, которые шли за добычей или возвращались с ней. У входов в погреба, перед дверьми дворцов, лавок и церквей, к которым уже добирался огонь, виднелись шумные сборища солдат, старавшихся их выломать.
На каждом шагу попадались груды изломанной мебели, которую выкидывали из окон, чтобы спасти от огня, а потом бросили ради другой, более заманчивой добычи. Таковы уж солдаты! Они постоянно начинают сначала хватать всё без разбора и, нагрузившись выше всякой меры, — как будто они в состоянии всё унести! — скоро падают в изнеможении и вынуждены оставить часть своего груза.
Все дороги были загромождены. Площади, как и лагеря, превратились в базары, где происходила меновая торговля, и каждый обменивал излишнее на необходимое. Там продавались за бесценок самые редкие вещи, не имевшие ценности в глазах своих владельцев, зато другие предметы, вследствие обманчивой внешности, приобретались за высокую цену, далеко превышавшую их действительную стоимость. Золото, занимающее меньше места, обменивалось с большой потерей на серебро, которое трудно было отнести в ранцах. Всюду солдаты сидели на тюках различных товаров, среди груд сахара и кофе и самых изысканных вин и ликеров, которые они желали бы поменять на кусок хлеба. Многие из них, пьяные и голодные, падали вблизи пламени, которое иногда настигало их, и они тут же погибали.
Большинство домов и дворцов, уцелевших от пожара, послужило убежищем для начальства, и всё, что заключалось в них, сохранилось в целости. Они с огорчением смотрели на это страшное разрушение и на грабеж, явившийся его неизбежным результатом.
Некоторых из нашего войска упрекали в том, что они подбирали то, что могли отнять у огня. Но таких было мало, их можно назвать по именам. У этих пылких людей война была страстью, заставлявшей предполагать существование и других страстей. Это не было у них жадностью, потому что они ничего не брали для себя лично, а брали то, что попадалось под руку, чтобы отдавать другим, и расточали всё, полагая, что они за всё заплатили собственной опасностью.
Некоторые брали с сожалением, другие с радостью, но все делали это по необходимости. Самые чувствительные — то ли из принципа, то ли потому, что были богаче остальных, — покупали у солдат провизию и одежду, в которой нуждались; некоторые посылали других, чтобы те грабили для них; самые бедные были вынуждены помогать себе сами.
Достаточно награбив, солдаты становились менее активными и менее безрассудными; чтобы сохранить свою добычу, они делали то, чего бы не делали для собственного спасения.
Наполеон вернулся в Москву среди всеобщего разгрома. Он покинул город, отдав его в жертву грабежу, потому что надеялся, что его армия, которая разбрелась по развалинам, не без пользы будет обыскивать их. Но когда он узнал, что беспорядок всё увеличивается и даже Старая гвардия вовлечена в грабеж, что крестьяне, привозившие припасы, за которые он всегда приказывал щедро платить, чтобы привлечь еще других, были ограблены голодными солдатами, что несколько отрядов, движимых разными потребностями, готовы с ожесточением оспаривать друг у друга остатки Москвы, так что всё еще остававшиеся в этом городе припасы гибли среди такого разгрома, — узнав это, он отдал тотчас же строгие приказы и запретил гвардии отлучаться. Церкви, где наши кавалеристы устроили для себя приют, были немедленно очищены и возвращены духовенству. Мародерство было поставлено в известные границы — как служба, которую должны были нести все отряды по очереди, — и, наконец, было приказано подобрать всех отставших русских солдат.
Но было уже слишком поздно. Русские солдаты бежали, испуганные крестьяне больше не возвращались, множество припасов было истрачено без пользы. Французская армия впадала уже не раз в такую ошибку, но тут ее можно было извинить пожаром. Надо было постараться опередить пламя. И всё же замечательно, что при первой же команде всё пришло в порядок.
Некоторые писатели, и даже французские, искали примеры грубого произвола. Таких случаев было очень мало; большинство наших солдат вели себя великодушно. Однако если в первые моменты грабежа некоторые эксцессы и имели место, то это неудивительно для многонациональной армии, испытывавшей великие нужды и страдания.
Потерпев неудачу, эти воины подверглись упрекам. Кто не знает, что беспорядки всегда были скверной частью великих войн, бесславной стороной победы? Что слава завоевателей бросает тень, как и всё в этом мире? Разве есть на свете существо столь крохотное, что солнце может осветить его одновременно со всех сторон? По закону природы большие тела имеют большие тени. Люди слишком удивляются добродетелям и порокам этой армии. Желающие вынести правильное суждение о ней и ее главнокомандующем должны поставить себя на их место. Это положение слишком высокое, слишком необычное и очень сложное; немного найдется умов, способных постичь это, охватить во всей полноте и оценить все итоги.
Глава IX
Кутузов, покидая Москву, увлек за собой Мюрата в Коломну, к тому месту, где Москва-река пересекает дорогу. Под покровом ночной темноты он внезапно повернул к югу, чтобы, пройдя через Подольск, остановиться между Москвой и Калугой. Этот ночной обход русских вокруг Москвы, откуда сильный ветер доносил к ним пламя и пепел, носил характер мрачной религиозной процессии. Русские продвигались при зловещем свете пожара, уничтожавшего центр их торговли, святилище их религии и колыбель их империи! Охваченные ужасом и негодованием, они шли в угрюмом молчании, нарушавшемся только монотонным и глухим шумом шагов, треском пламени и свистом бури. Часто этот зловещий свет прерывался внезапными багровыми вспышками, и тогда лица солдат судорожно передергивались под влиянием дикой злобы и страдания, и глаза их мрачно сверкали, глядя на пожар, который они считали нашим делом! Взгляды их выдавали ту жестокую и мстительную ненависть, которая зарождалась в их сердцах и потом распространилась по всей России, сделав своей жертвой столько французов!
В эту торжественную минуту Кутузов объявил твердым и благородным тоном своему государю о потере столицы. Он сказал ему, что для сохранения южных провинций, житниц России, и поддержания сообщения с Тормасовым и Чичаговым он вынужден был покинуть Москву, но Москву, оставленную своими жителями, которые составляли ее жизнь. Однако народ везде составляет душу империи, и там, где находится русский народ, там и будет Москва и вся русская империя!
Но всё же горе, казалось, подавляло его. Он признавал, что эта рана глубока и неизгладима! Но тут же, как бы овладев собой, прибавлял, что потеря Москвы составляет потерю только одного города в империи и принесение в жертву одной части для спасения всего! Он остается на фланге врага и держит его, точно в блокаде, своими отрядами. Там он будет наблюдать за всеми его движениями, будет прикрывать от него ресурсы империи и восполнит ряды своей армии.
А 16 сентября он уже заявлял, что Наполеон будет вынужден отказаться от своей роковой победы!
Говорят, что Александр был опечален этим известием. Наполеон рассчитывал на слабость своего соперника, русские же боялись впечатления, которое должно было произвести на него это бедствие. Но царь обманул как эту надежду, так и эти опасения. «Не надо малодушного уныния! — вскричал он. — Поклянемся удвоить мужество и настойчивость! Враг находится в пустынной Москве, точно в могиле, без всяких средств утвердить свое господство и даже свое существование. Он вступил в Россию с 300 тысячами человек, набранных из всех стран и не имеющих между собой никакой связи — ни религиозной, ни национальной. Половина этой армии уничтожена уже железом, голодом и дезертирством, и в Москве у него только ее остатки. Он находится в самом центре России, но еще ни один русский не повергнут к его стопам! Наши же силы увеличиваются и окружают его. Он находится среди могущественного населения и окружен армиями, которые удерживают и ждут его. Вскоре, чтобы избежать голода, ему придется пробиваться сквозь сомкнутые ряды наших отважных солдат. Можем ли мы отступить, когда Европа нас поощряет своими взглядами? Будем же для нее примером и благословим руку, избравшую нас как первую нацию для защиты дела добродетели и свободы!»
Александр закончил речь молитвой ко Всевышнему.
Русские различно говорят о своем генерале и о своем императоре. Мы не можем судить о наших врагах иначе как на основании фактов. Таковы были их слова, и действия соответствовали им. Товарищи, отдадим им справедливость! Они приносили свою жертву без всяких оговорок и без поздних сожалений. Они ничего не требовали, даже тогда, когда находились среди вражеской столицы, которой они не тронули! Их репутация осталась великой и чистой. Они познали истинную славу, и когда более передовая цивилизация проникнет, наконец, в их страну, то этот великий народ будет держать в своих руках скипетр славы, который все нации земли должны последовательно уступать друг другу.
Кутузову удался его извилистый переход, который он совершил из хитрости или от нерешительности. Мюрат потерял его след и в течение трех дней не мог найти. Кутузов воспользовался этим, чтобы исследовать местность и окопаться. Его авангард уже достиг Воронова, лучшего из владений графа Ростопчина, который раньше уехал туда. Русские думали, что граф захотел в последний раз взглянуть на свой дом, как вдруг увидели, что здание охвачено пламенем и исчезло в вихре дыма! Они бросились тушить пожар, но сам Ростопчин оттолкнул их. Они видели, как он улыбался, когда это великолепное здание рушилось в пламени, которое он сам разжег.
Потом он твердою рукой начертал на железных дверях уцелевшей церкви следующие слова, которые французы позже прочли, содрогаясь от неожиданности: «Я украшал эту деревню в течение восьми лет и прожил в ней счастливо со своей семьей. Жители этой местности, числом 1700 человек, покидают ее при вашем приближении, а я поджигаю дом, чтобы вы не осквернили его своим присутствием. Французы! Я оставил вам свои дома в Москве с обстановкой в два миллиона рублей, здесь же вы найдете только пепел!..»
Около этого места Мюрат и настиг Кутузова. Двадцать девятого сентября произошла горячая артиллерийская схватка у Черикова. Она принимала плохой оборот для нашей кавалерии, как вдруг явился Понятовский со своим польским отрядом, сократившимся до трех тысяч. Поддерживаемый генералами Пашковским и Князевичем, он смело вступил в бой с 20 тысячами русских.
Его ловкая диспозиция и польская отвага задержали Милорадовича на несколько часов. Благородное самоотвержение польского князя расстроило последнее и самое большое усилие русского генерала. Схватка была настолько горячая, что Понятовский во главе только сорока кавалеристов, случайно обезоруженный, начал осыпать атакующую колонну неприятеля ударами кнута, но с такой стремительностью, что она пришла в замешательство и поколебалась. Он прорвал ее и одержал победу, которую наступившая ночь сохранила ему.
Между тем пожар, начавшийся в ночь с 14 на 15 сентября, приостановленный нашими усилиями днем 15-го и возобновившийся в следующую ночь, затем свирепствовавший с наибольшею силой 16-го, 17-го и 18-го, начал затихать 19-го и 20 сентября прекратился. В этот день Наполеон, которого огонь выгнал из Кремля, опять вернулся в царский дворец. Он призывал туда взоры всей Европы, там он ждал свои обозы, подкрепления, своих отставших воинов, уверенный в том, что он всех привлечет своей победой, приманкой богатой добычи, изумительным зрелищем плененной Москвы и в особенности своей славой, которая продолжала сиять и привлекать взоры на высоте этих развалин, точно фонарь на столбе! Дважды, 22 и 28 сентября, Мюрат, преследовавший Кутузова и настигший его у Черикова, чуть не заставил Наполеона своими письмами покинуть это роковое местопребывание. Письма возвещали битву. Однако приказы к выступлению, уже написанные Наполеоном оба раза, были им сожжены. Казалось, что он считал войну оконченной и ждал ответа из Петербурга. Он поддерживал свою надежду воспоминаниями о Тильзите и Эрфурте. Неужели, находясь в Москве, он будет иметь меньше влияния на Александра? И как все люди, которым долго улыбалось счастье, он надеялся на то, чего желал!
Наполеон обладал замечательной способностью — силою воли подавлять свою озабоченность, когда ему хотелось: для того ли, чтобы заняться другими мыслями, или чтобы отдохнуть. Воля превышала у него силу воображения, и в этом отношении он властвовал над собой, как властвовал над другими.
Париж отвлекал его внимание от Петербурга. В первые дни курьеры прибывали один за другим и загружали его работой. Но он вел дела с такой скоростью, что вскоре ему стало нечего делать. Срочная почта, которая поначалу поступала из Франции каждые две недели, перестала прибывать. Немногие военные посты, размещенные в сожженных городах и в малозащшценных деревянных домах, плохо оберегали дорогу протяженностью в девяносто три лье; мы не могли создать большего числа этих звеньев, поскольку операционная линия была слишком длинной и разрывалась в каждой точке, подвергшейся вражескому нападению; чтобы организовать набег, достаточно было нескольких крестьян и горстки казаков.
От Александра пока не было ответа. Беспокойство Наполеона увеличивалось, а другого занятия он не находил. Активность его гения, привыкшего управлять всей Европой, была ограничена командованием сотней тысяч солдат; кроме того, организация его армии была столь превосходной, что оставляла ему малое поле деятельности. Всё здесь было под контролем; он держал в своих руках все нити, будучи окруженным министрами, способными сказать ему немедленно, в любое время суток, место нахождения каждого человека, — на службе ли он, в госпитале, в отпуске или где-либо еще; от Москвы до Парижа военная администрация была искусна и опытна, подбор людей соответствовал требованиям их командира.
Уже протекли одиннадцать дней, молчание императора Александра не было нарушено, а Наполеон продолжал надеяться, что победит соперника своим упорством, теряя, таким образом, время, а это всегда приносит пользу обороне и служит во вред нападению.
С той поры все его действия указывали русским на то, что их враг намерен укрепиться в центре их империи. В Москве, еще покрытой пеплом, организовались муниципалитеты и назначались префекты. Отдан был приказ запастись провиантом на зиму. Среди развалин устроили даже театр, были призваны из Парижа лучшие актеры. Один итальянский певец приехал, чтобы воспроизвести в Кремле «Тюильрийские вечера». Такими приемами Наполеон намеревался обмануть правительство, которое, вследствие привычки властвовать над невежеством и заблуждениями, легко впадало в ошибку.
Между тем сентябрь уже прошел и наступил октябрь. Александр не удостаивал его ответом! Это было оскорбление. Наполеон раздражался и, наконец, после бессонной ночи, позвал маршалов. Когда они пришли, он воскликнул: «Идите сюда, выслушайте новый план, который я придумал. Принц Евгений, читайте!.. (Маршалы слушали.) Надо сжечь остатки Москвы и идти через Тверь на Петербург, куда придет и Макдональд, чтобы присоединиться к нам. Мюрат и Даву будут нас прикрывать!»
Император, сильно возбужденный, блестящими глазами смотрел на своих генералов, лица которых, сумрачные и серьезные, выражали только изумление.
Но он продолжал говорить, оживляясь всё больше, стараясь заразить и других своим новым планом: «Что это значит? Вас эта идея не воспламеняет? Разве мог существовать когда-либо более великий военный план? Отныне только одна эта победа достойна нас! Какой славой мы покроем себя и что скажет весь мир, когда узнает, что в три месяца мы завоевали две великие столицы Севера?»
Даву и Дарю возражали ему, указывая на время года, на голод, на бесплодную и пустынную дорогу…
Они уверяли потом, что предлагали ему различные проекты. Но это был напрасный труд: что могли они говорить человеку, мысль которого опережала всех? Их возражения не могли бы остановить его, если б он действительно решил идти на Петербург. Но эта идея, в сущности, была у него только вспышкой гнева и отчаяния из-за того, что он вынужден был перед лицом Европы уступить, покинуть свою победу и уйти!
В устах его это была только угроза с целью напугать как своих, так и врагов и вызвать и поддержать переговоры, которые будут начаты Коленкуром. Этот высший офицер нравился Александру. Он один среди всех сановников наполеоновского двора пользовался некоторым влиянием на русского императора. Но Наполеон уже в течение нескольких месяцев не допускал к себе Коленкура, так как не мог заставить его одобрить свою экспедицию.
И все-таки Наполеон вынужден был обратиться именно к нему в этот день и перед ним обнаружить свое беспокойство. Он призвал его, но, оставшись с ним наедине, начал колебаться. Долго ходил по комнате, взволнованный, и из гордости никак не решался прервать это тяжелое молчание. Но, наконец, его гордость уступила, хотя он и продолжал угрожать. Он будет просить о том, чтобы у него потребовали мира, — так, словно он сам соблаговолил даровать его!
После нескольких невнятно произнесенных слов Наполеон сказал, наконец, что пойдет на Петербург! Россия восстанет против императора Александра, возникнет заговор, и император будет убит. Это будет большим несчастьем! Наполеон прибавил, что уважает государя и будет жалеть о нем. «Его характер отвечает нашим интересам», — сказал он. Никакой другой государь не мог бы заменить его с пользой для Франции. И вот, чтобы предупредить эту катастрофу, он думает послать к нему Коленкура!
Но Коленкур, неспособный к лести и упрямый, не изменил тона своих речей и продолжал настаивать, что выступать с такими предложениями бесполезно, пока окончательно не выведены войска из России. Александр ничего не станет слушать. Россия сознает все свои преимущества в это время года. Мало того, такая попытка была бы вредна, так как она указала бы, до какой степени Наполеон нуждается в мире, и обнаружила бы всю затруднительность нашего положения.
Он прибавил затем, что чем больше будет подчеркнут выбор лица для ведения переговоров, тем яснее обнаружится наше беспокойство. Поэтому Коленкур думает, что он скорее всякого другого должен потерпеть неудачу, тем более что он и отправился бы туда с уверенностью в неудаче!..
Император резко прервал разговор словами: «Хорошо, я пошлю Лористона!»
Лористон позже уверял, что он повторил свои возражения Наполеону и прибавил еще новые к тем, которые уже высказывал раньше, и посоветовал в тот же день начать отступление, направляя его через Калугу. Наполеон, возмущенный, с досадой отвечал, что ему нравятся только простые планы и не окольные дороги, а большие — например, та, по которой он пришел сюда. Но пойдет он по ней, только заключив мир! Затем, показав ему, так же как и Коленкуру, письмо, которое он написал Александру, Наполеон приказал ему отправиться к Кутузову и получить от него пропуск в Петербург. Последние слова императора Лористону были: «Я хочу мира! Мне нужен мир, и я непременно хочу его получить! Спасите только честь!»
Глава X
Лористон уехал и явился на аванпосты 5 октября. Военные действия были тотчас же приостановлены и дано свидание. Но явились только Волконский, адъютант императора Александра, и Беннигсен, а Кутузова не было.
Вильсон уверял, что русские генералы и офицеры, подозревая и обвиняя своего начальника в слабости, начали кричать об измене; поэтому он и не осмелился покинуть лагерь.
В инструкциях Лористону было сказано, что он должен обращаться только к Кутузову. Поэтому он с высокомерием отклонил всякое посредничество и, воспользовавшись этим обстоятельством, чтобы прервать переговоры, которые не одобрял, ушел, несмотря на настояния Волконского. Он хотел вернуться в Москву. Тогда Наполеон, в пылу гнева, разумеется, бросился бы на Кутузова, разбил его армию, тогда еще не вполне сформированную, и вырвал у него мир. Даже в случае менее решительного успеха он имел бы возможность благополучно удалиться к своим подкреплениям.
К несчастью, Беннигсен попросил свидания с Мюратом, и Лористон остался ждать. Начальник русского штаба, более искусный в переговорах, нежели на войне, постарался очаровать новоиспеченного короля своею почтительностью, вскружить ему голову похвалами и обмануть ласковыми словами, которые были проникнуты желанием мира и усталостью от войны. Мюрат, тоже уставший от сражений и притом не уверенный в их результате, легко поддался этой лести и дал себя обмануть.
Беннигсен одновременно убедил и своего начальника, и начальника нашего авангарда. Он поспешил послать за Лористоном и проводил его в лагерь русских, где Кутузов ждал его в полночь.
Свидание началось плохо. Коновницын и Волконский захотели присутствовать, но это не понравилось французскому генералу, и он потребовал, чтобы они удалились. Его желание было исполнено.
Лористон, оставшись наедине с Кутузовым, изложил ему свою цель и мотивы и попросил пропуска в Петербург. Кутузов отвечал, что это превышает его полномочия, и предложил поручить Волконскому отвезти письмо Наполеона Александру и заключить перемирие до его возвращения. Он сопровождал эти слова мирными заявлениями, которые потом подтвердили все его генералы.
Они сожалели, что война продолжается. И по какой причине? Их народы, как и их императоры, должны уважать, любить друг друга и быть союзниками. Они страстно желали мира, ожидая скорого сообщения об этом из Петербурга. Они собрались вокруг Лористона, отвели его в сторону, брали за руку и одаривали азиатскими ласками.
Однако скоро пришлось убедиться, что они сговорились, чтобы обмануть Мюрата и нашего императора.
И это им удалось. Новости привели в восторг Наполеона. Ставший легковерным под влиянием надежды, а быть может, и под влиянием отчаяния, он в течение нескольких минут упивался этим кажущимся успехом и, стремясь избавиться от тягостного внутреннего беспокойства, как будто искал забвения в выражениях бурной радости. Он призвал всех своих генералов и торжественно возвестил им скорый мир. Они должны лишь подождать пару недель. Никто лучше него не знает русский характер. Получив его письмо, Петербург будет салютовать.
Тем не менее перемирие, предложенное Кутузовым, ему не понравилось, и он отдал приказание Мюрату немедленно его нарушить; несмотря на это, перемирие всё же соблюдалось, а причина осталась неизвестной.
Перемирие это вообще было странное. Чтобы нарушить его, достаточно было одного взаимного предупреждения за три часа до начала военных действий. Притом же перемирие существовало только для фронта обоих лагерей, а не для флангов. По крайней мере так объясняли это русские. Нельзя было, следовательно, ни провести обоза, ни сделать фуражировки. Таким образом, война продолжалась везде, за исключением лишь того пункта, где она могла быть выгодна для нас.
В течение первых дней, последовавших за этим перемирием, Мюрат с удовольствием показывался перед вражескими аванпостами. Он наслаждался тем, что привлекал к себе все взоры. Его наружность, его храбрость, его ранг обращали на себя всеобщее внимание. Русские начальники ничуть не выказывали к нему отвращения; напротив, они осыпали его знаками внимания, поддерживавшими эту иллюзию. Он мог командовать их караульными, точно французами. Если ему нужно было занять какое-нибудь место, они немедленно уступали ему.
Командиры казаков дошли даже до того, что притворялись восхищенными и говорили, что признают императором только того, кто царствует в Москве. На мгновение Мюрат готов был даже подумать, что они не будут сражаться против него!
Он зашел так далеко, что Наполеон, читая его письмо, однажды воскликнул: «Мюрат — король казаков? Что за глупость! Людям, которые всего достигли, могут приходить в голову всевозможные идеи!»
Что же касается императора, который в душе нисколько не обманывался, то его неискренняя радость продолжалась всего лишь несколько минут. Вскоре он пожаловался, что тягостная партизанская война идет вокруг него; несмотря на все эти мирные демонстрации, отряды казаков беспокоят его фланги и тыл. Разве сто пятьдесят драгун его Старой гвардии не были захвачены врасплох и разбиты, а их командир не был взят в плен? И это через два дня после перемирия, по дороге на Можайск, на его операционной линии, по которой армия сообщается со складами и депо, получает подкрепления, а сам он сообщается с Европой!
В самом деле, два больших обоза снова попали в руки врага, один из-за небрежности своего командира, который застрелился с отчаяния, другой вследствие трусости офицера, которого собирались наказать, когда началось отступление. Но гибель армии спасла этого офицера.
Каждое утро наши солдаты, в особенности наши кавалеристы, отправлялись далеко на поиски пищи для вечера и следующего дня. А так как окрестности Москвы с каждым днем становились пустыннее, то приходилось ежедневно уходить всё дальше и дальше. Люди и лошади возвращались истощенные, если только они возвращались! Каждая мера овса, каждая связка фуража оспаривались у нас; надо было отнимать их у неприятеля. Нападения врасплох, сражения, потери не прекращались! Вмешались крестьяне и наказывали смертью тех, кто, соблазняемый выгодой, приносил нам в лагерь какие-нибудь припасы. Некоторые из них поджигали собственные деревни, чтобы прогнать оттуда наших фуражиров, или же, узнав об их появлении, передавали казакам, которые держали нас в осаде.
Те же крестьяне захватили Верею, город возле Москвы. Один из местных священников вооружил жителей, выпросил несколько отрядов у Кутузова, затем 10 октября, до рассвета, дал сигнал к ложной атаке, а сам в это время устремился на наши палисады. Он разрушил их, проник в город и перерезал весь гарнизон.
Итак, война была везде — и перед нашими флангами, и позади нас. Армия ослабевала. Неприятель становился с каждым днем всё более смелым и предприимчивым. Это завоевание постигла такая же участь, как и многие другие: всё завоеванное постепенно утрачивалось.
Мюрат наконец встревожился. Он видел, что в этих ежедневных стычках тает остаток его кавалерии. На аванпостах, во время встреч с нашими офицерами, русские офицеры, вследствие ли усталости, чванства или военной откровенности, доведенной до нескромности, говорили о несчастьях, которые ожидают нас. Они показывали нам на лошадей дикого вида, едва укрощенных, длинная грива которых касалась земли. Разве это не должно было показать нам, что к ним со всех сторон прибывает многочисленная кавалерия, в то время как наша убывает? А постоянный звук выстрелов внутри боевой линии русских, разве он не возвещал нам, что множество новобранцев упражняются там под видом перемирия?
В самом деле, несмотря на длинный путь, все эти рекруты присоединились к армии. Не надо было задерживать набор, как это делалось в былые годы, до тех пор пока не выпадет глубокий снег, делающий невозможным их дезертирство по боковым дорогам. Никто не ослушался общенародного призыва, поднялась вся Россия: говорят, матери радовались, узнав, что их сыновей берут в солдаты; они спешили сообщить им это славное известие, осеняли их крестным знамением и слышали в ответ восклицание: «Такова воля Господа!»
Русские удивлялись тому, что мы не думаем о приближении суровой зимы, их естественного и самого грозного союзника, наступления которой они ожидали в любой момент. Они жалели нас и советовали уходить. «Двух недель не пройдет, — говорили они, — как ваши ногти выпадут и ваше оружие будет валиться из окостеневших и полумертвых пальцев».
Казачьи атаманы также вели интересные разговоры. Они спрашивали наших офицеров, разве они не имеют в своей собственной стране достаточно зерна, воздуха, могил — одним словом, разве им не хватает места, чтобы жить и умирать? Зачем же тогда они ушли так далеко от дома, чтобы расставаться со своими жизнями и питать чужую землю своей кровью? Они добавляли: «Это ограбление нашей родной земли, которую, пока живем, мы должны обрабатывать, защищать и украшать, и в которую после смерти ляжет наше тело; оно было вскормлено ею и, свою очередь, должно удобрить ее».
Император знал об этом, но старался игнорировать эти предостережения, не желая, чтобы они поколебали его решение. Беспокойство, которое он чувствовал, выражалось в гневных приказаниях. Тогда-то он и велел обобрать церкви в Кремле и взять оттуда всё, что может служить трофеем для его Великой армии. Эти предметы, обреченные на гибель самими русскими, говорил он, принадлежат теперь победителям на основании двойного права: благодаря победе и в особенности из-за пожара!
Пришлось приложить очень большие усилия, чтобы снять с колокольни Ивана Великого гигантский крест. Император хотел украсить им в Париже Дом инвалидов. Русский же народ связывал благополучие своей империи с этим памятником. Во время работ на этой колокольне было замечено, что стаи ворон беспрестанно кружат над крестом, и их унылое карканье, надоедавшее Наполеону, заставило его воскликнуть, что стаи этих зловещих птиц как будто хотят защитить крест! Неизвестно, какие мысли смущали Наполеона в эти критические минуты, но все знали, что он легко поддается всяким предчувствиям.
Его ежедневные прогулки, несмотря на яркое солнце, не развлекали его больше. К унылому безмолвию мертвой Москвы присоединялось и безмолвие окружающей ее пустыни, и еще более грозное молчание Александра. И слабый звук шагов наших солдат, бродивших в этой обширной могиле, не мог вывести Наполеона из задумчивости, оторвать его от ужасных воспоминаний и от еще более ужасного предвидения будущего.
Ночи были особенно мучительны для него. Большую часть их он проводил с графом Дарю, и тогда-то он сознался ему, насколько опасно положение! Что поддерживает его власть от Вильны до Москвы? Это огромное, голое и пустое поле битвы, на котором его уменьшавшаяся армия незаметна, изолирована и потеряна в ужасах этой огромной пустоты. В этой стране чуждых нравов и религии он не покорил ни одного человека; на самом деле он является хозяином только той земли, на которой стоит; та же, которую он покинул и оставил за спиной, принадлежит ему не больше, чем та, которой он еще не достиг. Он потерян в этих огромных пространствах.
Затем император обдумывал решения, из которых еще можно было выбирать. «Люди думают, — говорил он, — что нужно отправляться в путь, забывая о том, что требуется месяц для приведения армии в порядок и эвакуации госпиталей; если мы оставим своих раненых, то казаки каждый день будут праздновать победу над нашими больными и отставшими. Похоже, я должен уходить. Вся Европа будет потрясена этими вестями — Европа, которая мне завидует и рада найти мне замену в лице конкурента; она вообразит, что Александр и есть тот самый конкурент, который ее объединит».
Оценивая ту силу, которую Наполеон извлекал из своей репутации человека, не знающего ошибок, он дрожал при одной мысли нанести ущерб этой репутации. Пусть не осуждают его за бездеятельность! «Ах, разве я не знаю, что Москва в военном отношении ничего не стоит! — прибавлял он. — Но Москва и не является военной позицией, это позиция политическая. Меня считают там генералом, а между тем я остаюсь только императором! В политике никогда не надо отступать, никогда не надо возвращаться назад, нельзя сознаваться в своей ошибке, потому что от этого теряется уважение, и если уж ошибся, то надо настаивать на своем, потому что это укрепляет правоту!»
Вот почему Наполеон упорствовал с той настойчивостью, которая прежде составляла его главное качество, а теперь являлась его главным недостатком.
Между тем его томление всё возрастало. Он знал, что рассчитывать на прусскую армию больше не может. Извещение, адресованное Бертье, заставило его потерять уверенность в поддержке австрийской армии. Кутузов дурачил его, он это чувствовал, но он зашел так далеко, что не мог уже, сохраняя честь и успех, ни идти вперед, ни отступать, ни оставаться, ни сражаться. Таким образом, то подталкиваемый, то удерживаемый на месте разными соображениями, он оставался на пепелище Москвы, едва смея надеяться, но всё еще продолжая желать!
Его письмо, переданное Лористоном, должно было быть отправлено 6 октября. Ответ не мог прийти раньше 20-го, но, несмотря на столько угрожающих признаков, гордость Наполеона, его политика и, может быть, даже здоровье заставляли его принимать самое опасное из всех решений, а именно — ждать ответа, полагаясь на время, которое его убивало. Дарю, так же как и другие офицеры, удивлялся, что император не проявляет больше прежней решительности, соответствующей обстоятельствам. Они говорили, что его характер не может приноравливаться к обстоятельствам, и упрекали его за природную стойкость, которая помогла ему возвыситься, а теперь должна была сделаться причиной падения. Но в таком критическом военном положении, вызванном политическими осложнениями самого щекотливого свойства, нельзя было ждать от него, всегда демонстрировавшего такое непоколебимое упорство, чтобы он быстро отказался от цели, которую поставил себе с самого Витебска.
Глава XI
Наполеон полностью отдавал себе отчет, в каком положении он оказался. Для него всё казалось потерянным, если он уступит перед лицом потрясенной Европы, и всё будет спасено, если он превзойдет Александра в решительности. Он очень хорошо видел средства, которые могли поколебать стойкость его соперника, и понимал, что численность боеспособных сил, их состояние, время года, короче говоря, ситуация в целом становится всё менее и менее благоприятной для него; но он рассчитывал на силу иллюзии своих побед. До сего дня он черпал в этом истинную мощь; он находил благовидные доводы, которые помогали ему поддерживать уверенность своих людей и собственные слабые надежды.
В Москве, оставшейся без жителей, император больше не мог ничем завладеть. «Несомненно, это несчастье, — сказал он, — но это несчастье, не лишенное преимуществ. Если бы было по-другому, то я бы не смог поддерживать порядок в таком большом городе, держать в благоговейном страхе триста тысяч душ и спокойно спать в Кремле, не ожидая, что мне перережут горло. Они оставили нам одни развалины, но по крайней мере нам среди них спокойно. Миллионы выскользнули из наших рук, но сколько миллионов потеряно для России! Ее торговля разрушена на целый век. Нация отброшена на пятьдесят лет назад; это само по себе является важным результатом. Когда первый момент энтузиазма пройдет, осознание этого наполнит их ужасом». Столь сильный шок, заключал он, пошатнет трон Александра и вынудит этого правителя просить мира.
Когда Наполеон проводил смотр армейских корпусов, численность которых значительно сократилась, то очень быстро проходил вдоль фронта солдат, построившихся в три шеренги; он был раздосадован этим и приказал, чтобы его пехота строилась в две шеренги.
Поведение его армии поддерживало его желание. Большинство офицеров продолжали верить в него. Простые солдаты, живущие только настоящим и мало ожидающие от будущего, не испытывали никакого беспокойства. Они сохраняли свою беспечность — лучшее из их качеств. Но те награды, которые расточал им император и о которых объявлялось в ежедневных приказах, всё же принимались ими со сдержанной радостью, к которой примешивалась некоторая печаль. Вакантные места, заполнявшиеся теперь, еще сочились кровью. Поэтому расточаемые милости носили грозный характер!..
После Вильны многие побросали взятую с собой зимнюю одежду, чтобы можно было нагрузить на себя съестные припасы. Обувь износилась во время пути, а вся одежда изодралась. Но, несмотря на это, они гордо держали себя, тщательно стараясь скрыть перед императором свою нищету. У них было отличное оружие, всегда исправное. Во дворе царского дворца, в восьмистах лье от обозов, после стольких битв и бивуачной жизни, они всё же старались казаться чистыми, блестящими и всегда наготове. В этом заключалась честь солдата! И они придавали большое значение заботам о своей внешности — именно потому, что это было сопряжено с большими трудностями и вызывало удивление: ведь человеку свойственно гордиться тем делом, которое требует от него усилий.
Император снисходительно смотрел на них, хватаясь за все, что помогало ему надеяться. И вдруг пошел первый снег. С ним исчезли все иллюзии, которыми он старался окружить себя. С той поры Наполеон стал думать только об отступлении, не произнося, однако, этого слова, и у него нельзя было вырвать ни одного приказа, который объявлял бы об этом положительным образом. Он сказал только, что через двадцать дней армия должна быть уже на зимних квартирах, и поэтому торопил с эвакуацией раненых. Здесь, как и везде, его гордость не хотела допустить, чтобы он покинул всё добровольно. Для его артиллерии, которая была слишком велика в сравнении с армией, так сильно сократившейся, не хватало упряжек, и все-таки он раздражался, когда ему предлагали оставить часть артиллерии в Москве. «Нет! — восклицал он. — Неприятель воспользуется ею как трофеем». И он требовал, чтобы все следовали за ним.
Наполеон отдал приказ закупить 20 тысяч лошадей в этой пустынной стране. Он хотел, чтобы запас фуража был сделан на два месяца. И это там, где не удавалось, несмотря на самые отдаленные и самые опасные поездки, запастись фуражом даже на один день! Некоторые из приближенных императора удивлялись, выслушивая такие невыполнимые приказы, но уже не раз приходилось видеть, что он прибегал к ним, чтобы обмануть своих врагов, а еще чаще для того, чтобы указать своим подчиненным на их потребности и те усилия, которые они должны предпринять, чтобы удовлетворить их.
Его душевные страдания проявлялись во вспышках гнева. Это было во время утренних приемов. Находясь среди высоких начальников, в чьих взволнованных взглядах он, как ему казалось, мог прочитать знаки неодобрения, он считал нужным напугать их суровым видом, резким тоном и грубыми словами. Бледность его лица говорила о том, что Правда, являвшаяся ему в ночной темноте, подавляет его самым печальным образом и утомляет его своим нежелательным светом. Порой его сердце будто переполнялось этими печалями, что проявлялось в его нетерпеливых движениях. Это не давало ему облегчения, а он лишь усугублял свои страдания неправедными действиями, за которые себя впоследствии упрекал.
Наполеон вполне открывал свою душу одному графу Дарю, не проявляя при этом слабости. Он сказал, что хочет ударить по Кутузову, разбить его или отбросить, потом быстро повернуть к Смоленску. Но Дарю ему ответил, что раньше это можно было сделать, но теперь уже поздно; что русская армия усилилась, а его ослабла, и победа забыта; что как только его армия повернется в сторону Франции, она у него проскользнет между пальцев, так как всякий солдат, нагруженный добычей, побежит теперь вперед во Францию, торговать.
«Так что же делать?» — воскликнул император. «Остаться здесь, — ответил Дарю, — сделать из Москвы большой укрепленный лагерь и провести в нем зиму». Хлеба и соли хватит — он отвечает за это. Для прочего достаточно будет больших фуражировок. Лошадей, которых нечем будет кормить, он прикажет засолить. Что касается помещений, то, если домов мало, погребов достаточно. С этим можно будет переждать до весны, когда подкрепления и вся вооруженная Литва выручат и помогут довершить завоевание.
Перед этим предложением император сначала молчал, раздумывая, а потом ответил: «Львиный совет! Но что скажет Париж? Что там будут делать? Что там делается эти последние три недели? Кто может предвидеть впечатление шестимесячной неизвестности на парижан? Нет, Франции не привыкнуть к моему отсутствию, а Пруссия и Австрия воспользуются им!»
Во всяком случае Наполеон еще не мог решиться ни на то, чтобы остаться, ни на то, чтобы уйти. Побежденный в борьбе, которую он продолжал из упорства, он откладывал со дня на день признание в собственном поражении. Страшная гроза, надвигающаяся на него, не мешала ему, к удивлению его министров и адъютантов, заниматься последние дни изучением нескольких новых стихов, полученных им, или устава театра французской комедии в Париже, на рассмотрение которого он потратил три вечера. Но они знали, какую тревогу он испытывает, и удивлялись силе его характера и его способности сосредоточивать свое внимание на чем ему было угодно, несмотря на снедающее его душевное беспокойство.
Замечали только, что император старался продлить время, проводимое за столом. Раньше его обед был простой и кончался очень быстро. Теперь же он как будто старался забыться. Часто он целыми часами полулежал на кушетке, точно в каком-то оцепенении, и ждал с романом в руках развязки своей трагической судьбы. И видя, как этот упорный, непоколебимый человек борется с этим невозможным положением, окружающие говорили себе, что, достигнув вершины славы, он, без сомнения, предчувствовал теперь, что его первое движение вспять будет сигналом к его падению. Вот почему он оставался неподвижным, стараясь хоть еще на несколько минут удержаться на вершине!
Пока мы теряли, Кутузов приобретал. Его письмо Александру представляет его армию «среди изобилия; рекруты прибывают из разных мест и обучаются; раненые выздоравливают в своих семьях; крестьяне вооружаются и ведут наблюдение с вершин колоколен; другие проникают в наши селения и даже в Кремль. Ростопчин каждый день получает от них сведения о том, что происходит в Москве… Партизаны каждый день приводят сотни пленных. Всё сходится к одному — уничтожить вражескую армию…»
Кутузов использовал всякое преимущество. Он сообщил своей армии о победе при Саламанке. «Французы, — сказал он, — изгнаны из Мадрида. Рука Всевышнего карает Наполеона. Москва станет его тюрьмой, могилой для него и для его армии. Мы скоро возьмем Францию в России!» Таким языком русский генерал разговаривал со своей армией и своим императором; тем не менее, он всё еще поддерживал видимость отношений с Мюратом. Смелый и хитрый одновременно, он постепенно разрабатывал план внезапного и стремительного нападения, прикрывая его нежными словами и лестью.
Но после нескольких дней иллюзии наконец испарились. Один из казаков помог разрушить их. Этот варвар выстрелил в Мюрата в тот момент, когда король Неаполитанский показался на аванпостах. Мюрат рассердился и заявил Милорадовичу, что перемирие, которое постоянно нарушается, не может считаться существующим, и с этих пор каждый должен заботиться о себе. В то же время он велел известить императора, что условия местности на левом фланге благоприятствуют нечаянным нападениям на его фланг и тыл, а первая, боевая линия, опирающаяся на овраг, может быть туда сброшена. Что же касается занимаемой им позиции впереди ущелья, то она сопряжена с опасностью, и поэтому отступление является необходимостью. Но Наполеон не мог согласиться на это, хотя сначала он сам указывал на Вороново как на более верную позицию. В этой войне, которая в его глазах всё еще носила более политический, нежели военный характер, он в особенности боялся выказать уступчивость. Он предпочитал даже всем рискнуть!
Пятнадцатого октября Лористон все-таки был послан к Мюрату для осмотра позиции авангарда. Что же касается императора, то в своих приготовлениях к отъезду он выказал странную небрежность, — оттого ли, что так долго цеплялся за свою надежду, или же оттого, что отступление претило его гордости и его политике. Но он думал все-таки об отъезде, потому что наметил план отступления.
Однако через минуту он уже диктовал другой план — движения на Смоленск. Жюно получил приказание 21-го в Колоцком монастыре взорвать артиллерийские ящики. Д’Илье должен был занять Ельню и там устроить склады.
Между тем Наполеон начал собирать отряды своей армии, и смотры, которые он устраивал в Кремле, проходили всё чаще. Он сформировал батальоны из кавалеристов, лишившихся лошадей, и щедро раздавал награды. Военные трофеи и все раненые, которых можно было перевезти, отправлялись в Можайск. Остальных поместили в больницу воспитательного дома, и к ним приставили французских хирургов. Русские раненые, смешанные с нашими, должны были служить для них охраной.
Но было уже поздно! В самый разгар этих приготовлений и в тот момент, когда Наполеон делал смотр в Кремле дивизиям Нея, вдруг распространился слух, что в стороне Винкова гремят пушечные выстрелы. Некоторое время никто не решался сообщить Наполеону об этом. Одних удерживала боязнь первой вспышки гнева Наполеона; другие же, изнеженные, боялись, что их пошлют проверить этот слух и придется совершать утомительную поездку.
Наконец Дюрок решился сообщить. Император сначала изменился в лице, затем быстро оправился и продолжал смотр, но вскоре прибежал молодой адъютант Беранже. Он объявил, что первая боевая линия Мюрата уже подверглась внезапному нападению и опрокинута. Его левый фланг обойден под прикрытием леса и атакован, а отступление отрезано. Двенадцать пушек, двадцать артиллерийских ящиков и тридцать фургонов взяты неприятелем, два генерала убиты. Погибло от трех до четырех тысяч человек! Король ранен. Он не мог отнять у неприятеля остатки своего авангарда иначе как повторными нападениями на его многочисленные войска, которые уже заняли главную дорогу, представлявшую единственный путь к отступлению.
Но честь все-таки была спасена! Атака фронта, которым командовал Кутузов, была слабой, Понятовский, стоявший в нескольких лье, правее, геройски отражал ее. Мюрат и карабинеры путем сверхъестественных усилий остановили Багговута, готового врезаться в наш левый фланг. Клапаред и Латур-Мобур очистили ущелье, которое было занято Платовым в двух лье позади нашей боевой линии. Убиты были два русских генерала, другие ранены, и неприятель понес значительные потери. Но на их стороне были преимущества атаки, наши пушки, наша позиция и, наконец, победа!
Что же касается Мюрата, то у него больше не оставалось авангарда. Перемирие лишило его половины остававшейся у него кавалерии, а это сражение уничтожило ее. Остатки отрядов, истощенные голодом, едва годились для одной атаки.
А война снова началась! Это было 18 октября.
При этом известии к Наполеону вернулась пылкость прежних лет. Сразу посыпались приказы, общие и частные, различные, но согласованные между собой и необходимые; в них отразился весь его стремительный гений. Еще не наступила ночь, а уже вся армия была приведена в движение. Сам император, раньше чем наступил рассвет 19 октября, воскликнул: «Идем на Калугу! И горе тем, кто окажется у меня на пути!..»
Книга IX
Глава I
В южной части Москвы, около заставы, одно из самых обширных ее предместий прорезывается двумя большими дорогами; обе они идут на Калугу: одна, левая, — более старая; другая — новая. Именно на первой Кутузов разбил Мюрата. По этой самой дороге Наполеон и вышел из Москвы 19 октября, заявив своим офицерам, что идет к границам Польши через Калугу и Смоленск. Потом, показав на безоблачное еще небо, воскликнул: «Неужели в этом сияющем солнце вы не узнаете моей звезды?» Но это обращение к своей звезде и мрачное выражение лица доказывали, что он не так спокоен, каким хочет казаться!
Наполеон, войдя в Москву с 90 тысячами строевых солдат и 20 тысячами больных и раненых, выходил из Москвы более чем со 100 тысячами здоровых солдат: там он оставил только 1200 больных. Пребывание в Москве, несмотря на ежедневные потери, дало ему возможность предоставить пехоте отдых, пополнить провиант, увеличить силы на 10 тысяч человек и разместить или вывести большую часть раненых. Но с первого же дня он мог заметить, что его кавалерия и артиллерия скорее плетутся, чем идут.
Печальные предчувствия нашего командира вызывала еще одна ужасная картина.
Армия еще с прошлого дня выступала из Москвы без малейшего перерыва. Здесь, на бесконечном расстоянии, в три или четыре линии, всё смешалось: кареты, фуры, богатые экипажи и всевозможные повозки, трофеи в виде русских, турецких и персидских знамен и гигантский крест с колокольни Ивана Великого. Русские крестьяне, бородатые, несли нашу добычу, часть которой они составляли сами; многие везли тачки, наполнив их всем, что могли захватить. Безумные, они не смогли бы продержаться до конца дня; но для их жадности ничего не значили восемьсот верст пути и предстоящие сражения!
Особенно бросалась в глаза в этом движении армии толпа людей всех национальностей, без мундиров, без вооружения и слуг, ругавшихся на всех языках, подгонявших криками и ударами тощих лошаденок в веревочной сбруе, тащивших изящные экипажи. Последние были наполнены или провизией, или добычей, уцелевшей от пожара. В них были и француженки с детьми. Прежде эти женщины были счастливыми обитательницами Москвы; теперь они бежали от ненависти москвичей, и армия стала для них единственным убежищем. За армией также следовало несколько русских девушек, добровольных пленниц.
Можно было подумать, что видишь перед собой какой-то караван, бродячее племя или, скорее, старинную армию, возвращавшуюся после большого набега с пленниками и добычей.
Нельзя было понять, как сможет голова этой колонны тащить за собой и содержать в течение такого долгого пути такой тяжелый хвост.
Несмотря на ширину дороги и усилия своего эскорта, Наполеон только с трудом мог пробираться сквозь эту невообразимую кашу. Не было никакого сомнения: чтобы избавиться от всей этой тяжести, нам достаточно было попасть на какую-нибудь узкую дорогу, идти несколько ускоренным шагом, или подвергнуться нападению казаков; но только судьба или враг одни имели право так помочь нам. Император же прекрасно сознавал, что он не может ни отнять у своих солдат плоды стольких лишений, ни упрекнуть их за них. Кроме того, съестные припасы скрывали добычу; а он, который не мог обеспечить своих людей провиантом, мог ли он запретить им везти его? Наконец, так как военных повозок не было, эти кареты были единственным спасением для больных и раненых.
Поэтому Наполеон молча миновал этот бесконечный хвост, тащившийся за армией, и поехал вперед по Старой Калужской дороге. Он продвигался в этом направлении несколько часов, объявив, что идет, чтобы разбить Кутузова на самом поле его победы. Но вдруг, в середине дня, с высоты Краснопахорской усадьбы, где он остановился, император внезапно повернул со своей армией вправо и в три перехода, по полям, достиг Новой Калужской дороги.
Среди этого маневра его захватил дождь, который размыл проселочные дороги и заставил остановиться. Это было большое несчастье.
С трудом удавалось вытаскивать из грязи пушки.
Всё же император маскировал свое движение корпусом Нея и остатками кавалерии Мюрата, находившимися за рекой Мочей и в Воронове. Кутузов, обманутый этой уловкой, всё еще ждал Великую армию на старой дороге, тогда как 23 октября, перебравшись целиком на новую дорогу, она должна была сделать только один переход, чтобы спокойно пройти мимо него и прийти раньше него в Калугу.
Письмо Бертье к Кутузову, помеченное первым днем этого обходного движения, было последней попыткой к примирению и в то же время, может быть, военной хитростью. Оно осталось без ответа.
Глава II
Двадцать третьего октября императорская квартира расположилась в Боровске. Эта ночь была приятна императору: он узнал, что в шесть часов вечера Дельзон со своей дивизией, находившейся в четырех лье впереди него, нашел Малоярославец и окружавшие его леса пустыми; это была прочная позиция против Кутузова и единственное место, в котором он мог бы отрезать нас от Новой Калужской дороги.
Сначала император хотел обеспечить этот успех своим присутствием: был даже отдан приказ к выступлению, но неизвестно почему он отменил его. Весь этот вечер провел он на лошади недалеко от Боровска, слева от дороги, с той стороны, где ждал Кутузова. Под проливным дождем он осматривал местность, словно она должна была сделаться полем сражения. На другой день, 24-го, он узнал, что у Дельзона отбивают Малоярославец; этим он ничуть не был смущен — потому ли, что верил в успех, потому ли, что не был уверен в своих планах.
Поэтому он поздно и не спеша выехал из Боровска, как вдруг до него донесся шум очень оживленного сражения. Тогда он почувствовал беспокойство, поспешно взобрался на возвышенность и прислушался. Значит, русские опередили его? Разве он не слишком быстро шел, когда обходил левый фланг Кутузова?
И в самом деле, поговаривали, что во всем этом движении чувствовалась леность, результат продолжительного отдыха. Москва отстоит от Малоярославца только на сто десять верст; чтобы пройти их, достаточно четырех дней, а на это ушло шесть дней. Но армия, перегруженная провиантом и добычей, была тяжела, дороги были топкие. Пришлось потратить целый день на переход реки Нары и ее болота, а также на стягивание различных корпусов; к тому же, проходя так близко от неприятеля, надо было сжаться, чтобы не подставить ему слишком удлиненный фланг. Как бы то ни было, все наши несчастья начались с этого привала.
Между тем император всё прислушивался; шум возрастал. «Значит, это битва!» — воскликнул он.
Каждый выстрел терзал его, потому что здесь речь шла не о победе, а о самосохранении, и он торопил следовавшего за ним Даву; но этот маршал явился на поле сражения только к ночи, когда всё было решено. Император видел конец сражения, но помочь вице-королю не мог.
Когда наступила ночь, ему всё объяснил генерал, присланный принцем Евгением:
«Вчера Дельзон не встретил неприятеля в Малоярославце; но он не счел возможным поместить всю свою дивизию в этом городе, расположенном на возвышенности, за рекой, за оврагом, в который его легко могло бы отбросить неожиданное ночное нападение. Поэтому он остался на низменном берегу Лужи, занял город и поручил наблюдение за возвышенным берегом только двум батальонам.
Ночь подходила к концу, было четыре часа утра; в бивуаках Дельзона все спали, за исключением нескольких часовых, как вдруг из леса с ужасным криком выскочили русские под начальством Дохтурова. Часовые были отброшены на свои посты, посты — на батальоны, батальоны — на дивизию; это была уже не рукопашная стычка, так как русские выставили пушки! С самого начала сражения выстрелы раздавались за три лье отсюда и свидетельствовали о серьезном сражении».
В рапорте было добавлено: «В это время подоспел принц с несколькими офицерами; его дивизия и гвардия вскоре явились за ними. По мере того, как он приближался, перед ним развертывался обширный, очень оживленный амфитеатр; основанием его служила река Лужа, и уже тучи русских стрелков бились за ее берега».
С городских высот русский авангард направил огонь на Дельзона; сзади, по возвышенности, спешила двумя длинными черными колоннами вся армия Кутузова. Видно было, как она рассыпается и окапывается на этом открытом спуске, откуда, благодаря своему численному превосходству и своей позиции, господствует над всем; она уже расположилась и по Старой Калужской дороге, которая вчера была свободна и которую мы могли занять и бежать по ней, но теперь Кутузов имел возможность шаг за шагом защищать ее.
В то же время неприятельская артиллерия захватила высоты, которые с другой стороны подходят к берегу, и стала стрелять по дну впадины, в которой скрылся Дельзон со своими войсками. Положение становилось невозможным. И всякое промедление грозило гибелью. Надо было выйти из этого положения или поспешным отступлением, или стремительной атакой, а так как отступать надо было все-таки вперед, то принц Евгений и дал приказ к атаке.
Пересекая Лужу по узкому мосту, Большая Калужская дорога вступает в Малоярославец по дну оврага, который входит в самый город. Русские в большом количестве заполняли эту дорогу; Дельзон со своими французами бросился по ней очертя голову; утомленные русские были опрокинуты — они отступили, и вскоре наши штыки заблестели на высотах.
Дельзон объявил победу, считая, что она осталась за ним. Ему надо было только войти в город, но его солдаты колебались. Он двинулся вперед, он подбадривал их жестами, как вдруг в лицо ему ударила пуля. К нему бросился его брат, закрыл его своим телом, сжал в объятиях, хотел вынести из огня; вторая пуля поразила его самого, и оба брата одновременно испустили дух.
Гильемино заменил Дельзона; сначала он послал сотню гренадеров на кладбище, из-за стен которого они и открыли стрельбу. Кладбищенская церковь, расположенная слева от большой дороги, господствовала над последней; ей-то мы и обязаны победой. Пять раз за этот день по дороге проходили русские войска, преследовавшие наши, и пять раз выстрелы с кладбища, посылаемые им то с боков, то сзади, приводили их в смятение и задерживали натиск; потом, когда мы снова перешли в наступление, эта позиция поставила их между двух огней и обеспечила успех нашей атаки.
Едва этот Гильемино выбрал такую диспозицию, как тучи русских набросились на него и снова отбросили к мосту, где стоял Евгений, наблюдавший за сражением и подготовлявший резервы. Сначала посылаемые им резервы оказывались очень слабыми; и, как это всегда бывает, каждый из них, не будучи в состоянии оказать большого сопротивления, погибал без всякого результата. Наконец, в дело была пущена вся 14-я дивизия; битва в третий раз охватила высоты. Но как только французы удалялись от главного пункта, как только они показывались на лугу, где поле действия расширяется, их оказывалось недостаточно: расстреливаемые огнем всей русской армии, они вынуждены были остановиться; к русским подходили всё время новые силы, и наши поредевшие ряды отступили, тем более что неровность места увеличивала беспорядок среди них; и вот им опять пришлось спускаться, бросив все.
Но ядра подожгли деревянный город за ними; отступая, они натыкались на пламя; огонь толкал их на огонь; русские ополченцы озверели, как фанатики; наши солдаты освирепели; дрались врукопашную, схватив друг друга одной рукой, другой нанося удары; и победитель и побежденный скатывались на дно оврага или в огонь, не выпуская своей добычи. Здесь раненые и умирали — задохнувшись в дыму или сгорев на головнях. Вскоре их скелеты, почерневшие и скрюченные, представляли ужасное зрелище.
Однако не все одинаково исполняли свой долг. Один командир, большой говорун, спустился на дно оврага и проводил там время в разговорах, когда надо было действовать, да еще держал при себе в этом безопасном месте много солдат, предоставляя остальным своим подчиненным действовать наугад, каждому порознь, как им вздумается.
Оставалась еще 15-я дивизия. Вице-король вызвал ее; она двинулась вперед, послав одну бригаду влево, в предместье, а другую вправо, в город. Это были итальянцы, рекруты, здесь они сражались в первый раз. Они побежали вверх с воинственными криками, не понимая опасности или презирая ее — по той странной особенности, благодаря которой жизнь в ее расцвете менее ценится, чем на склоне лет, или, может быть, потому, что молодые меньше боятся смерти, не чувствуя ее приближения; и в этом возрасте они расточают свою жизнь как им вздумается.
Столкновение было ужасное: всё снова было завоевано, в четвертый раз, и снова всё потеряно. Более горячие, чем пожилые солдаты в начале боя, они быстрее остыли и бегом вернулись к старым батальонам, которые поддержали их огнем и заставили снова броситься в битву.
Это было именно в тот момент, когда русские, воодушевляемые своим всё время возраставшим количеством и успехом, спустились с правого фланга, чтобы овладеть мостом и отрезать нам всякое отступление. У принца Евгения оставался последний резерв; он сам повел его со своей гвардией. Увидев их, услышав их крики, остатки 13-й, 14-й и 15-й дивизий воспрянули духом; они сделали последнее и могучее усилие, и в пятый раз сражение перешло на высоты.
В то же самое время полковник Перальди и итальянские егеря штыками оттеснили русских, которые уже почти достигли левой стороны моста, и, не переводя духа, опьяненные своей победой, кинулись дальше по возвышенной равнине и хотели захватить неприятельские пушки; но один из глубоких оврагов, которыми изборождена русская почва, заставил их остановиться под убийственным огнем; их ряды разорвались, неприятельская кавалерия напала на них; они были отброшены к садам предместья. Здесь они остановились и снова сомкнулись. Французы и итальянцы — все с ожесточением отстаивали верхний вход в город, и русские, наконец отбитые, отступили и сосредоточились на Калужской дороге, между лесом и Малоярославцем.
Таким образом, 18 тысяч французов, стоявших в глубине оврага, победили 50 тысяч русских, расположившихся над их головами и имевших все преимущества, которые может дать город, построенный на крутом подъеме!
Всё же армия с грустью смотрела на это поле сражения, где были ранены и пали семь генералов и четыре тысячи французов и итальянцев. Потери неприятеля не тешили, они не были вдвое больше наших, и их раненые были подобраны. Кроме того, приходило на память, что при подобном положении Петр I, пожертвовав десятью русскими за одного шведа, не только считал, что потери были равные, но что он даже выиграл в такой ужасной сделке. Особенно тяжело было при мысли, что такая кровавая схватка может быть бесполезной.
На самом деле, костры, загоревшиеся слева от нас в ночь с 23-го на 24-е, указывали на приближение русских к Малоярославцу; и в то же время было видно, что мы движемся медленно, что сюда беспечно продвигается только одна дивизия, отошедшая на три лье от резерва; что армейские корпуса находятся далеко один от другого. Куда же девались быстрые и решительные движения при Маренго, Ульме и Экмюле? Почему такое расслабленное и тяжелое движение при таких критических обстоятельствах? Неужели нас так стесняют артиллерия и обоз? Это предположение вполне правдоподобно.
Глава III
Когда император слушал рапорт об этой битве, он находился в нескольких шагах справа от большой дороги, в глубине оврага, на берегу речки, в деревне Городне, в старой развалившейся деревянной избе ткача. Здесь он был в полулье от Малоярославца, возле одного из изгибов Лужи. И в этой-то источенной червями избе, в грязной темной комнатке, разделенной пополам холщовой занавеской, решалась судьба армии и Европы!
Первую часть ночи Наполеон провел, выслушивая рапорты. Всё доказывало, что неприятель готовится на следующий день к сражению, а наши находят нужным избежать его. В одиннадцать часов пришел Бессьер. Этот маршал был обязан своим возвышением любви Наполеона, который привязался к нему как к своему созданию. Правда, нельзя было сделаться фаворитом Наполеона так, как у какого-нибудь другого монарха; для этого следовало по крайней мере долго служить ему, постоянно доказывая свою полезность.
Он отправил этого маршала осмотреть расположение неприятеля. Бессьер тщательно объехал весь фронт позиции русских.
— Их нельзя атаковать.
— О боже! — воскликнул император, всплеснув руками. — Вы хорошо всё осмотрели? Неужели это правда? Вы ручаетесь за это?
Бессьер подтвердил свое донесение: он заявляет, что достаточно трех гренадеров для задержания армии! Наполеон с подавленным видом, скрестив руки, опустил голову и углубился в печальные размышления. Его армия победоносна, а он побежден! Его путь отрезан, планы расстроены; Кутузов, старик, скиф, опередил его! И он не может обвинять свою звезду! Разве солнце Франции не следовало за ним и в Россию? Разве еще вчера дорога в Малоярославец не была свободна? Значит, не счастье изменило ему, а он сам изменил своему счастью?
Углубившись в бездну этих безотрадных мыслей, император впал в такое состояние, что ни один из приближенных не мог добиться от него ни слова. Только после долгих настойчивых вопросов он молча слегка кивнул головой. Наконец он захотел отдохнуть немного; но его мучила бессонница. Весь остаток этой жестокой ночи он то ложился, то вставал, беспрестанно звал к себе, хотя ни одним словом не обнаружил своей тоски: только по беспокойным движениям можно было судить о волнении его души.
Около четырех часов утра один из ординарцев Наполеона, принц Аренберг, предупредил его, что в темноте по лесу, благодаря неровностям места, казаки проскользнули между ним и аванпостами. Император послал Понятовского на правый фланг, в Кременское. Он так мало ожидал неприятеля с этой стороны, что не позаботился об укреплении правого фланга и не обратил внимания на донесение своего ординарца.
Двадцать пятого числа, как только солнце показалось на горизонте, император сел на лошадь и поехал по Калужской дороге, которая теперь была для него только дорогой в Малоярославец. Чтобы достигнуть моста в этот город, надо проехать через длинную долину шириною в полулье, которую окружает своим изгибом Лужа; за императором следовало только несколько офицеров.
Четыре эскадрона его обычной свиты, не будучи предупреждены, торопились догнать его, но еще не догнали. Дорога была покрыта лазаретными и артиллерийскими фурами и богатыми экипажами; это была внутренняя часть армии; все продвигались без всяких опасений.
Сначала вдали, справа, показалось несколько небольших отрядов, потом стали приближаться большие черные линии войск. Тогда поднялась тревога; несколько женщин и кое-кто из челяди бегом бросились назад, ничего не слушая, не отвечая на вопросы, с испуганным видом, потеряв голос и не переводя духа. В то же время ряды экипажей в нерешительности остановились; среди них поднялась суматоха; одни хотели продолжать путь, другие вернуться; экипажи сталкивались, опрокидывались; вскоре образовалась толчея, полнейший беспорядок.
Наполеон смотрел и улыбался, продолжая продвигаться вперед и молча наблюдая эту панику. Его адъютанты подозревали, что это казаки, но они приближались такими правильными взводами, что брало сомнение; и если бы эти негодяи не издали воинственный клич, по своему обыкновению, при атаке, как они поступают, чтобы заглушить в себе страх перед опасностью, Наполеону, быть может, не удалось бы вырваться из их рук. Опасность еще увеличивалась тем, что сначала эти возгласы были приняты за крики «Да здравствует император!».
Это был Платов и шесть тысяч казаков, которые позади нашего победоносного авангарда попытались перейти реку, низину и большую дорогу, уничтожая всё на своем пути; и в тот самый момент, когда император, среди своей армии, в оврагах извилистой реки спокойно двигался, не допуская даже мысли о таком дерзком плане, казаки привели его в исполнение!
Бросившись вперед, они приближались так быстро, что Рапп едва успел сказать императору: «Это они, вернитесь!» Император — потому ли, что плохо видел, или потому, что считал унизительным бежать, — заупрямился и был почти схвачен, когда Рапп взял за повод его лошадь и повернул ее назад, закричав ему: «Это необходимо!» И действительно, надо было бежать. Наполеон же, при своей гордости, не мог решиться на это. Он обнажил шпагу, Бертье и Коленкур последовали его примеру, и, встав слева от дороги, они стали ждать орду. Их разделяло всего сорок шагов. Рапп едва успел повернуться лицом к этим варварам, как один из них так сильно вонзил копье в грудь его лошади, что опрокинул его на землю. Другие адъютанты и несколько гвардейских кавалеристов подняли этого генерала. Этот поступок, мужество двух десятков офицеров и стрелков и в особенности склонность этих варваров к грабежу спасли императора!
Однако им достаточно было только протянуть руку, чтобы схватить его, потому что в ту же минуту орда, пересекая дорогу, смяла всё — лошадей, людей, экипажи, нанося раны и убивая обозных солдат, которых они оттаскивали в лес, чтобы там обобрать; потом, повернув лошадей, впряженных в орудия, они повели их по полям. Но они одержали только минутную победу, добились нечаянного триумфа. Примчалась гвардейская кавалерия: при виде ее они побросали добычу и обратились в бегство; они пронеслись, подобно потоку, правда, оставляя за собой ужасные следы, но побросав то, что им удалось захватить. Однако некоторые из этих варваров оказались отважными до дерзости. Они возвращались шагом между нашими эскадронами, снова спокойно заряжая свои ружья. Они рассчитывали на неповоротливость наших лучших кавалеристов и на легкость своих лошадей, которых подгоняли нагайками. Их бегство совершилось в полном порядке, так что они оставили только несколько человек раненых и ни одного пленного. Наконец, они заманили нас в овраг, поросший кустарником, где их орудия принудили нас остановиться. Всё это наводило на размышления. Наша армия была измучена, а война снова возобновлялась во всей своей силе!
Император, пораженный и удивленный, что осмелились на него напасть, стоял до тех пор, пока равнина не была очищена; потом он въехал в Малоярославец, где Евгений показал ему преодоленные накануне препятствия.
Само место достаточно красноречиво говорило о них. Никогда еще поле битвы не представляло такой ужасной картины! Изрытая поверхность земли, окровавленные развалины; улицы, которые можно различить только по длинной веренице трупов и человеческих голов, раздавленных лафетами; раненые, выползавшие еще из развалин и испускавшие жалобные стоны; наконец, мрачное пение гренадеров, воздававших последние почести останкам своих убитых полковников и генералов, — всё указывало на отчаянную стычку. Говорят, император видел в этом только одну славу; он воскликнул: «Честь такого прекрасного дня всецело принадлежит принцу Евгению!» Но, уже охваченный мрачным предчувствием, он был потрясен этим зрелищем.
Глава IV
Товарищи! Помните ли вы это злосчастное поле, на котором остановилось завоевание мира, где двадцать лет побед рассыпались в прах, где началось великое крушение нашего счастья? Представляете ли вы еще себе этот разрушенный и окровавленный город, эти глубокие овраги и леса, которые окружают высокую долину, образуя из нее как бы замкнутое поле? С одной стороны — французы, уходившие с севера, которого они избегали; с другой, у опушек лесов, — русские, охранявшие юг и старавшиеся отбросить нас в объятия их могучей зимы. Наполеон — между этими двумя армиями, посреди долины; его шаги, его взгляды, блуждавшие с юга на восток по Калужской и Медынской дорогам. Обе они были для него закрыты: на Калужской — Кутузов и сто двадцать тысяч человек были готовы оспаривать у него двадцать лье лощины; со стороны Медыни он видел многочисленную кавалерию; это Платов и те самые орды, которые только что появились сбоку армии, проникли в нее и вышли, нагруженные добычей, чтобы вновь сформироваться на правом фланге, где их ждали резервы и артиллерия. Именно в эту сторону дольше всего были устремлены глаза императора, о ней он справлялся по картам, расспрашивая генералов, взвешивал всё, что было опасного в нашей позиции, в силу резких несогласий между генералами, которых не сдерживало его присутствие. Потом, подавленный горем и печальными предчувствиями, он медленно вернулся на главную квартиру.
Мюрат, принц Евгений, Бертье, Даву и Бессьер следовали за ним. Эта бедная хата невежественного ткача заключала в своих стенах императора, двух королей, трех генералов! Они пришли сюда решать судьбу Европы и армии! Целью был Смоленск. Идти ли туда через Калугу, Медынь или через Можайск? Между тем Наполеон сидел за столом; голова его была опущена на руки, которые скрывали его лицо и, вероятно, отражавшуюся на нем скорбь.
Царило полное безмолвие. Мюрат, порывисто ходивший по избе, не вынес этой нерешительности. Послушный лишь своему таланту, весь во власти пламенной натуры, он воскликнул:
— Пусть меня снова обвинят в неосторожности, но на войне всё решается и определяется обстоятельствами; там, где остается только атака, осторожность становится отвагой и отвага осторожностью. Остановиться нельзя, бежать опасно; значит, надо преследовать неприятеля. Что нам за дело до угрожающего положения русских и их непроходимых лесов? Я презираю всё это! Пусть мне только дадут остатки кавалерии и гвардии, и я углублюсь в их леса, брошусь на их батальоны, уничтожу всё и снова открою армии путь к Калуге!
Здесь Наполеон, подняв голову, остановил эту горячую речь словами:
— Довольно отваги. Мы слишком много сделали для славы. Теперь время думать только о спасении остатков армии!
Тогда Бессьер — потому ли, что для его гордости было оскорбительно подчиняться Мюрату, или ему хотелось сохранить неприкосновенной гвардейскую кавалерию, которую он создал, за которую отвечал перед Наполеоном и которая состояла под его начальством, — чувствуя поддержку, осмелился прибавить:
— Для подобного предприятия у армии, даже у гвардии, не хватит мужества. Уже поговаривают, что, так как повозок мало, теперь раненый победитель останется во власти побежденных; таким образом, всякая рана будет смертельна; за Мюратом последуют неохотно — и в каком состоянии? Мы только что убедились в наших силах. А каков неприятель? Разве не видели мы поля вчерашней битвы? А с каким неистовством русские ополченцы, едва вооруженные и обмундированные, шли на верную смерть?
Этот маршал закончил свою речь словом «отступление», которое Наполеон одобрил своим молчанием.
Тотчас же Даву заявил, что если решено отступать, то нужно отступать через Медынь и Смоленск. Но Мюрат прервал его и — или из враждебности, или от досады за его отвергнутый отважный план — изумился, как можно предлагать императору такую неосторожность! Значит, Даву решился погубить армию? Неужели он хочет, чтобы такая длинная и тяжелая колонна потянулась без проводников, не зная ничего, по незнакомой дороге, вблизи Кутузова, подставляя свой фланг неприятелю? Не сам ли Даву защитит ее? Зачем, когда позади армии Боровск и Верея безопасно ведут к Можайску, отказываться от этого спасительного для нас пути? Там должны находиться съестные припасы, там нам всё известно, ни один изменник не собьет нас с дороги.
При этих словах Даву, пылая гневом, который он с трудом сдерживал, отвечал, что он предлагает отступление по плодородной местности, по нетронутой, обильной провиантом дороге, с еще не разрушенными деревнями и по кратчайшему пути, так что неприятель не успеет отрезать нам указываемую Мюратом дорогу из Можайска в Смоленск. А что это за дорога? Песчаная и испепеленная пустыня, где обозы раненых увеличат наши затруднения, где мы найдем лишь одни обломки, следы крови, скелеты и голод!
— Впрочем, я высказываю только свое мнение, когда меня спрашивают; но я с таким же рвением буду повиноваться приказаниям, противоречащим моему мнению; но только один император имеет право заставить меня замолчать, а не Мюрат, который не был моим государем и никогда им не будет!
Ссора усиливалась; вмешались Бессьер и Бертье. Император же, по-прежнему сидевший в задумчивости, казалось, ничего не замечал. Наконец он прервал свое молчание и этот совет следующими словами:
— Хорошо, господа, я решу сам!
Он решил отступать — и по той дороге, которая бы как можно скорее удалила его от неприятеля, но ему нужно было вынести страшную внутреннюю борьбу для того, чтобы вырвать у себя приказ на такой небывалый для него шаг! Эта борьба была так мучительна, так оскорбляла его гордость, что он лишился чувств. Те, кто тогда ухаживал за ним, говорят, что донесение о новом нападении казаков, возле Боровска, в нескольких лье позади армии, было последним толчком, заставившим императора в конце концов принять это роковое решение.
Любопытно, что он приказал отступать к северу в ту минуту, когда Кутузов и русские, утомленные схваткой при Малоярославце, отступили к югу.
Глава V
В эту самую ночь такое же волнение происходило и в русском лагере. Во время битвы под Малоярославцем Кутузов очень осторожно приближался к полю битвы, останавливаясь на каждом шагу, ощупывая местность, словно боялся, что она провалится под ним. Сам он осмелился загородить дорогу Наполеону лишь тогда, когда нечего было опасаться генерального сражения.
Тогда Вильсон, еще разгоряченный битвой, прискакал к нему: Вильсон, этот деятельный, подвижный англичанин, которого видели в Египте, в Испании, — и всюду врагом французов и Наполеона. В русской армии он был представителем союзников; среди полновластия Кутузова это был человек независимый, его присутствие было противно русскому старику, а так как вражда всегда вызывает вражду, то они оба ненавидели друг друга.
Вильсон упрекал его за непостижимую медлительность: пять раз в течение одного дня русские упустили победу, как при Винкове; и он напомнил ему об этой битве 18 октября. Очевидно, что в тот день Мюрата ждала гибель, если бы Кутузов произвел сильную атаку на фронте французов, когда Беннигсен напал на их левое крыло. Но по беззаботности или по медлительности, свойственным старикам, или потому, как говорили многие русские, что Кутузов более завидовал Беннигсену, чем ненавидел Наполеона, старик начал атаку слишком медленно, слишком поздно и остановил слишком рано.
Вильсон просил дать завтра решительную битву. Услышав отказ, он спросил Кутузова, намерен ли тот открыть Наполеону свободный проход? «Позволить ему уйти вместе с его победой? Какие взрывы негодования раздадутся в Петербурге, в Лондоне, по всей Европе! Разве вы уже не слышали ропот в рядах собственных войск?»
Возмущенный Кутузов ответил, что он скорее сделает для врага золотой мост, чем подвергнет риску свою армию, а вместе с ней и судьбу всей империи. Разве Наполеон не бежит? Зачем теперь останавливать его и принуждать к битве? Погода разрушит французскую армию: из всех союзников России самый надежный — это зима, и он будет ждать ее помощи. Что касается русской армии, то она находится под его командованием и будет слушаться его, несмотря на шумные протесты Вильсона; если бы Александр знал о его действиях, то одобрил бы их. Что ему заботиться об Англии? Разве за нее он сражается? Он истинный русский, его самое сокровенное желание — видеть Россию освобожденной, и освободить ее нужно без риска новой битвы; что касается остальной Европы, то ему всё равно, будет ли она под властью Франции или Англии.
И хотя предложение Вильсона было отвергнуто, Кутузов, замкнутый вместе с французской армией на возвышенности у Малоярославца, занял грозное положение. Двадцать пятого октября он выдвинул все свои дивизии и семьсот артиллерийских орудий. В обеих армиях не сомневались, что наступил последний день; сам Вильсон верил в это. Он заметил, что линии русских примыкают к болотистому оврагу, через который перекинут непрочный мост. Этот единственный путь к отступлению, да еще в виду неприятеля, казался ему непроходимым; следовательно, Кутузову необходимо или победить, или погибнуть, и англичанин улыбнулся при мысли о решительной битве: пусть исход ее будет фатален для Наполеона или опасен для русских, — она будет кровопролитна, и Англия может только выиграть от этого.
Всё же, когда наступила ночь, он, продолжая волноваться, объехал линии; он с радостью слышал, что Кутузов клялся дать, наконец, сражение; он торжествовал, видя, как все русские генералы готовятся к страшному кровопролитию; один только Беннигсен еще сомневался в нем. Тем не менее англичанин, полагая, что позиция не даст возможности отступить, лег отдохнуть до рассвета, как вдруг, в три часа утра, приказ об общем отступлении разбудил его. Все его усилия оказались бесполезны. Кутузов решил бежать на юг, сначала в Гончарово, потом за Калугу, и на Оке всё было уже приготовлено для его переправы.
В эту же самую минуту Наполеон приказал своим отступать на север, к Можайску.
Итак, обе армии повернулись спиной друг к другу.
Вильсон уверяет, что со стороны Кутузова это было настоящее бегство. Со всех сторон к мосту, на который опиралась русская армия, подходили кавалерия, повозки, орудия, батальоны. Тут все эти колонны, стекавшиеся справа, слева и из центра, сталкивались и мешались в такую огромную путаную массу, что не было возможности двигаться дальше. Понадобилось несколько часов, чтобы очистить и освободить этот путь. Несколько ядер Даву, которые тот считал посланными напрасно, попали и в гущу людей.
Наполеону достаточно было только напасть на эту беспорядочную толпу… Теперь, когда оставалось идти только вперед, он отступал. Такова война: зачастую попытка и смелое движение не доводятся до конца; восток не знает, что делает запад.
Вообще это произошло, быть может, потому, что у императора не было осторожности в Москве, а здесь у него не было смелости; он устал; два последних казацких нападения вызвали в нем отвращение; вид раненых растрогал его; все эти ужасы отталкивали его, и, подобно всем решительным людям, он, уже не надеясь на полную победу, решил поспешно отступить.
С этого момента он видел перед собой только Париж, точно так же, как, уезжая из Парижа, он видел только Москву!
Роковое отступление наших войск началось 26 октября. Даву с двадцатью пятью тысячами человек остался в арьергарде. В то время как он сделал несколько шагов вперед и этим, сам того не зная, навел ужас на русских, Великая армия повернулась к ним спиной. Она шла, опустив глаза, словно пристыженная и сконфуженная. Посреди нее ее предводитель, мрачный и молчаливый, казалось, тревожно измерял глазами расстояние, отделявшее его от берегов Вислы.
На пространстве протяженностью более 250 лье было только два места, где он мог остановиться и отдохнуть, — Смоленск и Минск. Он превратил эти два города в два крупнейших депо, где были созданы огромные склады. Но Витгенштейн, всё еще находясь перед Полоцком, угрожал левому флангу первого, а Чичагов из Брест-Литовска — правому флангу второго. Армия Витгенштейна усилилась за счет рекрутов и свежих сил, которые он получал ежедневно, в то время как силы Сен-Сира постепенно уменьшались.
Наполеон, однако, рассчитывал на Виктора и его 36 тысяч свежих солдат. Этот корпус стоял в Смоленске с начала сентября. Он также рассчитывал на части, посылаемые из депо, на больных и раненых, которые выздоравливали, и на отставших, которые должны были собраться воедино и составить в Вильне маршевые батальоны. Все эти солдаты должны были последовательно вставать в строй и заменить тех, кто пал в бою, умер от голода или выбыл по болезни. Он должен будет восстановить позиции на Двине и Борисфене, где, как он хотел верить, его присутствие вместе с Виктором, Сен-Сиром и Макдональдом внушит благоговейный страх Витгенштейну, остановит Кутузова и будет угрожать Александру даже в его второй столице.
Император даже объявил, что собирается занять позицию на Двине. Но его мысли были не на Двине и Борисфене; он льстил себя надеждой, что Шварценберг, Ренье, Дюрютг, Домбровский и 20 тысяч солдат — силы, которые будут находиться между Минском, Слонимом, Гродно и Вильной и вместе составлять 70 тысяч солдат, — не позволят 60 тысячам русских завладеть его складами и отрезать ему путь отступления.
Глава VI
Наполеон, погруженный в задумчивость, приехал в Верею, где его встретил Мортье. Но я пропустил один факт, достойный быть отмеченным; объясняется это быстрой сменой очень серьезных событий.
Двадцать третьего октября, в половине второго ночи, воздух был потрясен ужасным взрывом; обе армии сначала удивились, хотя все уже давно перестали удивляться, готовые ко всему.
Мортье выполнил предписание: Кремля больше не было; во все залы царского дворца были положены бочки с порохом, и сто восемьдесят три бочки — в дворцовые подвалы. Маршал с восемью тысячами человек оставался на этом вулкане, который мог взорваться от одной русской гранаты, — он прикрывал отступление армии к Калуге и различных пеших обозов к Можайску.
Из числа этих восьми тысяч человек было едва две тысячи, на которые Мортье мог рассчитывать; остальная часть — пешие кавалеристы, люди, собравшиеся из разных полков и разных стран, под командой новых начальников, не имевшие ни одинаковых привычек, ни одинаковых воспоминаний, не связанные, одним словом, никакой общностью интересов, — представляла собою скорее беспорядочную толпу, чем организованное войско; они неминуемо должны были рассеяться.
На Мортье смотрели как на человека, обреченного на гибель. Прочие полководцы, его старые товарищи по славе, расстались с ним со слезами на глазах, а император сказал, что рассчитывает на его счастье, но что, впрочем, на войне нужно быть готовым ко всему! Мортье повиновался без колебания. Ему был отдан приказ охранять Кремль, а потом, при выступлении, взорвать его и поджечь уцелевшие здания города. Эти последние распоряжения были посланы ему Наполеоном 21 октября из Красной Пахры. Выполнив их, Мортье должен был направиться к Верее и составить арьергард армии.
В этом письме Наполеон особенно настаивал, чтобы Мортье разместил в фургонах гвардии, а также во всех повозках, которые ему удастся достать, раненых, еще находившихся в госпиталях. Римляне, добавлял он, награждали почетными венками тех, кто спасал жизнь гражданам; герцог Тревизо заслужит столько венков, сколько он спасет солдат! Император уточнил, что будет доволен, если Мортье спасет пятьсот человек. Он должен начать с офицеров, затем с унтер-офицеров и отдавать предпочтение французам; пусть он созовет всех, генералов и офицеров, находящихся под его командованием, чтобы дать им понять всю важность этих мер, а также сказать им, что император никогда не забудет их заслуг, если они спасут пятьсот человек!
Между тем, по мере того как Великая армия выходила из Москвы, а Мортье удалился в Кремль, казаки проникали в ее предместья. Они состояли разведчиками у десяти тысяч русских, которыми командовал Винцингероде.
Этот иностранец, воспламененный ненавистью к Наполеону, обуреваемый желанием вернуть Москву и таким выдающимся геройским подвигом снискать себе в России новую родину, отделился от своего отряда; он бегом прошел грузинское поселение, устремился к Китай-городу и Кремлю, угодил на аванпосты, на которые он не обратил внимания, и попал в засаду; видя, что его самого захватили в городе, который он пришел отнимать, он внезапно переменил роль, замахал платком и объявил себя парламентером.
Его привели к Мортье. Здесь он стал дерзко восставать против совершенного над ним насилия. Маршал отвечал ему, что генерал-аншефа, являющегося таким образом, можно принять за слишком отважного человека, но никак не за парламентера, и что ему придется немедленно отдать свою шпагу. Тогда, не видя выхода, русский генерал покорился и признал свою неосторожность.
Наконец после четырех дней сопротивления французы навсегда покинули этот фатальный город. Они увезли с собой четыреста раненых; но, удаляясь, заложили в тайник искусно изготовленное вещество, которое уже пожирало медленное пламя, и был известен час, когда его огонь достигнет огромных куч пороха, скрытых в фундаменте этих обреченных на гибель дворцов. Мортье спешил убежать; а в то самое время, как он поспешно удалялся, жадные казаки и грязные мужики, привлеченные жаждой добычи, стали стекаться со всех сторон; ободрившись видимой тишиной, царившей в Кремле, они отважились туда проникнуть; их руки, искавшие добычи, уже протягивались к ней, как вдруг все они были уничтожены и подброшены на воздух вместе со стенами Кремля, который они шли грабить; затем, перемешавшись с обломками, оторванные части их тел падали на землю, подобно ужасному дождю.
Земля вздрогнула под ногами Мортье. На десять лье дальше, в Фоминском, император слышал этот взрыв и на следующий день в Боровске выпустил прокламацию. Она была составлена в раздражительном тоне, которым он иногда обращался к Европе: «Кремль, арсенал, склады — всё было разрушено; эта древняя цитадель, которая стоит со времен основания монархии, и первое обиталище царей, более не существует; теперь Москва — не более чем груда руин, грязная и нездоровая клоака, не имеющая политического либо военного значения. Я оставил ее русским беднякам и грабителям и иду на Кутузова, чтобы атаковать левый фланг этого генерала, отбросить его и спокойно продолжить движение к берегам Двины, где собираюсь расположиться на зимние квартиры». Затем, опасаясь, как бы не подумали, что он отступает, он добавил: «Оттуда не более восьмидесяти лье до Вильны и Петербурга, двойное преимущество, то есть на двадцать переходов ближе к его средствам и цели». Этим замечанием он надеялся придать своему отступлению вид наступательного марша.
Тогда же Наполеон объявил, что отказывается отдавать приказы о разрушении всей страны, которую покидает; ему отвратительна мысль о том, что он заставит жителей страдать еще больше. Для того чтобы наказать русских поджигателей и сотню негодяев, которые ведут войну, подобно татарам, он не станет разорять девять тысяч хозяев и не хочет обездолить двести тысяч рабов, невиновных в этом варварстве.
Император не был озлоблен неудачей, но в три дня всё изменилось. После столкновения с Кутузовым он отступал через Боровск; этот город перестал существовать раньше, чем он прошел через него.
Отныне всё, что остается позади, должно было предаваться огню. Завоевывая, Наполеон всё сохранял; отступая, он будет разрушать.
Впрочем, начало такой войны исходило не от Наполеона. Девятнадцатого октября Бертье писал Кутузову, прося его умерить враждебность русских, чтобы Московскому государству приходилось выносить только страдания, неизбежно связанные с военным положением: «Разрушение России, являясь большим бедствием для страны, глубоко печалит Наполеона». Но Кутузов отвечал, что он не в состоянии сдержать русский патриотизм; этим его отряды будто бы объявили нам чисто татарскую войну, на которую мы как бы приглашались отвечать тем же.
Такому же огню была предана и Верея, в которой Мортье присоединился к императору и куда он привел Винцингероде. При виде этого немецкого генерала вспыхнули все скрытые раны Наполеона; его уныние превратилось в гнев, и он вылил на этого врага всю горечь, душившую его.
— Кто вы такой? — закричал он, порывисто сжимая руки, словно стараясь сдержаться. — Кто вы? Человек без родины! Вы всегда были моим личным врагом! Когда я воевал с австрийцами, я видел вас в их рядах! Австрия сделалась моей союзницей, вы поступили на службу России. Вы были одним из самых явных виновников этой войны. Однако вы родились в Рейнской конфедерации, вы мой подданный. Вы не простой враг, вы мятежник. Я имею право судить вас! Жандармы, возьмите этого человека!
Жандармы не двигались, привыкнув к тому, что подобные резкие сцены оставались без последствий, и зная, что они лучше выразят свою преданность тем, что не станут спешить повиноваться.
Император продолжал:
— Видите ли вы, сударь, эти разоренные деревни, эти села в пламени? Кого следует упрекать в этих бедствиях? Человек пять — десять авантюристов, вроде вас, подстрекаемых Англией, которая выбросила их на континент. Но ответственность за эту войну падает на тех, кто вызвал ее. Через шесть месяцев я буду в Петербурге и потребую отчета во всех этих фанфаронадах!
Потом, обращаясь к адъютанту Винцингероде, тоже взятому в плен, он сказал:
— Что касается вас, граф Нарышкин, мне не за что вас упрекать. Вы — русский, вы исполняете свой долг. Но каким образом человек, принадлежащий к одной из лучших фамилий в России, мог стать адъютантом наемника-чужестранца? Будьте адъютантом русского генерала, такая служба будет много почтеннее.
До сих пор генерал Винцингероде мог отвечать на все эти резкие слова лишь своей позой; она была спокойна, как и его ответ. Он сказал:
— Император Александр был благодетелем моим и моей семьи; всё то, чем я владею, я получил от него; из чувства признательности я сделался его подданным; я занимаю тот пост, который указал мне мой благодетель; таким образом я исполняю свой долг.
У Наполеона вырвалось еще несколько уже менее резких угроз; он ограничился ими, потому ли, что излил весь свой гнев в первом порыве, или потому, что хотел напугать всех немцев, которые вздумали бы покинуть его. По крайней мере все окружающие именно этим объясняли себе его резкость. Она произвела дурное впечатление, и каждый из нас поспешил успокоить и утешить пленного генерала. Эти заботы продолжались до самой Литвы, где казаки отняли Винцингероде и его адъютанта.
Замечу еще, что император нарочно выказывал доброту к молодому русскому аристократу, разражаясь в то же время громовыми речами против генерала. Это доказывает, что он был расчетлив даже в гневе.
Глава VII
Двадцать восьмого октября мы снова увидели Можайск. Этот город был переполнен ранеными; некоторых из них мы захватили с собой, других собрали в одно место и, как в Москве, оставили на великодушие русских. Едва Наполеон отошел от города на несколько верст, началась зима… Итак, после ужасной битвы и десяти дней похода и маневров армия, захватившая из Москвы всего лишь по пятнадцать порций муки на человека, продвинулась в своем отступлении только на расстояние трехдневного перехода. У нее не было провианта; кроме того, ее настигла зима!
Уже погибло несколько человек. С первого же дня отступления, 26 октября, жгли провиантные фургоны, которые лошади больше не могли тащить. Тут пришло приказание сжигать за собой всё; мы повиновались и начали взрывать дома, закладывая в них порох, везти который стало не под силу нашим лошадям. Наконец, так как неприятель всё еще не появлялся, нам стало казаться, что мы снова начинаем наш изнурительный поход; а Наполеон, увидев опять знакомую дорогу, успокоился.
Однажды под вечер Даву прислал ему русского пленного. Сначала император расспрашивал его небрежно; но оказалось, что этот москвич имел некоторое понятие о дорогах, названиях и расстояниях: он сказал, что вся русская армия направляется через Медынь на Вязьму. Тут император стал внимательнее. Неужели Кутузов, как при Малоярославце, хочет обогнать его, отрезать ему отступление к Смоленску и к Калуге, окружить его в этой пустыне, без съестных припасов, без убежища и посреди всеобщего восстания? Впрочем, первым его движением было не обращать внимания на это известие: по гордости или по опыту, но он привык не подозревать в своих противниках той ловкости, которую обнаружил бы сам на их месте.
Здесь, впрочем, была иная причина. Его спокойствие было лишь кажущимся, так как было вполне очевидно, что русская армия направилась по Медынской дороге — той самой, которую Даву советовал избрать для французской армии; и Даву, из самолюбия или по оплошности, доверил это тревожное известие не одной своей депеше. Наполеон боялся действия, которое произведет это известие на армию, поэтому он сделал вид, что не верит ему, но в то же время приказал, чтобы на следующий день гвардия двинулась немедленно и шла, пока не стемнеет, к Гжатску. Он хотел дать этой избранной части войска отдых и пропитание, убедиться вблизи в движении Кутузова и опередить его.
Но погода не посоветовалась с ним, она, казалось, мстила. Зима была так близко от нас! Достаточно было одного порыва ветра, чтобы она появилась, — жестокая, враждебная, властная! Тотчас же мы поняли, что в этой стране она местная жительница, а мы — пришельцы. Всё изменилось: дороги, лица, настроение; армия сделалась мрачной, движение затруднительным; всеми овладело уныние.
В нескольких лье от Можайска нужно было переправиться через Колочу. Это был только широкий ручей; двух деревьев, стольких же подмостков да нескольких досок было достаточно для переправы, но беспорядок и небрежность были так велики, что императору пришлось здесь остановиться. Тут же утонуло несколько пушек, которые хотели перевезти вброд. Казалось, что каждый корпус действовал на свой страх, что не существовало ни главного штаба, ни общих распоряжений, одним словом, ничего такого, что соединяло бы воедино все эти части войска. И на самом деле, каждый из начальников был каким-нибудь высокопоставленным лицом и нисколько не зависел от другого. Сам император до того возвысил себя, что от прочей армии его отделяло неизмеримое расстояние, а Бертье, занимавший должность посредника между ним и командирами — королями, принцами или маршалами, — должен был действовать очень осторожно. Впрочем, он не годился для подобной роли.
Император, остановленный таким незначительным препятствием, как рухнувший мост, выразил свое недовольство презрительным жестом, на что Бертье мог ответить только своим беспомощным видом. Император не говорил ему о таких мелочах, следовательно, он не чувствовал себя виноватым, потому что Бертье был верным эхом, зеркалом — и только. Вечно на ногах, ночью и днем, он повторял Наполеона, но ничего не прибавлял от себя, и то, что упускал Наполеон, бывало безвозвратно упущено.
За Колочей все угрюмо продвигались вперед, как вдруг многие из нас, подняв глаза, вскрикнули от удивления! Все сразу стали осматриваться: перед нами была утоптанная, разоренная почва; все деревья были срублены на метр от земли; далее — холмы со сбитыми верхушками; самый высокий казался самым изуродованным, словно это был какой-то погасший вулкан. Землю вокруг покрывали обломки касок, кирас, сломанные барабаны, ружья, обрывки мундиров и знамен, обагренные кровью.
На этой покинутой местности валялось тридцать тысяч наполовину обглоданных трупов. Надо всем возвышалось несколько скелетов, застрявших на одном из развороченных холмов. Казалось, что смерть раскинула здесь свое царство: это был ужасный редут, победа и могила Коленкура. Послышался долгий и печальный рокот: «Это — поле великой битвы!..» Император быстро проехал мимо. Никто не остановился: холод, голод и неприятель гнали нас; только на ходу повертывали головы, чтобы бросить печальный и последний взгляд на эту огромную могилу стольких товарищей по оружию, которые были бесплодно принесены в жертву и которых приходилось покинуть.
Здесь мы начертали железом и кровью одну из великих страниц нашей истории. Об этом говорили еще некоторые останки, но скоро и они исчезнут. Когда-нибудь путник равнодушно пройдет мимо этого поля, ничем не отличающегося от всякого другого; но когда он узнает, что это поле великой битвы, он вернется назад, долго с любопытством будет рассматривать это место, постарается запомнить всё до мельчайших подробностей и, без сомнения, воскликнет: «Что за люди! Что за командир! Какая судьба! Это те самые люди, которые за тринадцать лет перед тем на юге, в Египте, попробовали победить Восток и разбились о его ворота! Позднее они победили всю Европу! И теперь они возвращаются с севера, чтобы снова сразиться с Азией и найти свою погибель! Что же толкало их на такую бродячую жизнь? Они ведь не были варварами, искавшими лучший климат, удобные жилища, большие сокровища; напротив, они обладали всеми этими благами, они наслаждались всякими утехами, и они покинули всё, чтобы скитаться без убежища, без пищи, чтобы либо погибнуть, либо превратиться в калек! Что принудило их к этому? Что, как не вера в их командира, непобедимого до сих пор! Желание довести до конца столь славно начатый труд. Опьянение победой и главным образом той ненасытной страстью к славе, тем могучим инстинктом, который в поисках бессмертия толкает людей в объятия смерти».
Глава VIII
Армия сосредоточенно и безмолвно проходила мимо этого зловещего поля, как вдруг, как рассказывают, здесь была замечена еще живой одна из жертв того кровавого дня, оглашавшая стонами воздух. Подбежали: это был французский солдат. В битве ему раздробило обе ноги; он упал среди убитых; его забыли. Сначала он укрывался в трупе лошади, внутренности которой были вырваны гранатой; затем в течение пятидесяти дней мутная вода оврага, куда он скатился, и гнилое мясо убитых товарищей служили ему лекарством для его ран и поддержкой для жизни. Мы спасли этого несчастного.
Дальше был виден большой Колоцкий монастырь, превращенный в госпиталь, — еще более ужасное зрелище, чем поле битвы. На Бородинском поле была смерть, но и покой: там по крайней мере борьба была окончена. В Колоцком монастыре она еще продолжалась: там смерть, казалось, всё еще преследовала тех, кому удалось избежать ее на войне.
Тем не менее, несмотря на голод, холод, полное отсутствие одежды, усердие нескольких хирургов и последний луч надежды поддерживали еще большую часть раненых в этой нездоровой жизни. Но когда они увидели, что армия возвращается и они снова будут покинуты, что для них нет больше никакой надежды, они выползли на порог и, встав вдоль дороги, протягивали к нам с мольбой руки!
Император отдал приказ, чтобы всякая повозка, каково бы ни было ее назначение, подобрала одного из этих несчастных, а наиболее слабые были оставлены, как в Москве, на попечение тех русских пленных и раненых офицеров, которые выздоровели благодаря нашим заботам. Наполеон остановился, чтобы дать время выполнить это приказание, и он даже воспрянул духом.
Во время этой остановки мы стали свидетелями одного жестокого поступка. Несколько раненых разместили на повозках маркитантов. Эти негодяи, повозки которых были нагружены добром, награбленным в Москве, с ропотом недовольства приняли новую поклажу; пришлось заставить их взять; они замолчали. Но едва мы тронулись в путь, как они стали отставать и пропустили всю колонну мимо себя; тогда, воспользовавшись временным одиночеством, они побросали в овраги всех несчастных, которых им доверили. Лишь один из этих раненых остался в живых, и его подобрала ехавшая следом карета; от него и узнали об этом бесчестном поступке. Вся колонна содрогнулась от ужаса, который охватил и императора, потому что в то время страдания его не были еще настолько сильны, чтобы заглушить жалость и сосредоточить всё внимание только на самом себе.
Вечером этого бесконечного дня императорская колонна приблизилась к Гжатску; все были изумлены, встретив на своем пути только что убитых русских, причем у каждого из них была совершенно одинаково разбита голова и окровавленный мозг разбрызган тут же. Было известно, что перед нами шли две тысячи русских пленных и что их сопровождали испанцы, португальцы и поляки. Все, смотря по характеру, выражали кто негодование, кто одобрение, кто полнейшее равнодушие. Вокруг императора никто не обнаруживал своих чувств.
Коленкур вышел из себя и воскликнул:
— Что за бесчеловечная жестокость! Так вот та цивилизация, которую мы несли в Россию! Какое впечатление произведет на неприятеля это варварство? Разве мы не оставляем ему своих раненых и множество пленников? Разве некому будет жестоко мстить?
Наполеон хранил мрачное молчание; но на следующий день эти убийства прекратились. Ограничивались тем, что обрекали этих несчастных умирать с голоду за оградами, куда их загоняли на ночь, словно скот.
Без сомнения, это было варварство, но что же было делать? Произвести обмен пленными? Неприятель не соглашался на это. Выпустить их на свободу? Они стали бы рассказывать о нашем бедственном положении и, присоединившись к своим, яростно бросились бы за нами. В этой беспощадной войне даровать им жизнь было равносильно тому, чтобы принести в жертву самих себя. Приходилось быть жестокими по необходимости. Всё зло было в том, что мы попали в такое ужасное положение!
Впрочем, с нашими пленными солдатами, которых увели внутрь страны русские, обходились нисколько не человечнее; а здесь уже нельзя было сослаться на крайнюю необходимость!
К ночи добрались до Гжатска. Этот первый зимний день был заполнен ужасными впечатлениями: вид поля Бородинского сражения, вид двух покинутых госпиталей, множество пороховых ящиков, преданных огню, расстрелянные русские, бесконечно длинный путь и первые зимние холода — всё это действовало тяжело. Отступление превратилось в бегство. Невиданное зрелище: Наполеон должен был уступить и бежать!
Многие из наших союзников радовались этому, испытывая то скрытое чувство удовлетворения, которое возникает у подчиненных при виде того, как их начальники теряют, наконец, свою власть и, в свою очередь, принуждены подчиняться. Прежде они чувствовали мрачную зависть, вызываемую обыкновенно в людях чьим-нибудь выдающимся успехом, которым редко кто не злоупотребляет и который оскорбляет равенство — эту первую потребность людей. Но эта злая радость скоро погасла и исчезла во всеобщем горе!
В своей оскорбленной гордости Наполеон угадывал подобные мысли. Мы заметили это на стоянке в тот же день: здесь, посреди замерзшего поля, изборожденного следами колес и усеянного русскими и французскими повозками, он хотел с помощью своего красноречия избавиться от тяжкой ответственности за все эти несчастья. Он заявил, что виновником этой войны, которой он сам всегда опасался, он считает NN и выставляет его имя на позор перед всем миром — русского министра, продавшегося англичанам.
— Это он вызвал эту войну! Изменник втянул в нее и меня, и Александра!
Эти слова, произнесенные перед двумя генералами, были выслушаны с тем молчанием, которое вызывалось прежним почтением, к чему присоединилось еще уважение к несчастью. Но Коленкур, может быть, слишком нетерпеливый, вышел из себя: с гневным жестом недоверия он быстро отошел и тем самым прервал тягостную сцену.
Глава IX
От Гжатска в два перехода император достиг Вязьмы. Здесь он остановился, чтобы подождать принца Евгения и Даву и наблюдать за дорогой на Медынь и Юхнов, которая в этом месте соединяется с большой Смоленской; на этой-то поперечной дороге, идущей от Малоярославца, должна была преградить ему путь русская армия. Но 1 ноября, прождав тридцать шесть часов, Наполеон не заметил никаких признаков приближения войск. Он отправился дальше, колеблясь между надеждой, что Кутузов его не найдет, и страхом, как бы русский полководец, оставив Вязьму справа, не отрезал ему отступление двумя переходами дальше, около Дорогобужа. На всякий случай император оставил в Вязьме Нея, чтобы тот дождался 4-го корпуса и заменил в арьергарде Даву, которого он считал уставшим.
Он жаловался на медлительность последнего: ставил ему в упрек, что тот отстал от него на пять переходов, тогда как должен был отстать только на три. Он считал этого маршала слишком большим теоретиком, чтобы умело руководить таким нерегулярным походом.
Эти жалобы повторялись во всей армии, и особенно в корпусах принца Евгения. Солдаты говорили, что из-за своей привычки к порядку и своего упрямства Даву позволил врагу догнать его у Колоцкого монастыря; он оказал честь казакам-оборванцам тем, что шаг за шагом отступал перед ними в батальонных каре, будто перед мамелюками; маневры и регулярные фуражировки — потеря времени, всегда имеющего ценность в ходе отступления и в особенности во время голода; лучший маневр — пройти через это со всей возможной стремительностью.
Даву продолжал бороться со всякого рода беспорядками; он пытался замести следы отступления, боясь оставить врагу свидетельства нашего ужасного состояния. Он говорил, что люди не знают обо всем, что ему приходится преодолевать: он идет по совершенно разоренной территории, где дома разрушены, а деревья сожжены до самых корней; он идет последним, и разрушительная работа должна быть доверена ему, однако всё сожгли до него, будто арьергард совсем забыли! Они забыли и замерзшие дороги, покрытые следами тех, кто прошел перед ним, броды и разрушенные мосты, которые никто не думает ремонтировать, поскольку каждый корпус, когда не воюет, заботится только о себе. Знают ли они, что весь огромный шлейф отставших от разных корпусов, конных, пеших, на повозках, усугубляет трудности, подобно тому как в больном теле все недуги проявляются в части наиболее пораженной? Каждый день он идет среди этих несчастных и казаков, гоня вперед первых и подвергаясь давлению вторых.
Со всех сторон дорогу обступали болота. Повозки по мерзлой земле скатывались в них и застревали; чтобы извлечь их оттуда, приходилось взбираться по обледенелому склону, на котором не могли удержаться лошади с плоскими подковами; лошади и возницы падали друг на друга. Изголодавшиеся солдаты бросались на павших лошадей и рвали их на куски; затем жарили на кострах из обломков повозок это трупное мясо и пожирали его.
Тем временем артиллеристы во главе с офицерами, окончившими лучшие школы мира, расталкивали этих несчастных, выпрягали лошадей из своих собственных фургонов и повозок, которые они тут же бросали, и спешили спасти орудия. Они впрягали в них своих лошадей; даже впрягались сами. Казаки, наблюдавшие издали этот беспорядок, не осмеливались приблизиться, но из своих легких орудий, поставленных на сани, они пускали ядра в эту сумятицу и тем самым еще больше увеличивали ее.
Первый корпус уже потерял десять тысяч человек. Ценою больших усилий и жертв вице-королю и Даву удалось 2 ноября быть уже в двух лье от Вязьмы. В эту обманчиво спокойную ночь русский авангард прибыл из Малоярославца, где наше отступление прекратило отступление неприятеля; русский авангард миновал два французских корпуса и корпус Понятовского, прошел мимо бивуаков и расположил свои наступательные колонны с правой стороны от дороги, в промежутке в два лье, которые пролегали между Даву, Евгением и Вязьмой.
Этим авангардом командовал Милорадович, которого называли русским Мюратом. По словам его соотечественников, он был неутомимый, предприимчивый, неустрашимый, как и наш король-воин, обладавший такой же замечательной наружностью и тоже избалованный судьбой. Никогда он не был ранен, хотя около него было убито множество офицеров и солдат и даже несколько лошадей пало под ним. Он презирал военные принципы, считая, что легче захватить врасплох неприятеля неожиданными нападениями; он презирал все приготовления, сообразовывался лишь с местом и обстоятельствами и следовал только вдохновению момента. Одним словом, он был генералом только на поле битвы, не имел никаких административных способностей, слыл известным мотом и, что очень редко при этом встречается, щедрым и честным человеком.
Вот с этим генералом, а также с Платовым и двадцатью тысячами войска нам и пришлось сразиться.
Глава X
Третьего ноября принц Евгений продвигался к Вязьме, когда при первых проблесках дня увидел, что слева его отступлению угрожает целая армия, позади его арьергард отрезан, справа же равнина заполнена отставшими солдатами, спасавшимися от неприятеля, и разбросанными повозками. В то же самое время он узнал, что около Вязьмы маршал Ней, который должен был прийти к нему на помощь, сам вступил в бой и защищается.
Но принц был опытным генералом. Он посмотрел в глаза опасности и сразу нашел выход. Увидел опасность, но и увидел средство избавиться от нее. Он остановился, развернул свои дивизионы по правую сторону большой дороги и удержал на равнине русские колонны, которые пытались отрезать ему эту дорогу. Уже первые русские отряды, врезавшись в правый фланг итальянцев, захватили позицию и удержались бы на ней, если бы Ней не подослал из Вязьмы один из своих полков, который напал на русские войска сзади и заставил их уступить позицию.
В это же самое время Компан, генерал из отряда Даву, присоединил свою дивизию к итальянскому арьергарду; и пока они, соединившись с Евгением, продолжали сражаться, Даву со своей колонной быстро обошел их сзади с левой стороны дороги и очутился между Вязьмой и русскими. Вице-король уступил Даву позицию, которую он защищал, и встал по другую сторону дороги. Тогда неприятель начал развертывать свои ряды и стараться укрепить фланги.
Этим успехом оба французских и итальянский корпуса еще не завоевали себе права продолжать отступление, но завоевали возможность защищаться. Они насчитывали до тридцати тысяч человек, но в 1-м корпусе, у Даву, царил беспорядок: скверный пример пеших кавалеристов, не имевших оружия и бегавших в ужасе из стороны в сторону, дезорганизовал его.
Такое зрелище придало неприятелю храбрости: он подумал, что мы отступаем. Его артиллерия, превосходившая нашу числом, мчалась галопом, тогда как наша, вызванная из Вязьмы, с трудом продвигалась вперед. Тем не менее у Даву и его генералов оставались еще самые стойкие солдаты. Бросившись на неприятельские батареи, они даже отняли у них три пушки.
Милорадович, чувствуя, что добыча ускользает, попросил подмоги; тут снова появился Вильсон, находившийся всюду, где он мог больше всего навредить Франции, и отправился за Кутузовым. Он застал старого полководца отдыхающим со своей армией под шум битвы. Пылкий Вильсон тщетно пытался нарушить спокойствие Кутузова. Охваченный негодованием, он назвал его изменником; заявил ему, что немедленно отправит в Петербург одного из своих людей, чтобы сообщить императору и союзникам об его измене.
Эта угроза нисколько не испугала Кутузова: он по-прежнему ничего не предпринимал; или к тяготам возраста присоединились здесь тяготы зимы, и в его искалеченном теле энергия была раздавлена тяжестью взятого на себя бремени, или под влиянием старости люди становятся благоразумнее, когда уже незачем рисковать. Казалось, он еще думал, как и в Малоярославце, что одна русская зима может добить Наполеона; что этот гений, побеждавший людей, еще не был побежден природой и нужно предоставить русскому климату честь этой победы, а русскому небу — месть за себя.
Милорадович, предоставленный самому себе, старался разбить французский корпус; Евгений и Даву ослабевали; и так как они слышали, что направо, сзади них, происходит другое сражение, они решили, что это вся остальная русская армия подходит к Вязьме по Юхновской дороге, проход на которую защищал Ней.
Это был лишь авангард; но шум сражения позади них, угрожая отступлению, привел их в беспокойство. Битва продолжалась уже семь часов; боевые фургоны были отведены в сторону, ночь приближалась, и французские генералы стали отступать.
Это отступательное движение усилило пыл неприятеля, и, если бы не незабвенные усилия 25-го, 57-го и 58-го полков и не естественное прикрытие оврага, корпус Даву был бы истреблен. Принц Евгений, на которого нападали слабее, смог быстрее отступить через Вязьму; но русские последовали туда за ним: они проникли в этот город, когда Даву, подгоняемый двадцатью тысячами человек и огнем восьмидесяти пушек, хотел, в свою очередь, проникнуть в него.
Дивизия Морана первой вступила в город; она двигалась бесстрашно, считая битву оконченной, как вдруг русские, которые скрывались за поворотами улиц, неожиданно напали на нее. Нападение было внезапное, беспорядок страшный; тем не менее Морану удалось собрать своих солдат, возобновить бой и пробить себе дорогу.
В конце всех, замыкая отступление, шел Компан. Оттесненный храбрыми отрядами Милорадовича, он повернулся, сам набросился на наиболее яростных противников, смял их и, напугав, обеспечил себе отступление.
Эта битва покрыла славой каждого, а ее последствия были для всех ужасны: не стало ни порядка, ни единодушия. Достаточно было солдат для победы, но было слишком много начальников. Только к двум часам собрались они для обсуждения дальнейших действий, но между ними еще не было согласия.
Когда, наконец, река, город Вязьма, ночь, страшная усталость и маршал Ней отделили нас от неприятеля, когда опасность была отсрочена и нам удалось расположиться бивуаком, мы стали подсчитывать потери. Несколько орудий было разбито, не хватало многих повозок, четыре тысячи человек было убито и ранено. Много солдат разбежалось. Честь была спасена, но в рядах были большие опустошения. Надо было всё переформировать, чтобы сплотить остатки армии. Из каждого полка едва выходил один батальон, из батальона — взвод. У солдат не было ни их обычного места, ни товарищей, ни прежних начальников.
Эта печальная реорганизация происходила при свете пылающей Вязьмы и под несмолкаемый грохот орудий Нея и Милорадовича, пальба которых долетала сквозь мрак ночи и через лес. Несколько раз эти храбрецы думали, что их атакуют, и хватались за оружие. На другой день, построившись в ряды, они удивились своей малочисленности.
Глава XI
Дух армии до сих пор поддерживался примерами ее командующих, ожиданием изобилия в Смоленске и ярким солнцем, этим всеобщим источником надежды и жизни.
Шестого ноября небо опять затуманилось. Его лазурь исчезла. Армия шла, окутанная холодным туманом. Он сгущался всё более и более; вскоре он превратился в громадное облако, которое начало осыпать армию большими хлопьями снега. Казалось, небо опустилось и слилось с землей и этим враждебным народом, чтобы завершить нашу гибель!
Всё смешалось и стало неузнаваемо: предметы изменили свою внешность, армия двигалась, не зная, где она находится, не видя цели. Пока солдаты с трудом пролагали себе путь при бушующем снежном вихре, ветер наметал сугробы. Эти сугробы скрывали от нас овраги и рытвины на незнакомой дороге; солдаты проваливались в них, а более слабые находили там себе могилу. Те, кто шел следом, обходили их, но снежный вихрь и сверху и снизу хлестал их — казалось, он яростно восставал против похода.
Русская зима, в новом своем виде, нападала на нас со всех сторон: она пробивалась сквозь легкие одежды и разорванную обувь. Промокшее платье замерзало, и эта ледяная оболочка сковывала и скрючивала тело; резкий и свирепый ветер не давал дышать; бороды и усы обрастали ледяными сосульками.
Несчастные, дрожа от холода, еще тащились до тех пор, пока снег, прилипший к ногам, какой-нибудь обломок, ветка или труп одного из товарищей не заставляли их поскользнуться и упасть. Тогда они принимались стонать. Напрасно: их тотчас же заносило снегом; небольшие холмики давали знать: здесь их могила! Вся дорога была покрыта ими. Самые мужественные, самые хладнокровные начинали волноваться; они проходили как можно скорее мимо, отвернувшись. Но и перед ними и вокруг — всюду был снег; их взоры терялись в безбрежном и печальном однообразии; воображение разыгрывалось: природа, словно саваном, окутывала армию! Единственными предметами, выделявшимися из мглы, были унылые ели, эти могильные деревья с мрачной зеленью; величавая неподвижность их темных стволов, их печальный вид дополняли зрелище общего траура, дикой природы и армии, умирающей посреди нее!
Теперь всё, вплоть до нашего оружия, еще наступательного в Малоярославце, а теперь только оборонительного, обратилось против нас. В окоченелых руках солдат оно казалось неподъемной ношей. При частых падениях оно выскальзывало из рук и терялось в снегу. Если солдаты поднимались, то оказывались без оружия, потому что не они его бросали, а голод и холод вырывали его у них. У многих пальцы примерзали к ружьям, которые они еще держали, и они не могли поэтому размять руки, чтобы сохранить остатки жизни.
Вскоре стали встречаться толпами и в одиночку солдаты различных корпусов. Они не были изменниками: холод и истощение заставили их отстать от своих колонн в этой борьбе, которая была одновременно и общей и личной; безоружные, побежденные, беззащитные, без командиров, они повиновались теперь лишь инстинкту самосохранения.
Большинство из них, пробираясь тропинками, рассыпалось по полям в надежде найти себе хлеб и убежище на ночь; но еще при нашем движении на Москву всё было опустошено на семь-восемь лье по обе стороны дороги; теперь они встречали только казаков да вооруженное население, которое окружало их, наносило им удары, раздевало и с дьявольским смехом оставляло умирать голыми на снегу.
Эти люди, поднятые Александром и Кутузовым, не умевшие тогда, как и впоследствии, благородно отомстить за свою родину, которую они не сумели защитить, сопровождали армию, следуя под прикрытием лесов по обе стороны ее флангов. Всех, кого не приканчивали, они гнали на большую дорогу, где их ожидали голод и гибель.
Наступила ночь, шестнадцатичасовая ночь! На этом снегу, всё покрывавшем, неизвестно было, где остановиться, где сесть, где отдохнуть, где найти какой-нибудь корешок для пропитания и хворосту, чтобы развести костер! Мы постарались кое-как устроиться, но всё еще бушевавший вихрь разбрасывал жалкие бивуаки. Ели, покрытые инеем, не хотели гореть, снежная метель гасила костры, наше мужество, наши силы.
Когда, наконец, пламя разгоралось, офицеры и солдаты принимались готовить жалкий обед из куска тощего мяса павших лошадей и, в лучшем случае, из нескольких ложек ржаной муки, разведенной в растаявшем снегу. На другой день полукруглые ряды окоченевших трупов солдат окружали бивуаки; окрестности были усеяны трупами тысяч лошадей!
С этого дня мы стали меньше рассчитывать друг на друга. В этой армии — живой, восприимчивой ко всяким впечатлениям и мыслившей благодаря развитой цивилизации — очень скоро воцарился беспорядок; отчаяние и отсутствие дисциплины быстро передавались от одного к другому, ибо воображение не знает границ при несчастий, как и при удаче. С тех пор на каждом бивуаке, при всех трудных переходах, во всякую минуту от организованного войска отделялась еще некоторая часть, которая отказывалась сохранять порядок. Однако были еще люди, которые боролись с этим падением дисциплины и отчаянием, — офицеры, унтер-офицеры и наиболее стойкие солдаты. Люди необыкновенные, они подбадривали себя напоминанием о Смоленске, который им казался уже близко и где им была обещана помощь.
После этого снежного вихря, предвещавшего усиление холодов, каждый, будь он офицер или солдат, в зависимости от характера, возраста и темперамента сохранял или терял самообладание. Те из наших военачальников, которые до сих пор были требовательнее других в отношении дисциплины, не могли приспособиться к обстоятельствам. Сбитые с толку в своих понятиях о регулярности, порядке и точности, они больше других были охвачены отчаянием при виде такого общего хаоса и, считая всё потерянным, уже чувствовали себя готовыми погибнуть.
От Гжатска до Михайловской, деревни между Дорогобужем и Смоленском, в императорской колонне не случилось ничего замечательного, если не считать того, что пришлось бросить в Смелевское озеро вывезенную из Москвы добычу: здесь были потоплены пушки, старинное оружие, украшения Кремля и крест с колокольни Ивана Великого.
Трофеи, слава и те блага, ради которых мы пожертвовали всем, стали нам в тягость; теперь речь шла не о том, каким образом украсить свою жизнь, а о том, как спасти ее. При этом великом крушении армия, подобно большому судну, разбитому страшной бурей, не колеблясь, выбрасывала в это море льда и снега всё, что могло затруднить и задержать ее движение!
Глава XII
Третьего и четвертого ноября Наполеон пробыл в Славкове. Этот отдых и боязнь показаться убегающим подогрели его воображение. Он отдавал распоряжения о том, чтобы арьергард, сделав вид, будто отступает в беспорядке, завлек русских в засаду, где он сам должен был ждать их; но этот несбыточный план рассеялся так же быстро, как и другие его самолюбивые затеи. Пятого он ночевал в Дорогобуже. На другой день, 6 ноября, когда на высотах Михайловского нас осыпал снег, примчался граф Дарю, и вокруг него и императора расположились часовые.
Эстафета, первая, которая могла дойти до нас за эти десять дней, сообщала о странном и быстро подавленном заговоре генерала Мале, устроенном в самом Париже. Этот ничем не прославившийся генерал не имел иных сообщников, кроме лживых сообщений о нашей гибели, фальшивых приказов войскам арестовать министра, префекта полиции и коменданта Парижа. Его план полностью удался, поскольку все были захвачены врасплох, но как только слух о деле распространился, то достаточно было приказа, чтобы поместить его в тюрьму вместе с соучастниками преступления и жертвами обмана.
Император одновременно узнал о преступлении и о наказании. Кто хотел бы в тот момент прочесть на его лице, что он думает, тот не увидел бы ничего: он сдержал себя, а первыми и единственными словами его, обращенными к Дарю, были: «Ну, а если бы мы остались в Москве?»
Затем он поспешил уйти в огороженный палисадником дом, который служил нам штабом.
Как только он очутился наедине с самыми преданными ему офицерами, все его чувства сразу вылились в восклицаниях, выражавших изумление, обиду и гнев! Несколько минут спустя он велел позвать других офицеров, чтобы посмотреть, какое впечатление произведет на них такое странное известие из Парижа. Он увидел беспокойную грусть, растерянность и уверенность, что прочность его власти поколебалась. Он мог видеть, как офицеры подходили друг к другу с печальными вздохами, говоря, что, значит, Великая революция 1789 года, которую все считали закончившейся, еще не закончилась. Неужели им, состарившимся в борьбе с ней, снова придется окунуться в нее и снова попасть в ужасный водоворот политических страстей? Итак, война подстерегала нас всюду, и мы могли сразу всё потерять.
Некоторые обрадовались этому известию, надеясь, что оно ускорит возвращение императора во Францию, что оно заставит его остаться там и он не предпримет ничего вне Франции, будучи неуверен в ней самой. На другой день насущные страдания заставили забыть о предположениях. Что касается Наполеона, то все его мысли мчались впереди него в Париж, и он машинально двигался к Смоленску, когда прибытие адъютанта Нея вернуло его к действительности.
В Вязьме Ней стал прикрывать наше отступление, пагубное для многих и бессмертное для него. До Дорогобужа отступление тревожили только шайки казаков, этих надоедливых насекомых, которых привлекали наши умирающие солдаты и брошенные повозки; они разбегались, как только на них обращали внимание, но всё же утомляли своими непрерывными нападениями.
Ней старался не обращать на них внимания. Он даже мирился с тем, что бросали повозки, но он покраснел от стыда при виде первых пушек, брошенных под Дорогобужем.
Маршал остановился. Здесь, после ужасной ночи, когда снег, ветер и голод отогнали от костров большинство солдат, заря, которую так нетерпеливо ждут на бивуаках, принесла бурю, неприятеля и зрелище почти общего бегства. Тщетно пытался он сам сражаться во главе оставшихся у него солдат и офицеров; он вынужден был отступить за Днепр; об этом он и уведомил императора.
Он хотел, чтобы тот всё знал. Его адъютант, полковник д’Альбиньяк, должен был сказать императору, что с самого Малоярославца отступление возмутило армию, а схватка при Вязьме поколебала ее мужество и что, наконец, обильный снег и усиление холодов докончили дезорганизацию!
Множество офицеров, лишившись всего — взводов, батальонов, полков, даже дивизий, — присоединились к бродячим толпам, среди них видны были генералы, полковники, офицеры всех рангов, перемешавшиеся с солдатами, шедшие наугад, то с одной колонной, то с другой; порядок не мог существовать при беспорядке: этот пример увлекал даже старые полки, прошедшие сквозь войну с революцией!
Солдаты спрашивали: почему одни должны сражаться, чтобы обеспечить бегство другим, и как можно их воодушевить, когда до них доносятся крики отчаяния из соседних лесов, где брошено множество раненых, которых неизвестно зачем взяли из Москвы. Вот, значит, какая участь ожидает их! Днем непрерывные отступления и сражения, а по ночам голод; никакого убежища, а остановки еще смертельнее самих сражений: голод и холод отгоняют сон, а если усталость и заставит забыться на минуту, то этот временный отдых превращается в вечный покой. Орел не защищает их больше, он убивает!
Зачем же тогда томиться около него, зачем умирать батальонами, массами? Лучше разойтись по сторонам, и так как остается только бежать, то лучше потягаться в скорости бега; тогда погибнут не самые лучшие из них!..
Словом, адъютант должен был открыть императору весь ужас положения; Ней слагал с себя всякую ответственность.
Но Наполеон прекрасно видел всё вокруг себя и мог здраво судить об остальном. Он осознанно жертвовал своей армией по частям, начиная с флангов, чтобы сохранить ее костяк. Только адъютант начал свое донесение, как император грубо прервал его словами: «Полковник, я не спрашиваю у вас этих подробностей!»
Тот умолк, понимая, что при таком крахе, теперь уж непоправимом, когда каждому надо беречь свои силы, император боится всяких жалоб, которые могут только отнять мужество и у того, кто жалуется, и у того, кто эти жалобы слушает.
Он заметил, какой был вид у Наполеона во всё время отступления: он был серьезен, молчалив и покорен; он страдал физически меньше других, но зато его душевные муки были несравнимы ни с чем, и он, казалось, покорился своему несчастью.
В это время Шарпантье послал из Смоленска обоз с провизией. Бессьер хотел им воспользоваться; но император приказал передать этот провиант князю Москворецкому, прибавив: «Тот, кто сражается, пусть подкрепится первым!» В то же время он советовал Нею держаться как можно дольше, чтобы дать остальным возможность пробыть некоторое время в Смоленске, где его армия вдоволь поест, отдохнет и реорганизуется.
Ней видел, что потребовалась жертва и что выбор пал на него; он покорился, идя навстречу опасности, столь же великой, как и его храбрость! Теперь он уже не считал вопросом чести сохранение обоза и даже пушек, которые отнимала у него зима. Первый изгиб Днепра остановил его; он, не колеблясь, бросил орудия, повернулся и перешел враждебную реку, которая, пересекая путь, служила ему защитой от неприятеля.
Между тем русские приближались и обстреливали отряд Нея. Большая часть его солдат, которым обледенелое оружие жгло руки, потеряла мужество: они перестали сражаться, выказав ту же слабость, которую обнаружили накануне, и так как уже раз бежали, то опять пустились в бегство, которое раньше считали невозможным. Тогда Ней бросился в середину солдат, вырвал шпагу у одного из них и повел их в огонь, который он открыл сам, подвергая себя опасности и сражаясь, как простой солдат, с оружием в руке, как делал тогда, когда еще не был ни супругом, ни отцом, ни богатым, ни могучим и всеми уважаемым; он действовал так, словно ему надо было еще всё завоевать! Но в то же время, снова став солдатом, он оставался генералом и руководил боем. Его генералы и полковники самоотверженно помогали ему, и неприятель, который собирался преследовать их, отступил. Этим действием Ней дал армии суточный отдых; она воспользовалась им, чтобы приблизиться к Смоленску. На другой и в следующие дни то же геройство: на пути от Вязьмы до Смоленска он сражался целых десять дней!
Глава XIII
Тринадцатого ноября он подошел к Смоленску и развернулся, чтобы удержать неприятеля; как вдруг те высоты, на которых он собрался укрепить свой левый фланг, покрылись толпами беглецов. Несчастные торопились вверх и скатывались вниз по обледенелому склону, обагряя всё своею кровью. Этот беспорядок скоро объяснился: оказалось, что их преследовал целый отряд казаков. Изумленный маршал, рассеяв неприятеля, заметил позади него Итальянскую армию, идущую без обозов, без орудий, в полнейшем расстройстве.
Платов держал ее словно в осаде с самого Дорогобужа. Принц Евгений свернул с большой дороги около этого города и пошел по направлению к Витебску, по той самой дороге, по которой два месяца тому назад он пришел в Смоленск; но тогда река Вопь, которую он перешел, представляла собой только ручеек и была едва заметна; теперь они видели перед собой большую реку, текущую по глинистому руслу между высоких крутых берегов. Надо было взрыть обмерзшие берега и приказать за ночь разрушить соседние дома, чтобы из них выстроить мост. Но Евгения, которого больше уважали, чем боялись, не послушались. Понтонеры работали вяло, и когда с наступающим днем показались казаки, мост, дважды рушившийся, был брошен.
Пять или шесть тысяч солдат, сохранявших еще порядок, вдвое большее количество бродячих солдат, больных и раненых, более ста орудий, ящики с боеприпасами, множество экипажей — всё затрудняло переправу; она заняла около лье. Попробовали перейти реку по льду. Первые пушки достигли противоположного берега, но вода прибывала, а лед проваливался под тяжестью колес и лошадей: увязла одна повозка, за ней другая — и всё остановилось.
Между тем день близился к вечеру, все изнемогали от бесплодных усилий; голод, холод и казаки торопили, и вице-король был вынужден приказать бросить артиллерию и весь обоз. Тяжелое это было зрелище. Владельцы покидаемого имущества едва успевали с ним расставаться. Пока артиллеристы отбирали необходимые предметы и нагружали ими лошадей, подоспела толпа солдат; они набросились на дорогие экипажи, ломали и уничтожали всё, мстя этому богатству за свои лишения и не желая оставить что-либо казакам, наблюдавшим издали.
Большинство из них искало съестные припасы. Ради нескольких горстей муки они выбрасывали расшитые одежды, картины, всевозможные украшения, позолоченную бронзу. Эти богатства, эти предметы роскоши двух величайших городов мира — Парижа и Москвы, — разбросанные по снегам дикой и пустынной равнины, представляли странное, невиданное зрелище! В то же время большинство артиллеристов в отчаянии разбивали орудия и рассыпали порох. Другие устроили из пороха дорожку до стоявших вдали ящиков, позади наших повозок. Они подождали, когда подбегут наиболее хищные казаки, и, когда целая толпа последних предалась грабежу, подожгли порох. Огонь побежал и достиг своей цели: ящики взорвались, и те из казаков, которые не погибли, в страхе разбежались!
Несколько сот человек, еще называвшихся 14-й дивизией, были выставлены против этих орд, и им удалось удержать их в отдалении до следующего дня. Все остальные — солдаты, офицеры, женщины и дети, больные и раненые, подгоняемые неприятельскими ядрами, толпились на берегу реки. Но при виде этой подымавшейся воды, острых громадных глыб и от страха еще больше увеличить свои страдания, погрузившись в эти ледяные волны, все стояли в нерешительности.
Понадобился пример одного итальянца, полковника Дельфанти, который первым бросился в воду. Тогда двинулись солдаты, а за ними и толпа. Остались наиболее слабые, менее решительные и самые жадные. Те, кто не мог расстаться со своей добычей, были захвачены врасплох. На другой день дикие казаки посреди всех этих богатств соблазнились даже грязными лохмотьями этих несчастных, которые попали к ним в плен: они их грабили, сгоняли в кучу и засташгяли полуголыми идти по снегу, подгоняя древками своих пик.
Уменьшившаяся Итальянская армия, промокшая насквозь в водах Вопи, без съестных припасов, без приюта, провела ночь в снегу, вблизи одной деревни. Тщетно пытались они устроиться, приступом беря деревянные дома. Они нападали на каждый дом, разламывая всё: двери, окна, даже крыши, нисколько не заботясь о том, что тем самым лишают себя возможности укрыться от холода.
Напрасно их гнали командиры: солдаты позволяли бить себя, не жалуясь, не протестуя, но не останавливались; во всей армии каждую ночь происходили подобные сцены.
Когда разожгли костры, они провели ночь, обсушиваясь под шум криков, проклятия и стоны тех, кто продолжал еще переходить реку или, скатываясь с высоких берегов, тонул среди льдин.
Атаман Платов был уверен, что гибель принца Евгения произойдет на следующий день. В самом деле, им было всё предусмотрено. В ту минуту, когда Итальянская армия, после беспокойного и беспорядочного перехода, завидела Духовщину — город еще нетронутый — и поспешно направилась туда, чтобы найти там для себя убежище, оттуда вышли несколько тысяч казаков с орудиями, которые сразу остановили ее. В то же время появился Платов со всеми своими ордами и атаковал арьергард и оба фланга.
Многочисленные очевидцы рассказывают, что произошел полнейший беспорядок: бандиты прорывали ряды войска, и была минута, когда эта несчастная армия представляла собой лишь беспорядочную толпу, дикую орду людей, толпившихся на месте! Казалось, что всё потеряно. Но хладнокровие принца и усилие военачальников спасли отряд. Отыскались мужественные люди, ряды построились. Солдаты двинулись, стреляя из ружей, и неприятель, у которого было всё, кроме храбрости, — единственная оставшаяся у нас добродетель, — сомкнул ряды и отступил, ограничившись одной лишь демонстрацией силы.
Армия заняла их помещения в городе, а они расположились бивуаком за ним и тревожили нас своими неожиданными нападениями вплоть до самого Смоленска; после несчастья на реке Вопь мы отказались от мысли идти отдельно от императора.
Здесь эти орды обнаглели: они окружили 14-ю дивизию. Когда принц Евгений захотел прийти ей на помощь, его солдаты и офицеры, окоченевшие от двадцатиградусного мороза, который из-за резкого ветра был особенно невыносим, продолжали греться, лежа на горячей золе костров. Тщетно указывали им на сражающихся товарищей, на приближавшегося неприятеля, на пули и ядра, уже достигавшие их самих; они упорно отказывались вставать, заявляя, что лучше погибнуть, чем терпеть дальше такие муки. Даже караульные покинули свои посты.
Принцу Евгению все-таки удалось спасти свой арьергард, но на пути к Смоленску он был опрокинут неприятелем на войска Нея и заразил их своим ужасом: все бросились к Днепру и столпились у входа на мост, не думая об обороне.
Но тут 4-й полк выстрелами остановил неприятеля. Его командир, молодой полковник Фезансак, сумел расшевелить своих застывших от холода солдат, и они в ярости бросились на неприятеля, на снежные сугробы, на ледяной ураган! Нею даже пришлось умерять их пыл!
Что есть слава для простого солдата, который погибает никем не видимый, когда его никто не хвалит, не осуждает, когда никто по нему не сожалеет, кроме его соратников! Но этого круга для него достаточно: в малом обществе заключены те же страсти, что и в большом.
Глава XIV
Наконец армия снова увидела Смоленск! Она достигла места, где ждала избавления от всех своих страданий. Солдаты вошли в город. Вот обещанный предел, где, конечно, все они найдут в изобилии еду, обретут необходимый отдых, где ночевки на двадцатиградусном морозе будут забыты в хорошо отапливаемых домах. Здесь они насладятся целительным сном, здесь им будет роздана новая обувь и соответствующая климату одежда!
Завидя город, только гвардия и некоторые солдаты не покинули своих рядов; остальные лихорадочно устремились вперед. Тысячи человек, в большинстве случаев безоружных, покрыли оба крутых берега Днепра; они целыми толпами теснились около высоких стен и городских ворот; но эта беспорядочная толпа, их худые, закоченелые и покрытые грязью лица, их разорванные мундиры, их странные тряпки вместо шуб, их ужасный, отвратительный вид напугал всех. Если дать ворваться в город этим озверевшим от голода людям, то они всё разграбят, — и ворота города были заперты перед ними!
Этой мерой думали заставить их вернуться к порядку. Тогда в остатках этой несчастной армии началась ужасная борьба между порядком и хаосом. Тщетно они просили, молили, заклинали, угрожали, пробовали взломать ворота, падали в ноги своим товарищам, которым было приказано отталкивать их, дожидаясь прибытия отряда, еще сохранившего порядок.
Беспорядочные толпы вошли в город только вслед за гвардией; они и остальные корпуса, с 8-го по 14-й, поочередно вступали в город и думали, что их вступление было отсрочено для того, чтобы дать возможность гвардии лучше отдохнуть и подкрепиться. Страдания сделали их несправедливыми, и они проклинали ее: «Неужели мы постоянно будем приносить себя в жертву этим привилегированным гвардейцам, этой ненужной декорации, которая является первой лишь на смотрах, на празднествах и при раздаче наград? Неужели армия всегда будет пользоваться только объедками? Почему надо ждать, когда насладятся гвардейцы?» Им можно было ответить, что необходимо сохранить в целости хотя бы один корпус и дать преимущество тем, кто в последнюю решительную минуту может дать отпор.
Между тем многие бросились к складам на приступ дверей, к которым их не допускали. «Кто вы? Из какого корпуса? Как вас узнать? Лица, раздающие провиант, ответственны за него: они могут выдавать его лишь уполномоченным офицерам, которые должны предъявлять квитанции на его получение». Но у тех, которые пришли требовать еду, не было офицеров; они не знали, где находятся их полки! В таком положении были две трети армии.
Эти несчастные рассыпались по улицам, не имея никакой надежды, кроме грабежа. Но обглоданные до костей трупы лошадей, валявшиеся повсюду, свидетельствовали о голоде, а у холодных домов были оторваны двери и оконные рамы, — их употребляли для розжига костров. Не было приготовлено никаких зимних квартир, и даже больные и раненые оставались на улице на тех повозках, на которых их привезли.
Тогда только бродячие солдаты начали искать свои знамена и быстро нашли свои части, чтобы получить провиант; но весь заготовленный хлеб был уже роздан; не осталось ни сухарей, ни мяса. Им выдали ржаной муки, сухих овощей и водки. Нужны были невероятные усилия, чтобы помешать отдельным отрядам различных корпусов убивать друг друга у дверей провиантских складов; потом, когда после бесконечных формальностей эти жалкие припасы были розданы, солдаты отказались нести их в свои полки: они набрасывались на мешки, вытаскивали оттуда по несколько фунтов муки и прятались где-нибудь, чтобы съесть ее. То же было и с водкой. На другой день улицы были переполнены трупами этих несчастных.
Одним словом, этот зловещий Смоленск, который армия считала концом своих мучений, был только их началом!
Перед нами открывались бесконечные страдания: надо было еще идти сорок дней под тяжелым игом всевозможных лишений. Одни, отягощенные муками настоящего, приходили в ужас при мысли о будущем; другие отвергли такую участь и решили рассчитывать только на самих себя и выжить во что бы то ни стало.
В зависимости от того, были ли они сильны или слабы, они отнимали силой или хитростью у своих умирающих товарищей продукты, одежду и даже золото, которым те еще с Москвы наполнили вместо провизии походные сумки. Затем эти негодяи, которых отчаяние довело до разбоя, даже побросали оружие, чтобы спасти свою подлую добычу. Если бы эти подлости и ужасы не были преувеличены в произведениях, опубликованных до сих пор, я умолчал бы о таких отвратительных подробностях, потому что эти ужасные явления были достаточно редки и виновные получили заслуженное наказание.
Император прибыл в Смоленск 9 ноября, как раз в разгар отчаянного положения. Он укрылся в одном из домов на Новой площади и не выходил оттуда до 14-го, чтобы потом продолжить отступление. Он рассчитывал на провиант и фураж на две недели для стотысячной армии, однако не нашлось и половины такого количества муки, риса и водки! Мяса не было совсем. Мы слышали, как гневно кричал император на одного из заведующих провиантом, — поставщику удалось спасти свою жизнь лишь после долгих молений на коленях перед Наполеоном! Быть может, доводы, которые он привел, сделали больше, чем мольбы.
«Когда я прибыл сюда, — говорил он, — стаи отставших от армии солдат уже внесли в Смоленск разрушение и ужас. Здесь умирали от голода точно так же, как и на больших дорогах. Когда был установлен некоторый порядок, одни только евреи вызвались доставить провиант. Затем помочь нам взялись литовские помещики. Наконец пришел первый фургон обоза с продовольствием, собранным в Германии. С ним прибыло несколько сот немецких и итальянских быков.
Между тем масса трупов по домам, дворам и садам и их убийственный запах заражали воздух. Мертвые убивали живых. Многие расхворались; некоторые из них словно лишились рассудка: плакали или тупо устремляли в землю свой угрюмый взор. Потом эти несчастные при страшных богохульствах, в ужасных корчах или с еще более диким смехом замертво падали на землю.
В то же время пришлось немедленно заколоть большую часть быков, приведенных из Германии и Италии: из-за русских морозов эти животные отказывались двигаться и есть. Случались и другие несчастья: несколько наших обозов и продовольственных складов было перехвачено неприятелем, а в Красном русские отбили у нас целую партию скота в восемьсот голов».
Интендант добавлял, что надо также принять во внимание число отрядов, прошедших через Смоленск, пока здесь жил маршал Виктор с двадцатью восемью тысячами человек и почти пятнадцатью тысячами больных. А множество мародеров, которые были оттиснуты неприятелем к Смоленску?! Все жили за счет складов, приходилось выдавать около шестидесяти тысяч пайков в день; наконец, надо было высылать провиант и скот к Москве, к Можайску, к Калуге, к Ельне.
Многие из этих утверждений были хорошо обоснованы. От Смоленска до Минска и Вильны была создана цепь складов. Последние два города были значительно более крупными центрами продовольственного обеспечения, чем Смоленск. Общее количество провизии, распределенное на этом пространстве, невозможно было сосчитать; чтобы перевезти его, были сделаны гигантские усилия, однако результат почти ничтожен.
Так рушатся под собственной тяжестью великие походы! Были превзойдены человеческие границы: гений Наполеона, желая возвыситься над временем, климатом и расстоянием, сам растворился в русском пространстве.
Впрочем, он не питал иллюзий по поводу лишений. Он был обманут только Александром. Привыкнув покорять всех ужасом своего имени и изумлением, внушаемым его отвагой, его армией, им самим, он поставил всё в зависимость от Александра. Он остался тем же человеком, каким был в Египте, при Маренго, Ульме, Эсслингене. Это был Фердинанд Кортес. Это был Александр Македонский, сжегший свои корабли и всё еще желавший, против воли своих солдат, проникнуть в неведомую Азию. Наконец, это был Цезарь, рисковавший всем своим богатством!
Книга X
Глава I
Между тем схватка при Винкове, неожиданное нападение Кутузова вблизи Москвы были лишь искрами огромного пожара. В тот день вся Россия перешла в наступление! Сразу обнаружился план русских. Вид карты страны стал ужасен.
Восемнадцатого октября, в тот час, когда орудия Кутузова уничтожили надежды Наполеона на славу и мир, Витгенштейн, находясь на расстоянии ста лье слева от него, поспешил к Полоцку; на двести лье далее, за его правым флангом, Чичагов воспользовался своим превосходством над Шварценбергом; и оба, один — спускаясь с севера, другой — поднимаясь с юга, должны были соединиться у Борисова.
Это было самое трудное место нашего отступления, и обе неприятельские армии уже были близ оставшихся в Белоруссии французов, которых отделяли от Наполеона двенадцатидневный переход, холод, голод и великая русская армия.
В Смоленске делались только предположения об опасности, ожидавшей в Минске; но теперь офицеры, присутствовавшие при сдаче Полоцка, рассказывали нам все подробности; все теснились вокруг них.
После битвы 18 августа, которая была дана маршалом Сен-Сиром, этот военачальник остался на русском берегу Двины, захватив Полоцк и создав за стенами города укрепленный лагерь. Этот лагерь показал, с какой легкостью целая армия могла расположиться на зимние квартиры на границах Литвы. Бараки, построенные нашими солдатами, были просторнее жилищ русских крестьян и столь же теплыми: это были прекрасные военные поселения, хорошо укрепленные и хорошо защищенные от зимы и от неприятеля.
В течение двух месяцев две армии вели партизанскую войну. Цель войны со стороны французов — проникнуть как можно дальше в поисках провизии; русские должны были лишить врага его добычи. Такая война была к выгоде русских, поскольку наши люди, не зная страны, ее языка и даже названий мест, в которые они пытались приникнуть, всюду становились жертвами предательства жителей и проводников.
Вследствие этого, а также голода и болезней, численность армии Сен-Сира уменьшилась наполовину, в то время как армия Витгенштейна численно удвоилась за счет прибытия рекрутов. К середине октября русская армия насчитывала 52 тысячи солдат, в то время как наша — только 17 тысяч. В это число следует включить 6-й корпус, или баварцев, которых осталось 1800 человек из 22 тысяч, и 2 тысячи кавалеристов. Последние были удалены: оставшись без фуража и опасаясь нападений противника на его фланги, Сен-Сир послал их на значительное расстояние вверх по реке для поиска средств пропитания и сбора разведывательных данных, приказав вернуться по левому берегу.
Этот маршал боялся, что его правый фланг будет обойден Витгенштейном, а левый — Штейнгелем, который наступал во главе двух дивизий армии Финляндии. Сен-Сир направил экстренное письмо Макдональду, прося его остановить наступление русских и послать ему подкрепление численностью 15 тысяч солдат. В том же письме он изложил Макдональду все свои планы наступления и обороны. Однако Макдональд не был уполномочен вести столь важные операции без приказов. Он не доверял Йорку, подозревая его в намерении отдать русским осадную артиллерию. Макдональд ответил, что в первую очередь должен думать об обороне и стоять на месте.
При таком положении вещей русские с каждым днем становились всё смелее; наконец 17 октября сторожевое охранение Сен-Сира было отброшено к лагерю, и Витгенштейн завладел всеми выходами из леса, окружавшего Полоцк. Он угрожал нам битвой.
Французский маршал, не имея приказов от императора, опаздывал с проведением земляных работ. Его левый фланг, опиравшийся на Двину и защищаемый батареями, расположенными на левом берегу реки, был силен, но правый фланг слаб.
Витгенштейн направил Яшвиля, чтобы тот угрожал с менее доступной стороны, и 18 октября сам пошел в наступление против другого фланга; вначале он проявил неосторожность, и два французских эскадрона, оставшиеся у Сен-Сира, опрокинули его колонну, захватили артиллерию и взяли его в плен, не зная об этом; они бросили главнокомандующего, как незначительный приз, когда превосходящие силы врага заставили их отступить.
Русские яростно атаковали Сен-Сира всеми силами, и маршал был ранен мушкетной пулей. Он остался, однако, среди своих воинов, но не мог самостоятельно передвигаться. Витгенштейн пытался удержать этот пункт в течение светового дня. Редуты, защищаемые Мезоном, семь раз переходили из рук в руки. Семь раз Витгенштейн считал себя победителем, но Сен-Сир в итоге оказался более выносливым. Легран и Мезон удержали укрепления, политые русской кровью. На правом фланге была одержана полная победа, но на левом всё казалось потерянным: рвение швейцарцев и хорватов стали причиной неудачи. Они соперничали между собой и искали возможности себя проявить. Страстное желание показать себя достойными быть в рядах Великой армии заставило их действовать опрометчиво. Они неосторожно заняли позицию на пространстве, подготовленном для ведения смертоносного огня по врагу, устремились вперед и наткнулись на превосходящие силы Яшвиля. Французская артиллерия не могла стрелять в это месиво из людей и оказалась бесполезной. Наши союзники были отброшены к Полоцку.
Батареи на левом берегу Двины открыли огонь по врагу, но не задержали его, а лишь заставили ускорить марш. Чтобы избежать этого огня, русские бросились в овраг, по которому собирались проникнуть в город. В этот момент огонь трех пушек, направленный в голову их колонны, и последняя атака швейцарцев вынудили их отступить. В пять часов дело закончилось; русские всюду отступали в свои леса, и 14 тысяч солдат побили 50 тысяч.
Наступившая ночь была совершенно тихой, даже для Сен-Сира. Его кавалерия сообщила ему неправильные сведения; якобы ни один враг не пересек Двину выше или ниже места, в котором он находился. Это было неверно, поскольку Штейнгель и 13 тысяч русских перешли реку у Дриссы и двигались вверх по левому берегу, чтобы ударить с тыла и запереть маршала в Полоцке, между ними, Двиной и Витгенштейном.
Утром 19-го солдаты последнего стояли под ружьем и готовились к атаке, сигнал к которой он боялся давать. Однако Сен-Сир не позволил себя обмануть; он понимал, что сильный и предприимчивый неприятель ожидает какого-то маневра, сигнала к важной операции, которая могла быть проведена только в его тылу.
Действительно, около десяти часов утра галопом прискакал адъютант и сообщил, что другая армия противника быстро движется по литовскому берегу реки и она нанесла поражение французской кавалерии. Эта армия заходила с тыла и угрожала окружить лагерь. Известия о недавнем бое быстро достигли армии Витгенштейна, где они вызвали величайшую радость; в то же время они привели французов в смятение. Их положение стало смертельно опасным. Представьте себе этих храбрецов, окруженных, напротив города из деревянных домов, силами, троекратно их превосходящими; за ними находилась большая река, а отступить они могли только по мосту, проходу через который мешала другая армия.
Напрасно Сен-Сир ослабил свои силы на три полка, которые он направил на другую сторону реки, чтобы встретить Штейнгеля; он пытался скрыть это движение от Витгенштейна. Звуки артиллерии Штейнгеля раздавались всё ближе к Полоцку. Батареи, защищавшие французский лагерь с левой стороны, были развернуты и готовы стрелять в нового врага. При виде этого вся армия Витгенштейна издала громкие крики радости, однако этот военачальник оставался недвижимым. Чтобы начать бой, ему необходимо было не просто услышать Штейнгеля, он, казалось, был твердо намерен увидеть его.
Между тем все генералы Сен-Сира были напуганы; они обступили его и советовали скомандовать отступление, которое скоро могло стать невозможным. Сен-Сир отказался; он был уверен, что находившиеся перед ним 50 тысяч русских солдат только и ждут этого движения, чтобы наброситься на него; он оставался недвижимым, извлекая пользу из их безотчетного бездействия, и льстил себя надеждой, что ночь наступит прежде, чем Штейнгель появится.
Впоследствии он признался, что никогда в жизни не испытывал такого сильного волнения. В течение трех часов неопределенности он тысячу раз посмотрел на часы и на солнце, как будто бы он мог ускорить закат.
Наконец, когда Штейнгель был на расстоянии получасового марша, когда ему оставалось сделать совсем немного усилий, чтобы появиться на равнине, достичь моста и отрезать Сен-Сира от единственного выхода, он остановился. Вскоре после этого густой туман, на который французы смотрели как на послание небес, известил о приближении ночи и помешал трем армиям видеть друг друга.
Сен-Сир только этого и ждал. Его многочисленная артиллерия уже пересекла реку в тишине, его дивизии собирались последовать этому примеру и тихо отступить, когда Легран — то ли по привычке, то ли из сожаления, что покидает свой лагерь без боя, — открыл огонь по врагу; другие две дивизии, вообразив, что это согласованный сигнал, также начали стрелять, и вся линия мгновенно озарилась ярким огнем.
Огонь сделал движение видимым для врага; все батареи Витгенштейна немедленно начали стрелять; его колонны устремились вперед, артиллерийские снаряды подожгли город; французы должны были сражаться за каждый клочок земли, и было светло как днем. Отступление осуществлялось в порядке; потери были большими у обеих сторон, однако русские овладели Полоцком не раньше трех часов утра 20 октября.
Штейнгель крепко спал под звуки битвы, хотя он мог слышать даже крики русских ополченцев. В эту ночь он помог атаке Витгенштейна в столь же малой степени, в какой тот помог ему днем раньше. Штейнгель начал движение, но Вреде и 6 тысяч французов застали его врасплох, отбросили на несколько лье, убили и взяли в плен 2 тысячи его солдат.
Глава II
Эти три дня были днями славы. Витгенштейн получил отпор, Штейнгель был разбит, и десять тысяч русских вместе с шестью генералами были убиты или выведены из строя. Но Сен-Сир был ранен, наступление не получилось. Во вражеских корпусах царили уверенность, радость и изобилие, наши были опечалены и испытывали нужду. Необходимо было отступать, а армия нуждалась в командующем. Вреде хотел им стать, но французские генералы не хотели договариваться с этим военачальником, зная его характер и понимая, что невозможно жить с ним в гармонии. Среди этих раздоров Сен-Сир, хотя и раненый, должен был продолжать командовать двумя корпусами.
Он приказал отступать на Смоляны по всем дорогам, ведущим в это место. Сам он оставался в центре, регулируя движение различных колонн. Этот способ отступления был противоположным тому, что применял Наполеон.
Сен-Сир стремился найти больше провизии, двигался с большей свободой и более согласованно; короче говоря, он хотел избежать беспорядка, столь обычного при движении многочисленных колонн, когда пехота, артиллерия и обозы перемешиваются на дороге. Он полностью преуспел в этом. Десять тысяч французов, швейцарцев и хорватов, в то время как пятьдесят тысяч русских наступали им на пятки, медленно шли четырьмя колоннами, не позволяя сломать строй, и удерживали Витгенштейн и Штейнгеля на расстоянии.
Отступая таким образом к югу, он прикрывал справа дорогу из Орши на Борисов, по которой император возвращался из Москвы. Только одна, левая, колонна задержалась. Это был Вреде и полторы тысячи баварцев, усиленные бригадой французской кавалерии, которую он удерживал при себе, несмотря на приказы Сен-Сира. Он шел как ему вздумается; его уязвленная гордость больше не позволяла ему подчиняться приказам; но это стоило ему всего обоза. Впоследствии под предлогом того, что он лучше послужит общему делу, если будет прикрывать операционную линию от Вильны до Витебска, которую император оставил, он самовольно отделился от 2-го корпуса, отступил через Глубокое на Вилейку и стал бесполезным для армии.
Виктор с двадцатью пятью тысячами солдат поспешил из Смоленска и 31 октября соединился с Сен-Сиром перед Смолянами в тот самый момент, когда Витгенштейн, не зная об этом событии и уповая на свои превосходящие силы, пересек Лукомлю, опрометчиво вошел в теснину и атаковал наши аванпосты. Необходимы были согласованные действия двух французских корпусов, чтобы уничтожить его армию. Генералы и солдаты 2-го корпуса были охвачены энтузиазмом. В тот момент, когда они видели победу перед глазами и ждали сигнала к битве, Виктор приказал отступать.
Может быть, причиной этой осторожности, которую позже сочтут неуместной, было незнание страны или неверие в солдат, которых он пока не испытал в деле; мы не знаем этого. Возможно, он не считал оправданным риск битвы, проигрыш которой повлиял бы на Великую армию и ее предводителя.
Шестого ноября в Михалевке, в тот самый несчастный день, когда Наполеон узнал о заговоре Мале, он был проинформирован о соединении 2-го и 9-го корпусов и неудачном деле в Чашниках. Наполеон дал приказы Виктору немедленно отбросить Витгенштейна за Двину, поскольку от этого зависело спасение армии. Он не скрыл от маршала, что прибыл в Смоленск со смертельно усталой армией и почти без кавалерии.
Удачные дни прошли, и теперь поступали только ужасные вести. С одной стороны, Полоцк, Двина, Витебск были потеряны, а Витгенштейн находился на расстоянии четырехдневного перехода от Борисова.
С другой стороны, поражение Бараге-д’Илье и взятие в плен бригады Ожеро открыли Кутузову дорогу на Ельню, по которой Кутузов мог раньше нас прибыть в Красное, как он сделал это в Вязьме.
В то же время Шварценберг, находившийся на расстоянии ста лье перед нами, известил императора, что он удаляется к Варшаве. Австрийский император, казалось, отдал своего зятя на заклание русским.
Позади принц Евгений был побежден Вопью. Ломовые лошади, которые ожидали нас в Смоленске, были съедены солдатами, скот в Красном был захвачен, армия находилась в ужасном состоянии, в Париж вернулось время заговоров; одним словом, казалось, что всё сошлось воедино, чтобы низвергнуть Наполеона.
Ежедневные донесения о состоянии корпусов армии, которые он получал, напоминали списки умерших; он видел, что армия, с которой он завоевал Москву, уменьшилась со 180 до 25 тысяч солдат, способных сражаться. Наполеон сопротивлялся этой лавине неудач, был по-прежнему хладнокровен, не изменил своим привычкам, а форма его приказов оставалась прежней; читая их, вы могли предположить, что он всё еще командует несколькими армиями. Он даже не ускорял своего движения. Раздраженный осторожностью маршала Виктора, он повторил свои приказы атаковать Витгенштейна и тем самым отодвинуть опасность, угрожавшую его отступлению. Что касается Бараге-д’Илье, то император приказал привести его, лишил всех наград и отослал в Берлин, где тот умер от отчаяния в ожидании приговора.
Еще более удивительным было то, что Наполеон допускал, чтобы судьба отняла у него всё, вместо того чтобы пожертвовать частью ради спасения оставшегося. Без его приказов командиры корпусов сожгли багаж и разрушили артиллерию; он лишь позволил им этот сделать. Если он давал подобные распоряжения, то с огромным трудом; казалось, что он самый стойкий, что он выше всего и никоим образом не должен признавать своего поражения; может быть, своей непреклонностью Наполеон подавал пример несгибаемого мужества всем окружающим, или это проистекало из чувства, что он таким образом проявляет уважение к своим несчастьям, или это следствие гордости людей, которые долгое время были удачливыми, ускоряющей их падение.
Смоленск, который дважды становился роковым городом для армии Наполеона, для некоторых был местом отдыха. Во время передышки они спрашивали друг у друга, как это могло произойти, что в Москве обо всем забыли? Почему у них так много бесполезного багажа; почему так много солдат умерло от голода, холода и под тяжестью своих ранцев, нагруженных золотом вместо пищи и одежды? И главное, разве тридцатитрехдневного отдыха было недостаточно, чтобы подковать лошадей и облегчить движение артиллерии, что позволило бы идти уверенно и быстро?
Если бы это было сделано, мы бы не потеряли наших лучших людей в Вязьме, на Вопи, на Днепре и по всей дороге; тогда бы Кутузов, Витгенштейн и, возможно, Чичагов не имели бы времени, чтобы подготовить для нас эти роковые дни.
Почему, если не было на всё приказа самого Наполеона, эти меры предосторожности не были приняты другим начальством, всеми этими королями, князьями и маршалами? Разве не знали, что в России после осени наступает зима? Или, приученный к сметливости своих солдат, Наполеон слишком на нее положился? Не обманул ли его опыт кампании в Польше, зима которой была не суровее французской? Не обманули ли его октябрьские солнечные дни, удивившие самих русских? В каком дурмане пребывали армия и ее предводитель? На что рассчитывали? Предположим, что мысль о возможности заключения мира в Москве свернула всем головы, но ведь возвращаться домой нужно было в любом случае, а ничего не было подготовлено и для самого мирного возвращения.
Большинство объясняло это общее ослепление собственной беззаботностью, а также тем, что в армиях, как и в деспотических правительствах, один начальник должен думать за всех; одного его считают за всё ответственным, и несчастье, порождающее недоверие, заставляет всех осуждать его. Уже было замечено, что в сей значительной неудаче та сама забывчивость, немыслимая для активного гения, имевшего много свободного времени, была не просто ошибкой, а знаком грядущего падения королей!
Наполеон находился в Смоленске уже пять дней. Было известно, что Ней получил приказ явиться туда как можно позднее, а Евгений — оставаться двое суток в Духовщине. Следовательно, незачем поджидать остальную Итальянскую армию! Чем объяснить нашу бездеятельность в то время, когда голод, болезни, холод и три неприятельские армии идут на нас?
Пока мы стремились к сердцу русского великана, разве руки его не оставались свободными и протянутыми к Балтийскому и Черному морям? Неужели он их оставит в бездействии теперь, когда мы, не поразив его насмерть, сами поражены? Не настал ли тот роковой час, когда этот великан раздавит нас в своих грозных объятьях? Можно ли считать их парализованными, если противопоставить им на юге австрийцев и на севере — пруссаков? А поляки и даже французы, смешавшиеся с этими опасными союзниками, перестали быть полезны!
Но и не разбираясь глубоко в причинах охватившего всех беспокойства, разве императору не была известна радость русских, когда три месяца тому назад он так жестоко наткнулся на Смоленск, вместо того чтобы идти вправо, к Ельне, где он отрезал бы неприятеля от его столицы? Неужели теперь, когда война вернулась на то же самое место, русские, которые могут располагать большей свободой действия, чем мы, повторят нашу ошибку?
Разве они останутся позади нас, когда могут опередить и отрезать нам путь к отступлению?
Или Наполеон не мог предположить, что нападение Кутузова будет более смелое, чем нападение французов?
Разве условия всё те же? Не приходило ли всё на помощь русским при их отступлении, тогда как при нашем отступлении всё было против нас? Разве взятие в плен Ожеро и его бригады не было ясным доказательством этого? К чему было оставаться в этом сожженном, опустошенном Смоленске, а не захватить провиант и быстро выступить?
Несомненно, император думал, что, прожив в этом городе пять дней, он придаст бегству вид медленного и гордого отступления! Вот почему он приказал разрушить стены и башни Смоленска, не желая, как он сам говорил, чтобы они задерживали его; как будто можно было еще раз вступить в этот город в то время, когда неизвестно было, удастся ли даже выйти из него!
Можно ли поверить, что он хотел предоставить время артиллеристам на перековку лошадей? Как будто возможно добиться какой-нибудь работы от людей, истощенных голодом и переходами, — от этих несчастных, которым недоставало целого дня, чтобы отыскать себе пищу и приготовить ее, у которых кузницы были заброшены или испорчены, которым не хватило материала для такой большой работы!
Но, может быть, император хотел дать возможность отойти вперед мешавшей ему толпе солдат, ставших бесполезными, восстановить порядок в лучшей части войска и реорганизовать армию? Как будто возможно было восстановить какой-нибудь порядок среди разбежавшихся людей и сплотить их, когда нет ни квартир, ни продовольствия; разве можно думать о реорганизации корпусов, которые фактически не существуют?
Таковы были вокруг Наполеона разговоры его офицеров или, вернее, их тайные мысли, так как преданность ему они сохраняли еще целых два года, среди величайших несчастий и общего восстания всех народов.
Тем не менее император сделал одну попытку, которая была не совсем бесплодной: это был приказ всей оставшейся кавалерии соединиться под властью одного начальника; но от 37 тысяч кавалеристов, бывших при переправе через Неман, осталось всего лишь 1800 человек конных. Командование ими Наполеон поручил Натур-Мобуру. Никто не протестовал — по усталости или из уважения.
Что касается Латур-Мобура, то он принял эту честь и тяжелую обязанность без радости и без сожалений. Это был редкий человек: всегда готовый ко всему, спокойный и старательный, устойчивой нравственности, не старавшийся выдвинуться; простой и искренний в своих рапортах, он верил, что слава достигается делом, а не словами. Среди полнейшего беспорядка он двигался вперед в том же порядке и так же размеренно, как всегда; тем не менее, и это делает честь нашему веку, он достигнул той же высоты, что и другие, и одновременно с ними.
Слабая реорганизация, раздача части провианта, потеря всего остального, отдых для императора и его гвардии, уничтожение части артиллерии и обоза и, наконец, множество разосланных приказов — вот почти все результаты, которых мы добились за эту злосчастную остановку. Впрочем, на нашу долю выпали все предвиденные нами несчастья. Только на непродолжительное время удалось собрать несколько сот человек. Мины взрывали стены, и это вынудило уйти из города тех отставших солдат, которых нельзя было заставить двинуться дальше.
Здесь были брошены окончательно павшие духом солдаты, женщины и несколько тысяч больных и раненых; и только тогда, когда уничтожение Ожеро около Ельни показало нам, что Кутузов, преследовавший нас, не совсем занял большую дорогу, что из Вязьмы он через Ельню направляется прямо к Красному и нам придется пробивать себе дорогу сквозь русскую армию, — только тогда, 14 ноября, Великая армия, или, вернее, 36 тысяч строевых солдат тронулись в путь.
В гвардии в то время было только девять или десять тысяч пехоты и две тысячи кавалерии; у Даву, в 1-м корпусе, тысяч пять или шесть; у принца Евгения в Итальянской армии — пять тысяч; у Понятовского — восемьсот солдат; у Жюно и вестфальцев — семьсот; у Латур-Мобура, в оставшейся кавалерии, — полторы тысячи. Можно было рассчитывать еще на тысячу человек легкой кавалерии и на пятьсот пеших кавалеристов, которых удалось собрать.
Эта армия выходила из Москвы, насчитывая 100 тысяч строевых солдат; через двадцать пять дней она уменьшилась до 36 тысяч человек! Наша артиллерия уже потеряла 350 орудий, и тем не менее эти жалкие остатки были всё еще распределены между восьмью корпусами, которые и без того были обременены 60 тысячами бродячих солдат без всякого оружия и длинным обозом пушек и багажа.
Неизвестно, это ли нагромождение людей и экипажей или, что правдоподобнее, ошибочная самоуверенность заставила Наполеона назначить однодневный промежуток между выходом каждого маршала из города. Император, принц Евгений, Даву и Ней лишь по очереди покидали Смоленск. Ней должен был выйти только 16-го или 17-го. Ему отдан был приказ зарыть в землю пушки, уничтожить боевые припасы, заставить выступить вперед всех отставших и взорвать стены города.
Между тем на расстоянии нескольких лье нас поджидал Кутузов, и эти разрозненные остатки корпусов должны были по очереди браться за оружие!
Глава III
Четырнадцатого ноября, около пяти часов утра, императорская колонна выступила, наконец, из Смоленска. Шла она всё еще твердым шагом, но была мрачна и уныла, как ночь, как эта безмолвная и бесцветная природа, среди которой она находилась.
Это молчание нарушалось только ударами, сыпавшимися на лошадей, да краткими и гневными криками при встрече с оврагами, по обледенелым склонам которых сваливались в темноте друг на друга люди, лошади, орудия. В этот первый день было сделано пять лье; чтобы пройти их, нашей гвардейской артиллерии потребовалось двадцать два часа невероятных усилий.
Впрочем, эта первая колонна без значительных людских потерь достигла Катыни, которую миновал Жюно со своим Вестфальским корпусом, насчитывавшим всего семьсот человек. Один из авангардов дошел до Красного. Раненые и нестроевые солдаты были уже недалеко от Ляд. Катынь — в пяти лье от Смоленска; Красное — в пяти лье от Катыни; Ляды — в четырех лье от Красного. От Катыни до Красного, в двух лье справа от большой дороги, течет Днепр.
Около Катыни к большой дороге близко подходит другая дорога, из Ельни в Красное. В тот же день по ней к нам подошел Кутузов. У него было девяносто тысяч человек. Он шел сбоку от Наполеона и послал авангард, чтобы перерезать нам путь к отступлению. Потом Кутузов, во главе большей части своего войска, двинулся дальше и расположился позади авангарда, радуясь успеху своего маневра, который не удался бы при его медлительности, если бы не наша непредусмотрительность. Это была борьба военных ошибок, в которой наши ошибки были хуже, и мы думали, что все погибнем. Расположившись таким образом, русский главнокомандующий решил, что французская армия находится в его руках; но мы спаслись: Кутузов изменил самому себе в ту минуту, когда следовало действовать; этот старик выполнил плохо и лишь наполовину то, что так умно задумал.
Пока все эти массы располагались вокруг Наполеона, он, спокойный, в маленьком домике, единственно уцелевшем от деревни Катынь, казалось, или не знал, или не хотел знать обо всех этих передвижениях людей, орудий, лошадей, окружавших его со всех сторон; по крайней мере он даже не послал трем корпусам, оставшимся в Смоленске, приказания торопиться, а сам дожидался утра, чтобы отправиться дальше.
Его колонна продвигалась вперед без всякой предосторожности; перед ней шла толпа мародеров, спешивших дойти до Красного; как вдруг, в двух лье от города, показалась линия казаков. Наши солдаты остановились в изумлении: они не ожидали ничего подобного и сначала подумали, что враждебная судьба провела по снегу между ними и Европой эту длинную черную неподвижную линию, словно гибельную преграду на пути их надежд.
Некоторые, совершенно одурев и ничего не чувствуя, устремив взоры к далекой отчизне, машинально и упорно продолжали двигаться, не слушая ничьих предостережений; другие были готовы сдаться; третьи, их было большинство, сомкнули свои ряды; все разглядывали друг друга. Но вскоре подошли несколько офицеров, навели порядок среди наших солдат, и семи или восьми выставленным стрелкам удалось пробить это на вид грозное заграждение.
Французы с улыбкой смотрели на столь бесполезную и отважную демонстрацию русских, как вдруг с высот, находившихся слева, грянула неприятельская батарея. Ядра падали на дорогу. В это же время и с той же стороны показалось тридцать русских эскадронов; они направлялись на Вестфальский корпус, начальник которого, растерявшись, не принял никаких мер к защите.
И только один раненый офицер, незнакомый этим немцам и случайно находившийся тут, голосом, полным негодования, принялся командовать.
Они повиновались. Исчезла разница в чинах. Появился достойный человек, объединивший вокруг себя толпу; начальник корпуса тоже покорно подчинился, признав превосходство этого офицера над собой; когда опасность миновала, вестфальский генерал не искал случая, как это слишком часто бывает, чтобы отомстить ему.
Этот раненый офицер был Экзельман! Он был всем — генералом, офицером, солдатом-пехотинцем, даже артиллеристом: ухватившись за одно из брошенных орудий, он зарядил его, нацелил и еще раз пустил его в дело против неприятеля. Неприятель, видя, что голова этой колонны выступает в полном порядке, осмелился атаковать ее лишь своими ядрами; к ним отнеслись с презрением и скоро оставили далеко за собой. Когда же наступила очередь проходить сквозь огонь гренадерам Старой гвардии, они тесно сомкнулись вокруг Наполеона, как движущаяся крепость, гордые тем, что защищают его. Эту гордость выражала их походная музыка. В самые опасные минуты послышалась песня на известные слова: «Где же лучше, чем в семье родной?» Но император, не пропускавший ничего, прервал ее, воскликнув: «Пойте лучше «Постоим за спасение Империи!»».
Такие слова полнее выражали его беспокойные думы и всеобщее настроение.
Так как неприятельский огонь стал слишком назойлив, Наполеон велел заставить замолчать его и через два часа достиг Красного. Одного вида Себастиани и первых гренадеров, выступавших перед ним, было достаточно, чтобы выгнать оттуда неприятельскую пехоту. Император вошел сюда с тревогой, не зная, с кем он только что имел дело; его кавалерия была слишком слаба, чтобы очистить путь вокруг большой дороги. Он оставил Мортье и часть гвардии на расстоянии одного лье за собой, протянув, таким образом, издалека слишком слабую руку своей армии, и решил дождаться ее.
Шествие колонны под огнем не было кровавым, но колонна не могла победить местность, как людей. Русские с высоты своих холмов видели состояние нашей армии, ее недостатки, ее дезорганизованность — словом, всё, что обычно скрывается с такой тщательностью.
Казалось, что Милорадович с высоты своей позиции довольствовался издевательством над проходившим императором и его гвардией, наводившей так долго ужас на Европу. Он осмелился подобрать брошенные вещи лишь тогда, когда императорская колонна удалилась; тогда он сделался смелее, сомкнул ряды и, спустившись с высот, прочно расположился со своим двадцатитысячным войском на большой дороге; этим маневром он отрезал от императора Евгения, Даву и Нея и закрыл этим троим дорогу в Европу.
Глава IV
Пока он располагался таким образом, Евгений пытался собрать в Смоленске свои рассеявшиеся полки: он с трудом оторвал их от грабежа складов и смог созвать восемь тысяч человек лишь к вечеру 15 ноября. Он обещал им достать продовольствие в Литве, чтобы заставить их двинуться в путь. Ночь остановила принца в трех лье от Смоленска; уже половина его солдат расстроила свои ряды. На следующий день он продолжил путь с теми, кого не уложили около бивуака холод ночи и смерть.
Грохот орудий, слышавшийся накануне, прекратился; королевская колонна с трудом продвигалась вперед. Во главе вице-король и его главный штаб, погруженные в печальные мысли, предоставили лошадям полную свободу и незаметно отделились от войска, так как дорога была усеяна отставшими солдатами и вольными людьми, которых уже не старались призвать к порядку.
Так они подъехали на два лье к Красному; здесь их рассеянные взоры привлекло странное движение: толпа беспорядочно шедших людей неожиданно остановилась. Те, которые следовали за ними, подошли и присоединились к ним, другие, ушедшие было вперед, вернулись, образовалась толчея. Тогда изумленный Евгений осмотрелся: он заметил, что опередил на расстояние часа перехода свой полк, что вокруг него находятся около полутора тысяч человек всех чинов и наций, не знавших ни начальства, ни порядка, не имевших оружия, пригодного для битвы, и что ему предлагают сдаться.
Это предложение было отвергнуто при всеобщем негодовании. Но русский парламентер, он был один, настаивал: «Наполеон и его гвардия разбиты, — заявил он. — Вас окружают двадцать тысяч русских, но вы можете спастись, да еще на почетных условиях, и их вам предлагает Милорадович».
При этих словах из толпы выдвинулся Гюйон, один из тех генералов, у которых перемерли или разбежались все солдаты, и громко воскликнул: «Убирайтесь туда, откуда пришли, и скажите тому, кто вас послал, что если у него двадцать тысяч человек, то у нас их восемьдесят».
Изумленный русский удалился.
Достаточно было одной минуты, как холмы, расположенные влево от дороги, покрылись огнем и клубами дыма: гранаты и картечь посыпались на большую дорогу, и показались штыки грозно приближавшихся колонн.
Вице-король минуту колебался. Ему было противно покидать эту несчастную толпу; но, наконец, оставив здесь своего начальника штаба, он вернулся к своим дивизиям, чтобы повести их в бой и дать им возможность пройти сквозь преграды или же погибнуть; гордый своей короной и столькими победами, он не мог думать о сдаче.
Между тем Гильемино созвал к себе офицеров, которые в этой толпе смешались с солдатами. Несколько генералов, полковников и множество офицеров вышли из толпы и окружили его; они посовещались и, провозгласив Гильемино своим командиром, разделили людей на несколько взводов. Произошло всё это под сильным огнем.
Надо сказать, к вечной славе этих воинов, что полторы тысячи французов и итальянцев, один против десяти, располагавшие для обороны лишь решимостью и несколькими пригодными орудиями, не подпускали к себе неприятеля в течение целого часа.
Но Евгений и остатки его дивизий всё еще не показывались. Дальнейшее сопротивление становилось невозможным. Требования сложить оружие всё усиливались. Слышался отдаленный грохот пушек впереди и сзади: вся армия была атакована одновременно; от Смоленска до Красного шла одна непрерывная битва! Помощи неоткуда было ждать, нужно было самим искать ее, но где? В Красном — невозможно, оно слишком далеко и там идет сражение. Придется снова отступать; но русские под командой Милорадовича, требующие сложить оружие, стоят слишком близко, чтобы осмелиться повернуться к ним спиной. Лучше было сплотиться, вернуться к Смоленску, к вице-королю, соединиться с ним, а уже затем возвратиться всем вместе, опрокинуть Милорадовича и достичь, в конце концов, Красного.
На это предложение все ответили единодушным согласием. Тотчас же колонна сплотилась в одну массу и устремилась сквозь десятки тысяч неприятельских ружей и пушек. Сначала русские, изумленные, расступились и пропустили до самого своего центра эту горстку почти безоружных воинов, но затем, поняв, на что они решились, русские, движимые жалостью или изумлением, принялись кричать нашим, чтобы они остановились, уговаривая их сдаться. Им отвечали лишь твердой походкой, угрюмым молчанием и острием штыков. Тогда грянула в упор вся русская артиллерия, и половина солдат геройской колонны пали мертвыми или ранеными! Остальные продолжали двигаться, и ни один человек не отделился от общей массы, к которой не посмел приблизиться ни один русский! Немногие из этих несчастных снова увидели Евгения и его приближавшиеся дивизии. Только тогда они покинули ряды и побежали к своим братьям, которые, разомкнувшись, приняли их под свое покровительство.
В то время как половина русских сил была направлена на Гильемино и заставила его отступить, Милорадович, во главе другой половины, преградил путь принцу Евгению. Правый фланг русских упирался в лес, находившийся под прикрытием усеянных пушками высот; их левый фланг подходил к большой дороге, но робко и неохотно. Такая диспозиция указала Евгению, что ему надо делать. Королевская колонна, по мере своего приближения, развертывалась по правой стороне дороги, причем ее правый фланг выступал дальше левого. Таким образом, принц поставил наискось между собой и неприятелем большую дорогу, за которую происходила битва. Каждое из войск занимало эту дорогу своим левым флангом.
Русские, заняв такую наступательную позицию, защищались; одни лишь их ядра атаковали Евгения. Началась канонада, грозная с их стороны и почти ничтожная с нашей. Евгений, раздраженный их огнем, принял следующее решение: он вызвал 14-ю французскую дивизию, расположил ее по левую сторону большой дороги и указал ей на покрытые лесом высоты, на которые опирался неприятель и которые составляли его главную силу; это был самый важный пункт, центр операций, и чтобы покончить с остальным, нужно было отбить его. Евгений не надеялся на удачу, но этот маневр отвлек бы силы и внимание неприятеля, правая сторона дороги стала бы свободной, и тогда можно было воспользоваться ею.
Только триста солдат, образовавших три отряда, решились отправиться на этот приступ против неприятеля. Батарея Итальянской гвардии двинулась вперед, прикрывая их, но русские батареи тут же сбили ее, и она досталась неприятельской кавалерии.
Между тем триста французов, на которых сыпалась картечь, продвигались вперед; и они уже достигли неприятельской позиции, как вдруг с обеих сторон леса бросились галопом прямо на них кавалеристы и перебили их. Они все погибли, унося с собой то, что осталось от дисциплины и храбрости в их дивизии!
Тогда-то показался генерал Гильемино. От принца Евгения, располагавшего четырьмя тысячами обессилевших солдат, оставшихся от сорока двух тысяч, надо было ожидать, что он не растеряется и в таком критическом положении сохранит прежнюю отвагу; но до сих пор непонятно и удивительно для нас, почему русские, видевшие наше бедственное положение и так быстро добившиеся успеха, предоставили ночи оканчивать сражение. Победа была для них явлением столь новым, что, даже держа ее в руках, они не сумели воспользоваться ею: окончание сражения они отложили до следующего дня. Вице-король заметил, что большинство русских, привлеченных его маневром, перешло к левой стороне дороги, и ждал, что ночь, эта союзница слабейших, прекратит все их действия. Тогда, оставив на своей стороне костры, чтобы обмануть неприятеля, он отошел назад и тихо обошел по полям слева позиции Милорадовича, в то время как этот генерал, слишком уверенный в своем успехе, грезил о славе.
Во время этого опасного перехода была одна ужасная минута. В самый критический момент, когда эти люди, жалкие остатки стольких битв, тихо продвигались вдоль русской армии, сдерживая дыхание и шум своих шагов, когда все они зависели от одного взгляда или малейшего крика, вдруг луна, выйдя из-за тучи, осветила их движение. В то же время раздался русский голос, приказывающий им остановиться и спрашивающий, кто они такие. Они подумали, что погибли! Но Клицкий, один поляк, подбежал к этому русскому и тихо сказал ему на его родном языке: «Молчи, несчастный! Разве ты не видишь, что мы из Уваровского полка и идем по секретному предписанию?»
Обманутый русский умолк.
К флангам нашей колонны постоянно подъезжали казаки и возвращались к центру своего войска. Несколько раз их эскадроны приближались, чтобы открыть огонь, но они молчали — потому ли, что не были уверены в том, что видели, потому ли, что их продолжали обманывать, или из осторожности, так как наша колонна часто останавливалась и повертывалась лицом к неприятелю.
Наконец после двухчасового перехода мы вышли на большую дорогу; и принц Евгений был уже в Красном, когда 17 ноября Милорадович, спустившись со своих высот, чтобы захватить его, нашел на поле битвы одних лишь отставших французов, которых никакими силами нельзя было заставить накануне покинуть костры.
Глава V
Император, со своей стороны, в течение всего предыдущего дня ждал вице-короля. Шум сражения волновал его. Была сделана бесплодная попытка пробить себе путь назад, к нему; когда же наступила ночь, а Евгений всё не показывался, то беспокойство его приемного отца усилилось. Неужели и он, и Итальянская армия, и этот длинный день обманутых ожиданий — всё разом исчезло?! Наполеону оставалась только одна надежда: что вице-король, оттиснутый к Смоленску, соединится там с Даву и Неем и на следующий день все трое попытаются нанести решительный удар.
В тоске император созвал оставшихся при нем маршалов: Бертье, Бессьера, Мортье, Лефевра. Они спасены, они миновали опасность, Литва перед ними, им остается только продолжать отступление; но оставят ли они своих товарищей среди русской армии? Нет конечно; и они решили вернуться в Россию, чтобы спасти их или пасть вместе с ними!
Когда было принято это решение, Наполеон приступил к обсуждению диспозиции. Его не смущало, что вокруг него происходит большое движение, которое указывало, что Кутузов приближается, желая окружить и схватить его самого в Красном. Уже предыдущей ночью, с 15-го на 16-е, он узнал, что Ожаровский, во главе авангарда русской пехоты, опередил его и расположился в селе Малееве, позади его левого фланга.
Несчастье раздражало его, но не усмиряло; он позвал Раппа и крикнул: «Отправляйтесь немедленно!» Потом, позвав тотчас же своего адъютанта, он продолжал: «Нет, пусть Роге и его дивизия одни отправляются! А вы оставайтесь; я не хочу, чтобы вас убили здесь: вы мне будете нужны в Данциге!»
Рапп, отправившись, передал этот приказ Роге, удивляясь тому, что его командир, окруженный восьмьюдесятью тысячами солдат, с которыми ему предстояло сражаться на следующий день и располагая всего лишь девятью тысячами человек, слишком мало сомневается в своем спасении, если думает о том, что он будет делать в Данциге — городе, от которого его отделяла зима, две неприятельских армии и расстояние в сто восемьдесят лье.
Ночная атака на Ширково и Малеево удалась. Роге судил о расположении неприятеля по их огням: русские занимали два села, между которыми находилась плоская возвышенность, защищенная оврагом. Генерал разделил своих солдат на три колонны: правая и левая без шума и как можно ближе подошли к неприятелю; затем по сигналу, данному им самим из центра, они бросились на русских не стреляя, врукопашную.
Тотчас же в бой вступили оба крыла гвардии. В то время как русские, застигнутые врасплох, не знавшие, с какой стороны надо защищаться, бросились врассыпную, Роге со своей колотой врезался в их центр и произвел там переполох.
Неприятель, рассеявшись в беспорядке, успел только побросать в соседнее озеро большую часть артиллерии и поджечь свои прикрытия; но пламя это, вместо того чтобы защитить его, только осветило его поражение.
Эта стычка остановила движение русской армии на двадцать четыре часа; она дала императору возможность остаться в Красном, а принцу Евгению — соединиться с ним в следующую ночь. Наполеон встретил принца с большой радостью, но вскоре впал в еще большее беспокойство за Нея и Даву.
Вокруг нас лагерь русских представлял собой то же зрелище, что и в Винкове, Малоярославце и Вязьме. Каждый вечер вокруг генеральской палатки выставлялись на поклонение солдатам мощи русских святых, окруженные множеством свечей. В то время как солдаты, следуя своим обычаям, выражали благочестие крестным знамением и коленопреклонением, священники распаляли фанатизм этих воинов поучениями, которые показались бы смешными и дикими любому цивилизованному народу.
Однако, несмотря на великую силу этих средств, большую численность русской армии и нашу слабость, Кутузов, находившийся на расстоянии всего лишь двух лье от Милорадовича, оставался недвижимым, когда последний бил принца Евгения. В течение следующей ночи Беннигсен, подстрекаемый пылким Вильсоном, напрасно пытался призывать старика к деятельности. Обращая недостатки своего возраста в достоинства, Кутузов называл медлительность и осторожность здравым смыслом, гуманностью и благоразумием; если позволительно сравнивать малые вещи с великими, то его слава основывалась на принципе, прямо противоположном наполеоновскому: один был баловнем судьбы, другой ее творцом.
Кутузов хвастался тем, что он двигался только короткими маршами, позволяет солдатам отдыхать каждый третий день; он немедленно остановится, если они вдруг захотят хлеба или водки. Он утверждал, что на всем пути от Вязьмы он сопровождал французскую армию, как своих пленников, бил их, когда они хотели остановиться, и сгонял с большой дороги; бесполезно рисковать, когда имеешь дело с пленными; казаков, авангарда и артиллерии вполне достаточно, чтобы покончить с ними и надеть на них ярмо; Наполеон восхитительным образом помогал ему осуществить этот план. Почему он должен покупать у Судьбы то, что она великодушно давала ему? Разве Наполеону уже не отмерен срок? Этот метеор погаснет в болотах Березины, этот колосс будет низвергнут объединенными русскими армиями, Витгенштейном, Чичаговым и им; ему достаточно славы того, кто пригонит к Березине ослабевшего, безоружного и дышащего на ладан Наполеона.
Английский офицер, активный и энергичный, умолял фельдмаршала покинуть его штаб-квартиру только на несколько мгновений и подняться на высоты; оттуда он увидит, что последний час Наполеона уже наступил. Неужели он позволит ему покинуть пределы России, требующей отмщения за великую жертву? Нужно лишь нанести удар; пусть он только даст приказ, и одной атаки будет достаточно, чтобы за два часа облик Европы совершенно изменился!
Затем, недовольный невозмутимостью, с которой Кутузов слушал его, Вильсон в третий раз угрожал ему всеобщим возмущением: «При виде в беспорядке двигающейся колонны, состоящей из калек и умирающих, которая собирается от них уйти, казаки восклицают: «Какой стыд позволить этим скелетам сбежать из могилы!»» Но Кутузов, которого возраст делал безразличным ко всему, вдруг рассердился и велел англичанину замолчать.
Говорят, что какой-то шпион сообщил Кутузову, что Красное наполнено огромным количеством Императорской гвардии, и что старик побоялся скомпрометировать перед ней свою репутацию. Но вид нашего бедственного положения подбодрил Беннигсена; этот начальник Генерального штаба убедил Строганова, Голицына и Милорадовича, имевших в своем распоряжении более 50 тысяч русских с сотней орудий, напасть, несмотря на Кутузова, рано утром на 14 тысяч голодных, ослабевших и полузамерзших французов и итальянцев.
Наполеон понимал всю угрожавшую ему опасность. Он мог избегнуть ее: рассвет еще не показывался. Он свободно мог избежать гибельной битвы, немедленно отправившись с Евгением и своей гвардией в Оршу и Борисов; там он соединился бы с 30 тысячами французов Виктора и Удино, с Домбровским, Ренье, Шварценбергом, со всеми вспомогательными отрядами, а на следующий год мог снова появиться грозным властелином!
Но нет. Семнадцатого, до рассвета, он отдал необходимые приказания; он вооружился и пешком, во главе своей гвардии, начал поход. И пошел не к Польше, своей союзнице, не к Франции, где всё еще был родоначальником новой династии и императором Запада. Он воскликнул, выхватив шпагу: «Довольно быть императором, пора стать генералом!»
Он повернулся к восьмидесяти тысячам неприятеля, навлекая на себя все его силы, чтобы избавить от них Даву и Нея и вырвать этих двух военачальников из смертельных объятий России.
Когда рассвело, показались русские батальоны и батареи, заслонявшие горизонт с трех сторон. Наполеон с шестью тысячами гвардейцев храбро вступил в середину этого ужасного круга. В то же время Мортье, в нескольких шагах перед императором, развернул вдоль всей огромной русской армии свое войско, в котором оставалось пять тысяч человек.
Целью их было защитить правую сторону дороги, от Красного до большого оврага, по направлению к Стахову. Стрелковый батальон гвардии, расположившись в каре возле большой дороги, служил опорой левому флангу наших молодых солдат. Справа, на снежной равнине, окружавшей Красное, находились остатки гвардейской кавалерии, несколько орудий и тысяча двести всадников Натур-Мобура (со времени выхода из Смоленска холод убил или разогнал около пятисот его солдат) — они заменяли собой батальоны и батареи, которых не было во французской армии.
Артиллерия Мортье была подкреплена батареей, которой командовал Друо, один из тех доблестных людей, которые думают, что перед долгом всё должно преклоняться, и способны приносить самые героические жертвы!
В Красном остался Клапаред: он с несколькими солдатами охранял раненых, обоз и отступление. Принц Евгений продолжал отступать к Лядам. Сражение, бывшее накануне, и ночной переход нанесли окончательный удар его армии: дивизии еще были сплочены, но могли только умереть, а никак не сражаться!
Между тем Роге был призван из Малеева на поле битвы. Неприятель ввел свои колонны в это село и заходил всё дальше, стараясь окружить нас справа. Тогда началась битва. Но какая битва! Император не обнаружил ни внезапного вдохновения, ни неожиданного проявления своего гения; он не мог нанести ни одного из тех бесстрашных ударов, которые заставляли счастье служить ему и вырывали победу у ошеломленного и опрокинутого неприятеля; все движения русских были свободны, наши же стеснены, и этот гений атаки был вынужден защищаться!
Вот тут-то мы и увидели, что слава не простой звук, что это реальная и вдвойне могущественная сила, — благодаря той непреклонной гордости, которую она внушает своим любимцам, и той робости, которую она вызывает у тех, кто осмеливается атаковать ее. Русским надо было только двигаться вперед, даже без огня, — достаточно было их количества; они могли опрокинуть Наполеона и его слабое войско, но они не осмеливались напасть на него! Один вид завоевателя Египта и Запада наводил на них страх. Пирамиды, Маренго, Аустерлиц, Фридланд — эти победы, казалось, вставали между ним и всеми этими русскими; можно было подумать, что этот покорный и суеверный народ видел в славе нечто сверхъестественное: он не считал возможным для себя приблизиться к нашей армии и думал, что ее можно атаковать только издали, что против нашей гвардии, против этой живой крепости, против этой гранитной колонны, как ее окрестил Наполеон, люди бессильны и ее могут разрушить лишь пушки!
Они сделали широкие и глубокие бреши в рядах Роге и в гвардии, но они убивали, не побеждая. Эти молодые солдаты, из которых половина еще не была в сражении, умирали в течение трех часов, не отступая ни на один шаг, не сделав ни одного движения, чтобы укрыться от смерти, и не имея возможности самим нести смерть, так как пушки их были разбиты, а русские находились вне ружейного выстрела.
Но каждая минута усиливала неприятеля и ослабляла Наполеона. Пушечные выстрелы и донесения Клапареда говорили ему, что позади него и Красного Беннигсен захватывает дорогу на Ляды — путь его отступления. На западе, на юге, на востоке сверкали неприятельские огни; свободно можно было вздохнуть только с одной стороны, которая оставалась незанятой, — на севере, у Днепра; туда вела возвышенность, у подошвы которой находился император, занимавший большую дорогу. Вдруг оказалось, что весь пригорок занят пушками. Они расположились над самой головой Наполеона, готовые в одно мгновение разнести его. Его предупредили об этом. Он с минуту смотрел туда и сказал: «Хорошо, пусть один батальон моих стрелков захватит их!»
И тотчас, не думая больше об этих пушках, снова стал беспокоиться о Мортье и его опасном положении.
Тут наконец появился Даву в окружении казаков, которых он поспешно разгонял по пути. Завидев Красное, солдаты этого маршала покинули свои ряды и бросились через поля, чтобы обойти неприятеля справа. Даву и его генералы снова смогли выстроить их в ряды лишь в Красном.
Первый корпус был спасен, но тут мы узнали, что наш арьергард в Красном не может больше защищаться; что Ней, видимо, еще в Смоленске и надо отказаться от мысли дождаться его. Однако Наполеон колебался: он не мог решиться на такую огромную жертву.
В конце концов, когда всё погибало, он решился; он призвал Мортье и, сердечно пожимая ему руку, сказал: «Нельзя больше терять ни минуты. Неприятель окружает меня со всех сторон, Кутузов может дойти до Ляд, даже до Орши и последнего изгиба Днепра раньше меня; поэтому я немедленно отправляюсь с гвардией занять этот путь. Я оставляю вам Даву; постарайтесь продержаться в Красном до ночи, потом соединяйтесь со мной».
И с сердцем, исполненным скорби за Нея, охваченный отчаянием при мысли, что покидает его, он медленно удалился с поля битвы, прошел Красное и очистил себе путь в Ляды.
Мортье хотел исполнить приказ, но гвардейцы-голландцы потеряли в эту минуту треть своего состава и важную позицию, которую они защищали; неприятель тотчас же занял своей артиллерией отбитую у нас позицию. Роге хотел заставить ее замолчать, но направленный им против русской батареи полк был отбит. Другому же полку, 1-му стрелковому, удалось добраться до середины русских, и два кавалерийских полка неприятеля не испугали его. Он продолжал двигаться вперед, пока третий русский полк не уничтожил его: Роге смог спасти всего пятьдесят солдат и одиннадцать офицеров!
К счастью, несколько взводов, собранных Даву, и появление отставших солдат отвлекли внимание русских. Мортье воспользовался этим и приказал трем тысячам человек, оставшимся у него, отступать шаг за шагом перед пятьюдесятью тысячами неприятелей. «Солдаты, вы слышите! — закричал генерал Лаборд. — Маршал приказал идти обыкновенным шагом! Солдаты, шагом!»
И это храброе несчастное войско, унося с собой раненых, под градом пуль и картечи медленно отступало с этого залитого кровью поля, словно на маневрах!
Глава VI
Имея Красное между собой и Беннигсеном, Мортье был спасен: Кольбер и Латур-Мобур держали русских на их высотах. В середине этого перехода был отмечен странный случай: одна из гранат попала в лошадь, взорвалась в ней и разнесла ее на мелкие куски, даже не ранив всадника, который соскочил на землю и продолжал свой путь.
Император остановился в Лядах, в четырех лье от места битвы. Когда наступила ночь, он узнал, что Мортье, который должен был находиться сзади, оказался перед ним. Раздраженный и обеспокоенный, Наполеон послал за ним, и когда тот пришел, сказал взволнованным голосом: «Безусловно, вы сражались со славой и сильно пострадали. Но почему вы оставили своего императора между собой и врагом? Почему подвергли его риску быть отрезанным?»
Маршал ответил, что вначале он оставил Даву, который вновь пытался собрать свои силы, в Красном, и остановился недалеко от этого места; однако 1-й корпус, отброшенный прямо на него, вынудил его отступить. «Кроме того, Кутузов вовсе не проявлял энергию, чтобы развить свой успех, и повис на нашем фланге всей свой армией только для того, чтобы его глаз радовался нашему несчастью, и для того, чтобы подбирать наших отставших».
На следующий день мы нерешительно двинулись дальше. Наполеон шел пешком, с палкой в руке, с трудом и отвращением двигаясь вперед и останавливаясь через каждые четверть часа, словно не мог оторваться от этой России, границы которой он в это время переходил и в которой он оставлял своего несчастного товарища по оружию.
Вечером достигли Дубровны. Город был населен, как и Ляды, — новое зрелище для армии, которая в течение трех месяцев видела одни развалины. Наконец-то мы были вне снежных пустынь и пожарищ, входили в населенную страну, язык которой был нам понятен. В то же время небо прояснилось, началась оттепель; мы получили кое-какие припасы.
Итак, зима, враг, голод — всё это сразу кончилось; но слишком поздно. Император видел, что армия уничтожена, имя Нея ежеминутно срывалось у него с языка! В эту ночь его приближенные слышали, как он особенно сильно стонал и кричал, что бедственное положение солдат разрывает ему сердце, что он не может спасти их, иначе как остановившись в каком-нибудь месте; но где можно остановиться, не имея ни военных, ни съестных припасов, ни орудий? У него нет достаточно сил, чтобы остановиться; поэтому надо как можно скорее достичь Минска.
В это время польский офицер привез известие, что Минск захватили русские! Чичагов вошел в него 16-го числа. Наполеон сначала молчал и был как бы сражен этим ударом. Потом он проговорил хладнокровно: «Ну что же, не остается ничего другого, как расчищать себе путь штыками!»
Но чтобы подойти к неприятелю, который ускользнул от Шварценберга, — или, может, Шварценберг его пропустил, так как ничего не было известно, — и избежать Кутузова и Витгенштейна, надо было переправиться через Березину под Борисовым. Поэтому Наполеон тотчас же (19 ноября из Дубровны) послал приказ Домбровскому не думать о сражении с Гертелем, а срочно занять дорогу. Он написал Удино, чтобы тот быстро выступал, а Виктор будет прикрывать его шествие. Отдав эти приказания, Наполеон несколько успокоился и, утомленный столькими страданиями, задремал.
Было еще далеко до рассвета, когда странный шум вывел его из дремоты. Рассказывали, что сначала раздалось несколько ружейных выстрелов, но это стреляли наши солдаты, чтобы заставить выйти из домов тех, кто там укрывался, и самим занять их места; другие заявляли, что из-за беспорядка на наших ночевках, когда можно было громко перекликаться, имя одного гренадера, Hausanne, громко произнесенное среди глубокой тишины, все приняли за тревожный возглас «Aux armes!»[24], указывающий на неожиданное нападение неприятеля.
Как бы там ни было, но все тотчас же увидели — или всем показалось, что они увидели, — казаков, и вокруг Наполеона поднялся невообразимый шум военной тревоги и паники. Император, не смутившись, сказал Раппу: «Посмотрите-ка, это, вероятно, подлые казаки не дают нам спать!»
Но вскоре поднялся настоящий переполох: люди кидались в сражение и, сталкиваясь впотьмах, принимали друг друга за врагов.
Наполеон думал сначала, что это настоящая атака. Через город, по дну оврага, протекал ручей; император спросил, поместили ли остатки артиллерии за этим ручьем. Ему ответили, что это упустили из виду; тогда он побежал к мосту и сам тотчас же заставил перевести орудия на ту сторону оврага.
Затем он вернулся к своей гвардии, останавливаясь перед каждым батальоном и говоря: «Гренадеры, мы отступаем, но неприятель не победил нас. Так не погубим же сами себя! Покажем пример армии! Меж вами многие уже бросили своих орлов и даже оружие! Я обращаюсь не к военному суду для прекращения этих беспорядков, а к вам самим! Судите сами друг друга! Вашу дисциплину я вверяю вашей чести!»
Он приказал повторить эту речь перед остальными частями войска.
Этих немногих слов было достаточно для старых гренадеров, которые, может быть, и не нуждались в них.
Остальные встретили эту речь одобрительными возгласами; но через час, когда двинулись в путь, они забыли о ней.
В Орше были довольно значительные припасы провизии, плавучий мост на шестидесяти лодках и тридцать шесть пушек с лошадьми, которые были разделены между Даву, Евгением и Мобуром. Здесь мы встретили в первый раз офицеров и жандармов, которые должны были арестовывать на обоих мостах через Днепр толпы бежавших солдат, чтобы заставить их возвратиться под свои знамена. Но от этих орлов, прежде подававших столько надежд, теперь бежали, как от зловещих чудовищ!
У беспорядка была уже своя организация: нашлись люди, которые умели даже вызывать его. Собиралась огромная толпа, и эти негодяи начинали кричать: «Казаки!» — они хотели, чтоб идущие впереди них ускорили шаг и увеличили сумятицу. Этим они пользовались и отнимали съестные припасы и одежду у тех, кто не был достаточно осторожен.
Жандармы, впервые увидевшие эту армию после ее поражения, удивленные видом такого обнищания, испуганные таким расстройством, приходили в отчаяние.
Наполеон вошел в Оршу с 6 тысячами гвардейцев, оставшимися от 35 тысяч! Евгений — с 1800 солдатами, оставшимися от 42 тысяч! Даву — с 4 тысячами строевых солдат, оставшимися от 70 тысяч!
Этот маршал потерял всё: у него не было даже белья, и голод изнурил его. Он набросился на хлеб, который дал ему один из товарищей по оружию, и с жадностью проглотил. Ему дали платок вытереть иней, покрывавший лицо. Он воскликнул: «Только железные люди могут вынести подобные испытания, живые не могут им противостоять! Человеческим силам есть предел; мы превысили его!»
Он должен был поддерживать наше отступление до Вязьмы. Следуя своей привычке, он присутствовал при всех выступлениях, пропускал всех вперед себя, отсылал каждого к своим рядам и всегда боролся со всяким неустройством. Он заставлял своих солдат отнимать добычу у тех из их товарищей, которые покидали оружие; это было единственное средство удержать одних и наказать других. Тем не менее его обвиняли в действиях, неуместных среди всеобщей неурядицы.
Наполеон тщетно пытался побороть свое отчаяние. Когда он бывал один, слышно было, как он стонет из-за страданий своих солдат; но при посторонних он хотел казаться непреклонным. Поэтому он велел объявить, что каждый должен вернуться в свою часть; в противном случае он велит разжаловать офицеров и лишать жизни самих солдат.
Эта угроза не произвела ни хорошего ни дурного впечатления на людей, ставших бесчувственными или окончательно павших духом, бежавших не от опасности, а от страдания. Они меньше боялись смерти, которой им угрожали, чем той жизни, какую им предлагали.
Но у Наполеона чувство уверенности увеличивалось вместе с опасностью. В его глазах и посреди русских пустынь, грязи, голода и холода эта горсточка людей всё еще была Великой армией, а он — завоевателем Европы! В его кажущейся твердости не было никакой иллюзии; в этом можно было убедиться, видя, как он собственными руками сжег в Орше все те одежды, которые могли служить трофеями неприятелю в случае его гибели.
К несчастью, тут были уничтожены все документы, собранные им для того, чтобы написать историю своей жизни, а он собирался ее писать, когда отправлялся на эту гибельную войну. Тогда он еще думал, что скука шести зимних месяцев, которые ему придется тут провести, будет самой большой неприятностью; так вот, чтобы убить ее, этот новый Цезарь хотел диктовать свои воспоминания!
Глава VII
Теперь всё изменилось. Две неприятельских армии отрезали Наполеону путь к отступлению. Нужно было решить, сквозь которую из них пробовать проложить себе дорогу; а так как ему неизвестны были литовские леса, в которые он должен был углубиться, он позвал к себе тех из приближенных, которые проходили через них, идя на восток.
Сначала император сказал им, что привычка к большим успехам часто подготовляет огромные неудачи; но не стоит обвинять друг друга. Потом он заговорил о взятии Минска и, отдав должное ловкости маневров, предпринятых Кутузовым с правого фланга, объявил, что он хочет отказаться от военных действий в Минске, присоединиться к Виктору и Удино, опрокинуть Витгенштейна и направиться в Вильну, обойдя истоки Березины.
Жомини высказался против этого плана, объяснив, что Витгенштейн занимает позицию за высокими холмами. Сопротивление его там будет продолжительным, упорным и достаточно долгим, чтобы довершить нашу гибель. Он прибавил, что в такое время года и при таком беспорядке перемена дороги окончательно погубит армию, что она заблудится на проселочных дорогах, среди диких болотистых лесов; он утверждал, что только на большой дороге войска сохранят некоторый порядок. Борисов и его мост через Березину еще свободны, надо только дойти до этого города.
Он утверждал, что знает о существовании дороги, которая, огибая город справа, идет по деревянным мостам через литовские болота. По его мнению, армия могла только по этой дороге дойти до Вильны через Зембин и Молодечно, оставив слева от себя и Минск, и дорогу, ведущую в него, и пятьдесят сломанных мостов, которые делают ее непроходимой, и Чичагова, занимавшего ее. Таким образом, мы прошли бы между двумя неприятельскими армиями и миновали бы обе.
Император был потрясен; но так как избегать сражения казалось оскорбительным для его гордости, а ему хотелось выйти из России только после победы, то он позвал инженера генерала Дода и еще издали, едва завидев его, спросил: надо ли бежать через Зембин или лучше идти побеждать Витгенштейна. Дод ответил, что Витгенштейн занимает высоты, поднимающиеся над всей топкой местностью, что на виду у неприятеля пришлось бы пробираться по извилистой дороге, чтобы достичь лагеря русских; что наша колонна долгое время подставляла бы под его огонь сначала левый, а затем правый фланг; что атаковать с фронта эту позицию нельзя, а чтобы обойти ее, надо вернуться к Витебску и сделать большой крюк.
Тогда Наполеон, потеряв последнюю надежду на славу, решился идти в Борисов. Он приказал генералу Эбле выступить с восемью ротами саперов и понтонеров, чтобы обеспечить переправу через Березину, а Жомини быть ему проводником.
Все его иллюзии рассыпались в прах. В Смоленске он сначала узнавал о своем бедственном положении, а уже потом сам видел его. В Красном, где всё наше неустройство прошло перед его глазами, внимание его было отвлечено опасностью. Но в Орше он вполне мог убедиться в нашем несчастий своими собственными глазами!
В Смоленске оставались еще тридцать тысяч строевых солдат, полтораста орудий, казна — была надежда свободно вздохнуть за Березиной, тогда как тут едва набиралось шесть тысяч солдат, раздетых, разутых, затерявшихся в массе умирающих, да еще несколько пушек и расхищенная казна!
За пять дней положение ухудшилось: разрушение и беспорядок достигли ужасающих размеров! Не отдых и довольство ожидали нас по ту сторону Березины, а новые сражения с новой армией. Наконец, отпадение Австрии казалось уже свершившимся фактом и могло быть сигналом для всей Европы!
Наполеон даже не знал, настигнет ли его в Борисове новая опасность, которую, казалось, ему подготовила нерешительность Шварценберга. Известно, что 3-я русская армия, под предводительством Витгенштейна, угрожала ему справа по пути к этому городу; что он выставил против нее Виктора и приказал этому маршалу еще раз найти возможность, упущенную 1 ноября, и перейти в наступление.
Виктор повиновался, и 14-го, в тот самый день, когда Наполеон вышел из Смоленска, он и Шварценберг оттеснили первые посты Витгенштейна к Смолянам, подготовляя сражение, которое они хотели дать на следующий день.
Французов было тридцать тысяч против сорока у неприятеля. Здесь, как и под Вязьмой, солдат было бы достаточно, если б не слишком большое количество начальников.
Между маршалами возникли разногласия. Виктор хотел напасть на левое крыло неприятеля, обойти с обоими французскими корпусами Витгенштейна, идя через Бочейково на Камень, а оттуда на Березину. Удино резко осуждал этот план, говоря, что таким образом они отделятся от Великой армии, которая ждет от них помощи.
Так как один из начальников хотел обойти неприятеля, а другой атаковать его с фронта, то ни то ни другое не было сделано.
Удино ночью отступил к Черее, а Виктор, заметивший на рассвете его отступление, должен был последовать за ним.
Он остановился только на расстоянии дневного перехода от Лукомли, у Сенно, где Витгенштейн мало беспокоил его. Наконец герцог Реджио получил из Дубровны приказание отправиться к Минску, и Виктор должен был остаться один против русского генерала. Могло случиться, что последний воспользуется своим превосходством; и тогда император в Орше, где он увидел 20 ноября, что его арьергард погиб, левому флангу грозит Кутузов, а голова его армии остановлена у Березины Волынской армией, узнает, что Витгенштейн во главе сорока тысяч русских солдат, которых французы совсем не разбили и не отогнали, готов напасть на наш левый фланг, и ему надо спешить.
Но Наполеон долго не решался покинуть берега Днепра. Ему казалось, что это значило еще раз покинуть несчастного Нея и навсегда отказаться от своего храброго товарища по оружию. Здесь, как в Лядах и Дубровне, он ежеминутно, днем и ночью, посылал людей узнать, не слышно ли чего об этом маршале; но сквозь русскую армию не проникало ничего, что указывало бы на его существование; вот уже четыре дня длилось это мертвое безмолвие, но император всё еще продолжал надеяться!
Наконец, вынужденный 20 ноября покинуть Оршу, он оставил там Евгения, Мортье и Даву и остановился в двух лье, расспрашивая о Нее и всё поджидая его. То же уныние царило во всей армии, остатки которой находились в Орше. Как только насущные заботы давали минуту отдыха, все мысли, все взгляды устремлялись в сторону русских. Прислушивались, не выдадут ли какие-либо военные звуки прибытие Нея, или, вернее, его последнее издыхание; но видны были только одни враги, которые уже угрожали мостам через Днепр! Тогда один из троих военачальников хотел разрушить их, но остальные восстали против этого: это значило еще больше отдалиться от товарища по оружию, Но к вечеру четвертого дня всякая надежда исчезла. Все обвиняли друг друга в несчастий Нея, как будто можно было дольше ждать спасения 3-го корпуса из-под Красного, где ему пришлось сражаться больше двадцати восьми часов, хотя сил и боевых припасов хватало только на час.
Последним несчастного маршала покинул Даву; Мортье и вице-король стали спрашивать, каковы были его прощальные слова. Припомнили, что 16-го Даву уведомил его об опасности, а Ней отвечал, что все казаки в мире не помешают ему выполнить данных ему инструкций. Когда истощились воспоминания и догадки, все погрузились в унылое безмолвие. Вдруг раздался топот нескольких лошадей, послышался радостный крик, что маршал Ней спасен и идет сюда!
И в самом деле, к нам подъехал один из его офицеров и объявил, что маршал приближается по правому берегу Днепра и просит о помощи.
У Даву, Евгения и Мортье оставалась только короткая ночь, чтобы подкрепить и согреть солдат, до сих пор живших по-походному. В первый раз после Москвы эти несчастные получили достаточное количество съестных припасов; они собирались приготовить их, а потом отдохнуть в крытых, теплых помещениях. Как заставить их снова взяться за оружие, каким образом отнять у них эту ночь покоя, неизъяснимую сладость которого они едва вкусили? Кто убедит их прервать ее и снова вступить в русский мрак и холод?
Евгений и Мортье стали спорить по этому поводу. Первому удалось взять верх с помощью своего более высокого чина. Кров и раздача съестных припасов сделали то, чего не могли добиться угрозами; отставшие заняли свои места. Евгений собрал четыре тысячи человек; при упоминании об опасности, грозившей Нею, все двинулись вперед, но это их усилие было последним.
Они двигались вперед в темноте по незнакомым тропинкам и прошли наугад около двух лье, останавливаясь на каждом шагу, чтобы прислушиваться. Страх всё возрастал. Неужели они заблудились? Неужели слишком поздно? Неужели их несчастные товарищи погибли? Не встретят ли они победоносную русскую армию? Принц Евгений приказал сделать несколько выстрелов из пушки. Послышались ответные сигналы, их подавал 3-й корпус, который потерял артиллерию и отвечал на пушечные выстрелы ружейными.
Тотчас же оба корпуса пошли навстречу друг другу. Первыми узнали друг друга Ней и Евгений; они кинулись друг к другу и крепко обнялись! Евгений плакал; у Нея вырывались сердитые восклицания! Один — счастливый, растроганный и экзальтированный своей рыцарской отвагой; другой — еще разгоряченный сражением, раздраженный опасностями, угрожавшими чести армии, винивший во всем Даву, который якобы несправедливо покинул его.
Когда, несколько часов спустя, последний хотел извиниться, то получил в ответ лишь суровый взгляд и следующие слова: «Я, господин маршал, не упрекаю вас ни в чем. Бог вам судья!»
Как только оба корпуса узнали друг друга, солдаты, офицеры, генералы — все бросились друг другу навстречу. Солдаты Евгения пожимали руки солдатам Нея; они дотрагивались до них с радостью, смешанной с изумлением и любопытством, и с нежной жалостью прижимали их к груди! Они делились с ними только что полученными припасами и водкой; они забрасывали их вопросами. Затем, все вместе, пошли в Оршу, горя нетерпением: солдаты Евгения — услышать, а солдаты Нея — рассказать о пережитых несчастиях!
Глава VIII
Последние рассказали, что 17 ноября они вышли из Смоленска с двенадцатью орудиями, шестью тысячами штыков и тремястами лошадьми, оставив на усмотрение неприятеля шесть тысяч раненых; что если бы не грохот пушек Платова да взрыв мин, их маршалу никогда не удалось бы вырвать из развалин этого города семь тысяч ютившихся там отставших воинов. Они рассказали, как заботливо относился Ней к раненым, женщинам, детям и что они лишний раз убедились, что он самый храбрый человек — и самый гуманный!
У ворот города произошло гнусное событие, ужаснувшее всех. Одна мать бросила своего пятилетнего ребенка; не обращая внимания на его крики и слезы, она выбросила его из своих слишком нагруженных саней и с безумным видом закричала: «Ты не видел Франции! Ты не будешь жалеть о ней; но я, я знаю Францию! Я хочу снова увидеть ее!»
Ней дважды приказывал положить в сани несчастного ребенка, дважды она выбрасывала его на холодный снег!
Но они не оставили безнаказанным это преступление, единственное исключение среди многих поступков самоотвержения и преданности: бесчеловечную мать бросили среди снегов, а ребенка подняли и передали на попечение другой женщины; сиротку видели потом и у Березины, и в Вильне, даже в Ковно — мальчику удалось перенести все ужасы отступления.
Между тем офицеры Евгения продолжали осыпать вопросами офицеров Нея, и те рассказали, как вместе со своим маршалом они направились к Красному, таща за собой толпу людей, впавших в отчаяние, а впереди шла другая толпа, которую голод заставлял торопиться.
Они рассказывали, что в каждом овраге находили каски, кивера, сломанные сундуки, разбросанную одежду, повозки и пушки; под Катынью, к концу первого дня их похода, сильная пальба и свист ядер над головами заставили их предположить, что начинается сражение. Выстрелы раздавались совсем близко от них, но они не видели неприятеля. Рикар и его дивизия выдвинулись вперед, чтобы обнаружить его; но в изгибе дороги они нашли только две французские батареи, покинутые вместе с боевыми припасами, а на соседних полях — убегавшую толпу жалких казаков, испугавшихся собственной дерзости и шума, произведенного ими самими.
Потом офицеры Нея, в свою очередь, стали расспрашивать, что без них произошло, почему царит такое общее уныние, почему оставили врагу совсем целые орудия? Разве не было времени заклепать пушки?
До сих пор, говорили они, им попадались лишь следы злополучного отступления. Но на следующий день всё изменилось и оправдались их мрачные предчувствия, когда они достигли снежной поляны, ставшей красной от крови, покрытой обломками орудий и изуродованными трупами. По мертвым можно было определить, что тут была 14-я дивизия: на разбитых киверах виднелись номера ее полков. Здесь была Итальянская гвардия: вот павшие солдаты ее, их легко было узнать по мундирам! Но где же уцелевшие остатки? И они тщетно вопрошали эту окровавленную равнину, эти бездыханные фигуры, это ледяное молчание пустыни и смерти: они не могли заглянуть ни в судьбу своих товарищей, ни в то, что ждало их самих.
Ней быстро повел их дальше, и они беспрепятственно дошли до того места, где дорога входит в глубокий овраг и откуда выходит на плоскую возвышенность. Это была Катовская возвышенность, то самое поле битвы, на котором они три месяца тому назад во время своего победоносного шествия разбили Неверовского и салютовали Наполеону из пушек, отбитых у неприятеля. По их словам, они узнали это место, несмотря на снег, изменивший его…
Офицеры Мортье сообщили, что это та самая позиция, на которой император и они ждали их 17-го и сражались.
На этот раз Кутузов, или, вернее, Милорадович, занял место Наполеона, потому что русский старец еще не выезжал из Доброго.
Солдаты Нея, шедшие беспорядочными толпами, уже вернулись было назад, указывая на снежную равнину, почерневшую от масс неприятеля, как вдруг какой-то русский, отделившись от своих, спустился с возвышенности; предстал перед французским маршалом и — из желания ли щегольнуть своими манерами, или из уважения к главнокомандующему — облек в льстивые выражения требование сдаться!
Он говорил, что его послал Кутузов. Этот фельдмаршал не осмелился бы сделать столь жестокого предложения такому великому генералу, такому прославленному воину, если бы последнему оставался хоть один шанс на спасение. Но перед ним и вокруг него восемьдесят тысяч русских, и если он этому не верит, то Кутузов предлагает объехать его ряды и самому сосчитать его силы.
Русский еще не кончил, как вдруг с правого фланга его армии был пущен залп картечи, прорезавший наши ряды и заставивший его умолкнуть. Один французский офицер бросился на него, как на изменника, желая убить, а Ней, удерживая его порыв, воскликнул: «Маршалы не сдаются, переговоры не ведут под огнем; вы мой пленник!»
И несчастный остался под выстрелами своих. Он был выпущен только в Ковно, через двадцать шесть дней, разделив с нами все невзгоды; он имел возможность бежать, но держал слово.
Между тем неприятель удвоил огонь, и все холмы, минуту назад холодные и безмолвные, превратились в извергающиеся вулканы; но это только воодушевляло Нея! Среди огня этот пламенный человек, казалось, находился в своей стихии!
Кутузов действительно не обманывал его. С одной стороны — восемьдесят тысяч человек, сытых, стоявших стройными рядами, многочисленные эскадроны, огромная артиллерия на грозной позиции — словом, всё; с другой стороны — пять тысяч солдат, еле двигающихся, раздробленная колонна, медленно, неуверенно тащившаяся с неполным оружием, нечищеным, нетвердо державшимся в ослабевших руках!
Однако французский генерал не помышлял ни о сдаче, ни даже о смерти, а только хотел проложить себе путь сквозь неприятельские ряды, даже не думая о геройстве такой попытки! Один, не надеясь ни на кого, когда все надеялись на него, он следовал побуждениям своей сильной натуры и той гордости победителя, благодаря которой всё возможно!
Больше всего изумляло, что все были ему послушны, потому что все оказались достойными его…
Рикар и его полторы тысячи солдат шли вперед. Дивизия скрылась в овраге, показалась на другой стороне и, смятая первой русской линией, снова откатилась назад.
Маршал, не удивляясь и не давая другим удивляться, собрал остальных, составил из них резерв и двинулся вперед; Ледрю, Разу и Маршан служили ему подмогой. Он приказал четыремстам иллирийцам напасть на левый фланг неприятельской армии, а сам с тремя тысячами человек пошел с фронта на приступ! Он не произнес никакой речи; он шел, подавая другим личный пример, всегда являющийся самым красноречивым ораторским приемом и самым убедительным приказом! Все последовали за ним. Они подошли вплотную к первой линии русских, пробили и смяли ее и, не останавливаясь, устремились ко второй; но не успели они дойти до нее, как на них посыпался град железа и свинца. В одно мгновение у Нея пали ранеными все генералы, большая часть солдат погибла; ряды опустели; колонна дрогнула, рассыпалась, отступила и увлекла его.
Ней понял, что захотел невозможного, и ждал, пока овраг очутится между его бегущими солдатами и неприятелем; этот овраг теперь был единственным его ресурсом. Тогда, не надеясь ни на что и ничего не боясь, он остановил их и вновь сформировал. Он выстроил две тысячи человек против восьмидесяти тысяч; на огонь двухсот жерл он отвечал шестью пушками и устыдил Фортуну, изменившую столь храброму мужеству!
Тут, вероятно, она и ослепила Кутузова бездействием. К великому удивлению французов, этот русский Фабий, слишком усердный, как всякий подражатель, упорно держащийся за осторожность, остался где стоял и ничего не делал, чтобы одержать окончательную победу; словно удивлялся своему превосходству. Он видел, что Наполеон пал жертвой своей отваги, и, избегая этого недостатка, сам впал в противоположный порок!
А между тем достаточно было выступления одного из русских корпусов, чтобы всё закончить; но все боялись сделать решительное движение: они продолжали стоять на местах с рабской неподвижностью, словно были смелы лишь по приказанию, а энергия их была только в послушании.
Они долго не знали, с кем сражаются, потому что думали, что Ней бежал из Смоленска по правому берегу Днепра, — и они ошиблись; это часто случается, потому что они предполагали, что их неприятель поступил именно так, как должен был поступить.
Тем временем иллирийцы вернулись в полнейшем беспорядке; они пережили страшную минуту. Эти четыреста человек, продвигаясь на левый фланг неприятельской позиции, встретили пять тысяч русских, возвращавшихся с отдельной стычки и ведших толпу наших пленных.
Эти два враждебных отрада — один, возвращающийся на свою позицию, и другой, шедший атаковать ее, — двигались в одном направлении, бок о бок, видя друг друга, но ни один из них не решался начать сражение. Они шли так близко друг к другу, что из середины русских радов французские пленники протягивали руки к своим и умоляли освободить их. Те кричали им, что придут и освободят их; но никто не делал первого шага. Тут-то Ней и увлек всех.
Между тем Кутузов, полагавшийся больше на пушки, чем на солдат, хотел победить издали. Его огонь покрыл всё пространство, занимаемое французами, и одно и то же ядро, опрокидывавшее кого-либо в первых радах, убивало затем бежавших из Москвы женщин в экипажах позади армии.
Под этим смертоносным градом солдаты Нея стояли удивленные, неподвижные и смотрели на своего начальника; они ожидали его решения для того, чтобы считать себя погибшими, и в то же время на что-то надеялись, сами не зная почему. Наверное, потому, что в этом крайне опасном положении они видели: душа Нея была спокойна в родственной ей стихии. Он был безмолвен и сосредоточен; он следил за неприятельской армией, которая, став более недоверчивой после хитрого маневра принца Евгения, развернула подальше оба свои фланга, чтобы отрезать ему всякий путь к спасению.
Зимою ночь наступает быстро, и это единственное ее качество, благоприятствовавшее нашему отступлению. Ней только и ждал ночи; но он отдал приказ возвращаться к Смоленску. При этих словах все окаменели от удивления. Даже его адъютант не мог поверить своим ушам: он устремил на него растерянный взгляд и молча стоял, ничего не понимая. Маршал повторил приказ. По его отрывистому тону они поняли, что он принял какое-то решение, нашел выход. Тогда они повиновались и без колебания повернулись спиной к своей армии, к Наполеону, к Франции! Они вернулись в злополучную Россию. Их шествие назад продолжалось целый час; когда они вновь увидели поле битвы и остатки Итальянской армии, они остановились, и их маршал, остававшийся один в арьергарде, присоединился к ним.
Они следили за всеми его движениями. Что он предпримет? И куда направит свои шаги, действуя без проводника, в незнакомой стране? А он, движимый воинственным инстинктом, остановился на краю большого оврага, на дне которого протекал ручей. Он приказал расчистить снег и пробить лед. Тогда, посмотрев на течение ручья, он воскликнул: «Это приток Днепра! Вот наш проводник! Мы должны следовать за ним! Он приведет нас к реке! Мы перейдем ее, и на другом берегу — наше спасение!»
И он немедленно пошел по этому направлению.
Однако вблизи большой дороги, покинутой им, он остановился в какой-то деревне; названия ее они не знали, думали, что это Фомино или Даниково. Здесь он собрал войска и велел развести костры, словно хотел устроиться там. Казаки, следовавшие за ним, поверили этому и, очевидно, дали знать Кутузову о месте, где на следующий день французский маршал сдастся в плен. Вскоре они услышали звук стреляющей пушки.
Ней прислушался.
«Неужели Даву, — воскликнул он, — вспомнил, наконец, обо мне?»
Он продолжал прислушиваться. Но выстрелы раздавались с равными промежутками: это были залпы. Тогда, убедившись в том, что в лагере русских заранее торжествуют его сдачу, он поклялся, что обманет их надежды, и снова пустился в путь.
В то же время его поляки обшарили всё в округе. Единственный, кого они нашли, был хромой крестьянин; ему страшно обрадовались. Он объяснил, что Днепр находится на расстоянии одного лье, но что вброд перейти его нельзя: он еще не замерз.
«Замерзнет!» — воскликнул маршал. Когда же ему указали на наступившую оттепель, он прибавил: «Как бы там ни было, мы должны переправиться; это наша последняя надежда!»
Наконец часам к восьми прошли какую-то деревню, овраг кончился, и хромой мужик, шедший впереди, остановился, указывая на реку.
Они думали, что это происходит между Сырокореньем и Гусино.
Ней и шедшие за ним приблизились к реке. Она начинала замерзать: движение льдин, плывших по течению, было задержано тут крутым изгибом берегов; но зимняя стужа заморозила реку только в этом месте, а дальше, выше и ниже, поверхность еще шевелилась!
Тогда первая радость сменилась тревогой: вражеская река может иметь обманчивый вид. Один офицер решился, с трудом достиг противоположного берега, вернулся и объявил, что люди и, может быть, некоторые лошади сумеют переправиться, а всё остальное придется бросить; и надо торопиться, так как из-за оттепели лед начинает таять.
Но во время этого ночного перехода по полям колонна, состоявшая из людей ослабевших, раненых и женщин с детьми, не могла идти сжато. Она разъединилась, рассеялась; ее части потеряли во мраке друг друга из виду. Ней заметил, что с ним находится лишь часть колонны. Конечно, он мог бы переправиться на другой берег, обеспечить себе спасение и подождать там оставшихся; но эта мысль не пришла ему в голову. Она явилась у кого-то другого, Ней отверг ее! Он дал срок три часа на стягивание частей; не волнуясь от нетерпения, закутался в свой плащ и проспал глубоким сном все три таких опасных часа на берегу реки: у него был темперамент великих людей, сильная душа в крепком теле и изумительное здоровье, без которого не бывает героев.
Глава IX
Наконец около полуночи началась переправа; но те, кто первыми отошли от берега, дали знать остальным, что лед гнется под ними, опускается, и они идут по колено в воде; вскоре все услышали ужасный треск этой ненадежной опоры. Всех охватил ужас!
Ней приказал переправляться только поодиночке; и все стали двигаться осторожно, не зная иногда в темноте, ступают они на льдину или же попадают в расщелину, — потому что встречались места, где приходилось миновать большие щели и перепрыгивать с одной льдины на другую, рискуя упасть между ними и исчезнуть навеки. Передние колебались, но сзади им кричали, чтобы они торопились.
Когда, наконец, счастливцы достигали противоположного берега и уже считали себя спасенными, то, чтобы выбраться на берег, надо было подняться еще по крутому обледенелому откосу. Многие падали обратно на лед, который при падении разбивался и о который разбивались они сами.
Но с особенным ужасом они рассказывали о горе и смятении женщин, когда тем приходилось бросать свои богатства, съестные припасы, вещи — словом, все свои ресурсы в настоящем и в будущем! Они то отбрасывали, то снова хватали свои пожитки и, изнеможенные усталостью и страданиями, падали на обледенелом берегу реки.
Они особенно содрогались при воспоминании о слезах и отчаянии раненых в повозках, которых нельзя было переправить по такому хрупкому пути: те протягивали руки к своим товарищам, умоляя не покидать их.
Попробовали переправить несколько повозок, нагруженных этими несчастными, но на середине реки лед стал опускаться и проломился. На другом берегу сначала слышны были душераздирающие отчаянные крики, потом заглушенные стоны, затем наступило ужасное молчание: всё исчезло!
Ней сосредоточенно смотрел на эту пропасть, как вдруг, в сумраке, ему показалось, что там движется какой-то предмет; это был один из несчастных раненых, офицер по имени Бриквиль; глубокая рана в паху мешала ему подняться, но он держался на ледяной поверхности. Скоро его можно было ясно различить: он на четвереньках перебирался с льдины на льдину и приближался к берегу. Сам Ней подобрал и спас его!
Со вчерашнего дня умерли или заблудились четыре тысячи отставших человек и три тысячи солдат; пушки и весь обоз были потеряны; у Нея оставалось около трех тысяч строевых солдат и еще столько же человек, двигавшихся беспорядочными толпами. Наконец они снова пустились в путь, и покоренный Днепр стал их союзником.
Продвигались неуверенно, наудачу, как вдруг один из наших, упав, заметил торную дорогу. Более чем торную: те, которые шли впереди, нагнувшись, в ужасе закричали, что они различают совсем свежие следы большого количества пушек и лошадей. Итак, они избегли одной неприятельской армии только для того, чтобы попасть в средину другой! И теперь должны снова сражаться! Значит, война повсюду! Но Ней не колеблясь толкал их вперед.
Дорога привела их к селу Гусино, и здесь они нашли всё, чего были лишены с Москвы: мирных жителей, съестные припасы, покой, теплые помещения и сотню казаков, проснувшихся пленными. Переговоры с последними и необходимость подкрепиться для дальнейшего пути задержали Нея здесь на некоторое время.
Вдруг соседние леса оживились. Пока французы переговаривались, осматривались и сосредоточивались около той деревеньки, что ближе к Днепру, из-за деревьев вышли тысячи казаков и окружили несчастное войско пиками и пушками.
То был Платов со своими ордами, следовавшими по берегу Днепра. Они могли поджечь эту деревню и, учитывая слабость Нея, покончить с ним; но простояли в течение трех часов неподвижно, даже не стреляя; никто не мог понять — почему. Они говорили, что у них нет приказа, что в ту минуту их командир не в состоянии отдать его и что в России никто ничего не осмеливается делать на свой страх.
Сдержанность Нея сдерживала и их; маршал даже приказал отдыхать до самой ночи. Потом он велел бесшумно выступать, тихонько перекликаться и двигаться сомкнутыми радами. Все разом тронулись в путь; но первый же их шаг словно послужил сигналом для неприятеля: грянули все его орудия и разом задвигались все его эскадроны.
При этих звуках безоружные отставшие солдаты, которых было с французами около трех или четырех тысяч, пришли в ужас. Это стадо людей забегало во всех направлениях, забиралось в ряды солдат, которые отгоняли их. Огонь попадал в этих метущихся людей. Таким образом, павшие духом послужили прикрытием храбрейшим!
Защитив свой правый фланг валом из этих несчастных существ, Ней вернулся к берегам Днепра и прикрыл им свой левый фланг, а сам двигался дальше, от леса к лесу, от оврага к оврагу.
Таким образом, в течение двух дней и на протяжении двадцати лье шесть тысяч казаков всё время сопровождали его колонну, в которой оставалось всего полторы тысячи вооруженных людей. Только ночь приносила некоторое облегчение, и все вступали во мрак с особой радостью. Много было тяжелых минут и отчаянных мгновений, однако стало ясно: неприятель выпустил добычу из рук.
Несчастная колонна, несколько успокоенная, продвигалась, словно ощупью, по густому лесу, как вдруг недалеко от нее грянули несколько пушечных выстрелов, в лицо шедшим в первых рядах. Охваченные страхом, французы подумали, что всё кончено, что тут их конец, и в ужасе попадали на землю; шедшие сзади столпились и тоже стали заваливаться. Ней, видевший, что всё погибло, приказал бить атаку; он словно предвидел это нападение и потому воскликнул: «Товарищи, теперь пора вперед! Они в наших руках!»
При этих словах пораженные солдаты, считавшие, что их захватили врасплох, поняли, что сами могут застичь врасплох неприятеля; из побежденных, какими они были, они поднялись победителями; они бросились на неприятеля — и не нашли его, лишь в лесу раздавался шум его поспешного бегства!
На следующий день, 19 ноября, с полуночи и до десяти часов утра они продвигались вперед, не встречая других врагов, кроме пересеченной местности, но тут колонны Платова появились снова, и Ней повернулся к ним лицом, опираясь на опушку леса. В продолжение всего дня наши солдаты видели, как неприятельские ядра опрокидывают деревья, защищавшие их, и разбивают их бивуаки; у французов были лишь мелкие пушки, которыми нельзя было удерживать артиллерию казаков на достаточном расстоянии.
Когда наступила ночь, маршал подал сигнал, и все двинулись к Орше. Еще накануне туда был послан Пшебендовский и пятьдесят кавалеристов, чтобы просить помощи; они должны были уже прибыть туда, если, впрочем, неприятель еще не занял города.
Город оказался свободен.
Офицеры Нея в заключение сказали, что и на остальной части пути они встретили немало жестоких препятствий, но на них, говорили они, не стоит останавливаться. Зато они всё время приходили в восторг при упоминании имени своего маршала и заставляли других разделять их восхищение, так что даже равные ему по чину не думали завидовать ему. К тому же Ней не придавал всему этому никакого значения. Поступая так геройски, он делал только то, что ему было свойственно, и если бы не блеск его славы, отражавшийся во всех взорах, и не всеобщие восторги, он и не заметил бы, что совершил подвиг!
И этот восторг не был неожиданностью. Каждый день за последнее время кто-нибудь отличался: то Евгений — 16-го, то Мортье — 17-го; но Ней был провозглашен героем отступления!
Едва пять переходов отделяют Оршу от Смоленска. В такой короткий промежуток времени приобрести такую славу! Как мало нужно времени и пространства для того, чтобы обессмертить себя!
Когда Наполеон, находившийся в двух лье, узнал, что явился Ней, он подскочил от радости и громко воскликнул: «Значит, я спас своих орлов! Я отдал бы триста миллионов из своей казны, чтобы сохранить такого человека!»
Книга XI
Глава I
Итак, армия в третий и последний раз перешла через Днепр — реку наполовину русскую, наполовину литовскую, но истоки которой всецело русские. Она течет с запада на восток до Орши, где как бы собирается проникнуть в Польшу; но литовские возвышенности, препятствуя этому нашествию, заставляют ее повернуть круто на юг и служат границей обеим странам.
Восемьдесят тысяч русских под командой Кутузова остановились перед таким незначительным препятствием. До сих пор они были скорее зрителями, чем виновниками наших бед. Теперь мы больше не видели их: армия избавилась от пытки видеть их радость.
Во время этой войны, как всегда случается, характер Кутузова сослужил ему больше, чем его таланты. Пока нужно было обманывать и замедлять, его лукавство, леность и преклонный возраст, действуя сами по себе, играли ему на руку, — но не потом, когда надо было наступать, преследовать, нападать.
Под Смоленском Платов перешел на правую сторону большой дороги для соединения с Витгенштейном. Все военные действия перешли на эту сторону.
Двадцать второго ноября мы с трудом двинулись из Орши к Борисову по широкой дороге, по талому снегу, по глубокой жидкой грязи. Более слабые тонули в ней; она же задержала и отдала казакам тех раненых, которые, полагая, что морозы установились прочно, променяли в Смоленске свои повозки на сани.
Среди этой всеобщей гибели случилось одно событие, как бы выхваченное из истории. Два гвардейца оказались отрезанными от своей колонны толпой казаков, накинувшихся на них. Один струсил и хотел сдаться; другой, продолжая отбиваться, крикнул ему, что если тот сделает подобную подлость, то он сам убьет его; и действительно, видя, что его товарищ бросил ружье и протягивает руки неприятелю, он выстрелил и убил его прямо в руках казаков! Потом, воспользовавшись изумлением последних, он снова быстро зарядил ружье и стал грозить наиболее наступавшим. Таким образом он держал их на почтительном расстоянии и, отступая от дерева к дереву, добрался до равнины и присоединился к своим.
В первые дни похода на Борисов армия узнала о потере Минска. Видавшие виды командиры в испуге озирались вокруг, их воображение рисовало им еще более страшные картины будущего. В разговорах между собой они восклицали, что, подобно Карлу XII на Украине, Наполеон привел армию в Москву только на свою погибель.
Другие не были с этим согласны. Вовсе не желая объяснить понесенные потери желанием закончить войну за одну кампанию, они утверждали, что надежда была хорошо обоснованной; протянув операционную линию до самой Москвы, Наполеон придал этой удлиненной колонне достаточно широкую и солидную базу.
Они вспоминали наши бесполезные людские траты перед Смоленском, бездействие Жюно при Валутиной горе и говорили, что, несмотря на все эти потери, Россия была бы полностью побеждена на поле битвы при Москве-реке, если бы первые успехи маршала Нея получили развитие.
Хотя экспедиция с военной точки зрения была погублена нерешительностью того дня, а с политической точки зрения — сожжением Москвы, говорили они, армия всё же могла вернуться после этого целой и невредимой. Если считать с момента вступления в Москву, то разве русский генерал не дал нам сорок дней, а русская зима — пятьдесят дней для того, чтобы восстановить силы и отступить?
Сожалея о безрассудном упрямстве, которое заставило потерять много времени в Москве, и роковой нерешительности при Малоярославце, они подводили итоги своих злоключений. С тех пор как покинули Москву, они потеряли весь багаж, 500 пушек, 31 знамя, 27 генералов, 40 тысяч солдат пленными, 60 тысяч погибшими; всё, что осталось, — 40 тысяч безоружных и 8 тысяч солдат, способных сражаться.
Глава II
Хотя собранные от Березины до Вислы гарнизоны, обозы, сводные батальоны и дивизии Дюрютта, Луазона и Домбровского даже без помощи австрийцев составляли армию в 30 тысяч человек, нашелся только один малоизвестный генерал и 3 тысячи солдат, чтобы остановить Чичагова.
Как всегда бывает, главная ошибка ведет за собой ошибки в частностях. Минский губернатор был выбран небрежно; это был один из тех людей, которые хватаются за всё и не годятся ни на что. Шестнадцатого ноября он сдал город и вместе с ним лишился 4700 больных, солидных военных запасов и 2 миллионов порций провианта. Уже пять дней, как слух об этом достиг Дубровны, и тут узнали о еще большем несчастье.
Этот губернатор удалился в Борисов. Здесь он не сумел ни предупредить Удино, находившегося на расстоянии двух переходов, ни прийти к нему на помощь, ни поддержать Домбровского, отступавшего из Бобруйска и Игумена. Домбровский подошел к мосту в ночь с 20-го на 21-е, прогнал оттуда авангард Чичагова, расположился и храбро защищался до вечера следующего дня; но тут он был атакован вдвое большими силами и оттеснен от реки на Московскую дорогу.
Наполеон не ожидал этого разгрома: он считал, что предупредил его своими инструкциями, посланными из Москвы Виктору еще 6 октября. Эти инструкции предвидели атаку со стороны Витгенштейна или Чичагова; они рекомендовали Виктору держаться в пределах досягаемости от Полоцка и Минска; иметь благоразумного, рассудительного и интеллигентного офицера в штабе Шварценберга, поддерживать регулярные сообщения с Минском и посылать других агентов в разных направлениях.
Но Витгенштейн атаковал раньше Чичагова, а мудрые инструкции от 6 октября не были исполнены, не были повторены Наполеоном и, кажется, были забыты его подчиненным. Наконец, когда Наполеону стало известно о потере Минска, он не знал, что Борисов находится в большой опасности; на следующий день он проходил через Оршу и сжег свой понтонный парк.
К тому же письмо императора к Виктору от 20 ноября доказывает его уверенность в безопасности: он предполагал, что Удино придет в Борисов 25-го, тогда как с 21-го этот город попал во власть Чичагова.
Только на следующий день после этого рокового дня, в трех переходах от Борисова, на большой дороге, один офицер передал Наполеону эту ужасную новость. Император, ударив о землю тростью, гневно взглянул на небо и воскликнул: «Значит, там решено, что мы теперь будем совершать одни ошибки!»
Между тем маршал Удино, уже шедший к Минску, ни о чем не подозревая, остановился 21-го между Бобром и Крупками, как вдруг среди ночи к нему явился генерал Брониковский и сообщил о своем поражении, о поражении Домбровского, о взятии Борисова и о том, что русские преследуют его. Двадцать второго ноября маршал соединился с остатками армии Домбровского, а 23-го столкнулся, в трех лье от Борисова, с русским авангардом, который он опрокинул, взяв в плен 900 человек и захватив 1500 повозок, и прошел до самой Березины; но мост на ней был разрушен.
В это время Наполеон был в Толочине; он велел дать ему описание позиций вокруг Борисова. Ему доложили, что в этом месте Березина уже не река, а озеро, но озеро с подвижным льдом; что мост через нее равен 300 морским саженям в длину; что он разрушен непоправимо и переход через него невозможен.
В этот момент прибыл один генерал-инженер; он возвращался из корпуса Виктора. Наполеон расспросил его; генерал объявил, что спасение в том, чтобы пробиться сквозь армию Витгенштейна. Император показал пальцем на карте течение Березины ниже Борисова: именно в этом месте он хотел перейти реку. Но генерал напомнил ему о присутствии Чичагова на правом берегу реки; тогда император указал другое место, ниже первого, потом третье, еще ближе к Днепру. Тогда, увидев, что он всё ближе и ближе подходит к земле казаков, он остановился и воскликнул: «Ах да! Полтава!.. Как при Карле Двенадцатом! Вот что получается, когда наваливают одну ошибку на другую!»
Печальное сходство его положения с положением шведского завоевателя повергло Наполеона в такое мрачное настроение, что здоровье его пошатнулось еще больше, чем в Малоярославце.
Тем не менее единственным человеком, видевшим его раздражение, был лакей. Дюрок, Дарю, Бертье говорили, что видели его невозмутимым; и правда, он достаточно владел собой, чтобы обуздать тоску, а ведь сила человека чаще всего состоит в том, чтобы скрывать свою слабость!
Ночь шла своим чередом; Наполеон лежал; Дюрок и Дарю, находясь еще в его комнате и думая, что он спит, предались самым мрачным предположениям; но он слушал их, и слово государственный пленник поразило его слух.
— Как! — воскликнул он. — Разве вы думаете, что они осмелятся на это?
Дарю ответил, что надо ждать всего, что он не верит в великодушие врага; давно известно, что высокая политика считает самое себя моралью и не подчиняется никакому закону.
— Но Франция! — продолжал император. — Что скажет Франция?
— О, что касается Франции, — ответил Дарю, — то на ее счет можно сделать тысячу более или менее обидных предположений, но никто из нас не может точно знать, что там произойдет!
Потом он прибавил, что для первых офицеров императора, как и для самого императора, лучше всего было бы, каким угодно путем, хотя бы по воздуху, раз уж земля для него закрыта, достигнуть Франции, — откуда он вернее спас бы остатки своей армии, чем оставаясь с ней!
— Значит, я вас затрудняю? — с улыбкой спросил Наполеон.
— Да, сир.
— А вы не хотите быть государственным пленником?
Дарю ответил в том же тоне, что ему достаточно быть военнопленным.
После этого император некоторое время мрачно молчал и потом с серьезным видом спросил:
— Сожжены все донесения моих министров?
— Сир, до сих пор вы не позволяли это сделать.
— Хорошо, уничтожьте их; надо признать, мы находимся в скверном положении!
Это было единственное вырвавшееся у него признание, и с этими словами он уснул.
В его приказах видна та же твердость. Удино объявил Наполеону о своем решении опрокинуть Ламбера; он одобрил его и торопил с переправой выше или ниже Борисова. Он хотел, чтобы 24-го был произведен выбор места для этой переправы, начаты подготовительные работы, а он предупрежден, так как ему требовалось время для подготовки. Ничуть не думая о том, как вырваться из тисков вражеских армий, император мечтал только о победе над Чичаговым и захвате Минска.
Правда, через восемь часов, во втором письме к Удино, он решается перейти Березину и село Веселово и направиться прямо на Вильну, избегая русского адмирала.
Но 24-го Наполеон узнает, что можно переправиться только в Студенке; в этом месте река имеет пятьдесят четыре сажени ширины, шесть футов глубины, а на другом берегу придется выходить в болото, под огнем господствующей над местностью позиции, сильно укрепленной неприятелем.
Глава III
Итак, надежда пройти между двумя русскими армиями потеряна: теснимый армиями Кутузова и Витгенштейна к Березине, он должен был перейти эту реку, несмотря на то, что на берегах ее стояло войско Чичагова.
С 23-го числа Наполеон готовится к этому безнадежному предприятию. И прежде всего велит принести орлов от всех корпусов и сжечь их. Потом он составляет два батальона из 1800 спешенных гвардейских кавалеристов, из которых только 1154 человека вооружены ружьями и карабинами.
Кавалерия, начиная с Москвы, была так расстроена, что теперь у Латур-Мобура осталось только 150 конных солдат. Император собрал вокруг себя всех этих офицеров, еще имевших лошадей, и назвал эту группу своим священным эскадроном; Груши и Себастиани командовали им, а дивизионные генералы были в нем капитанами.
Затем Наполеон приказал, чтобы сожгли половину фургонов и карет во всех корпусах, а лошадей отдали гвардейской артиллерии. Офицеры этой артиллерии получили приказ забрать всех встречающихся им упряжных лошадей, даже лошадей императора, но не бросить ни одной пушки или зарядного ящика.
В то время как Наполеон поспешно углублялся в мрачный и огромный минский лес, где едва виднелось несколько поместий и жалких лачуг, русские напали на правый фланг нашей колонны. Грозный грохот пушек ускорял наши шаги. От сорока до пятидесяти тысяч мужчин, женщин и детей бежали по этим лесам настолько быстро, насколько им позволяли их слабость и снова начинавшаяся гололедица.
В этом форсированном переходе, продолжавшемся с рассвета до вечера, все, остававшиеся еще вместе, рассеивались, теряясь во мраке непроглядного леса и длинных ночей. Вечером делали привал; утром пускались снова в путь во тьме, наудачу, не слыша сигнала; здесь окончательно расстроились остатки корпусов; всё смешалось и перепуталось!
В последней степени расслабленности и смятения, приближаясь уже к Борисову, они услышали впереди себя громкие крики. Некоторые побежали в направлении криков, думая, что это атака. Но то была армия Виктора, которую Витгенштейн понемногу оттеснил на правую сторону нашей дороги. Здесь она ждала прохода Наполеона. Всё еще целая, оживленная, она снова увидела своего императора, которого встретила обычными приветствиями, уже давно позабытыми.
Она не знала о наших бедствиях: их тщательно скрывали даже от начальников. Поэтому-то, когда она, вместо великой победоносной московской колонны, увидела за Наполеоном только вереницу призраков, покрытых лохмотьями, женскими шубами, кусками ковров или грязными, простреленными шинелями, призраков, ноги которых были завернуты во всевозможные тряпки, ее поразил ужас! Она с ужасом смотрела, как проходили перед ней эти несчастные солдаты с землистыми лицами, обросшими отвратительной бородой, без оружия, не испытывая стыда, угрюмо шагая, опустив голову, уставив глаза в землю, молча, как толпа пленников!
Что еще более удивило ее, так это вид большого количества полковников и генералов, заброшенных, одиноких, которые теперь заботились только о самих себе, думали только о том, как бы спасти свои пожитки или самих себя; они шли, спешившись, рядом с солдатами, которые их не замечали, которым нечего было больше приказывать, от которых нечего было ожидать: несчастье порвало все связи, стерло все чины.
Солдаты Виктора и Удино не могли поверить своим глазам. Их офицеры, тронутые жалостью, со слезами на глазах останавливали тех из своих товарищей, которых узнавали в толпе. Они помогали им провизией и одеждой, спрашивали, где же их корпуса! И когда им показывали вместо нескольких тысяч человек только редкий взвод офицеров и унтер-офицеров, они не верили и продолжали всё еще высматривать!
Вид такого полного разгрома поколебал 2-й и 9-й корпуса. Беспорядок, самое заразительное из всех зол, захватил их — ведь порядок кажется насилием над природой.
Но даже безоружные, даже умирающие, даже не знающие, как им перебраться через реку и пробиться сквозь неприятеля, они не сомневались в победе.
Это была только тень армии, но тень Великой армии! Она считала, что ее победила только природа. Вид императора ободрил ее. С давних пор она привыкла рассчитывать на него не только для того, чтобы жить, но и для того, чтобы побеждать. Это был первый несчастный поход, а сколько было счастливых! Только он, сумевший так высоко поднять своих солдат и так низвергнуть, один он мог опять спасти их! Итак, среди своей армии он был последней надеждой в глубине каждого человеческого сердца!
И вот среди стольких людей, которые могли упрекать его в бедствии, он шел без боязни, разговаривая то с одними, то с другими без всякой рисовки, уверенный, что его будут уважать, — как уважали бы саму славу, — прекрасно зная, что он принадлежит нам, а мы принадлежим ему: его слава была нашим национальным достоянием. Скорее обратили бы оружие против самих себя, что со многими и случилось, и тогда это было бы меньшим самоубийством!
Некоторые падали и умирали у его ног, и, хотя и в ужасном бреду, они умоляли, а не упрекали. И в самом деле, разве он не разделял общей опасности? Разве он не рисковал тем же, чем и они? Кто больше потерял в этом разгроме?
Если проклятия и раздавались, то не в его присутствии; казалось, что вызвать его недовольство было бы самой большой бедой, настолько глубока была вера в него, настолько безусловно повиновение человеку, который подчинил им мир, чей гений, доселе неизменно победоносный и непогрешимый, завладел их свободной волей, и который так долго держал в руках книги пенсий, званий и истории и находил необходимые средства для удовлетворения не только алчности, но и всех благородных сердец.
Глава IV
Так приближались мы к самому критическому моменту: Виктор, в арьергарде, с пятнадцатью тысячами человек; Удино, в авангарде, с пятью тысячами, уже на Березине; император между ними с семью тысячами солдат, сорока тысячами бродяг и огромной массой багажа и артиллерии, большая часть которой принадлежала 2-му и 9-му корпусам.
Двадцать пятого ноября, когда он достиг Березины, стала заметна его нерешительность. Он каждую минуту останавливался на дороге, поджидая ночи, чтобы скрыть от неприятеля свое появление и дать время Удино занять Борисов.
Входя 23-го в этот город, герцог Реджио увидел мост, в триста саженей длины, разрушенный в трех местах, который в виду неприятеля невозможно было починить. Но он узнал, что через два лье, вниз по реке, возле Ухолод, есть глубокий и малонадежный брод, а чуть выше Борисова, около Стахова, есть другой брод, хотя и малодоступный. Наконец, он еще раньше знал, что в двух лье выше Стахова есть третье место для перехода.
Так как намерением Наполеона было отступать прямо к Вильне, то Удино легко понял, что этот третий переход, около Студенки, — самый прямой и наименее опасный. К тому же он был уже известен, и если бы даже пехота и артиллерия, теснимые Витгенштейном и Кутузовым, не имели времени перейти через реку по мостам, то по крайней мере император и кавалерия пройдут по нему; тогда не всё будет проиграно, ни мир ни война, как случилось бы, если бы сам император попал в руки неприятеля.
Итак, маршал не колебался. В ночь с 23-го на 24-е артиллерийский генерал, рота понтонеров, полк пехоты и бригады Корбино заняли Студенку.
В то же время были обследованы два других перехода; за ними очень серьезно наблюдали. Дело заключалось в том, чтобы обмануть и удалить неприятеля. Силой здесь нельзя было ничего сделать, надо было попробовать хитростью. Вот почему 24-го были посланы триста солдат и несколько сот бродяг к первому броду с инструкцией собирать там материалы, необходимые для постройки моста, производя возможно больший шум; кроме того, заставили торжественно пройти туда, на глазах у неприятеля, целую дивизию кирасир.
Сделали даже больше: генерал-аншеф Генерального штаба Лорансе приказал привести к нему нескольких евреев; он подробно расспрашивал их об этом броде и о дорогах, ведущих оттуда к Минску. Потом, выказав полное удовлетворение их ответами, сделал вид, что убежден, будто нет лучшего перехода реки, удержал в качестве проводников некоторых из них, а остальных приказал проводить за наши аванпосты. А чтобы быть еще более уверенным, что они ему изменят, он заставил их поклясться, что они пойдут впереди нас по направлению к устью Березины и известят нас о передвижениях неприятеля.
В то время как старались отвлечь всё внимание Чичагова влево, в Студенке тайком подготовляли средства к переправе. Только 25-го, в пять часов вечера, туда прибыл Эбле, сопровождаемый двумя подводами угля, шестью ящиками инструментов и несколькими ротами понтонеров.
Но перекладины, которые начали класть накануне, взяв для них бревна из польских хат, оказались слишком непрочными: надо было начинать всё снова. Теперь уже нельзя было достроить мост за ночь: это можно было сделать только на другой день и под огнем неприятеля; но медлить было нельзя.
С началом сумерек этой решительной ночи Удино с остатком своего корпуса занял позицию в Студенке. Двигались в полной темноте, сохраняя полнейшую тишину.
В восемь часов вечера Удино и Домбровский расположились на позициях, господствующих над переходом, в то время как Эбле спускался к нему. Этот генерал встал на берегу реки со своими понтонерами и ящиком, наполненным железом от брошенных колес, из которого он на всякий случай велел наковать скрепы. Он жертвовал всем, чтобы сохранить эту слабую помощь; она спасла армию.
В конце этой ночи с 25-го на 26-е он вбил первые сваи в илистое дно реки. Но, к довершению несчастья, подъем воды уничтожил брод. Потребовались невероятные усилия, и наши несчастные понтонеры, по шею в воде, должны были бороться с льдинами, плывшими по реке. Много наших погибло от холода или льдин, которые гнал сильный ветер.
Они всё победили, за исключением неприятеля. Да и то сказать, русская зима оказалась еще большим нашим врагом, чем сами русские…
Французы работали всю ночь при свете неприятельских огней, сверкавших на высотах противоположного берега, на расстоянии пушечного и ружейного выстрелов дивизии Чаплица. Последний, более не сомневаясь в наших намерениях, проинформировал своего главнокомандующего.
Глава V
Присутствие неприятельской дивизии отнимало надежду обмануть русского адмирала. Каждую минуту ждали, что вот сейчас вся его артиллерия откроет огонь по работавшим солдатам.
Наполеон, выйдя из Борисова в десять часов вечера, считал, что он делает отчаянный шаг. Он остановился со своими 6400 гвардейцами в Старом Борисове, в замке, принадлежавшем князю Радзивиллу и расположенном направо от дороги из Борисова в Студенку, на равном расстоянии от обоих этих пунктов.
Конец этой решительной ночи он провел на ногах, выходя каждый час, чтобы выступить в путь, в котором решалась его судьба; от беспокойства он всё время думал, что ночь уже кончилась. Несколько раз окружающие должны были указывать ему на его заблуждение.
Едва рассеялся мрак, как он соединился с Удино. Присутствие опасности успокоило его, как это бывает всегда. Но при виде русских огней и их позиций даже самые решительные его генералы, такие как Рапп, Мортье и Ней, воскликнули: «Если император выйдет и из этого опасного положения, то придется окончательно уверовать в его звезду!»
Сам Мюрат считал, что теперь время думать только о том, как спасти Наполеона. Некоторые поляки предлагали это ему.
Император дождался рассвета в одном из домов, расположенных на берегу реки, на откосе, наверху которого стояла артиллерия Удино. Мюрат пробрался сюда; он объявил своему шурину, что считает переправу невозможной; он настаивал, чтобы тот спасался сам, пока еще есть время. По его уверениям, император может без всякой опасности переправиться через Березину несколькими лье выше Студенки, через пять дней он будет в Вильне, и поляки, храбрые и преданные, знающие все дороги, проводят его в безопасности.
Но Наполеон отверг это предложение как позорное бегство; он негодовал, как осмелились подумать, что он покинет свою армию теперь, когда она в такой опасности. Но он ничуть не рассердился на Мюрата, может быть, потому, что тот дал ему возможность показать свою твердость, или, скорее, потому, что в его предложении он видел только знак преданности, а самым лучшим качеством в глазах властелинов является преданность их особе.
В это время, при разгоравшемся рассвете, побледнели и исчезли огни московитов. Наши войска взялись за оружие, артиллеристы встали на свои места, генералы производили наблюдение; все внимательно смотрели на противоположный берег! Царила тишина напряженного ожидания, предвестница великих бед!
Итак, первые лучи следующего дня, 26-го числа, озарили неприятельские батальоны и артиллерию, стоявшие против хрупкого сооружения, на достройку которого Эбле требовалось еще восемь часов. Несомненно: они ждали рассвета только затем, чтобы лучше видеть цель. Рассвело, и мы увидели брошенные костры, пустынный берег и на холмах тридцать удалявшихся пушек! Одного их ядра было достаточно, чтобы уничтожить единственную спасательную доску, переброшенную с одного берега на другой; однако же русская артиллерия отступала, в то время как наша становилась на позицию. Дальше виден был хвост длинной колонны, продвигавшейся к Борисову.
Французы не решались верить своим глазам. Наконец, охваченные радостью, они начали хлопать в ладоши и кричать! Рапп и Удино бросились к императору.
— Ваше величество, — сказали они, — неприятель снялся с лагеря и покинул позицию!
— Этого не может быть! — ответил император.
Но прибежали Ней и Мюрат и подтвердили это донесение. Тогда Наполеон выбежал из своей главной квартиры, взглянул, увидел удалявшиеся и исчезавшие в лесу последние ряды колонны Чаплица и в восторге воскликнул:
— Я обманул адмирала!
Два артиллерийских орудия врага вновь ложились и открыли огонь. Нашей артиллерии был дан приказ разрушить их. Одного залпа было достаточно: неосторожность, которая не повторилась из страха, что Чаплиц вернется.
Мост только начали строить, только еще вбивали первые сваи. Но император, желая поскорее завладеть противоположным берегом, указал на него наиболее отважным из своих приближенных. Адъютант Удино, Жакмино, и литовский граф Прешездецкий первыми бросились в реку и, несмотря на льдины, царапавшие до крови груди и бока их лошадей, достигли другого берега. За ними последовали сорок кавалеристов, каждый из которых усадил на лошадь вольтижера; потом, на двух жалких плотах, в двадцать поездок было перевезено четыреста человек.
К часу берег был очищен от казаков и кончен мост для пехоты; дивизия Леграна быстро перешла по нему с пушками, восклицая «Да здравствует император!». Наполеон лично помогал переходу артиллерии, подбадривая храбрых солдат голосом и собственным примером!
Видя, что они завладели противоположным берегом, он воскликнул: «Теперь снова засияла моя звезда!» — потому что он верил в судьбу, как все завоеватели.
Глава VI
В этот момент из Вильны прибыл один литовский дворянин, переодетый крестьянином, с известием о победе Шварценберга над Сакеном. Наполеон с удовольствием громко объявил об этом успехе, добавив, что «Шварценберг пошел по следам Чичагова и придет нам на помощь». Однако этот первый только что построенный мост годился лишь для пехоты. Тотчас же начали строить второй, на сто саженей выше, для артиллерии и обоза. Он был окончен только в четыре часа вечера.
В это время адмирал Чичагов, окончательно обманутый, решил идти вниз по Березине, — в тот самый момент, когда Наполеон решил подняться вверх по ней.
Русские потеряли остаток дня 26-го и весь день 27-го в совещаниях, разведках и приготовлениях. Присутствие Наполеона и его армии, слабость которой трудно было себе представить, поразило их. Они видели императора повсюду: справа от себя благодаря симуляции переправы; против своего центра, в Борисове, потому что, действительно, вся наша армия, постепенно входя в этот город, наполнила его движением; наконец, в Студенке, слева от них, где на самом деле находился император.
Двадцать седьмого ноября Наполеон приблизительно с шестью тысячами гвардии и с корпусом Нея, уменьшившимся до шестисот человек, перешел через Березину и поместился в резерве Удино. Ему предшествовали огромный обоз и безоружные. Многие еще до самого заката солнца переходили после него через реку.
В то же время армия Виктора заметила гвардию на высотах Студенки.
Глава VII
До сих пор всё шло хорошо. Но Виктор, проходя через Борисов, оставил там Партуно с его дивизией. Этот генерал должен был удержать неприятеля за этим городом, прогнать вперед многочисленных безоружных, укрывшихся здесь, и до заката солнца присоединиться к Виктору. Партуно в первый раз видел расстройство Великой армии. Он хотел, как и Даву в начале отступления, скрыть его следы от глаз казаков Кутузова, шедших за ним. Эта тщетная попытка, атака Платова со стороны большой Оршевской дороги, а также атаки Чичагова на сожженный Борисовский мост задержали его в городе до конца дня.
Он собирался уже выступить оттуда, когда получил приказ остаться в нем на ночь. Приказ этот прислал император. Наполеон, несомненно, думал этим отвлечь внимание трех русских генералов, а также рассчитывал, что Партуно, удержав их здесь, даст ему время переправиться со всей армией.
Но Витгенштейн велел Платову преследовать французскую армию по большой дороге, а сам отправился вправо. Он в тот же вечер покинул высоты на берегу Березины, между Борисовым и Студенкой, пересек дорогу, соединяющую эти два пункта, и завладел всем, что там нашел. Толпы отбившихся от армии солдат, вернувшись к Партуно, сообщили ему, что он окончательно отрезан от армии.
Партуно не потерялся. Хотя у него было только три пушки и три с половиной тысячи солдат, способных носить оружие, он тотчас же решил пробиться, отдал соответствующие распоряжения и тронулся в путь. Сначала ему пришлось идти по скользкой дороге, загроможденной обозом и беглецами, против резкого, дувшего в лицо ветра, темной, холодной ночью. Скоро к этим затруднениям присоединился огонь нескольких тысяч ружей неприятеля, занявшего холмы справа от него. Пока на него нападали только сбоку, он продолжал идти; но скоро и спереди его начали атаковать многочисленные, занимавшие выгодную позицию полки, ядра которых пронизывали его колонну с головы до хвоста.
Семь тысяч безоружных, недисциплинированных французских солдат расстроили его ряды, перепутали взводы и каждую минуту увлекали все новых приходивших в отчаяние солдат. Надо было отступить, чтобы восстановить порядок и занять лучшую позицию; но, отступая, они наткнулись на кавалерию Платова.
Уже половина наших солдат пала, а оставшиеся полторы тысячи видели себя окруженными тремя армиями и рекой.
При таком положении от имени Витгенштейна и пятидесятитысячной армии явился парламентер к французам с предложением сдаться. Партуно отверг такое предложение! Он призвал в свои ряды еще имевших оружие отставших: он хотел сделать последнюю попытку и проложить кровавую дорогу к мостам в Студенке; но эти люди, прежде такие храбрые, а теперь опустившиеся под влиянием бедствий, не могли уже воспользоваться своим оружием. В то же время генерал его авангарда доложил, что мосты у Студенки в огне; сообщил ему об этом адъютант по имени Роше: он уверял, что видел, как они горели. Партуно поверил этому неверному сообщению.
Он считал себя покинутым, предоставленным врагу; а так как стояла ночь и необходимость отбиваться с трех сторон дробила его и так уже слабые силы, он приказал передать всем бригадам, чтобы они попытались проскользнуть под покровом ночи вдоль флангов неприятеля. А сам он с одной из своих бригад, уменьшившейся до четырехсот человек, поднялся на крутые лесистые холмы, находившиеся вправо от него, надеясь в темноте миновать армию Витгенштейна, ускользнуть от него, соединиться с Виктором или обойти Березину у ее истоков.
Но всюду, где он ни показывался, он встречал неприятельский огонь и снова сворачивал; в течение нескольких часов он блуждал наугад по снежным равнинам среди непрекращавшейся метели. На каждом шагу видел он, как его солдаты, замерзавшие, изнемогавшие от голода и усталости, полуживые, попадали в руки русской кавалерии, неуклонно их преследовавшей.
Этот несчастный генерал еще продолжал бороться с небом, людьми и собственным отчаянием, как вдруг почувствовал, что даже земля ускользает у него из-под ног. На самом деле, ничего не видя из-за снега, он зашел на слишком еще слабый лед озера; только тогда он уступил и сложил оружие!
В то время как происходила эта катастрофа, три других его бригады, всё более и более теснимые, потеряли всякую возможность двигаться. Они отсрочили свое падение до утра, сначала отбиваясь, а потом ведя переговоры; но утром сдались и они; одно и то же несчастье соединило их со своим генералом.
От всей этой дивизии уцелел только один батальон, последний в Борисове. Он прошел весь город сквозь войска Платова и Чичагова, да еще как раз в момент соединения московской армии с молдавской. Казалось, что этот батальон должен был пасть первым, так как он остался один и был отделен от своей дивизии; но это и спасло его. К Студенке в нескольких направлениях двигались длинные вереницы экипажей и отбившихся от строя солдат; захваченный одной из таких толп, сбившись с пути и отойдя влево от дороги, по которой шла армия, командир этого батальона проскользнул к берегу реки, прошел по ее изгибам и, пользуясь мраком и неровностью почвы, тайком удрал от неприятеля и сообщил Виктору о гибели Партуно.
Когда Наполеон узнал об этом, он в отчаянии воскликнул: «Надо же было, когда мы, казалось, чудом спасены, чтобы эта сдача всё испортила!»
Восклицание было несправедливо, но оно было вызвано отчаянием: может быть, он предвидел, что ослабленный Виктор не сможет на другой день достаточно долго сопротивляться, или он считал возможным оставить в руках неприятеля во время отступления только отбившихся солдат и ни одного вооруженного корпуса. На самом деле эта дивизия была первой и единственной, сложившей оружие!
Глава VIII
Этот успех воодушевил Витгенштейна. Три части русской армии — северная, восточная и южная — соединились. Витгенштейн и Чичагов завидовали один другому, но ненавидели нас еще больше. Итак, эти генералы готовы были атаковать мосты в Студенке с обоих берегов.
Это было 28 ноября. У Великой армии было два дня и две ночи, чтобы уйти; русские слишком запоздали. Но у французов царил беспорядок, и на два моста не хватало материала: в ночь с 26-го на 27-е мост для повозок обрушивался два раза, и переправа запоздала на семь часов; 27-го, около четырех часов вечера, он обрушился в третий раз. С другой стороны, отбившиеся от полков солдаты, рассеянные по соседним лесам и деревням, не воспользовались первой ночью и 27-го, с рассветом, все появились сразу, желая перейти по мостам.
Когда тронулась гвардия, которой они держались, ее выступление стало как бы сигналом: они сбежались со всех сторон и столпились на берегу. Огромная нестройная масса людей, лошадей и повозок в одно мгновение бросилась в узкие проходы к мостам. Те, кто шел впереди, были смяты, брошены под ноги или на лед Березины.
В давке раздавались громкие крики, смешанные со стонами и страшными проклятиями.
Старания Наполеона и его ближайших генералов спасти этих потерявшихся людей, восстановив среди них порядок, долгое время были безуспешны. Беспорядок был так велик, что в два часа, когда появился сам император, пришлось прибегнуть к силе, чтобы открыть ему проход. Корпус гвардейских гренадеров и Латур-Мобур из жалости отказались прокладывать себе проход сквозь толпу этих несчастных.
В деревушке Занивки, расположенной среди лесов, на расстоянии одного лье от Студенки, была устроена императорская квартира. В то же время Эбле произвел перепись обоза, усеявшего берег, и предупредил императора, что такому количеству повозок мало шести дней для переправы. При этом присутствовал Ней; он воскликнул: «Их надо сжечь на месте!» Но Бертье, подталкиваемый дурной привычкой придворных, начал ему противоречить, уверяя, что к такой крайности нет нужды прибегать. Император рад был поверить Бертье, так как ему жаль было всех этих людей, в несчастьях которых он упрекал самого себя и у которых в этих повозках было всё состояние.
В ночь с 27-го на 28-е весь этот беспорядок был поглощен другим беспорядком. Всех отбившихся от полков людей привлекала к себе деревня Студенка: в одно мгновение она была разнесена, исчезла и превратилась в длинный ряд костров. Холод и голод удерживали здесь всех этих несчастных. Отсюда их нельзя было отогнать. Вся эта ночь снова была потеряна для их переправы.
Между тем Виктор с шестью тысячами человек защищал их от Витгенштейна. Но при первых проблесках следующего дня, когда они увидели, что маршал готовится к сражению, и услышали грохотавшие над их головами пушки Витгенштейна, в то время как пушки Чичагова гремели на другом берегу реки, они сразу все поднялись, сбежали вниз и снова толпой начали осаждать мосты.
Их ужас был небезоснователен: наступил последний день для многих из этих несчастных. Витгенштейн и Платов с 40 тысячами солдат атаковали высоты левого берега, защищаемые Виктором, у которого осталось только 6 тысяч человек. В то же время на правом берегу Чичагов с 27 тысячами вышел из Стахова против Удино, Нея и Домбровского. У последнего в строю едва насчитывалось 8 тысяч человек, которых поддерживал «священный эскадрон» вместе со Старой и Молодой гвардиями, насчитывавшими в то время 3800 штыков и 900 сабель.
Русские армии хотели захватить сразу оба моста. Шестьдесят тысяч человек, хорошо одетых, хорошо питавшихся и хорошо вооруженных, нападали на восемнадцать тысяч полуголых, умиравших с голода людей, разделенных рекою, окруженных болотом и, наконец, стесненных более чем пятьюдесятью тысячами отставших, больных или раненых и огромным багажом. А тут еще последние два дня морозы были такие жестокие, что Старая гвардия потеряла треть солдат, а Молодая — половину.
Однако маршал Виктор задерживал Витгенштейна весь этот день 28-го. А Чичагов был разбит. Маршала Нея и его 8 тысяч французов, швейцарцев и поляков было достаточно против 27 тысяч русских!
Атака адмирала была медленной и слабой. Его пушки расчистили дорогу, но он не решился последовать за своими ядрами и войти в проход, сделанный ими в наших радах. Были ранены Удино, Домбровский и Альбер; вскоре та же участь постигла Клапареда и Косиковского. Но тут появился Ней; он послал через лес на фланг этой русской колонны Думерка с кавалерией, который набросился на нее, взял две тысячи человек, изрубил остальных и этой яростной атакой решил исход сражения, которое сначала велось нерешительно. Чичагов, разбитый Неем, был отброшен к Стахову.
Большинство генералов 2-го корпуса было ранено, многие офицеры брали оружие и занимали место своих раненых солдат.
Среди потерь этого дня была особенно заметна потеря молодого Ноайя, адъютанта Бертье. Пуля уложила его наповал. Это был один из тех достойных, но слишком пылких офицеров, которые не щадят себя.
Во время этого сражения Наполеон, во главе своей гвардии, оставался в резерве в Брилях, охраняя доступ к мостам и находясь между двумя армиями, но ближе к армии Виктора. Этот маршал, атакованный в очень опасной позиции силами, в четыре раза превосходившими численность его армии, уступил врагу очень незначительно. Правый фланг его корпуса был защищен рекой и поддерживался огнем батареи, которую император установил на противоположном берегу. Его фронт был защищен оврагом, но левый фланг не имел поддержки.
Первая атака Витгенштейна была произведена только в десять часов утра 28-го со стороны Борисовской дороги и вдоль Березины, по которой он пробовал подняться до переправы; но правое французское крыло остановило его и долго удерживало вдали от мостов. Тогда Витгенштейн, развернув силы, ударил во фронт Виктора, но без успеха. Одна из его боевых колонн хотела перейти овраг, но была настигнута и уничтожена.
Лишь к середине дня русский генерал заметил свое превосходство и обошел левое крыло французов. Всё было бы потеряно, если б не усилия Фурнье и не самоотверженность Латур-Мобура. Этот генерал переходил со своей кавалерией по мостам. Заметив опасность, он тотчас же вернулся назад. Со своей стороны Фурнье, во главе двух полков гессенцев и баварцев, бросился в атаку; правое русское крыло, уже торжествовавшее победу, остановилось; оно нападало — он заставил его защищаться, и три раза неприятельские ряды были прорваны.
Ночь наступила раньше, чем 40 тысяч русских Витгенштейна смогли разбить 6 тысяч солдат Виктора! Этот маршал остался хозяином студенских высот, защитив к тому же от русских штыков мосты, но у него не было сил скрыть их от артиллерии русского левого крыла.
Глава IX
В течение всего этого дня положение 9-го корпуса оставалось тем более критическим, что единственным путем к отступлению для него был один непрочный и узкий мост; да еще проход ему загородили обозы и отставшие. По мере того как разгоралась битва, ужас этих несчастных еще больше увеличивал беспорядок в их рядах, и эта огромная толпа, собравшаяся на берегу, перемешавшаяся с лошадьми и повозками, представляла невероятное нагромождение. Около полудня в середину этого хаоса упали первые неприятельские ядра: они стали сигналом к всеобщему отчаянию!
В это время, как часто случается при необычайных обстоятельствах, сердца открываются нараспашку, так и мы были свидетелями как бесчестных деяний, так и благородных поступков. Одни, решительные и взбешенные, прочищали себе дорогу с саблей в руке. Многие прокладывали для своих повозок еще более мрачный путь и гнали их сквозь эту толпу несчастных, которых они безжалостно давили. В своей отвратительной жадности они жертвовали товарищами по несчастью, чтоб только спасти свой обоз. Другие, охваченные ужасом, плакали, умоляли и падали на землю, так как страх истощил их силы. Чаще всего это были больные или раненые, и снег вскоре должен был стать их могилой!
Между льдинами видны были женщины с детьми, которых они, уже захлестнутые водой, утопая, продолжали коченеющими руками держать надо льдом!
Среди этого ужасного беспорядка мост для артиллерии подался и провалился! Напрасно старалась пробраться назад колонна, вступившая на этот узкий мост: шедшие сзади люди, не зная об этом несчастий и не слыша криков передних, толкали их вперед и сбрасывали в бездну, в которую, в свою очередь, летели и сами.
Тогда все направились к другому мосту. Множество громадных ящиков, тяжелых повозок и артиллерийских орудий стекалось туда со всех сторон. Направляемые своими возницами, быстро катясь по крутому и неровному спуску, среди массы народа, они сметали несчастных, неожиданно попавших под колеса; целые ряды потерявшихся людей, наткнувшись на это препятствие, падали и были раздавлены массой других несчастных, которые беспрерывно всё прибывали и прибывали!
Таким образом эти волны несчастных перекатывались друг через друга; слышались только крики боли и бешенства! В этой ужасной свалке, опрокинутые и задыхавшиеся, люди бились под ногами своих товарищей, за которых они цеплялись ногтями и зубами. А те безжалостно отталкивали их, как врагов.
Среди них жены и матери напрасно душераздирающими голосами звали своих мужей и детей, которых в одно мгновение они безвозвратно потеряли; они протягивали к ним руки, они умоляли расступиться, чтобы можно было пробраться к ним; но, подхваченные толпой, раздавленные этой человеческой волной, они падали, и их даже не замечали. Среди этого ужасного шума, бешеной метели, пушек, свиста пуль, взрывов гранат, проклятий, стонов эта беспорядочная толпа даже не слышала плача поглощаемых ею жертв!
Наиболее счастливые перешли через мост, но — по телам раненых, женщин, опрокинутых детей, которых они давили ногами. Прибыв, наконец, к узкому выходу, они считали себя спасенными, но и тут какая-нибудь павшая лошадь, сломанная или сдвинувшаяся доска останавливали всех. А дальше, по выходе с моста, на другом берегу, было болото, в котором завязло много лошадей и повозок, что снова затрудняло движение…
Но, с другой стороны, сколько благородной самоотверженности! И почему нет места и времени описать ее? Мне пришлось видеть, как солдаты, даже офицеры, впрягались в сани, чтобы увезти с этого злополучного берега больных и раненых товарищей! Дальше, вдали от толпы, стояли несколько солдат: они стерегли своих умирающих офицеров, которые были поручены их попечению; те напрасно умоляли их позаботиться о собственном спасении — солдаты отказывались и предпочитали смерть или плен, но не покидали своих командиров!
Выше первой переправы, в то время когда молодой Лористон бросился в реку, чтобы скорее выполнить приказание своего государя, утлая лодочка, в которой сидела мать с двумя детьми, исчезла подо льдом; один артиллерист, мужественно прокладывавший себе путь на мосту, заметил это; тотчас же, забыв о самом себе, он прыгнул в воду, и ему в конце концов удалось спасти одну из этих трех жертв. Он спас младшего из двоих детей; несчастный отчаянно звал свою мать, и все слышали, как бравый канонир, неся малыша на руках, уговаривал его не плакать: ведь он спасен не для того, чтобы быть брошенным на берегу, у него ни в чем не будет недостатка, артиллерист заменит ему семью!
В ночь с 28-го на 29-е беспорядок этот еще увеличился. Мрак не скрывал жертв от русских пушек. Вся эта темная масса людей, лошадей и повозок на покрывавшем всё течение реки льду, и крики, несшиеся оттуда, помогали неприятельским артиллеристам направлять свои выстрелы.
К десяти часам вечера, когда начал свое отступление Виктор, общее отчаяние достигло крайнего предела. Но так как арьергард еще оставался в Студенке, то большинство, окоченев от холода или заботясь о своих вещах, отказалось воспользоваться этой последней ночью, чтобы перейти на противоположный берег. Напрасно жгли повозки, чтобы оторвать от них этих несчастных. Только рассвет смог, и уже слишком поздно, привести их к мосту, который они снова начали осаждать. Было полдевятого утра, когда, наконец, Эбле, видя приближение русских, поджег его.
Бедствие достигло крайних пределов. Масса повозок, три пушки, несколько тысяч человек были оставлены на неприятельском берегу. Видно было, как они в отчаянии толпами бродили по берегу. Одни бросались вплавь, другие отваживались перейти реку по плывшим льдинам; некоторые очертя голову бросились на горевший мост, который обрушился под ними: они сгорели и замерзли в одно и то же время. Вскоре стало видно, как тела то одних, то других всплывают и бьются вместе со льдинами о сваи; оставшиеся ожидали русских. Витгенштейн появился на холмах только час спустя после ухода Эбле и, не одержав победы, пожинал плоды ее.
Глава X
В то время как происходила эта катастрофа, остатки Великой армии образовали на противоположном берегу бесформенную массу, которая нестройно развертывалась, направляясь к Зембину.
Вся эта местность представляла огромную лесистую равнину — скорее, болото между множеством холмов. Армия прошла его по трем мостам в триста саженей длиною, прошла с удивлением, смешанным со страхом и радостью.
Эти великолепные мосты, построенные из смолистых сосен, начинались в нескольких верстах от переправы. Чаплиц в течение нескольких дней занимал их. Валежник и масса сучьев, горючего и сухого уже материала, были навалены у их начала, как будто указывая ему, что надо сделать с мостами. Достаточно было огня из трубки одного из его казаков, чтобы сжечь эти мосты. Тогда все наши старания и переправа через Березину оказались бы бесполезными. Очутившись между этими болотами и рекой, в узком пространстве, без продовольствия, без крова, среди невыносимой метели, Великая армия и ее император вынуждены были бы сдаться без сражения!
В этом отчаянном положении, когда вся Франция, казалось, будет взята в плен Россией, когда всё было против нас и за русских, последние всё делали только наполовину. Кутузов подошел к Днепру только в тот день, когда Наполеон достиг Березины; Витгенштейн позволил задерживать себя столько времени, сколько требовалось; Чичагов был разбит, и из восьмидесяти тысяч человек Наполеону удалось спасти шестьдесят тысяч.
Он оставался до последнего момента на этих печальных берегах, без крова, во главе своей гвардии, треть которой была уничтожена перенесенными бедствиями. Днем она бралась за оружие и строилась в боевой порядок; ночью располагалась на бивуаках вокруг главнокомандующего, и всё время старые гренадеры поддерживали огонь. Они сидели на своих ранцах, упершись локтями в колени и положив голову на руки, и спали, скорчившись, чтобы таким образом лучше согреться и не так сильно ощущать пустоту своих желудков.
В течение этих трех дней и трех ночей Наполеон находился среди них, взглядом и мыслью блуждая сразу в трех направлениях; поддерживая своими приказами и своим присутствием 2-й корпус, он помогал 9-му корпусу и переправе его артиллерии. Он способствовал стараниям Эбле спасти из этого бедствия всё, что только было возможно. Наконец, он сам повел эти остатки к Зембину, куда раньше него направился принц Евгений.
Тем временем император приказал своим маршалам, оставшимся без солдат, занять позиции по этой дороге, как будто под их началом была еще целая армия. Один из них с горечью указал ему на это несоответствие и начал подробно докладывать о своих потерях; но Наполеон, решивший отклонять все доклады из боязни, как бы они не превратились в жалобы, прервал его следующими словами: «Почему вы хотите лишить меня спокойствия?» А так как этот маршал продолжал свой доклад, он зажал ему рот, повторяя с упреком: «Я вас спрашиваю, сударь, зачем вы хотите лишить меня спокойствия?»
Слова, которые объясняют, какого положения он решил держаться и чего он требовал от других.
Вокруг него в течение этих трех дней на бивуаках умирали люди разных званий, классов и возрастов — министры, генералы, администраторы. Среди них был пожилой дворянин, человек из тех времен, когда правили легкие и блестящие грации. Каждое утро этого шестидесятилетнего начальника, веселого и невозмутимого, видели сидящим на покрытом снегом стволе дерева и занятым своим туалетом. Посреди этого бедствия он имел элегантную прическу, пудрил волосы с величайшей тщательностью, смеялся в глаза всем несчастьям и назло всем стихиям, нападению которых он подвергался.
Рядом с ним сидели ученые мужи, всё еще находившие предметы для дискуссий. Пропитанные духом своего века, отмеченного открытиями, давшими толчок к поиску объяснений всего сущего, страдая от сильного северного ветра, они пытались с научной точки зрения понять, почему он дует в одном и том же направлении.
Другие уделяли внимание шестиугольным снежным кристаллам и феномену ложного солнца, что отвлекало их от собственных страданий.
Глава XI
Двадцать девятого ноября император покинул берега Березины, гоня перед собой беспорядочную массу людей; он шел с 9-м корпусом, уже расстроенным. Старая гвардия, 2-й и 9-й корпуса и дивизия Домбровского составляли вместе 14 тысяч человек; за исключением приблизительно 6 тысяч, остальные не могли уже составить ни дивизии, ни бригады, ни полка.
Ночь, холод, голод, гибель офицеров, потеря обоза, оставленного на том берегу реки, пример множества бежавших, вид раненых, которых бросили на обоих берегах, — всё дезорганизовывало их: они затерялись в беспорядочной массе, прибывшей из Москвы.
Их было всё еще шестьдесят тысяч человек, но не было внутреннего единства. Все шли вперемешку: кавалерия, пехота, артиллерия, французы, немцы; не было больше ни флангов, ни центра.
Наполеон прибыл в Камень; здесь он ночевал вместе с пленными предыдущего дня, которых поместили отдельным лагерем. Эти несчастные, питаясь даже трупами, почти все погибли от голода и холода.
Тридцатого он был в Плещеницах. Раненый Удино удалился туда еще накануне вместе с сорока офицерами и солдатами. Здесь он считал себя в безопасности, как вдруг русский Ланской, со ста пятьюдесятью гусарами, четырьмястами казаками и двумя пушками проник в это местечко и занял все улицы.
Слабый эскорт Удино был рассеян. Маршал оказался вынужден защищаться в деревянном домике; но он действовал так решительно и так счастливо, что удивленный неприятель испугался, вышел из местечка и расположился на холме, откуда атаковал их только пушками. По несчастной судьбе, этот маршал снова был ранен, на сей раз обломком дерева.
Утром 3 декабря Наполеон прибыл в Молодечно. Это был последний пункт, где Чичагов мог опередить его. Здесь нашлись кое-какие припасы, обильный фураж; день был прекрасный, солнце сверкало, холод был сносный. Наконец, сюда сразу прибыли все курьеры, которых давно уже не было. Поляки тотчас же были отправлены в Варшаву через Олиту, а пешая кавалерия через Меречь на Неман; остальные должны были идти по большой дороге, на которую только что вышли.
До сих пор Наполеон, кажется, не соглашался на предложение оставить армию. Но в середине этого дня он вдруг объявил Дарю и Дюроку о своем решении немедленно отправиться во Францию.
Дарю не видел в этом необходимости. Он заметил, что сообщение снова восстановлено и самые большие опасности пройдены; что при каждом дальнейшем шаге отступления будут встречаться посланные ему из Парижа и Германии вспомогательные отряды. Но император возразил, что он больше не чувствует себя достаточно сильным, чтобы оставлять между собой и Францией Пруссию. Зачем ему возглавлять бегство? Для этого достаточно Мюрата, Евгения и Нея.
Ему обязательно надо вернуться во Францию, чтобы успокоить ее, вооружить и оттуда удерживать всех немцев в повиновении, наконец, чтобы вернуться с новыми и достаточными силами на помощь Великой армии.
Но прежде чем достигнуть этой цели, ему без армии надо пройти четыреста лье по землям союзников. И чтобы сделать это, не подвергаясь опасности, надо, чтобы его решение было неожиданным и о его поездке не знали; ему надо опередить известие о его позорном отступлении, опередить впечатление, которое оно может произвести, опередить измены, которые могут явиться результатом его. Следовательно, он не может терять времени, момент отъезда наступил!
Он лишь должен был решить, кого оставить командовать армией. Он колебался между Мюратом и Евгением. Ему нравились ум и преданность последнего. Но у Мюрата было больше блеска, а теперь надо было внушать к себе уважение. Евгений останется на роль второго; его возраст, его более низший чин будут отвечать за его покорность, а его характер — за его усердие. Он подаст пример другим маршалам.
Наконец, с ними останется еще Бергье, этот придворный, привыкший ко всем приказаниям и милостям императора. Следовательно, ничего не надо менять ни в форме, ни в организации, и такое положение, указывая на скорое его возвращение, в то же время удержит в повиновении наиболее нетерпеливых из друзей и в спасительном страхе — наиболее рьяных из его врагов.
Таковы были соображения Наполеона. Коленкур тотчас же получил приказ тайно подготовить этот отъезд. Местом отъезда была назначена Сморгонь, а временем — ночь с 5 на 6 декабря.
Хотя Дарю и не должен был сопровождать Наполеона — на него возлагалась тяжелая обязанность управления армией, — он выслушал постановление молча, так как ничего не мог возразить против таких сильных доводов; но не так поступил Бертье. Этот слабый старик, шестнадцать лет не покидавший Наполеона, возмутился, узнав о предстоящей разлуке.
И тут последовала очень тяжелая сцена. Император пришел в негодование от его упрямства. Разгневанный, он стал упрекать Бертье. Наконец он дал ему двадцать четыре часа для решения; после этого, если он будет настаивать, может ехать в свое поместье и там остаться: ему запрещено будет являться в Париж и на глаза императору. На другой день, 4 декабря, Бертье, сославшись в оправдание каприза на свой возраст и плохое здоровье, грустно покорился.
Глава XII
Начались ужасные холода, как будто русское небо, видя, что Наполеон ускользает от него, удвоило свою суровость, чтобы сломить и уничтожить его! При двадцатишестиградусном морозе мы достигли Беницы 4 декабря.
Наполеон оставил графа Лобо и несколько сотен солдат Старой гвардии в Молодечно, где дорога на Зембин соединяется с большой дорогой, ведущей из Минска в Вильну. Нужно было охранять этот пункт до прибытия Виктора, который, в свою очередь, должен был защищать его до прихода Нея.
Солдаты этого маршала и 2-й корпус, которым командовал Мезон, составляли арьергард. Ночью 29 ноября, когда Наполеон покинул берега Березины, остатки 2-го и 3-го корпусов перешли через длинные мосты, ведущие в Зембин; Ней оставил Мезона, чтобы тот защищал, а после сжег мосты.
Чичагов предпринял запоздалую, но энергичную атаку, пытаясь проложить себе дорогу ружейным огнем и штыками, но был отброшен. Солдаты Мезона обложили мосты вязанками хвороста, которые Чаплиц не использовал несколькими днями раньше. Когда всё было готово, враг устал сражаться и наступила ночь, Мезон поджег хворост. В течение нескольких минут мосты обратились в пепел и обрушились в трясину, которая пока не замерзла и была непроходимой.
Болота остановили врага и вынудили его искать окольных путей. На следующий день Ней и Мезон отступали беспрепятственно. Но еще через день, 1 декабря, когда они вышли к Плещеницам, русская кавалерия энергично атаковала, оттеснила и разбила Думерка и его кирасир.
В то же время Мезон видел, что деревня, через которую он должен был пройти, целиком занята отставшими солдатами. Он послал предупредить их, чтобы они немедленно уходили, однако эти несчастные и голодные люди, не видя врага, отказались прервать трапезу, которую только что начали; Мезон был оттеснен в деревню, прямо на них. Увидев врага и услышав звуки вражеской артиллерии, эти несчастные разом бросились бежать и заполонили главную улицу.
Мезон и его солдаты оказались стиснутыми этой ужасной толпой, которая давила на них и тем самым не позволяла использовать оружие. Генерал не имел иного выбора, кроме как приказать своим людям сплотиться и не двигаться. Кавалерия неприятеля смешалась с этой массой, но могла лишь с трудом прокладывать себе дорогу. Толпа рассеялась, но увлекла за собой часть воинов. Мезон и его солдаты хладнокровно ждали врага. Они стояли на открытой равнине, семьсот или восемьсот бойцов против нескольких тысяч солдат неприятеля. Надежд на спасение не было, Мезон и его люди готовились к неравному бою. Вдруг он увидел, как из леса выходят восемьсот поляков. Эти свежие силы, которые встретил Ней и привел на помощь Мезону, остановили врага и обеспечили отступление до Молодечно.
Четвертого декабря примерно в четыре часа вечера Ней и Мезон увидели деревню, которую Наполеон покинул утром. Чаплиц наступал им на пятки. У Нея осталось шестьсот человек. Слабость этого арьергарда, приближение ночи и перспектива найти укрытие побудили русского генерала пойти в атаку. Ней и Мезон, хорошо понимая, что они умрут от холода на большой дороге, если позволят врагу вытеснить их из деревни, решили стоять насмерть.
Они заняли оборону на въезде в деревню; поскольку их артиллерийские лошади подыхали, они отказались от идеи сохранить пушки и решили дать ими последний бой; была построена батарея, которая открыла страшный огонь. Атакующая колонна Чаплица была совершенно разгромлена и остановлена. Однако этот генерал направил часть своих сил по другому пути; русские перебирались через заборы и вдруг наткнулись на новые силы врага.
Удача была на нашей стороне: Виктор с четырьмя тысячами воинов, остатками 9-го корпуса, всё еще занимал деревню. Ярость солдат обеих армий достигла предела, первые дома несколько раз переходили из рук в руки: сражались не ради славы, а за укрытие от страшного холода.
Примерно в половине двенадцатого ночи русские вынуждены были отступить и пошли искать другое укрытие в соседних деревнях.
На следующий день, 5 декабря, Ней и Мезон надеялись, что Виктор составит арьергард вместо них; однако они узнали, что маршал ушел, в соответствии с данными ему инструкциями, и они остались в Молодечно с шестьюдесятью солдатами. Остальные разбежались; суровый климат совершенно истощил воинов, которых русские не могли победить до самого конца; оружие выпало из их рук, и сами они попадали в нескольких шагах от своих ружей.
Мезон, в котором сочетались великая сила духа и очень крепкое тело, не был напуган; он продолжал отступление, на каждом шагу подбирая людей, которые постоянно покидали его, но всё еще продолжал доказывать, что арьергард существует. И это всё, что требовалось; русские тоже замерзали и с наступлением ночи вынуждены были разбредаться по соседним селениям, которые они не осмеливались покидать до наступления светового дня. Тогда они возобновляли преследование, но не атаковали нас, если не считать нескольких беспомощных попыток; мороз был таким сильным, что не позволял какой-либо из сторон останавливаться с целью предпринять атаку или защищаться.
Ней был удивлен уходом Виктора, догнал его и потребовал, чтобы тот остановился; но Виктор, имея приказы к отступлению, отказался. Ней хотел, чтобы Виктор дал ему солдат, предлагая взять их под свою команду; Виктор никогда бы не согласился на это и не принял бы командование арьергардом без специальных приказов. Между ними вспыхнула ссора, Ней был разъярен и не сдерживал своих эмоций, однако это не произвело никакого эффекта на хладнокровного Виктора. Наконец, они получили приказ императора; Виктору предстояло поддерживать отступление, а Ней был вызван в Сморгонь.
Глава XIII
Наполеон только что прибыл туда среди толпы умирающих людей, снедаемый досадой, но не позволяющий малейшему чувству проявиться на его лице при виде человеческих страданий; в свою очередь, эти несчастные также не роптали в его присутствии. Правда, никакое бунтарство было невозможно; это потребовало бы специальных усилий, поскольку каждый целиком был занят борьбой с голодом, холодом и усталостью; это потребовало бы объединения, согласования действий и взаимопонимания, в то время как голод и множество бед разделяли и изолировали людей; одним словом, каждый был занят исключительно собой. Они были далеки от того, чтобы истощать себя выражениями недовольства или жалобами, они шли в тишине, всеми своими силами сопротивляясь воздействию враждебной среды; постоянные страдания отвлекали их от каких-либо иных планов. Физические потребности поглощали все их моральные силы; он жили в мире своих ощущений, продолжая выполнять свои обязанности чисто механически, воспроизводя то, что было заложено в их сознание в лучшие времена, — и вовсе не по долгу чести и не из любви к славе, совсем не от того, что было порождено двадцатью годами побед.
Авторитет командиров никоим образом не подвергался сомнению, патерналистское начало было исключительно сильным, а опасности, беды и триумфы разделялись всеми. Это была несчастная семья, и наибольшей жалости заслуживал ее глава. Здесь царила величественная и грустная тишина; он и все остальные были слишком гордыми, чтобы жаловаться, и слишком опытными, чтобы не понимать бесполезность этих жалоб.
Между тем Наполеон стремительной походкой вошел в свою последнюю штаб-квартиру; там он составил свои последние инструкции, также как и 29-й бюллетень погибающей армии. В его квартире были приняты меры предосторожности, чтобы всё происходившее не стало достоянием гласности раньше следующего дня.
Предчувствие последней беды охватило его приближенных; каждый из них хотел последовать за ним. Их сердца тосковали по Франции, они хотели вернуться к своим семьям и покинуть этот ужасный холодный край; но никто не отваживался выразить это желание, их сдерживали долг и честь.
Наступила ночь, и подошел момент, который назначил император для сообщения командирам армии о своем решении. Были вызваны все маршалы. По мере того как они входили, Наполеон каждого из них отводил в сторону и сначала располагал в свою пользу рассуждениями и выражением доверия.
Так, увидав Даву, он пошел навстречу ему и спросил, почему его более не видно, не покинул ли он его? А когда Даву ответил на это, что ему казалось, что император им недоволен, он мягко открылся ему, а выслушав ответ Даву, сообщил даже, какой путь собирается избрать, и принял во внимание его советы по этому поводу.
Наполеон был ласков со всеми; потом, собрав всех за своим столом, он хвалил их за прекрасные действия в эту войну! О себе, о своем предприятии он только сказал: «Если бы я родился на троне, если бы я был одним из Бурбонов, мне тогда легко было бы совсем не делать ошибок!»
Когда обед подошел к концу, он велел принцу Евгению прочитать свой 29-й бюллетень, после чего громко объявил: в эту самую ночь он уезжает с Дюроком, Коленкуром и Лобо в Париж, его присутствие там необходимо для Франции и для остатков его несчастной армии. Только оттуда он сможет удержать австрийцев и пруссаков. Несомненно, эти народы подумают еще, объявить ли ему войну, когда он встретит их во главе французской нации и новой армии в миллион двести тысяч человек!
Он сказал еще, что сначала посылает Нея в Вильну, чтобы всё реорганизовать там; что ему помогут: Рапп, который потом отправится в Данциг, Лористон — в Варшаву; Нарбонн — в Берлин; что надо будет устроить сражение у Вильны и задержать неприятеля; что армия найдет там подкрепление, продукты и всевозможные боеприпасы; потом она займет зимние квартиры за Неманом; и он надеется, что русские не перейдут Вислу до его возвращения.
«Я оставляю, — добавил император, наконец, — командование армией Мюрату. Надеюсь, что вы будете повиноваться ему как мне и что среди вас будет царить полнейшее согласие!»
Было десять часов вечера; он поднялся и, сердечно пожав руки, поцеловал всех и уехал!
Книга XII
Глава I
Товарищи, признаюсь, что мой ослабевший дух отказывается погружаться далее в воспоминания обо всех этих ужасах! Я дошел до отъезда Наполеона и убеждал себя, что наконец-то моя задача окончена. Я объявил себя историком той великой эпохи, когда мы с вершины самой высшей славы низринулись в пропасть самого глубокого падения… Но теперь, когда мне остается писать только о самых ужасных бедствиях, почему бы нам не отказаться, вам — от грустного чтения, а мне — от груза памяти, которая должна тревожить только прах и считать только бедствия?
Но так как в нашей судьбе несчастье, как и счастье, доходило до самых невероятных размеров, то я попытаюсь сдержать до конца данное вам слово. Раз история повествует даже о последних секундах великих людей, то какое же я имею право умолчать о последнем издыхании умирающей Великой армии? Всё в ней — как ее громкие стоны, так и ее победные крики — только увеличивает ее славу! Всё в ней было велико; нашей участью было — удивить века силой блеска и скорби.
Наполеон проходил сквозь толпу своих офицеров, выстроившихся на его пути, и одарял их на прощанье печальной, вынужденной улыбкой. Он и Коленкур сели в крытую карету; его мамелюк и Вонсович, капитан его гвардии, заняли козлы; Дюрок и Лобо следовали за ним в санях.
Его эскорт поначалу состоял из одних поляков, затем из Неаполитанской гвардии. Она насчитывала от шестисот до семисот солдат, когда покинула Вильну, чтобы встретить императора; она почти вся погибла во время этого короткого пути; ее единственным врагом была зима.
В ту ночь русские внезапно появились в Ошмянах — городе, через который должен был проехать эскорт, — а затем его покинули. Наполеон избежал опасности.
В Медниках император встретил Маре. Первыми его словами были: «У меня больше нет армии; я вот уже несколько дней иду среди толпы недисциплинированных людей, бродящих повсюду в поисках пищи; их еще можно было бы соединить, дав им хлеба, обувь, одежду и оружие, но мое военное управление ничего не предусмотрело, а мои приказания совсем не исполнялись!»
А когда Маре указал ему на блестящее состояние больших складов в Вильне, он воскликнул: «Вы возвращаете мне жизнь! Я поручаю вам отвезти Мюрату и Бертье приказ остановиться на неделю в этом городе, собрать там армию и, придав ей силы, продолжить отступление в менее плачевном виде».
Остальное путешествие Наполеона совершалось беспрепятственно. Он обогнул Вильну пригородами, проехал Вильковишки, где сменил свою карету на сани, остановился 10-го в Варшаве, чтобы потребовать у поляков отряд в десять тысяч казаков, дать им некоторые льготы и обещать свое скорое возвращение во главе трехсот тысяч человек. Затем, быстро проехав через Силезию, он снова увидел Дрезден и его короля, потом Ганау, Майнц и, наконец, Париж, куда он явился внезапно 19 декабря.
От Малоярославца до Сморгони этот властитель Европы был уже только генералом умирающей и дезорганизованной армии. От Сморгони до Рейна это был простой беглец, несшийся через неприятельскую землю. За Рейном он снова превратился в повелителя и завоевателя Европы: последний порыв благодетельного ветра еще надувал этот парус.
Однако в Сморгони генералы Наполеона обрадовались его отъезду: они все свои надежды связывали с этим отъездом. Армии оставалось только бежать, дорога была открыта, русская граница недалеко. Они получили помощь в восемнадцать тысяч человек свежего войска; армия находилась в большом городе, где были огромные запасы, и Мюрат и Бертье, оставшись вдвоем, полагали, что они смогут направлять это бегство. Но среди этого страшного беспорядка нужен был колосс, чтобы стать центром всего, а этот колосс только что исчез. В громадной пустоте, оставленной им, Мюрат был едва заметен.
Тогда только прекрасно поняли, что великого человека некем заменить, потому ли, что его приближенные из гордости не могли склониться ни перед чьей другой волей, или потому, что, думая постоянно обо всем, предвидя всё и распоряжаясь всем, он создал только хороших исполнителей, искусных лейтенантов, но не генералов.
В первую же ночь один генерал отказался повиноваться. Маршал, командовавший арьергардом, вернулся почти один на императорскую квартиру. Там еще находились три тысячи человек гвардии. Это была вся Великая армия, и от нее осталась только одна голова! Но при известии об отъезде Наполеона, испорченные привычкой повиноваться только завоевателю Европы, не поддерживаемые более честью служить ему и презирая всех других, эти ветераны поколебались и сами приняли участие в беспорядках.
Большая часть армейских полковников, с четырьмя-пятью офицерами или солдатами вокруг своего орла, признавала только собственные приказы: всякий думал о спасении. Были люди, которые сделали двести лье, не повернув назад головы. Это было всеобщее «спасайся кто может!».
Впрочем, исчезновение императора и несостоятельность Мюрата не были единственными причинами такого беспорядка; главной виновницей была суровая зима, которая в это время стала очень лютой. Она всё усугубляла; она, казалось, создала всевозможные преграды между Вильной и армией.
До Молодечно и до 4 декабря, когда зима обрушилась на нас, вдоль дороги оставалось меньшее количество трупов, чем до Березины. Этим мы обязаны мужеству Нея и Мезона, удерживавшим неприятеля, более сносной тогда температуре, некоторым запасам, которые давала менее разоренная местность, и, наконец, тому, что при переправе через Березину уцелели наиболее крепкие люди.
Поддерживалось нечто вроде порядка внутри беспорядка. Масса беглецов брела, разделившись на множество мелких групп в восемь — десять человек. У многих из них была еще лошадь, нагруженная съестными запасами или сама служащая им этим запасом. Ветошь, кое-какая посуда, походный ранец и палка составляли пожитки этих несчастных и их вооружение. У солдат не было больше ни оружия, ни мундира, ни желания сражаться с неприятелем, а лишь с голодом и холодом; но у них остались твердость, постоянство, привычка к опасности и страданиям и всегда гибкий, изворотливый ум, умеющий извлечь всю возможную пользу из любого положения.
Но после Молодечно и отъезда Наполеона, когда зима, удвоив свою жестокость, напала на каждого из нас, все эти мелкие группы, сплотившиеся для борьбы с бедствиями, распались: теперь борьба совершалась изолированно, лично каждым. Самые лучшие солдаты уже не уважали себя: ничто их не останавливало; никто ничего не видел; у несчастья не было ни надежды, ни сожаления; у отчаяния больше уже не было судей, не было и свидетелей: все были жертвами!
Не было больше братства по оружию, не было общества — невыносимые страдания притупили всё. Голод, мучительный голод довел этих несчастных до грубого инстинкта самосохранения — единственного сознательного чувства у самых свирепых животных, ради которого они готовы пожертвовать чем угодно; варварская природа, казалось, привила им жестокость. Как дикари, сильные грабили слабых; они сбегались к умирающим, часто не дожидаясь даже их последнего вздоха. Когда падала лошадь, то могло показаться, что вокруг нее собралась голодная стая волков: они окружали ее, разрывали на куски, из-за которых спорили между собой, как лютые собаки!
Всё же большая часть еще сохраняла достаточно моральных сил, чтобы искать спасения, не вредя другим; но это было последнее усилие их добродетели.
Считается пороком эгоизм, вызванный избытком счастья; здесь эгоизм был вызван избытком несчастья, и потому более простителен; первый — добровольный, а последний — почти вынужденный; первый — преступление сердца, а последний — проявление инстинкта и действует чисто физически: и действительно, остановиться на минуту — значило рисковать жизнью! Протянуть руку своему товарищу, своему умирающему командиру было актом изумительного великодушия. Малейшее движение, вызванное состраданием, становилось великим подвигом.
Так поступали немногие, которые оставались твердыми в этой борьбе против неба и земли; они защищали слабейших и помогали им; это фениксы, возрождавшиеся из пепла.
Глава II
Шестого декабря, на следующий же день после отъезда Наполеона, небо показало себя еще ужаснее: птицы падали замерзшими на лету! Атмосфера была неподвижной и безмолвной: казалось, что всё, что могло в природе двигаться и жить, даже сам ветер, было подавлено, сковано и как бы заморожено всеобщей смертью. Ни слов, ни ропота, лишь мертвое безмолвие, безмолвие отчаяния!
В этом царстве смерти все двигались, как жалкие тени! Глухой и однообразный звук наших шагов, скрип снега и слабые стоны умирающих нарушали это гробовое безмолвие. Ни гнева, ни проклятия, ничего, что предполагает хоть немного чувства; едва оставалась сила умолять; люди падали, даже не жалуясь, — по слабости ли, из покорности ли, или же потому, что жалуются только тогда, когда надеются смягчить кого-либо, или думают, что их пожалеют.
Таковы были последние дни Великой армии.
Ее последние ночи были еще более ужасны; те, кого темнота захватывала вдали от всякого жилья, останавливались на опушке леса; там они разводили костры, перед которыми и сидели всю ночь, прямые и неподвижные, как призраки. Они не могли согреться этим теплом; они пододвигались к нему так близко, что загоралась их одежда. Ужасная боль заставляла их лечь, а на другой день они напрасно старались подняться.
Но те, кого зима оставила невредимым и кто хранил еще остатки мужества, готовили себе скудный обед. Так, в Смоленске обед состоял из нескольких ломтей жареной конины и ржаной муки, разведенной в растопленном снеге, или галет, которые, за отсутствием соли, приправляли порохом из патронов.
В Жупранах, в том городе, где император на один только час разминулся с русским партизаном Сеславиным, солдаты жгли целые дома, чтобы согреться на несколько минут. Зарево этого пожара привлекало несчастных, которых суровый холод и страдания довели до безумия; они сбегались в бешенстве и со скрежетом зубов и с адским хохотом бросались в эти костры, в которых и погибали в ужасных мучениях. Голодные их товарищи без ужаса смотрели на них; были даже такие, которые подтаскивали к себе эти обезображенные и обугленные пламенем тела и — это правда — решались поднести ко рту эту отвратительную пищу!
Такова была эта армия, вышедшая из самой цивилизованной нации Европы, — армия, некогда такая блистательная, победоносная, имя которой еще царило в стольких завоеванных столицах! Ее самые сильные воины, гордо прошедшие по стольким победным полям, потеряли свой благородный облик: покрытые лохмотьями, с голыми израненными ногами, опираясь на сосновые палки, они едва тащились, а всю силу, которую они когда-то употребляли для побед, теперь использовали для бегства!
Суеверные народы занимаются предсказаниями, и мы уподобились им. Некоторые говорили, что наш переход через Березину освещала комета, и считали это дурным знаком. Другие цитировали древних пророков, которые объявили о нашествии татар на берега Сены именно в это время. Третьи вспоминали об ужасной и разрушительной буре, которая разразилась во время нашего вступления на русскую территорию. «Сами небеса заговорили! И вот она — беда! Сама природа пыталась предотвратить эту катастрофу! Почему мы остались глухими к ее голосу?»
Как будто бы Провидение из сострадания к нашей слабости приказывало, чтобы каждый человек, песчинка мироздания, творил и чувствовал так, будто он является центром Вселенной.
Глава III
Армия была в последней степени физической и моральной подавленности, когда первые ее беглецы достигли Вильны.
Вильна! Склады, первый богатый и населенный город, который они встретили после вступления в Россию! Девятого декабря большая часть этих несчастных увидела, наконец, этот город! Тотчас все — одни едва волочась, другие бегом — устремились в его предместье и так упрямо лезли вперед, что скоро образовали одну сплошную массу людей, лошадей и повозок, неподвижную и неспособную двигаться.
Продвижение этой толпы по узкой улице стало почти невозможным. Следовавшие сзади, руководимые глупым инстинктом, лезли в эту кашу, не подумав проникнуть в город через другие ворота, хотя были и такие; но всё было так неорганизованно, что за весь этот тяжелый день не появился ни один штабной офицер, чтобы указать им путь.
В течение десяти часов, когда морозы достигли 27 или даже 28 градусов, тысячи солдат, считавших себя в безопасности, умерли от холода или удушья, как у ворот Смоленска и на мостах через Березину. Шестьдесят тысяч человек перешли через эту реку, и двадцать тысяч рекрутов присоединились к ним; из этих восьмидесяти тысяч половина уже погибла, в основном за последние четыре дня, между Молодечно и Вильной.
Литовская столица еще не знала о наших бедствиях, как вдруг сорок тысяч голодных человек наполнили ее криками и стонами! При этом неожиданном зрелище жители испугались — они заперли двери. Печальное зрелище представляли тогда группы этих несчастных, бродившие по улицам, одни в бешенстве, другие отчаявшиеся, угрожая или умоляя, стараясь проникнуть во дворы домов, складов или тащась в больницы; и отовсюду их гнали!
Солдаты смешались, всякая упорядоченная раздача еды была невозможна. В городе было на сорок дней муки и хлеба и на тридцать шесть дней мяса для ста тысяч человек. Ни один начальник не осмелился отдать приказания распределять эти припасы между всеми, кто явится. Одни боялись ответственности; другие опасались крайностей, которым предались бы голодные солдаты, если отдать им всё.
В казармах, в больницах они также не находили приюта, но здесь гнали их не живые, а царившая там смерть. Там еще дышало несколько умиравших солдат; они жаловались, что уже давно не имеют кроватей, даже соломы, что почти заброшены. Дворы, коридоры, даже залы были завалены массой тел; это были склады трупов.
В конце концов благодаря стараниям некоторых военачальников, таких как Евгений и Даву, а также сострадательности литовцев и жадности евреев, открылись некоторые убежища. Непередаваемо было изумление этих несчастных, увидевших, наконец, себя в обитаемых домах.
Какой изысканной пищей казался им печеный хлеб! Какое невыразимое удовольствие находили они в том, чтобы есть его сидя, и в какое восхищение потом приходили они, видя какой-нибудь слабый батальон еще с оружием, в порядке, в мундирах! Казалось, что они вернулись с края света…
Но едва они начали вкушать эту сладость, как пушки русских загудели над ними и над городом. Эти грозные звуки, крики офицеров, барабаны, призывающие к оружию, стоны всё еще прибывающих сюда толп несчастных наполнили Вильну новым смятением. Это был авангард Кутузова.
Однако французы больше думали, как защитить свою жизнь от голода и холода, чем от неприятеля. Тогда послышались крики: «Казаки!» С давних пор это был единственный сигнал, которому повиновалось большинство; он тотчас разнесся по всему городу, и началось отступление.
Сам Мюрат испугался; не считая себя больше командующим армией, он потерял самообладание. Видели, как он пробивался сквозь толпу и бежал из своего дворца и из Вильны, не давая иных приказов, кроме собственного примера, и оставив Нея ответственным за всё, что могло случиться. Он остановился у последнего дома на окраине, по дороге на Ковно, где ждал наступления дня и армию.
Можно было бы продержаться в Вильне на сутки дольше, и множество людей было бы спасено. В этом фатальном городе осталось около двадцати тысяч человек, в числе которых было триста офицеров и семь генералов. Большинство было сильнее ранено зимой, чем торжествовавшим неприятелем. Другие еще были невредимы, по крайней мере с виду, но их моральные силы исчезли.
Правда, литовцы, которых мы покинули, так скомпрометировав их, подобрали и помогли некоторым из них; но евреи, которым мы покровительствовали, оттолкнули многих. Они сделали больше: вид наших страданий раздразнил их алчность. Всё же, если бы их гнусная жадность довольствовалась тем, что на вес золота продавала самую слабую помощь, история не стала бы пачкать своих страниц такими отвратительными подробностями; но они затаскивали наших раненых в свои дома, чтобы ограбить их, а потом, при виде русских, выбрасывали несчастных, голых, умирающих через двери и окна; они безжалостно оставляли их умирать от холода на улицах; в глазах русских эти гнусные варвары даже заслуживали похвалы за то, что так мучили страдальцев. Такие подлые преступления должны быть известны и настоящему, и будущим векам! Сейчас, когда наши руки бессильны, может быть, наше негодование против этих чудовищ будет единственным наказанием им на земле; но когда-нибудь убийцы, наконец, присоединятся к своим жертвам и, несомненно, в справедливости неба мы найдем себе отмщение!
Десятого декабря Ней, который вновь добровольно взялся командовать арьергардом, покинул этот город; следом туда хлынули казаки Платова и начали убивать всех бедных и несчастных, которых выбросили евреи. Во время этой резни вдруг появился пикет из тридцати французов, которые ранее находились у мостов через Вилию, где они были оставлены и забыты. При виде этой свежей добычи тысячи русских кавалеристов окружили их с громкими криками.
Однако офицер, командовавший пикетом, уже построил своих солдат в круг. Не колеблясь, он вначале приказал им стрелять, а затем пойти ускоренным шагом со штыками наперевес. Все тут же разбежались, и он овладел городом. Не рассчитывая более на трусость казаков, он совершил резкий поворот и успешно соединился с арьергардом, не понеся никаких потерь.
В этом городе, как и в Москве, Наполеон не дал никакого приказа об отступлении: он хотел, чтобы наше отступление было неожиданно, чтобы оно удивило наших союзников и их министров, и думал, что, воспользовавшись их первым удивлением, он сможет пройти по их землям раньше, чем они смогут присоединиться к русским, чтобы уничтожить нас.
Вот зачем были обмануты литовцы, иностранцы и вся Вильна, вплоть до самого министра. Они не верили в наше поражение, пока не увидели его; и на этот раз почти суеверная убежденность в непогрешимости гения Наполеона послужила ему на пользу против его союзников. Но эта же самая вера усыпила самих французов, которые были совершенно уверены в своей безопасности: в Вильне, как и в Москве, никто не приготовился ни к какому передвижению.
В этом городе была огромная партия армейского обоза и его казны, продовольственных запасов, масса огромных фургонов императора, много артиллерии и большое количество раненых. Наше отступление свалилось на них, подобно урагану. При этом известии одних ужас заставил бежать, других приковал к месту: солдаты, люди, лошади, повозки — всё перепуталось!
Среди такой сумятицы командиры вывели из города всех, кого они смогли еще заставить двигаться; но через лье по этой дороге их встретили Панарские высоты и лощина.
При завоевательном марше этот поросший лесом скат показался бы нашим гусарам только счастливым местоположением, откуда они могли бы обозревать всю Виленскую равнину и неприятеля. При правильном отступлении он представлял бы прекрасную позицию, чтобы повернуться и остановить врага. Но при беспорядочном бегстве, когда всё, что могло бы служить прикрытием, при спешке и беспорядке обращается против отступающих, этот холм и ущелье сделались непреодолимыми препятствиями, ледяной стеной, о которую разбивались все наши усилия. Он задержал всё — обоз, казну, раненых. Несчастье было довольно большое, так что в этом длинном ряде неудач оно составило эпоху.
И на самом деле, деньги, честь, остаток дисциплины и силы — всё окончательно было потеряно. После пятнадцати часов бесплодных усилий, когда проводники и солдаты эскорта увидели, что король и вся толпа беглецов обходит их по бокам горы, когда, обернувшись на шум пушечной и ружейной стрельбы, приближавшейся к ним с каждым мгновением, они увидели самого Нея, уходившего с тремя тысячами человек, остатками корпуса Вреде и дивизии Луазона, когда, наконец, перенеся взор на самих себя, они увидели, что вся гора покрыта разбитыми или перевернутыми повозками и пушками, распростертыми людьми и лошадьми, умиравшими друг на друге, — тогда они перестали думать о спасении чего-нибудь, а просто старались предупредить алчность врагов, растащив всё сами.
Открывшийся денежный ящик послужил сигналом: всякий спешил к этим повозкам; их разбивали, вытаскивали оттуда самые дорогие предметы. Солдаты так ожесточенно отнимали добычу друг у друга, что не слышали свиста пуль и крика преследовавших их казаков.
Говорят, что эти казаки даже смешались с ними, и те не заметили ничего. В течение нескольких минут французы и татары, друзья и враги, слились в общей жадности. Русские и французы, забыв о войне, вместе грабили один и тот же сундук. Исчезли десять миллионов золотом и серебром.
Но рядом с такими ужасами была и благородная самоотверженность. Находились солдаты, которые бросали всё, чтобы вынести на своих плечах несчастных раненых; другие, не имея сил вырвать из этой толчеи своих наполовину замерзших товарищей по оружию, погибли, защищая их от нападений своих же соотечественников и от ударов неприятеля.
На самой незащищенной стороне горы офицер императора, полковник граф Тюренн отбросил казаков и, не обращая внимания на крики и стрельбу, распределил у них на глазах средства императорской казны среди гвардейцев. Эти мужественные люди успешно их сохранили. Впоследствии они вернули всё доверенное им. Ни одна монета не была потеряна.
Глава IV
Эта панарская катастрофа была тем постыднее, что ее легко было предвидеть и еще легче избежать, так как можно было обойти этот холм сбоку. Но все-таки наши повозки задержали казаков.
Пока они были заняты своей добычей, Ней, во главе нескольких сотен французов и баварцев, осуществлял отход. Поскольку это было его последнее усилие, то мы должны описать его метод отступления, который он применял в течение тридцати семи дней и тридцати семи ночей, или с тех пор как покинул Вязьму 3 ноября.
Каждый день, в пять часов вечера, он занимал позицию, останавливал русских, давал своим солдатам возможность поесть и немного отдохнуть и возобновлял движение в 10 часов. В течение всей ночи он гнал перед собой массу отставших с помощью криков, просьб и ударов. С рассветом, или около 7 часов, он останавливался, вновь занимал позицию, давал солдатам отдохнуть до 10 часов с оружием в руках и сохраняя бдительность; после этого появлялся враг, и он вынужден был сражаться до вечера, стараясь при этом оставить за собой как можно больше пространства сзади. Это зависело вначале от общего порядка движения, а затем от обстоятельств.
В течение длительного времени этот арьергард состоял не более чем из двух тысяч, позднее из одной тысячи, затем из пятисот солдат и, наконец, из шестидесяти бойцов. При этом Бертье не менял своих инструкций. Они всегда были адресованы командиру корпуса численностью тридцать пять тысяч человек; в них он хладнокровно называл все позиции, которые следовало занять и оборонять до следующего дня, при этом упоминая дивизии и полки, которые более не существовали.
На одном из бивуаков Ней и Вреде обнаружили, что все их солдаты дезертировали, оставив оружие у костров.
К счастью, крепкий мороз, окончательно лишивший наших солдат мужества, оглушил и неприятеля. Ней с трудом догнал свою колонну, которая теперь представляла собой лишь группу беглецов; несколько казаков гнали их перед собой, не пытаясь, однако, взять в плен или убить, — то ли из сострадания, то ли потому, что масштаб наших невзгод ужаснул даже русских, или пресытившись трофеями, или просто потому, что они не поняли в темноте, что имеют дело с невооруженными людьми.
Зима, эта ужасная союзница русских, дорого потребовала за свою помощь. Беспорядок у них равнялся нашему. Мы видели пленников, которые несколько раз вырывались из их рук и скрывались из виду. Сначала они шли среди тащившейся колонны врагов, и их не замечали. Тогда, улучив удобный момент, они осмеливались напасть на некоторых отдельно шедших русских солдат, отнимали у них провизию, мундиры, даже оружие — и переряжались во всё это. Потом они смешивались со своими победителями — такова была дезорганизация, отупение, в которое впала русская армия; эти пленники шли целый месяц посреди нее, и их не узнали. Сто двадцать тысяч человек у Кутузова сократились до тридцати пяти тысяч!
Из 50 тысяч русских у Витгенштейна осталось едва 15 тысяч. Вильсон уверяет, что из подкрепления в 10 тысяч человек, вышедшего из центра России со всеми предосторожностями, какие там умеют принимать против зимы, в Вильну пришли только семьсот человек!
Мы прошли Ковно, последний город Российской империи. Наконец 13 декабря, пройдя под ужасным ярмом сорок шесть дней, мы увидели по ту сторону Немана дружественную землю!
Теперь Неман — только длинная масса льдин, спаянных друг с другом суровой зимой. На месте трех французских мостов, принесенных за пятьсот лье и переброшенных с такой смелой быстротой, стоит только один русский. Вместо четырехсот тысяч солдат, с такой радостью и гордостью устремившихся в землю русских, из этой бледной и обледенелой пустыни выходит только тысяча вооруженных пехотинцев и кавалеристов, девять пушек и двадцать тысяч несчастных, в рубищах, с опущенными головами, с потухшими глазами, землистыми и багровыми лицами, длинными и взъерошенными от холода бородами; одни молча боролись за узкий проход по мосту, который, несмотря на их малое количество, был недостаточен для поспешного бегства; другие бежали там и сям по льдинам, громоздившимся на реке, с трудом перебираясь с одной на другую. И это вся Великая армия!
Два короля, один принц, восемь маршалов с несколькими офицерами, пешие генералы, шедшие без всякого порядка и свиты, наконец, несколько сот человек еще вооруженной Старой гвардии составляли остатки ее: они одни ее представляли!..
Или, вернее, она вся еще дышала в маршале Нее. Товарищи! Союзники! Враги! Обращаюсь к вашему свидетельству: воздадим памяти несчастного героя тот почет, которого он заслуживает; фактов достаточно. Все бежали; и даже Мюрат, проходя через Ковно, как и через Вильну, давал, а потом брал назад приказ собраться в Тильзите и, наконец, остановился на Гумбиннене. А Ней вошел в Ковно один со своими адъютантами, потому что все вокруг него отступили или пали. С Вязьмы это был четвертый арьергард, которым он руководил и который таял в его руках. В четвертый раз он остался один перед неприятелем и, всё еще непоколебимый, искал себе пятый арьергард.
Этот маршал нашел в Ковно отряд артиллерии, триста немцев, составлявших местный гарнизон, и генерала Маршала с четырьмястами солдатами; он взял командование над ними. Сначала он обошел город, чтобы ознакомиться с позицией и увеличить свои силы, но нашел только раненых, которые, плача, пробовали следовать за ними.
Четырнадцатого на рассвете началась атака русских.
В то время как одна из их колонн внезапно появилась на Виленской дороге, другая перешла Неман по льду выше города, вступила на прусскую землю и, гордясь тем, что первой перешла русскую границу, пошла на ковенский мост, чтобы закрыть Нею этот выход и отрезать всякое отступление.
Первые выстрелы в Ковно раздались у Виленских ворот. Ней поспешил туда, он хотел прогнать пушки Платова своими, но нашел свои орудия уже заклепанными, артиллеристы же бежали! Взбешенный, он с шашкой в руке бросился на командовавшего ими офицера и убил бы его, если бы не его адъютант, который отклонил удар и помог этому несчастному бежать.
Тогда Ней призвал свою пехоту; но из двух славных батальонов, составлявших ее, только один взялся за оружие: это были триста немцев гарнизона. Он разместил их, ободрил и, когда неприятель приблизился, хотел уже приказать открыть огонь, как вдруг русское ядро, уничтожив палисад, раздробило бедро их командиру. Этот офицер упал и, не колеблясь, чувствуя, что смерть неизбежна, хладнокровно взял пистолет и прямо перед войском прострелил себе голову. При виде такого отчаяния солдаты его пришли в ужас и смятение, все бросили оружие и обратились в беспорядочное бегство!
Ней, которого все покинули, не оставил своего поста. После бесполезных попыток остановить этих беглецов он подобрал их еще заряженное оружие, превратился в солдата и выступил против тысяч русских. Его отвага остановила их; она заставила покраснеть нескольких артиллеристов, которые последовали примеру своего маршала, и дала время адъютанту Эйме и Жерару собрать тридцать солдат, вывезти вперед два-три легких орудия, а генералам Ледрю и Маршану — собрать оставшийся у них батальон.
Но в этот момент началась вторая атака русских, за Неманом, около ковенского моста; было полтретьего.
Ней послал Ледрю и Маршана с четырьмястами солдатами отнять и сохранить этот мост. Сам же он, не отступая ни на шаг, не беспокоясь более о том, что творится сзади него, продержался во главе тридцати человек до ночи около ворот, ведущих в Вильну. Тогда он прошел через Ковно и Неман, продолжая сражаться, отступая, а не убегая, идя позади всех, до последнего момента поддерживая честь нашего оружия, и в пятый раз за сорок дней и сорок ночей жертвуя своей жизнью и свободой, чтобы спасти еще несколько французов! Он, наконец, последним из Великой армии вышел из гибельной России, показав миру ничтожество Счастья перед великой Отвагой, доказав, что Героя всё ведет к славе, даже самые великие поражения!
Было восемь часов вечера, когда он достиг берега союзников. Тогда, видя, что катастрофа завершилась, так как Маршан оттеснен к самому мосту, а Вильковишская дорога, по которой следовал Мюрат, вся покрыта неприятелем, он кинулся вправо, углубился в леса и исчез!
Глава V
Когда Мюрат достиг Гумбиннена, он очень удивился, найдя там Нея и узнав, что с самого Ковно армия шла без арьергарда. К счастью, преследование русских, как только они сошли со своей территории, замедлилось. Они, казалось, на прусской границе колебались, не зная, вступают ли они на землю союзников или врагов. Мюрат воспользовался этой нерешительностью, чтобы отдохнуть несколько дней в Гумбиннене и направить остатки корпусов в различные города по течению Вислы.
Во время этой дислокации армии он собрал ее командиров. Не знаю, какой злой гений помогал ему на этом совете. Хотелось бы верить, что его несдержанность была вызвана тяжелой обязанностью оправдывать перед этими воинами свое стремительное бегство, досадой на императора, который возложил на него такую ответственность, или, может быть, стыдом появиться побежденным среди тех народов, над которыми мы одержали столько побед. Но так как его слова носили явно оскорбительный характер, а его поступки не противоречили им, и так как они, наконец, были первыми признаками его измены, то история не может замалчивать их.
Этот воин, взошедший на трон по единственному праву победы, возвращался побежденным! С первых же шагов по завоеванной земле Мюрат чувствовал, как она вся трепещет под ним и корона колеблется на его голове. Тысячу раз за этот поход он подвергался опасностям; но он, король, не боявшийся умереть, как простой солдат, не мог перенести мысли, что ему придется жить без короны. И вот, посреди военачальников, руководство которыми вручил ему его император, Мюрат, чтобы оправдаться, начал обвинять его в честолюбии, которым страдал и сам!
— Нельзя служить безумцу! — кричал он. — Из-за него мы не можем спастись; ни один европейский принц не верит больше ни его словам, ни его договорам! Если бы я принял предложение англичан, то был бы таким же великим королем, как австрийский император или прусский король!
Возглас Даву остановил его.
— Король прусский, император австрийский, — грубо прервал он, — короли милостию Божиею, их создало время и привычка народов; а ты — ты король только милостью Наполеона и из-за французской крови! Ты можешь остаться королем только благодаря Наполеону и храня верность Франции; тебя ослепляет черная неблагодарность!
И тут же он объявил ему, что донесет на него императору; другие военачальники молчали. Они извиняли королю его резкость, вызванную скорбью, и приписывали необузданному гневу те выражения, которые ненависть и подозрительность Даву слишком буквально поняли.
Мюрат был смущен: он чувствовал себя виноватым. Так была затушена первая искорка измены, которая позже погубила Францию!
Вскоре нам пришлось переживать унижение в Кёнигсберге. Великая армия, которая в течение двадцати лет проходила с триумфом по всем столицам Европы, теперь предстала перед населением города изувеченной и безоружной. Местные жители толпами собирались по пути нашего следования, чтобы поглазеть на наши раны и оценить масштаб наших несчастий; мы шли под тяжестью своих бед, видя их отвратительную радость.
Тень Великой армии, почти свергнутой с пьедестала, всё же была внушительной. Армия не утратила свой величественный дух; побежденная стихиями, она сохраняла, в присутствии людей, свою победную и величавую осанку.
Немцы оставались покорными, но их холодная наружность скрывала ненависть. Они должны были облегчать наши страдания, но при этом будто ждали сигнала.
Зима, до тех пор сопровождавшая армию, вдруг ушла. Внезапное повышение температуры на двадцать градусов оказалось для нас роковым. Большое число солдат и генералов не выдержали этой перемены. Эбле, гордость армии, пал ее жертвой. Ларибуазьер, главнокомандующий артиллерией, последовал за ним. Каждый день и каждый час мы получали удручающие сообщения о новых смертях.
Посреди общей скорби произошли два события, обратившие все печали в отчаяние: неожиданный бунт и письмо от Макдональда. Восстание было подавлено, но письмо содержало сведения, имевшие решающее значение.
Глава VI
Император доверил свой левый фланг, так же как и правый и всё свое отступление, пруссакам и австрийцам. Было отмечено, что в то же время он рассредоточил поляков по всей армии; многие думали, что было бы предпочтительно сконцентрировать в одной точке усердие последних и разделить при этом ненависть первых. Но нам везде нужны были местные в качестве переводчиков, разведчиков и проводников, и мы чувствовали ценность их воинственного пыла там, где следовало атаковать. Что касается пруссаков и австрийцев, то они, вероятно, не позволили бы их распределить. На левом фланге Макдональд с семью тысячами баварцев, вестфальцев и поляков, смешанных с двадцатью двумя тысячами пруссаков, должен был отвечать за последних, равно как и за русских.
Во время наступления, на первых порах, там нечего было делать, кроме как оттеснить русские посты и захватить склады. Затем было несколько стычек между рекой Аа и Ригой. Пруссаки, после горячего дела, отобрали Экау у русского генерала Девиза, после чего стороны не вели боевых действий в течение двадцати дней. Макдональд использовал это время для захвата Динабурга и доставки тяжелой артиллерии в Митаву, что было необходимо для осады Риги.
Получив известие о его приближении, 23 августа главнокомандующий в Риге построил свои войска в три колонны. Две слабые колонны должны были предпринять ложные атаки: первая — вдоль берега Балтийского моря, вторая — прямо на Митаву; третья, сильнейшая, под командованием Девиза, должна была вновь отобрать Экау, оттеснить пруссаков до Аа, пересечь реку, а затем захватить или разрушить артиллерийский парк.
Поначалу всё развивалось успешно, но Граверт при поддержке Клейста отбросил Девиза и преследовал русских до Экау, где последние были совершенно разбиты. Девиз в беспорядке отступил до Двины, которую перешел вброд, потеряв множество солдат пленными.
Макдональд был доволен. Говорили, что в Смоленске Наполеон думал произвести Йорка в маршалы Империи, также как он способствовал назначению Шварценберга фельдмаршалом.
На обоих флангах проявлялись признаки несогласия; у австрийцев наблюдалось брожение среди офицеров, но их генерал был твердым сторонником союза с нами; он даже известил нас об их плохом поведении и указывал на средство борьбы с их пагубным влиянием: распределить своих офицеров среди союзных войск.
На левом крыле дело обстояло иначе: прусская армия шла вперед, в то время как ее генерал устраивал заговоры против нас. Таким образом, на правом крыле оперировал военачальник, который вел за собой своих солдат вопреки им самим, а на левом фланге военные толкали вперед командующего чуть ли не вопреки его воле.
Что касается последних, то офицеры, солдаты и сам Граверт, старый преданный воин, не участвовавший в политике, воевали честно. Они сражались как львы во всех случаях, когда их командующий давал им возможность делать это; они горели желанием смыть позор 1806 года и вновь заслужить уважение французов, победить в присутствии тех, кто победил их, и доказать, что в этом поражении виновато правительство, а они заслуживали лучшей участи.
Йорк смотрел дальше. Он принадлежал к «Союзу Доблести», основным положением которого была ненависть к французам, а целью — полное их изгнание из Германии. Но Наполеон всё еще был победоносным, и пруссак боялся скомпрометировать себя. Кроме того, справедливость, мягкость и военная репутация Макдональда позволили ему заслужить любовь прусских военных. Они говорили, что «никогда не были так счастливы, как под командой этого француза». В самом деле, если они объединились с завоевателями и разделяли права завоевания с ними, то позволили себе поддаться соблазну быть на стороне победителя.
Всё способствовало этому. Их администрация управлялась интендантом и агентами, взятыми из их собственной армии. Они жили в изобилии. Но с этого пункта началась ссора между Макдональдом и Йорком.
Вначале поступили жалобы на администраторов от местных. Вскоре прибыл французский администратор и — то ли из соперничества, то ли по соображениям справедливости — обвинил прусского интенданта в истощении ресурсов страны огромными реквизициями скота. «Он послал их, — было сказано, — в Пруссию, которая была истощена нашим походом; тем самым он лишил армию продуктов, и скоро она будет испытывать их нехватку». Судя по его отчету, Йорк хорошо знал о деле. Макдональд поверил обвинениям, уволил обвиненного и доверил должность тому, кто обвинял; озлобленный Йорк с той поры думал только о реванше.
Затем Наполеон был в Москве. Пруссаки следили за развитием событий; они испытывали радость, предвкушая последствия этой опрометчивости; и, похоже, Йорк уступил соблазну извлечь из нее выгоду. Двадцать девятого сентября русский генерал узнал, что Йорк лишил Митаву прикрытия; он осмелел (потому что получил подкрепление — две дивизии из Финляндии) и решился дойти до этого города; он взял его и готов был развивать успех. Большой парк артиллерии следовало вывезти, однако Йорк оставил ее без защиты, он не двигался и совершил явную измену.
Говорили, что его начальник штаба при этом негодовал и заявил Йорку, что тот губит себя и пятнает честь прусского оружия; наконец, под влиянием этих протестов, Йорк позволил Клейсту начать движение. Следствием наступления был бой; число выведенных из строя солдат с обеих сторон не превысило четырех сотен. Когда дело закончилось, армии спокойно вернулись на свои квартиры.
Глава VII
Получив сообщение об этом, Макдональд встревожился и впал в сильный гнев; возможно, он слишком долго находился на большом расстоянии от пруссаков. Тревогу внушали неожиданные события в Митаве, опасность, которой подвергался его парк артиллерии, упрямое нежелание Йорка преследовать врага и полученные им конфиденциальные сообщения из прусской штаб-квартиры. Однако чем больше было оснований для подозрений, тем важнее было их скрывать. Прусская армия никак не участвовала в интригах своего командующего и воевала с готовностью; поскольку враг отступил, то внешне всё было хорошо, и Макдональд поступил бы мудро, если бы выразил удовлетворение.
Однако он сделал прямо противоположное. Он начал упрекать прусского генерала в тот момент, когда его солдаты, довольные одержанной победой, ждали похвал и наград. Они были обмануты в своих ожиданиях, а Йорк представил собственное унижение как унижение армии.
Мы находим в письмах Макдональда настоящие причины его недовольства. Он писал Йорку, стыдя его, что его аванпосты постоянно подвергаются нападению, а он ничем не отвечает; что, встретив врага, он лишь отражает атаки, но никогда не действует наступательно, хотя его офицеры и солдаты настроены самым лучшим образом. Последнее замечание верно, поскольку пыл этих немцев действительно был поразительным явлением, ведь они воевали за дело им чуждое и даже враждебное.
Они соперничали друг с другом и рвались в бой, чтобы заслужить уважение Великой армии и панегирики Наполеона. Их правители предпочитали орден Почетного легиона своим самым роскошным орденам. В то время гений Наполеона всё еще ослеплял и подчинял каждого. Он необычайно щедро награждал и страшным образом карал. Он будто был центром Вселенной и распределителем всех благ. Многие немцы разделяли чувства уважения к нему и восхищения его удивительной жизнью.
Но это восхищение было следствием победы, а наше роковое отступление уже началось; с севера до юга Европы были слышны русские призывы к мщению, которые повторяли крики испанцев. Они пересекались и звучали как эхо в центре Германии, всё еще порабощенной; эти два больших пожара, разгораясь на двух оконечностях Европы, постепенно продвигались к ее центру, где они казались рассветом нового дня; они будто соединялись с искрами благородной ненависти и фанатизма. Слухи о наших неудачах порождали общий и пока несмелый ропот.
Студенты немецких университетов, воспитанные на идеях независимости и исполненные духа древних установлений, даровавших им множество привилегий, жившие воспоминаниями о славе рыцарских времен, всегда были нашими врагами. Чуждые каким-либо политическим расчетам, они никогда не признавали нашей победы. Поскольку воспоминания о ней потускнели, похожий дух охватил политиков и даже военных. «Союз Доблести» придал этому бунту вид широкого заговора; некоторые начальники действительно строили заговоры, но при этом не было никакой секретности; это было спонтанное движение, общее и всеобъемлющее чувство.
Александр искусно подпитывал эти настроения, выпуская прокламации и обращения к немцам; он бережно обращался с их пленными. Он и Бернадотт были единственными монархами Европы, вставшими во главе этих людей. Другие были ограничены соображениями политики, долгом чести, но в итоге их опередили их подданные.
Зараза проникла даже в ряды Великой армии. Наполеон узнал об этом после перехода через Березину. Было замечено, что баварские, саксонские и австрийские генералы общаются между собой. Поведение Йорка вызывало всё больше опасений, он вовлек в заговор часть своих военных. Все враги Франции объединились, и Макдональд вынужден был отвечать на инсинуации адъютанта генерала Моро. Однако немцы слишком хорошо помнили о наших победах; требовалось время, чтобы они восстали против нас.
Пятнадцатого ноября Макдональд воспользовался тем, что русские слишком растянули свою линию слева, предпринял несколько ложных атак по всему фронту и напал на их центр, который он быстро прорвал. Левый фланг русских, Левиз и пять тысяч солдат, были отрезаны от путей отступления и отброшены к Двине. Левиз напрасно искал выход: враги были повсюду, и он потерял два батальона и эскадрон. Он наверняка был бы захвачен полностью, если бы его теснили более энергично, однако ему позволили перевести дух. Становилось всё холоднее, и средств спасения не оставалось; он решил переходить реку по тонкому льду. Он приказал стелить на лед солому, а на нее класть доски; по ним он перешел через Двину в двух местах между Фридрихштадтом и Линдау и вернулся в Ригу.
Через день после этого Макдональд узнал об отступлении Наполеона к Смоленску, но он не имел представления о дезорганизации армии. Спустя несколько дней ему стало известно о потере Минска. Макдональд был встревожен, однако 4 декабря он получил письмо от Маре, который преувеличивал значение победы при Березине, объявляя о захвате 9 тысяч русских пленных, 9 знамен и 12 пушек. Адмирал, согласно этому письму, теперь имел лишь 13 тысяч солдат.
Третьего декабря русские были отброшены пруссаками во время одной из своих вылазок из Риги. Йорк, из соображений благоразумия или порядочности, сдерживал себя. Макдональд помирился с ним. Девятнадцатого декабря, через двенадцать дней после отъезда Наполеона и через восемь дней после взятия Вильны Кутузовым, короче говоря, в тот день, когда Макдональд начал свое отступление, прусская армия всё еще была нам верна.
Глава VIII
Девятого декабря из Вильны были направлены приказы Макдональду, которые повез прусский офицер. Они обязывали его медленно отступать на Тильзит. Никто не позаботился о том, чтобы послать эти инструкции по разным каналам. Не подумали даже о том, чтобы использовать литовцев для доставки столь важного письма. Таким образом последняя целая армия подверглась риску гибели. Письмо застряло в дороге и было доставлено адресату только через девять дней вместо положенных четырех.
Маршал отступал на Тильзит, Йорк вместе с основной частью пруссаков составлял его арьергард; последний шел на расстоянии дневного перехода от Макдональда, он вступал в соприкосновение с русскими и был предоставлен им. Некоторые считали это большой ошибкой со стороны Макдональда, другие не решались судить строго, поскольку в столь деликатной ситуации доверие и подозрение одинаково опасны.
Последние также говорили, что французский маршал принял необходимые меры предосторожности, удерживая одну из дивизий Йорка подле себя; другая дивизия, под командованием Массенбаха, направлялась французским генералом Башелю и составляла авангард. Прусская армия была разделена на два корпуса, Макдональд находился в центре, и один корпус служил гарантией другого.
Поначалу всё шло хорошо, хотя опасность угрожала отовсюду — с фронта, с тыла, с флангов. Большая армия Кутузова выслала вперед три передовых отряда для преследования герцога Тарентского. С первым отрядом Макдональд встретился в Кельме, со вторым в Пиклупенене, с третьим в Тильзите. Черные гусары и прусские драгуны сражались с еще большим усердием, чем раньше. Русские гусары были изрублены саблями и отброшены на Кельм. Двадцать седьмого декабря, после десятичасового марша, пруссаки увидели Пиклупенен и русскую бригаду; они немедленно атаковали ее, привели в расстройство и отрезали от нее два батальона; на следующий день они отбили у русских Тильзит, взяли Тетгенборна.
Несколькими днями ранее Макдональд получил письмо от Бертье, отосланное 14 декабря из Антонова. В письме сообщалось, что армии больше нет, и что он должен быстро прибыть к берегам реки Преголя, чтобы прикрывать Кёнигсберг, и далее отступать на Эльбинг и Мариенбург. Эти новости маршал скрыл от пруссаков, которые вовсе не жаловались на холод и форсированные марши.
Не было никаких признаков неповиновения со стороны этих союзников; водки и провизии было достаточно.
Но 28 декабря, когда генерал Башелю двинулся вправо к Рагниту, чтобы оттеснить русских, нашедших там убежище после поражения в Тильзите, прусские офицеры начали жаловаться на усталость своих войск; их авангард двигался неохотно и неосторожно, был застигнут врасплох, расстроен и отброшен. Башелю, однако, переломил ситуацию и вошел в Рагнит.
В это время Макдональд, прибывший в Тильзит, ждал Йорка и остальную часть прусской армии, но она не появлялась. Напрасно он слал офицеров с приказами: от Йорка не было вестей. Тридцатого декабря он тревожился вдвойне; это видно по одному из его писем, в котором он, однако, не решился прямо высказать подозрения в измене. Он написал, что не может понять причину этой задержки; он посылал ряд офицеров и эмиссаров с приказами Йорку, чтобы тот к нему присоединился, но не получил ответа. Теперь, когда враг наступает на него, он вынужден задержать отступление; он не может бросить этот корпус, отступать без Йорка; эта задержка губительна. Закончил он так: «Я теряюсь в догадках. Если я отступлю, что скажет император? Что скажут Франция, армия, Европа? Для 10-го корпуса это будет несмываемый позор; как можно добровольно бросить часть своих войск? О нет, каким бы ни был результат, я отказываюсь: лучше я стану добровольной жертвой, при условии, что это единственная жертва».
На следующий день он вызвал Башелю и прусскую кавалерию, которая всё еще находилась в Рагните, в Тильзит. Башелю получил этот приказ вечером; он хотел его исполнить, но прусские полковники отказались подчиняться под разными предлогами. «Дорога непроходима, — говорили они. — Мы не привыкли заставлять своих солдат отправляться в поход в такую ужасную погоду и в такой поздний час! Мы ответственны перед королем за свои полки». Французский генерал был потрясен, приказал им замолчать и слушаться; его твердость заставила их подчиняться, но они всё делали медленно. Русский генерал проник в их ряды и требовал сдать этого француза, который был в одиночестве; однако пруссаки, готовые бросить Башелю, не решались изменить ему; наконец они выступили в поход.
В Рагните, в восемь часов вечера, они отказывались седлать лошадей; в Тильзите, куда они прибыли в два часа ночи, они не хотели с них слезать. В пять часов утра они разошлись по квартирам; казалось, что порядок восстановлен, и генерал пошел немного отдохнуть. Но послушание было обманчивым, и как только пруссаки остались без присмотра, они взяли оружие и ушли — во главе с Массенбахом; они покинули Тильзит молча, под покровом ночи. На рассвете последнего дня 1812 года Макдональд остался без прусской армии.
Йорк, вместо того чтобы к нему присоединиться, отнял у него Массенбаха, которого он только что призвал вернуться. Его собственная измена, которая начала совершаться 26 декабря, теперь была доведена до конца. Тридцатого декабря в Таурогене была подписана конвенция между Йорком и русским генералом Дибичем: «Прусские войска должны размещаться по квартирам на своих границах и сохранять нейтралитет в течение двух месяцев, даже в том случае, если это перемирие не будет одобрено их правительствами. В конце этого срока они получат возможность воссоединиться с французскими войсками, если их монарх прикажет им сделать это».
Йорк, и особенно Массенбах, из страха перед Польской дивизией, с которой они были объединены, или из уважения к Макдональду, прожили некоторую деликатность. Они написали маршалу. Йорк объявил о подписании конвенции и объяснил свои действия, придав им благовидную окраску: он принужден был к этому усталостью и силой обстоятельств; но как бы мир ни осуждал его поведение, он совсем не тревожится по этому поводу; его долг перед солдатами и самое зрелое размышление продиктовали ему это решение; как бы оно внешне ни выглядело, он руководствовался самыми чистыми мотивами.
Массенбах просил прощения за свой тайный уход. Он хотел выразить ощущение, которое наполняет его сердце печалью. Он испытывал благоговейный страх, что чувства почитания и уважения, которые он сохранит к Макдональду до конца жизни, не дадут ему возможности исполнить свой долг.
Макдональд видел, что его вооруженные силы разом уменьшились с двадцати девяти до девяти тысяч солдат, но в то же время он испытал облегчение, поскольку настал конец тревогам, которыми он жил последние два дня.
Глава IX
Так началась измена наших союзников. Я не берусь судить о моральной стороне этого события; пусть решает потомство. Как историк современности, я, однако, не только занимаюсь фактами, но и думаю о впечатлении, оставленном ими в умах двух командиров союзной армии.
Пруссаки только и ждали возможности изменить нам, поскольку союз был навязан им силой; когда она появилась, они ей воспользовались. Но они не только отказались предать Макдональда, но даже не покидали его до определенного момента; можно сказать, они вытянули его из России в безопасное место. Со своей стороны, когда Макдональд почувствовал, что он покинут, то, не имея доказательств этого, он остался в Тильзите на милость пруссаков, не дав им предлога для измены поспешным отъездом.
Пруссаки не злоупотребили этим благородным поведением. С их стороны была измена, но не было предательства. В наш век и после всех несчастий, которые они пережили, это выглядит как заслуга; они не присоединились к русским. Когда пруссаки пришли к собственной границе, они не отказались помочь тому, кто ранее их победил, в защите их родной земли против тех, которые предстали в образе освободителей и были ими на самом деле. Повторяю, они заняли нейтральную позицию не раньше, чем Макдональд ушел из России и от русских в безопасное место.
Король Пруссии осудил поведение Йорка. Он уволил его и назначил Клейста на его место; он приказал Клейсту арестовать своего бывшего командира и отослать его вместе с Массенбахом в Берлин, где оба должны были предстать перед судом. Но эти генералы сохранили свое положение вопреки приказам короля; прусская армия не считала, что ее монарх свободен. Это мнение было основано на том, что в Берлине находились Ожеро и французские войска.
Глава X
На нашем правом фланге, со стороны австрийцев, какого-либо неожиданного взрыва не ожидалось. Это крыло отделилось от нас незаметно и с соблюдением политических формальностей.
Десятого декабря Шварценберг был в Слониме. Он всё еще был убежден, что русские разбиты и бегут перед Наполеоном, когда ему доложили об отъезде императора и гибели Великой армии; доклад был сделан в столь неопределенных выражениях, что Шварценберг был дезориентирован.
Четырнадцатого декабря он отступил от Слонима к Белостоку. Полученные им от Мюрата инструкции позволяли ему действовать таким образом.
Примерно 21 декабря приказ Александра приостановил военные действия на этом участке фронта, и поскольку интересы русских соответствовали интересам австрийцев, то скоро было достигнуто взаимопонимание. Перемирие, одобренное Мюратом, было заключено немедленно.
Шварценберг регулярно отчитывался перед командующим армией; он контролировал всю линию фронта австрийскими войсками и прикрывал Варшаву. Двадцать второго января он получил от своего правительства инструкции, обязывавшие его покинуть Великое герцогство, отступать отдельно от Ренье и войти в Галицию. Он проявил медлительность, выполняя эти инструкции, и не уступал настойчивым просьбам Милорадовича, подкрепленным угрожающими маневрами, до 25 января. И даже после этого он отходил в направлении Варшавы так медленно, что за это время удалось эвакуировать госпитали и большую часть складов. Наконец, он добился для варшавян более благоприятных условий капитуляции, чем те могли ожидать. Он сделал еще больше: хотя город следовало оставить 5-го, он сделал это только 8-го, что дало Ренье целых три дня.
Правда, Ренье был застигнут врасплох в Калише, но это потому, что он потерял много времени, прикрывая эвакуацию польских складов. Эта неожиданная атака вызвала беспорядок, в результате которого Саксонская бригада была отрезана от Французского корпуса и отступила в направлении позиций Шварценберга, где он принял ее. Австрия позволила этой бригаде пройти по своей территории и присоединиться к нашей армии, которая собиралась вблизи Дрездена.
Первого января 1813 года в Кёнигсберге, где находился Мюрат, еще не знали об измене пруссаков и интригах Австрии; вдруг сообщение от Макдональда и народное восстание в Кёнигсберге возвестили о начале событий, последствия которых невозможно было предвидеть. Мюрат покинул Кёнигсберг и поспешил в Эльбинг. В Кёнигсберге находились десять тысяч больных и раненых, большинство из которых были оставлены врагу в надежде на его великодушие. Некоторые из них не имели оснований для жалоб, однако сбежавшие пленные говорили, что многие их несчастные товарищи были убиты или выброшены из окон на улицы, а госпиталь с несколькими сотнями больных был сожжен; они обвиняли местных жителей в совершении этих ужасных деяний.
Более шестнадцати тысяч наших пленных умерли в Вильне. Большинство из них находились в базилианском монастыре. С 10 по 23 декабря они получали только сухое печенье, но не было ни воды, ни дров. Живые удовлетворяли жажду снегом, который лежал во дворах, полных тел умерших. Они выбрасывали в окна те трупы, которые нельзя было более держать в проходах, на лестницах или среди мертвых тел, заполнявших комнаты. В это ужасное место привозили всё новых пленных.
Этим омерзительным явлениям был положен конец лишь с прибытием императора Александра и его брата. Они пробыли там тринадцать дней, и если немногим из наших несчастных товарищей всё же удалось выжить, то они обязаны своим спасением этим двум правителям. Но трупы источали заразу, вызвавшую массовые заболевания; она передавалась от побежденных к победителям и отомстила за нас сполна. Русские, однако, жили в изобилии: наши склады в Сморгони и Вильне не были разрушены, и русские нашли там огромные запасы провизии.
Витгенштейн, которого направили для нападения на Макдональда, спустился по Неману; Чичагов и Платов преследовали Мюрата; затем адмирал был направлен к Торну. Наконец 9 января Александр и Кутузов достигли Немана. Перед переходом границы русский император обратился к своим войскам с прокламацией, полной образов, сравнений и хвалебных слов, которых зима заслуживала больше, чем его армия.
Глава XI
Русские достигли Вислы не ранее 22 января. Во время их медлительного марша, с 3 по 11 января, Мюрат находился в Эльбинге. В этой экстремальной ситуации король колебался, не зная, какой план принять; он то питал большие надежды, то впадал в состояние смятения.
Он бежал из Кёнигсберга в состоянии морального упадка, однако задержки в наступлении русских и соединение частей Макдональда с силами Эделе и Кавиньяка, удвоившее численность его армии, возбудили в нем надежды; они были напрасными. Днем раньше он думал, что всё потеряно, теперь он хотел возобновить наступление и немедленно его начал; он склонен был всё время менять решения. Он намерен был идти вперед, но на следующий день собрался бежать до Познани.
Последнее решение было небезосновательным. Сбор армии на Висле оказался чистой иллюзией: в Старой гвардии осталось не более 500 боеспособных солдат, в Молодой гвардии едва ли были таковые; численность 1-го корпуса теперь составляла 1800 солдат, 2-го — 1000, 3-го — 1600, 4-го — 1700. Большинство этих воинов, остатки 600-тысячной армии, едва могли держать в руках оружие.
В этом состоянии бессилия, когда два крыла армии от нее отделились, а Австрия и Пруссия нас покинули, Польша стала нашей западней. С другой стороны, Наполеон, который никогда не соглашался на какие-либо уступки, намерен был оборонять Данциг; нужно было стянуть туда боеспособные силы.
Скажем откровенно, когда Мюрат в Эльбинге произносил речи о воссоздании армии и даже мечтал о победах, то он увидел, что большинство командиров физически истощены и сильно раздражены. Дух поражения, заставляющий всего бояться и с готовностью верить во всё, что внушает страх, проник в их сердца. Несколько военачальников тревожились о своем звании, ранге и волновались по поводу имений, приобретенных ими в покоренных странах. Большая часть думала лишь о том, чтобы пересечь Рейн.
Вновь прибывшие рекруты представляли несколько немецких народов. Чтобы присоединиться к нам, они прошли через Пруссию, где поднималась большая волна ненависти. Когда они прибыли, то увидели уныние и беспорядок в наших рядах; они встали в строй и не нашли поддержки; они оказались наедине со всеми бедствиями и должны были сражаться за дело, брошенное людьми, более других заинтересованными в его успехе. Большинство этих немцев разбежались на первом же бивуаке. Испытанные солдаты Макдональда были шокированы при виде армии, вернувшейся из Москвы. Тем не менее его корпус и совершенно свежая дивизия Эделе сохранили сплоченность. Эти остатки армии были быстро сконцентрированы в Данциге: 35 тысяч солдат, представлявших семнадцать разных народов, были заперты там. Остальные стали собираться воедино не раньше, чем дошли до Познани и Одера.
Доселе Мюрат вряд ли мог придать больше порядка нашему отступлению; но в тот момент, когда он проходил через Мариенвердер, двигаясь в сторону Познани, он получил письмо из Неаполя, которое лишило его всякой решительности. По мере того как он читал его, желчь смешивалась с его кровью, и он заболел желтухой.
Королева правила в его отсутствие, и одно из ее решений сильно его ранило. Он не испытывал ревности к ней, несмотря на ее привлекательность, но чувствовал покушение на свою власть со стороны сестры императора.
Этот правитель, жертвовавший, казалось, всем ради воинской славы, вдруг поддался другой — и менее благородной — страсти; но не следует забывать, что такими людьми правит одна страсть, затмевающая всё остальное.
На самом деле, это одна и та же амбиция, принимающая разные формы; она целиком овладевает этими страстными натурами. В тот момент его ревность к власти стала выше его любви к славе; она заставила его устремиться в Познань, откуда он вскоре исчез, бросив нас.
Он совершил эту измену 16 января, на двадцать три дня раньше того, как Шварценберг отделился от французской армии, которой теперь командовал принц Евгений.
Император Александр остановил движение своих войск в Калите. Здесь затихла та яростная и продолжительная война, которая преследовала нас с Москвы: до весны она выражалась только в слабых, отдельных стычках. Сила несчастья, казалось, истощилась, но это только истощились силы сражающихся: готовилась самая отчаянная борьба. И этот перерыв не был перерывом для заключения мира, скорее он служил вступлением к бойне.
Глава XII
Так звезда Севера торжествовала над звездой Наполеона. Значит, Югу суждено быть побежденным Севером?
Человечество склонно двигаться в южном направлении, повернувшись спиной к северу: его привлекает солнце. Мы не можем безнаказанно повернуть этот великий людской поток вспять; такая попытка — гигантское предприятие. Римляне истощили свои силы этим.
В течение последнего века Европа, действуя из соображений филантропии или тщеславия, активно способствовала развитию цивилизации людей Севера, из которых Петр уже сделал грозных воинов. Она поступала мудро, поскольку тем самым уменьшала опасность вновь оказаться во власти варварства.
Но чем цивилизованнее становятся норманны, тем ближе эпоха их нового нашествия. Не верьте в то, что их великолепные города, их экзотическая и противоестественная роскошь удержит их, или в то, что если их смягчить, то они станут оседлыми и менее грозными. Роскошь и изнеженность могут быть лишь привилегиями немногих. Население, которое численно растет благодаря всё более просвещенной администрации, продолжает страдать от сурового климата и всё больше нам завидует. Нашествие Севера на Юг, возобновленное Екатериной И, будет продолжаться.
Можно ли питать иллюзии, что великая война между Севером и Югом закончилась? Разве это не война нужды против благосостояния, вечная война бедных против богатых, пожирающая внутренности всех империй?
Товарищи, каким бы ни был мотив нашей экспедиции, она была важна для Европы. Она должна была оторвать Польшу от России и отодвинуть опасность нового нашествия народов Севера, ослабить этот поток и создать новый барьер на его пути. Какой человек может составить всеобъемлющий план, способный обеспечить успех столь грандиозного предприятия?
После полутора тысячелетий побед революция четвертого века, революция королей и знати против народа, была в свою очередь побеждена революцией девятнадцатого столетия, народной революцией против знати и королей. Наполеон появился из этой коллизии и обрел абсолютную власть; казалось, что великие общественные потрясения произошли лишь для того, чтобы в мир вошел именно этот человек.
Наполеон управлял Революцией, словно он был ее героем. Она покорилась его голосу. Стыдясь своего распутства, она восхищалась им, бежала к его славе, собрала Европу под его скипетр; и послушная Европа поднялась по его сигналу, чтобы загнать Россию в ее старые границы: казалось, что весь Север будет побежден до самых льдов!
Однако этот великий человек не мог покорить природу! При могучем усилии подняться на этот крутой скат силы изменили ему! Добравшись до ледяных областей Европы, он был сброшен с самой вершины! Север, одержав победу над Югом в оборонительной войне, теперь считает себя неуязвимым и неодолимым.
Товарищи, не верьте в это! Вы должны покорить эту землю, это пространство и этот климат, эту дикую и исполинскую природу, как вы победили этих солдат.
Но некоторые ошибки наказываются великими бедствиями! Я коснулся тех и других. В океане зла я установил маяк скорби, излучающий печальный свет с кровавым оттенком; и если моя слабая рука не совсем справилась с этим тягостным заданием, то я по крайней мере показал плавающие обломки, чтобы те, кто придет после нас, могли видеть опасность и избежать ее.
Товарищи! Мой труд закончен; теперь вы должны удостоверить правдивость этой картины. Краски ее, несомненно, покажутся бледными для ваших глаз и сердец, еще наполненных великими воспоминаниями! Но кто из вас не знает, что действие всегда красноречивее рассказа и что великие историки рождаются великими людьми, — и они встречаются реже последних!
Именной указатель
Адлерфельд Густав (1671–1709)
Александр I, император Российский (1777–1825)
Алкье Шарль Жан Мари (1752–1826)
Альбер Жан-Жозеф-Батист (1771–1822)
Антуар де Вренкур Шарль-Николя (1773–1852)
Багговут Карл Федорович (1761–1812)
Багратион Петр Иванович (1765–1812)
Балашов Александр Дмитриевич (1770–1837)
Бараге-д’Илье Луи (1764–1812)
Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1761–1818)
Башелю Жильбер-Дезире-Жозеф (1777–1849)
Бельяр Огюстен Даниэль (1769–1832)
Беннигсен Леонтий Леонтьевич (1745–1826)
Бернадотт Жан Батист Жюль, князь Понтекорво (1763–1844)
Бертье Луи Александр, князь Невшательский, князь Ваграмский (1753–1815)
Бессьер Жан Батист, герцог Истрийский (1768–1813)
Богарне Жозефина де (1763–1814)
Богарне Евгений де, вице-король Италии (1781–1824)
Бонами Шарль Огюст Жан Батист Луи Жозеф де Бельфонтен (1764–1830)
Бонапарт Жером, король Вестфалии (1784–1860)
Бонапарт Жозеф, король Испании (1768–1844)
Бонапарт Луи, король Голландии (1778–1846)
Борелли Шарль Люк Клемент (1771–1849)
Бриквиль Арман-Франсуа де (1785–1844)
Брониковский Николя (1767 (72)—1817)
Бруссье Жан Батист (1768–1813)
Брюйер Жан Пьер Жозеф (1772–1813)
Вавдаль Альбер (1853–1910)
Виктор, см. Перрен, герцог де Беллюно
Вильгельм, см. Фридрих-Вильгельм
Вильсон Роберт Томас (1777–1849)
Винцингероде Фердинанд Фердинандович (1770–1818)
Витгенштейн Петр Христианович (1768–1843)
Вогюэ Эжен Мельхиор де (1848–1910)
Волконский Петр Михайлович (1776–1852)
Вонсович, см. Дунин-Вонсович Вреде Карл-Филипп фон (1767–1838)
Выбицкий Юзеф Руфин (1747–1822)
Гарденберг Карл Август фон (1750–1822)
Гаугвиц Христиан-Август (1752–1832)
Гильемино Арман Шарль (1774–1840)
Голицын Дмитрий Владимирович (1771–1844)
Гольштейн-Аугустенбургский Христиан Август, принц (1798–1869)
Граверт Юлиус Август Рейнгольд фон (1756–1821)
Груши Эммануэль (1766–1847)
Густав III (1746–1792)
Густав IV Адольф (1778–1837)
Гюден де ла Саблонье Сезар Шарль Этьен (1768–1812)
Гюйон Клод Раймон (1773–1834)
Даву Луи-Николя, герцог Ауэрштедтский, князь Экмюльский (1770–1823)
Дальтон Александр
Дарю Пьер-Антуан-Ноэль-Матье Брюно (1767–1829)
Декре де Сен-Жермен Антуан-Луи (1761–1835)
Дессе Жозеф Мари (1764–1834)
Дельзон Алексис Жозеф (1775–1812)
Дессоль Жан Жозеф Поль (1767–1828)
Дибич Иван Иванович (1785–1831)
Дод де ла Брюнери Гийом (1775–1857)
Домбровский Ян Генрик (1755–1818)
Домон Жан-Симон (1774–1830)
Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1756–1816)
Друо Луи Антуан (1774–1847)
Думерк Жан-Пьер (1767–1847)
Дунин-Вонсович Станислав (1785–1864)
Дюма Гийом Матье (1753–1837)
Дюрок Жерар Кристоф Мишель, герцог Фриульский (1772–1813)
Дюрютт Пьер Франсуа Жозеф (1767–1837)
Дюфур Франсуа-Бертран (1765–1832)
Ермолов Алексей Петрович (1777–1861)
Жакмино Жан-Франсуа (1787–1865)
Жерар Этьен-Морис (1773–1855)
Жером, см. Бонапарт Жером
Жирарден Александр Луи Робер де (1776–1855)
Жозеф, см. Бонапарт Жозеф
Жозефина, см. Богарне Жозефина
Жомини Антуан-Анри (Генрих) (1779–1869)
Жюно Жан Андош, герцог Абрантес (1771–1813)
Йорк фон Вартенбург Иоганн Давид Людвиг (1759–1830)
Камбасерес Жан-Жак Режи де, герцог Пармский (1753–1824)
Карл XII (1682–1718)
Каслри Роберт Стюарт (1769–1822)
Клапаред Мишель Мари (1774–1842)
Клейст Фридрих Генрих Фердинанд Эмиль фон (1762–1823)
Князевич Кароль Отто (1762–1842)
Коленкур Арман Опостен Луи де, герцог Виченский (1773–1827)
Коленкур Огюст Жан-Габриэль де (1777–1812)
Компан Жан Доминик (1769–1845)
Коновницын Петр Петрович (1764–1822)
Корбино Жан-Батист Жювеналь (1776–1848)
Коэтлоске Шарль-Ив-Сезар-Сир дю (1783–1837)
Кульнев Яков Петрович (1763–1812)
Куракин Александр Борисович (1752–1818)
Кутайсов Александр Иванович (1784–1812)
Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745–1813)
Лаборд (Целаборд) Анри Франсуа де (1764–1833)
Ланской Сергей Николаевич (1774–1814)
Ларибуазьер Жан Амбруаз Бастонде (1759–1812)
Ларрей Жан-Доминик (1766–1842)
Латур-Мобур Виктор-Николя де Фэ (1768–1850)
Левиз Федор Федорович (1767–1824)
Легран Клод Жюст Александр (1762–1815)
Ледрю дез Эссар Франсуа Рош (1765–1844)
Лефевр Франсуа Жозеф, герцог Данцигский (1755–1820)
Лобо Жорж Мутон (1770–1838)
Лористон Жак Александр Бернар Ло де (1768–1828)
Луазон Луи Анри (1771–1816)
Макдональд Этьенн-Жак-Жозеф-Александр, герцог Тарентский (1765–1840)
Мале Клод-Франсуа (1754–1812)
Маре Юг-Бернар, герцог Бассано (1763–1839)
Мармон Огюст Фредерик Луи де, герцог Рагузский (1774–1852)
Маршан Жан Габриэль (1765–1851)
Массенбах Фридрих Эрхард Фабиан (1753–1819)
Мезон Николя Жозеф (1771–1840)
Милорадович Михаил Андреевич (1771–1825)
Мобур, см. Латур-Мобур Монбрен Луи-Пьер де (1770–1812)
Моран Шарль Антуан Луи Алексис (1771–1835)
Моро Жан Виктор Мари (1763–1813)
Мортье Эдуард-Адольф-Казимир-Жозеф, герцог Тревизо (1768–1835)
Мюрат Иоахим, великий герцог Бергский, король Неаполя (1767–1815)
Нансути Этьен Мари Антуан Шампьонде (1768–1815)
Нарбонн Луи-Мари-Жак-Альмарик де (1755–1813)
Нарышкин Лев Александрович (1785–1846)
Неверовский Дмитрий Петрович (1771–1813)
Ней Мишель, герцог Эльхингенский (1769–1815)
Нессельроде Карл Васильевич (1780–1862)
Ноай Альфред-Луи-Доминик-Венсан-Поль де (1784–1812)
Ожеро Жан-Пьер (1772–1836)
Ожеро Пьер-Франсуа-Шарль (1757–1816)
Ольденбургский Петр Фридрих Георг (Георгий Петрович) (1784–1812)
Орнано Филипп Антуан де (1784–1863)
Остерман (Остерман-Толстой) Александр Иванович (1770–1857)
Пажоль Клод Пьер (1772–1844)
Пален Павел Петрович (1775–1834)
Партуно Луи (1769(70)–1835)
Пашковский Франтишек Максимилиан (1778–1856)
Перрен Виктор Клод, герцог де Беллюно (1764–1841)
Петр I (1672–1725)
Пино Доменико (1760–1826)
Пире Ипполит-Клод де Роснивинон (1778–1850)
Платов Матвей Иванович (1751–1818)
Понятовский Юзеф (1763–1813)
Рапп Жан (1771–1821)
Ренье Жан Луи Эбенезер (1771–1814)
Рикар Этьен Пьер Сильвестр (1771–1843)
Роге Франсуа (1770–1846)
Ростопчин Федор Васильевич (1763–1826)
Румянцев Николай Петрович (1754–1826)
Руссель д’Юрбаль Николя Франсуа (1763–1849)
Савари Анн Жан Мари Рене, герцог Ровиго (1774–1833)
Себастиани де Ла Порта Орас Франсуа Бастьен (1772–1851)
Сегюр Луи-Филипп де (1753–1830)
Сегюр Филипп-Поль де (1780–1873)
Селим III (1761–1808)
Сен-Жермен, см. Декре Сен-Сир Лоран Гувьон (1764–1830)
Суворов Александр Васильевич (1730–1800)
Талейран-Перигор Шарль Морис де (1754–1838
Тормасов Александр Петрович (1752–1819)
Тьер Луи Адольф (1797–1877)
Уваров Федор Петрович (1773–1824)
Удино Никола Шарль, герцог Реджио (1767–1847)
Шарпантье Анри Франсуа Мари (1769–1831)
Шварценберг Карл Филипп цу (1771–1820)
Штейнгель Фаддей Федорович (1762–1831)
Эбле Жан-Батист (1758–1812)
Эртель Федор Федорович (Фридрих) (1768–1825)
Эссен Иван Николаевич (1758–1813)
Яшвиль (Яшвили) Лев (Леван) Михайлович (1772–1836)
Фавье Шарль Николя (1782–1855)
Феш Жозеф (1763–1839)
Фриан Луи (1758–1829)
Фридрих-Вильгельм III (1770–1840)
Чаплин Ефим Игнатьевич (1768–1825)
Чернышев Александр Иванович (1786–1857)
Чичагов Павел Васильевич (1767–1849)
Иллюстрации
Наполеон Бонапарт
Ф.-П. де Сегюр
Лористон
А. О. де Коленкур
Даву
Евгений
Бертье
Макдональд
Мюрат
Бессьер
Дюрок
Виктор
Шварценберг
Рапп
Удино
Себастиани
Сен-Сир
Мортье
Латур-Мобур
Каре Нея
Александр I
Кутузов
Багратион
Ранение Багратиона
Барклай-де-Толли
Витгенштейн
Милорадович
Беннигсен
Тормасов
Коновницын
Платов
Чичагов
Дохтуров
Уваров
Пожар Москвы
Переправа через Березину
Примечания
1
В 1808 году несколько литераторов в Кёнигсберге, обеспокоенные бедствиями своей страны, усмотрели их причину в разложении нравов; согласно этим философам, граждане сохранили истинный патриотизм (хоть он в них и подавлен), армия по-прежнему дисциплинированна, а народ неустрашим. Хорошие люди тем более должны объединяться ради возрождения нации, показывая всевозможные примеры самопожертвования. Следом было создано общественное объединение под названием «Моральный и научный союз». Правительство одобрило эту организацию, но запретило политические дискуссии внутри нее. Это благородное решение могло затеряться, как и многие другие, в тумане немецкой метафизики. В это время Вильгельм, герцог Брауншвейгский, который был лишен герцогства, отправился в свое княжество Эльс, расположенное в Силезии. В самом конце пути он обнаружил в пруссаках первые следы влияния «Морального союза». Он стал его членом, и его сердце наполнилось ненавистью и жаждой мщения. Он начал вынашивать идею другого объединения, которое должно было состоять из людей, полных решимости уничтожить Рейнскую конфедерацию и полностью выгнать французов из Германии. Это общество, цель которого была более реальной и позитивной по сравнению с целью первого, вскоре его поглотило, и из двух объединений возникло общество «Тугендбунд».
Примерно в конце мая 1809 года три отряда — Катта, Дорнберга и Шилля — явили доказательства своего существования. С ними Вильгельм и начал действовать 14 мая. Вначале ею поддержали австрийцы. После ряда авантюр этот предводитель, предоставленный самому себе в центре покоренной Европы и имея лишь две тысячи человек против всей мощи Наполеона, отказался уступать; он стоял на своем и направился в Саксонию и Ганновер, но не смог поднять восстания; тогда он прорвался сквозь несколько французских корпусов в Элсфлет, где его ждало английское судно, готовое отвезти его в Англию вместе с заслуженными им лаврами. — Прим. авт. (Здесь и далее, если не указано иное.)
(обратно)2
По этому договору Пруссия согласилась поставить 200 000 центнеров ржи, 24 000 центнеров риса, 2 000 000 бутылок пива, 400 000 центнеров пшеницы, 650 000 центнеров соломы, 350 000 центнеров сена, 6 000 000 бушелей овса, 44 000 быков, 15 000 лошадей, 3600 повозок с упряжью и возчиками и, наконец, госпитали, обеспеченные всем необходимым для 20 000 больных. Правда, сумму налогов, уплачиваемых завоевателю, было позволено уменьшить на стоимость всех этих товаров.
(обратно)3
Старинная французская мера длины, равная приблизительно 4,5 километра. — Прим. ред.
(обратно)4
Сегюр имеет в виду Христофора Саличетти (1757–1809) — политического деятеля, который в годы Французской революции был членом различных органов законодательной власти (Генеральных штатов, Конвента, Совета пятисот). — Прим. пер.
(обратно)5
Братом покойного принца этого имени.
(обратно)6
Несомненно, Наполеон говорил о предложении, которое Бернадотт ему сделал: забрать Норвегию у Дании, его верного союзника, и этим предательским актом купить содействие Швеции.
(обратно)7
Граф Николя Франсуа Мольен, министр Казначейства.
(обратно)8
Мартен Мишель Шарль Годен, герцог Гаэтский, министр финансов.
(обратно)9
Дюроку, А.О. де. Коленкуру и Л.-Ф. Сегюру.
(обратно)10
А.О. де Коленкур.
(обратно)11
Это неверно, особенно зимой.
(обратно)12
Граф Моле.
(обратно)13
Борисфен — греческое название реки Днепр. — Прим. пер.
(обратно)14
По свидетельству графа Лобо.
(обратно)15
Вероятно, речь идет о графе Николае Петровиче Румянцеве. — Прим. пер.
(обратно)16
Один французский фунт (ливр) равен полукилограмму. — Прим. ред.
(обратно)17
Октав-Габриэль, брат автора. — Прим. ред.
(обратно)18
В обратном переводе.
(обратно)19
Твердая накладка (под повязкой) на место перелома. — Прим. ред.
(обратно)20
Именно такие цифры, несмотря на некоторые несовпадения, приводит граф де Сегюр. — Прим. ред.
(обратно)21
Одна унция равна 28,5 грамма. — Прим. ред.
(обратно)22
Огюст Жан-Габриэль, дивизионный генерал, брат Армана де Коленкура, обер-шталмейстера Наполеона. — Прим. ред.
(обратно)23
Мы знаем, что граф Ростопчин писал о своей непричастности к этому делу; но прислушаемся к мнениям русских и французов, которые были свидетелями и участниками великой драмы. Все без исключения приписывают этому дворянину честь благородного решения. Некоторые склонны думать, что граф Ростопчин, который всё еще исполнен духа, обессмертившего его имя, отказывает в бессмертии великому действию лишь потому, что он, как замечательный герой, оставляет всю славу этого своему народу.
(обратно)24
«К оружию!» (фр.) — Прим. ред.
(обратно)


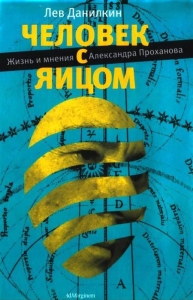
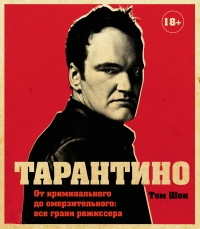

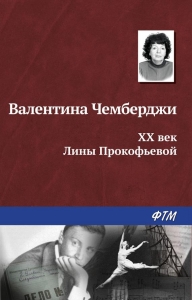
Комментарии к книге «История похода в Россию. Мемуары генерал-адъютанта», Филипп-Поль де Сегюр
Всего 0 комментариев