Саймон Себаг-Монтефиоре
Потемкин
Москва ВАГРИУС 2003
SIMON SEBAG MONTEFIORE PRINCE OF PRINCES THE LIFE OF POTEMKIN
Издательство благодарит А.М.Пескова и Н.М.Сперанскую за предоставленные фотоматериалы.
УДК 882-94 ББК 84.4 Вл С28
Охраняется Законам РФ об авторском праве.
ISBN 5-9560-0123-2
© 2000 Simon Sebag Montefiore © Н.Сперанская, С.Панов, перевод с английского, 2003 © Н.Сперанская, примечания, именной указатель, 2003 © С.Биричев, оформление, 2003
Оглавление
Пролог. СМЕРТЬ В СТЕПИ
Часть первая. ПОТЕМКИН И ЕКАТЕРИНА (1739-1762)
1. Провинциальный юноша
2. Гвардеец и великая княгиня: екатерининский переворот
3. Первая встреча
Часть вторая. ПРИБЛИЖЕНИЕ (1762-1774)
4. Циклоп
5. Герой войны
6. «На верху щастия»
Часть третья. ВМЕСТЕ (1774-1776)
7. Любовь
8. Власть
9. Госпожа Потемкина
10. Ссоры и примирение
Часть четвертая. ПАРТНЕРСТВО (1776-1777)
11. Ее фавориты
12. Его племянницы
13. Герцогини, дипломаты, шарлатаны
Часть пятая. КОЛОСС (1777-1783)
14. Византия
15. Император Священной Римской империи
16. Две свадьбы и корона Дакии
17. Потемкинский рай
Часть шестая. СОПРАВИТЕЛЬ (1784-1786)
18. Император южной России
19. Английские арапы и чеченские боевики
20. Англомания
21. Белый негр, или Десять лет спустя
22. Один день из жизни князя Григория Александровича
Часть седьмая. АПОГЕЙ (1787-1790)
23. Волшебное зрелище
24. Клеопатра
25. Амазонки. «Потемкинские деревни». Новая война
26. Казаки-евреи и адмирал-американец. Битва в Лимане
27. Штурм Очакова
28. «Успехи мои принадлежат прямо тебе...»
29. Сарданапал
30. Измаил
Часть восьмая. ПОСЛЕДНИЙ ГОД (1791)
31. Очаковский кризис
32. Пир во время войны
33. Последний переезд
Эпилог. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Примечания
Список сокращений
Указатель имен
Пролог. СМЕРТЬ В СТЕПИ
Се князь князей. Иеремия Бентам Чей одр - земля; кров - воздух синь; Чертоги - вкруг пустынны виды? Не ты ли, счастья, славы сын, Великолепный князь Тавриды? Не ты ли с высоты честей Незапно пал среди степей? Г.Р. Державин. Водопад5 октября 1791 года, около полудня, поезд из нескольких карет, медленно двигавшийся по степной дороге из Ясс в сторону Кишинева в сопровождении пеших ливрейных лакеев и эскадрона казаков в мундирах Черноморского войска, остановился на склоне холма, посреди степи. Казаки спешивались, лакеи бежали узнать, что случилось.
— Будет теперь! — сказал князь. — Некуда ехать, я умираю.
Князь, весь в испарине, тяжело, со стоном, дышал. Сидевшие
возле него врачи раскрыли дверцы кареты и кликнули казаков.
— Выньте меня из коляски, — приказал князь.
Ему повиновались беспрекословно, как и всегда. Казаки медленно, осторожно вынесли тяжелое тело. Следом из кареты князя вышла красивая, стройная женщина с заплаканными глазами. Она держала больного за руку и промокала ему лоб платком.
— Я хочу умереть на поле, — сказал князь.[1]
Он еще сохранял былую львиную красоту: та же шевелюра, считавшаяся самой пышной в империи, тот же чувственный греческий профиль, за который его прозвали в молодости Алкивиадом. Но сейчас поседевшие волосы беспорядочно спадали на вспотевший лоб, а незрячий глаз делал его похожим на старого пирата.
Он по-прежнему казался великаном. Но жизнь его, не терпевшая ограничений ни в чем, истощила тело и состарила лицо.
В бессарабской степи умирал Григорий Александрович Потемкин, верный друг российской императрицы Екатерины Великой, ее любовь, может быть даже (никто не знает этого достоверно), ее венчанный супруг. Светлейший князь — князь Священной Римской империи, князь Таврический, генерал-фельдмаршал, президент Военной коллегии, Главнокомандующий русской армией, великий гетман казацкого Черноморского и Екатеринославского войск, адмирал Черноморского и Каспийского флотов, губернатор Малороссии, он мог бы стать еще и владетелем Польши или иного княжества — любого, какое он пожелал бы создать на завоеванных для России территориях.
Светлейший князь — или просто светлейший, как его звали по всей России, — долгое время правил вместе с Екатериной. Они знали друг друга тридцать лет и были вместе почти двадцать. Потемкин презирал условности — и историки до сих пор спорят о его роли и месте в ее жизни. Она обратила внимание на остроумного молодого человека в тот день, когда стала русской императрицей, а в минуту тяжелого политического кризиса приблизила к себе. Когда их роман кончился, он, в отличие от всех прочих возлюбленных императрицы, остался при ней — другом, соратником, соправителем. Она любила, уважала и опасалась его — их отношения всегда были чреваты бурными ссорами. Она называла его «колоссом», «героем», «тигром», «величайшим оригиналом века», своим «кумиром». Он был ее «гений» — раздвинул границы империи, создал флот на Черном море, покорил Крым, победил в войне с Турцией, основал Севастополь и Одессу. Со времен Петра Великого Россия не знала деятеля такого масштаба.
Как ни была ограничена Екатериной его власть, он мыслил себя самовластным монархом. Он поражал всех грандиозными проектами, энциклопедическими познаниями и изысканными вкусами, он пренебрегал этикетом и приличиями, он принимал иностранных послов в домашнем халате, он не скрывал ни своего безудержного сластолюбия, ни беззастенчивого роскошества. «Князь Потемкин — символ необъятной Российской империи, — говорил хорошо знавший его принц де Линь. — В нем то же сочетание диких бесплодных степей и золотоносных жил».[2]
Его влияние на императрицу было безмерным — для нее он был вне критики и оговора, и слишком многие ненавидели его за это. Но даже враги признавали его мощный ум и творческий дар.
Теперь он лежал на траве, у обочины дороги.
Место это — даже не на главной кишиневской дороге, сегодня его трудно найти, но за двести с лишним оно вряд ли изменилось.[3] Справа зеленела широкая долина, слева — холмы, покрытые лесом, впереди — дорога, спускавшаяся в лощину. Потемкин, исколесивший эту степь вдоль и поперек, днем и ночью, выбрал для своего последнего привала роскошные декорации.
Вокруг него столпилась его свита. Многие уже плакали.
В свите Потемкина наряду с генералами и высокими чиновными особами путешествовали казацкие атаманы, молдавские бояре, бывшие оттоманские паши, а также православные священники, раввины и муллы, чье общество Потемкин особенно любил. Отдыхая, он беседовал о богословии, слушал рассказы про обычаи восточных племен, изучал греческую архитектуру, голландскую живопись, итальянскую музыку или английские парки...
Женщина — единственная женщина в свите — была одета в русское платье с длинными рукавами, какие любила императрица, но на ногах ее были французские чулки и туфли, выписанные из Парижа самим светлейшим. Шею ее украшали бесценные алмазы из непревзойденной потемкинской коллекции. Это была тридцатисемилетняя племянница Потемкина, графиня Александра Браницкая. Потемкин не скрывал своих романов с придворными дамами. Его отношения с племянницами смущали даже французов, помнивших Версаль Людовика XV. Сколько их было — красавиц, возлюбленных светлейшего? Любил ли он Браницкую больше других?..
Взволнованные доктора — француз и двое русских — стояли возле распростертого князя, но ничем уже помочь не могли.
На князе был шелковый халат на меху, несколько дней назад присланный Екатериной из Петербурга, а в карманах лежали связки писем императрицы, в которых она советовалась с ним, делилась новостями, обсуждала государственные решения. Она сожгла большую часть его писем — но сентиментальному князю мы благодарны за то, что он хранил ее письма, почти никогда не расставаясь с ними.
Эта двадцатилетняя переписка рассказывает об удивительном союзе, трогательном своей интимностью и впечатляющем своим государственным значением. С их историей не могут сравниться истории ни Антония и Клеопатры, ни Людовика XVI и Марии Антуанетты, ни Наполеона и Жозефины: сила человеческого чувства в их отношениях была так же сильна, как и политические последствия.
Его союз с Екатериной окутан тайнами. Были ли они тайно обвенчаны? Был ли у них ребенок? Верно ли, что они остались близки, позволяя друг другу иметь любовников и любовниц? Часто ли Потемкин сам подбирал Екатерине фаворитов, а она помогала ему соблазнять его племянниц, превращая императорский дворец в его домашний гарем?
Чем более усиливалась его болезнь, тем заботливее становились письма Екатерины. Она присылала ему халаты, шубы, ласково отчитывала за невнимание к собственному здоровью, за небрежение диетой и лекарствами, умоляла его не переутомляться. Читая ее письма, он плакал.
Императорские курьеры неслись по России, меняя взмыленных лошадей. Они приносили князю последние новости из Петербурга, а государыне письма из Молдавии. Так было всегда, когда он уезжал на юг. Письма доставлялись обычно за десять дней, иногда за неделю. ; >
«Друг мой сердечный Князь Григорий Александрович, — писала она 3 октября. — Письмы твои от 25 и 27 я сегодня [...] получила [...] И доктора твои уверяют, что тебе полутче. Бога молю, да возвратит тебе скорее здоровье».[4]
За десять дней до этого письма Потемкину, казалось, стало лучше — и тон императрицы был спокоен. Но еще 30 сентября она была вне себя от тревоги. «Всекрайне меня безпокоит твоя болезнь, — писала она ему в Яссы. — Христа ради, ежели нужно, прийми, что тебе облегчение, по рассуждению докторов, дать может [...] Бога прошу, да возвратит тебе скорее силу и здравье. Прощай, мой друг [...] посылаю шубенку».[5]
Их разделяли почти две тысячи верст.
«Матушка Всемилостивейшая Государыня, — продиктовал он своему секретарю 4 октября. — Нет сил более переносить мои мучения. Одно спасение остается оставить сей город, и я велел себя везти в Николаев. Не знаю, что будет со мною. Вернейший и благодарнейший подданный» — подписи он не поставил, только приписал внизу дрожащей рукой: «Одно спасение уехать».[6]
Последние письма Екатерины привез ему накануне самый скорый его курьер — бригадир Бауер, преданный адъютант, которого он посылал в Париж за шелковыми чулками, в Астрахань за стерлядью, в Петербург за устрицами, в Москву за танцовщицей или шахматистом, в Милан за нотами, скрипачом-виртуозом или духами (Бауер сочинил себе шуточную эпитафию: «Здесь Бауер лежит, свои скончавший дни. Гони, ямщик, гони!»{1}).[7]
Собравшись вокруг умирающего князя, его приближенные не могли не думать о том, как отзовется его смерть в Европе, как пойдет дальше война с турками. Русские армии под верховным командованием Потемкина покорили огромные территории в Причерноморье и в Бессарабии, и Турция теперь надеялась только на мирные переговоры. Европейские политики — от первого лорда казначейства Уильяма Питта в Лондоне, который не смог предотвратить войну, до старого ипохондрика — канцлера князя Венцля фон Кауница в Вене — внимательно следили за течением болезни князя.
Его деятельность могла перекроить карту Европы. Потемкин жонглировал коронами, как цирковой артист. Собирается ли этот переменчивый мистик сделаться королем? Или, оставаясь верноподданным русской императрицы, он сохранит больше власти? Если он будет коронован — то королем Дакии или Польши, где он уже владеет огромными землями? Спасет ли он Польшу или снова разделит ее?
Ответы на эти вопросы зависели от того, чем закончится путь Потемкина из Ясс, пораженных эпидемией малярии, в Николаев — город, недавно основанный Потемкиным, его последнее детище — военно-морскую базу на реке Буг.
Кортеж выехал накануне, остановился на ночь в небольшой деревеньке и снова отправился в путь в 8 часов утра. Через пять верст Потемкину стало так плохо, что его перенесли в спальную карету, но он все еще мог сидеть. Еще через пять верст он приказал остановиться.
Графиня положила его голову себе на колени. По крайней мере она была с ним... Лучшими друзьями всей его жизни были женщины.
— Я горю! — жаловался он. — Я как в огне.
Графиня Браницкая — Сашенька, как ее называли Екатерина II Потемкин, — успокаивала его.
Он отвечал, что у него темно в глазах и он различает только голоса. Слепота — симптом предсмертного падения давления. Малярийная лихорадка, возможно, в сочетании с воспалением легких и с болезнью печени, наконец переломила организм. Князь спросил у докторов: «Чем вы можете вылечить меня теперь?» Доктор Сановский ответил, что «осталось надеяться только на Бога». Он протянул Потемкину дорожную икону. Потемкин поцеловал икону и выпустил ее из рук.
Стоявший рядом казак сказал, что светлейший отходит.
«Прости меня, милостивая матушка-государыня.» — С этими словами он умер.[8]
Ему было пятьдесят два года.
Стоявшие вокруг замерли в молчании — они стали свидетелями смерти великого человека. Браницкая положила его голову на подушку, потом закрыла лицо руками и упала на траву в обмороке.
Некоторые громко плакали; другие вставали на колени и молились. Один из казаков успокаивал взыгравшую лошадь.
Так умер один из самых знаменитых государственных мужей Европы.
Современники, удивляясь его причудам, понимали масштаб его личности. Все путешественники, приезжавшие в Россию, стремились встретиться с ним; в любом собрании он оказывался центром внимания: «Когда его не было поблизости, говорили только о нем, в его присутствии все смотрели только на него». Иеремия Бентам, английский философ, гостивший в его имениях, назвал его «князем князей».[9]
Замечательно сказал о нем принц де Линь, знавший всех титанов своего времени, от Фридриха Великого до Наполеона: «Это самый удивительный человек, которого мне доводилось встретить [...] скучающий среди удовольствий; несчастный от собственной удачливости; неумеренный во всем, легко разочаровывающийся, часто мрачный, непостоянный, глубокий философ, способный министр, искусный политик — и вдруг десятилетний ребенок [...] В чем заключался секрет его волшебства? Гений, гений и еще раз гений; природная одаренность, отличная память, возвышенный строй души; насмешливость без стремления оскорбить, артистичность без наигранности [...] способность завоевывать в лучшие моменты любое сердце, бездна щедрости [...] тонкий вкус — и глубочайшее знание человеческой души».[10]
Граф Сегюр, встречавшийся с Наполеоном и Вашингтоном, говорил, что для него «всего любопытнее и важнее было знакомство со знаменитым и могущественным князем Потемкиным [...] Никогда еще ни при дворе, ни на поприще гражданском или военном не бывало царедворца более великолепного и дикого, министра более предприимчивого и менее трудолюбивого, полководца более храброго и вместе нерешительного. Он представлял собою самую своеобразную личность, потому что в нем непостижимо смешаны были величие и мелочность, лень и деятельность, храбрость и робость, честолюбие и беззаботность. Везде этот человек был бы замечен своею странностью». Американский путешественник Льюис Литтлпейдж писал, что «удивительный» светлейший князь имел в России больше власти, чем имели у себя дома кардинал Уолси, граф-герцог Оливарес и кардинал Ришелье.[11]
А.С. Пушкин, родившийся через восемь лет после смерти Потемкина, расспрашивал его постаревших племянниц и записывал их рассказы: имя князя, говорил он, «будет отмечено рукой истории».[12]
Следовало безотлагательно сообщить императрице. Написать Екатерине могла Сашенька Браницкая, которая посылала ей новости о здоровье князя, но она была вне себя от горя. Отправили адъютанта к секретарю Потемкина Василию Попову.
Когда печальный кортеж повернул обратно к Яссам, кто-то вспомнил, что надо отметить место, чтобы потом поставить памятник. Камней не нашли, и тогда атаман Антон Головатый, знавший Потемкина тридцать лет, вернулся на холм и воткнул в землю запорожскую пику.[13]
Получив ужасную новость, Попов написал императрице: «Нас постиг страшный удар! Всемилостивейшая государыня, светлейшего князя Григория Александровича нет больше среди живых».[14] В Петербург был отправлен молодой офицер с приказом не останавливаться в пути.
Через семь дней, 12 октября, одетый в черное, запыленный курьер доставил письмо в Зимний дворец. Императрица упала в обморок. Придворные подумали, что с нею удар. Доктора отворили ей кровь.
«Слезы и отчаяние, — записал секретарь государыни Храповицкий. — В 8 часов пустили кровь, в 10 легли в постель». Императрица была так плоха, что к ней не пустили даже внуков.[15]
«Она потеряла в нем не любовника, — записал Массон, учитель математики великих князей Александра и Константина, хорошо понимавший смысл отношений императрицы и Потемкина. — Это был друг».[16]
Ночью она не могла заснуть. «Ужасный удар обрушился на мою голову, — писала она своему постоянному литературному корреспонденту барону Гримму. — В шесть часов пополудни курьер привез мне известие, что мой ученик, мой друг, почти мой кумир, князь Потемкин Таврический умер в Молдавии после болезни, тянувшейся почти месяц. Вы не можете представить себе, как я потрясена...»[17]
В каком-то смысле императрица так до конца и не оправилась от этого удара. Вместе с Потемкиным кончился золотой период ее царствования — а также и добрая слава Потемкина. Екатерина говорила, что «болтуны» всегда чернили подвиги князя. Она была совершенно права: едва весть о смерти светлейшего достигла Петербурга, как начала расти легенда, заслонившая подлинные черты этого необыкновенного человека.
12 января 1792 года Василий Попов, доверенное лицо князя, приехал в Петербург с особым поручением. Он привез главное сокровище Потемкина — письма Екатерины, все так же связанные в пачки.
Императрица отослала всех, кроме Попова, заперла дверь — и долго плакала.[18]
Часть первая: ПОТЕМКИН И ЕКАТЕРИНА (1739-1762)
1. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ЮНОША
Лучше я хочу услышать, чтобы ты был убит,
нежели бы себя осрамил.
(Напутствие смоленского дворянина своему сыну,
отправляющемуся в армию.)
Л.H. Энгельгардт. Мемуары
— Когда я вырасту, — хвастался маленький Потемкин, — буду архиереем или министром.
Наверное, над его мечтами смеялись, потому что он родился в семье провинциального дворянина без имени и состояния. Его крестный отец любил повторять: «Грицу моему либо быть в чести, либо не сносить головы».[19]
Григорий Александрович Потемкин родился 30 сентября 1739 года{2} в деревне Чижево, недалеко от Смоленска. Семья была не богата, но и не бедна: 430 душ. Чем незначительнее род, тем на большее он претендует. Потемкины, как многие польские шляхтичи, имели весьма сомнительную генеалогию, но среди своих предков они уверенно называли Телезина — царя италийского племени, угрожавшего Риму около 100 года до Рождества Христова, и Истока — далматинского князя XI века нашей эры. И вот после многовековой безвестности потомки царственных персон явились на смоленских землях под скромным именем — Потемкины, или, на польский манер — Потемкинские.
В первой половине XVII века Потемкины удачно лавировали между московскими царями и польскими королями, получая земли вокруг Смоленска от тех и от других. Со времен прадеда Потемкина семья служила только Московии, постепенно отвоевывавшей эти исконно киевские земли у Речи Посполитой.
Смоленск был окончательно присоединен к России при царе Алексее Михайловиче в 1667 году. Царь подтвердил привилегии шляхты и позволил Смоленскому полку выбирать своих воевод, но приказал отныне брать в жены только русских девиц. Тем не менее о своих польских корнях смоленские дворяне помнили долгое время. Может быть, еще отец Потемкина носил дома широкие польские шаровары, длинную блузу и говорил по-польски.
Словом, детские годы Потемкин провел в полупольском окружении, унаследовав тесные связи с польским дворянством. Свое польское происхождение Потемкин использовал впоследствии, когда, купив земли в самой Польше, собирался превратить их в политический инструмент в отношениях России и Речи Посполитой.
Единственным знаменитым предком Потемкина был Петр Иванович Потемкин — военачальник и окольничий (один из высших придворных чинов). В 1667 году он был отправлен с первым русским посольством в Испанию и Францию, а в 1680 году — посланником в другие европейские страны. Посол Потемкин делал все возможное для защиты престижа своего повелителя, которого в Европе по-прежнему считали варваром.
Отец Григория, Александр Васильевич Потемкин, служил в армии Петра Великого, в молодости прошел всю Северную войну, участвовал в Полтавской битве, в осаде Риги, в захвате четырех шведских фрегатов, был ранен и награжден, а после окончания войны командовал гарнизонами в Казанской и Астраханской губерниях. Подробности его военной карьеры неизвестны. Известно лишь, что, когда он подал в отставку по состоянию здоровья, его призвали в Военную коллегию и, согласно обычаю, потребовали продемонстрировать старые раны. Однако, узнав в одном из членов коллегии своего бывшего подчиненного, Александр Васильевич объявил, что ни в коем случае не подвергнется такому унижению, и в ярости ретировался. В отставку он вышел в чине подполковника только в 1739 году, уже после рождения сына.[20]
Будучи женат, Александр Васильевич женился в начале 1720-х годов вторично — на двадцатилетней вдове Дарье Васильевне Скуратовой (урожденной Кондыревой). В отдаленных от столицы местах двоеженство, хотя и противное государственным и церковным законам, не было редкостью. Уже беременная, молодая жена узнала о существовании первой супруги мужа. Отправившись к ней, Дарья Васильевна со слезами упросила ее уйти в монастырь, чтобы узаконить брак.
Дарья Васильевна родила пять дочерей и сына — Григорий был третьим ребенком в семье. Она дожила до того времени, когда сын стал первым лицом государства. С портрета, написанного в староста, смотрит суровое лицо с крупным носом и острым подбородком. Черты лица грубее, чем у сына, но считалось, что он на нее похож.
Ее третьей беременности сопутствовали хорошие приметы: чижевские старожилы впоследствии уверяли, что она во сне видела, как солнце с неба упало к ней на живот.
Счастье, однако, было омрачено клеветой.
После рождения наследника к хозяину, в числе других гостей, приехал с поздравлениями его двоюродный брат Сергей Потемкин, сообщивший, что Григорий — не его сын. Причины, побудившие оклеветать Дарью Васильевну, вполне прозаичны: Сергей Потемкин хотел унаследовать имение Александра Васильевича. Видимо, подозрение пало на Григория Матвеевича Кисловского — одного из московских родственников, гостившего у Потемкиных незадолго до рождения сына и ставшего его крестным отцом.
Александр Васильевич подал прошение о расторжении брака и признании Григория незаконным ребенком. Дарья Васильевна в ужасе обратилась за помощью к Кисловскому. Тот приехал из Москвы и едва урезонил ревнивого старика.[21]
Усадьба Потемкиных Чижево находилась на маленькой речке Чиво — в нескольких часах езды на лошадях от Смоленска: в 350 верстах от Москвы и 837 верстах от Петербурга.
Деревянный одноэтажный дом Потемкиных стоял на небольшом холме. Баня, где родился Григорий, наверное, была единственной подсобной постройкой.
О раннем детстве Потемкина неизвестно ничего, но, надо полагать, оно не очень отличалось от детства других мелких дворян. Вот характерное воспоминание дальнего родственника Потемкина, Льва Николаевича Энгельгардта — по его собственному рассказу, он провел свои детские годы, бегая с дворовыми мальчишками босиком, в крестьянской рубахе: «Физически мое воспитание сходствовало с системою Руссо, хотя бабка моя не только [не] читала сего автора, но едва ли знала хорошо российскую грамоту».[22]
Григорий был наследником имения и единственным, кроме отца, мужчиной в семье. Можно себе представить, как его баловали мать и сестры. Привыкший свободно чувствовать себя в женском обществе, он называл себя баловнем судьбы.[23]
В 1746 году семидесятичетырехлетний Александр Васильевич скончался. Дарья Васильевна, вторично овдовевшая в сорок два года, осталась одна с шестью детьми в затруднительном положении. Взрослый Потемкин будет безрассудно расточителен — отличительная черта тех, кто, достигнув высот, помнит о прошлых материальных невзгодах.
У Дарьи Васильевны не было связей в Петербурге, зато имелись родственники в Москве, и скоро вся семья отправилась в белокаменную.
Первым впечатлением Григория от древней столицы, вероятно, стали ее колокольни. Москва была полной противоположностью Санкт-Петербургу, новой столице Петра Великого. Если Северная Венеция являлась окном в Европу, то Москва хранила память о древней Руси. Иностранцы, считавшие единственным цивилизованным местом Европу, неприязненно отзывались о первопрестольной русской столице: «Что особенно безвкусно и отвратительно в облике Москвы, так это ее церкви — квадратные массивы разноцветных кирпичей с позолоченными шпилями». В самом деле, и разноцветные купола Василия Блаженного, и узкие запутанные улочки, окружавшие московский Кремль, были так же диковинны и странны, как древние суеверия. Европейские путешественники вообще отказывали Москве в сходстве с европейским городом: «Я не могу сказать, на что она больше похожа — на большую деревню или на скопление множества деревень».[24]
Крестный отец Потемкина Кисловский, отставной президент Камер-коллегии, поселил Дарью Васильевну с детьми в маленьком доме на Никитской улице. Позднее Григория определили в гимназию при Московском университете вместе с сыном Кисловского Сергеем.
Учеба давалась ему легко. Он быстро овладел греческим, латынью, немецким и французским, не говоря уже о польском; позднее говорили, что он понимает итальянский и английский языки.
Особенно же влекло его богословие. Священник приходской церкви Николая-Чудотворца помог мальчику изучить церковную службу. Замечательная память позволяла ему без труда запоминать наизусть пространные богослужебные тексты. Еще в те годы он подружился с Амвросием (Зертис-Каменским), позднее митрополитом Московским.
Мальчик помогал в алтаре, но смирным нравом не отличался и, казалось, в любую минуту готов был совершить озорную выходку. Однажды, когда он появился перед гостями своего крестного в облачении приехавшего в гости грузинского архиерея, Кисловский воскликнул: «Доживу до стыда, что не умел воспитать тебя, как дворянина!»
Конечно, уже в отрочестве Потемкин понимал, что он не такой, как все, и мечтал о великом будущем. Многочисленные свидетельства донесли до нас его собственные высказывания на этот счет: «буду министром или архиереем»; «начну военной службой, а не так, то стану командовать попами».
Матери он обещал, что когда разбогатеет, то сломает ветхий дом, в котором они жили, и поставит на этом месте собор. Впоследствии он пожертвует крупную сумму на стоявшую неподалеку от этого дома Никитскую церковь. Историки, считающие, что он обвенчался с Екатериной II в Москве, называют местом венчания именно этот храм.[25]
Государственная служба была для русского дворянина единственно возможным способом добиться успеха в жизни. Воспитанный в семье петровского офицера, Потемкин понимал это с детства.
В 1750 году одиннадцатилетнего Григория повезли в Смоленск — записывать в военную службу. В Герольдмейстерской конторе он получил подтверждение своего дворянства; между прочим, поминались и славный римский предок и окольничий Алексея Михайловича. Пятью годами позже, в феврале 1755 года, Потемкин будет определен в конную гвардию{3} — один из гвардейских полков.
Окончив учебное заведение Литкена в Немецкой слободе, он поступил в Московский университет, где числился среди первых учеников по греческому языку и священной истории. Современник Потемкина Денис Фонвизин, учившийся в Московском университете в те же годы, что и Потемкин, так рассказывал о времени своего студенчества: «Учились мы весьма беспорядочно. Ибо с одной стороны причиною тому была ребяческая леность, а с другой нерадение и пьянство учителей».[26]
Хотя впоследствии недруги и называли Потемкина невеждой, читал он очень много. Так, однажды приехав в гости к родственникам, он не выходил из библиотеки и даже засыпал под бильярдным столом с книгой в обнимку. В другой раз Потемкин попросил одного из приятелей, Ермила Кострова, одолжить ему десяток книг. Скоро он их вернул, и Костров не поверил, что книги уже прочитаны. «Если ты мне не веришь, можешь меня проэкзаменовать!» — отвечал Потемкин. Другой студент, Афонин, как-то одолжил ему том «Естественной истории» Бюффона — и Потемкин вернул его на следующий день, поразив владельца книги знанием самых мелких подробностей.[27]
В 1757 году за успехи в греческом языке и богословии Потемкин получил золотую медаль. В том же году Иван Иванович Шувалов — фаворит императрицы Елизаветы Петровны, основавший и курировавший Московский университет, приказал командировать лучших студентов в Петербург — для представления императрице. Потемкин попал в число двенадцати счастливцев.
В Петербурге он оказался впервые.
По сравнению с северной столицей даже Москва казалась глухой провинцией. Петр Великий основал свой «парадиз» в 1703 году на болотистых берегах и островах устья Невы, тогда еще принадлежавших Швеции. После поражения Карла XII в Северной войне Петербург стал официальной столицей России. С 1712 года сюда стали переезжать из Москвы государственные учреждения. Петру не терпелось увидеть свою мечту воплощенной: на работах по осушению болот и строительству города погибли тысячи крестьян.
Теперь, в конце 1750-х годов, это был красивый город: изящные дворцы высились на гранитных набережных, блистали шпицы Адмиралтейства и Петропавловской крепости, достраивался новый Зимний дворец. Проспекты, проложенные словно для великанов, поражали своей шириной, но их немецкая прямизна была чужда русской душе.
«Этот город, с необычайно широкими и длинными улицами, являет очень живописный вид, — писала английская путешественница. — Не только городу, но и образу жизни здесь присущ особый размах. Аристократы как будто состязаются друг с другом в дорогостоящих причудах».[28]
Но не менее удивляли иностранцев и петербургские контрасты: «Дома обставлены самой роскошной мебелью из всех стран, но в гостиную с инкрустированным полом вы поднимаетесь по грязной и вонючей лестнице». Ни дворцы, ни балы не могли скрыть диковинного характера этой страны: «С одной стороны — модные наряды, богатые одежды, роскошные пиры, великолепные торжества, зрелища, подобные тем, которые увеселяют избранное общество Парижа и Лондона; с другой — купцы в азиатской одежде, извозчики, слуги и мужики в овчинных тулупах, с длинными бородами, с меховыми шапками и рукавицами и иногда с топорами, заткнутыми за ременными поясами».[29]
Новый каменный Зимний дворец Елизаветы Петровны, на берегу Невы, еще недостроенный, был великолепен, хотя с апартаментами, расписанными позолотой, соседствовали неотделанные комнаты — холодные, сырые, заваленные инструментами.
Шувалов провел студентов в залу, где императрица принимала иностранных послов.
История восшествия на престол Елизаветы Петровны характерна для России XVIII века.
В 1722 году Петр I выдал указ, согласно которому правительствующий государь имеет право назначать себе наследника по собственному усмотрению. Однако, умирая, распоряжений о наследнике он не оставил. При поддержке гвардии императрицей стала его вдова Екатерина I, а фактическим правителем — организатор этой поддержки АД. Ментиков.
Екатерина I умерла через два года, в 1727 году, и императором объявили внука Петра Великого — двенадцатилетнего Петра (он был сыном царевича Алексея, погибшего под следствием в 1718 году). Отрок Петр II прожил недолго: в начале 1730 года он умер/ И хотя к этому времени уже подросла дочь Петра I — Елизавета (ей только что исполнилось 20 лет), высшие чины государства, преследуя собственные выгоды, предложили трон племяннице Петра I — Анне Ивановне, вдовой герцогине Курляндской.
Анна Ивановна прожила до 1740 года, причем с каждым годом все большую власть сосредоточивал в своих руках ее фаворит Би-рон. При Анне Ивановне был извлечен из забвения указ 1722 года, согласно которому бездетная Анна назначила наследником престола своего внучатого племянника — Ивана. В октябре 1740 года, к моменту смерти Анны Ивановны, племяннику исполнилось три месяца. Первые дни после провозглашения Ивана регентом был Би-рон. Но скоро он был арестован, сослан, и правительницей при мла-денце-императоре провозгласили мать ребенка — Анну Леопольдовну.
25 ноября 1741 года совершился новый переворот: гвардия возвела на российский престол дочь Петра I — 32-летнюю красавицу Елизавету. Младенца вместе с родителями отправили в вечную ссылку — на север, в Холмогоры, а когда Иван подрос, его заточили в Шлиссельбургскую крепость.
У Елизаветы Петровны не было собственных детей, и уже в самом начале своего царствования она назначила наследником престола своего племянника — Петра (в будущем Петр III), сына своей родной сестры, покойной Анны Петровны, и герцога Голштинского.
В конце 50-х годов Елизавета Петровна, несмотря на болезни и возраст, была по-прежнему хороша собою. «Увидев ее в первый раз, невозможно было не поразиться ее красоте, — вспоминала Екатерина И. — Она была крупная женщина, несмотря на свою полноту нисколько не утратившая изящества фигуры».
Елизавета, как и ее английская тезка из предыдущего столетия, была воспитана в тени славного отца и провела молодость в изоляции, на опасной грани между троном и монастырем. Это обострило ее природный политический инстинкт — однако здесь сходство заканчивалось. Она была импульсивна, великодушна, кокетлива, но вместе с тем расчетлива, мстительна и жестока — истинная дочь Петра I.
Она отменила смертную казнь, но за вольные разговоры по-прежнему ссылали в Сибирь и урезали языки. Двором правили любовь к роскоши и тщеславие императрицы, обожавшей пышные празднества и дорогие наряды. Одно и то же платье она никогда не надевала дважды и меняла наряды несколько раз в день. После ее смерти в императорском гардеробе насчитали пятнадцать тысяч платьев. Елизавете Петровне очень шел мужской костюм, и поэтому любимым придворным развлечением были балы-маскарады, куда женщинам предписывалось являться в мужских платьях, а мужчинам в женских. «Действительно и безусловно хороша в мужском наряде была только сама императрица, так как она была очень высока и немного полна; вся нога у нея была такая красивая, какой я никогда не видала ни у одного мужчины, и удивительно изящная ножка». О состязании императрицы с придворными красавицами за первенство на балах существует много анекдотов. Так, однажды, не сумев расчесать перепудренные волосы, государыня была вынуждена обрить голову — и приказала всем фрейлинам последовать ее примеру. «Дамы повиновались, заливаясь слезами». В другой раз, она обрезала ножницами ленты у одной придворной дамы и локоны у двух других.[30]
Она была набожна, но не аскетична и выбирала возлюбленных, невзирая на их происхождение. Алексей Григорьевич Разумовский был родом из украинских казаков; в юности он пел на клиросе в церковном хоре. Он и его младший брат пастух Кирилл получили несметные богатства и графское достоинство. В 1749 году новым избранником Елизаветы Петровны стал Иван Иванович Шувалов, и на вершину придворной иерархии вознеслось новое семейство.
К тому времени, когда молодой Потемкин приехал в Петербург, вельможный круг состоял большей частью из представителей этой новой аристократии. Как говорил Пушкин, бывшие «пирожники, денщики, певчие» получали титулы и богатства за личные заслуги — или просто попав в фавор к царствующей особе. Они занимали высшие правительственные, придворные и военные должности наряду с потомками родовитых бояр и князей.[31]
Шувалов представил Елизавете Петровне восемнадцатилетнего Григория Потемкина. За отличие в учебе императрица приказала произвести его в капралы гвардии.
Вероятно, посещение двора вскружило Потемкину голову, потому что вернувшись в Москву, он забросил занятия. В 1760 году обладатель золотой медали был отчислен «за леность и нехождение в классы». Надо было искать выход из тупика.
Выход был — он заочно числился в гвардии и благодаря Шувалову и Елизавете Петровне имел даже звание капрала. Но денег на поездку в Петербург для действительного вступления в гвардейскую службу у него не было — родственники, воспринявшие исключение из университета как катастрофу, отказались ему помогать. Он поссорился с матерью, и в последующие годы они почти не встречались. Конечно, позднее Дарья Васильевна, одаренная императорскими благодеяниями, будет гордиться сыном, но при этом никогда не станет скрывать, что порицает его личную жизнь.
Потемкин занял пятьсот рублей — огромную по тем временам сумму — у архиепископа Амвросия (Зертис-Каменского). Впоследствии он часто говорил, что собирался вернуть долг сторицей — но не успел: Амвросий был убит в 1771 году во время чумного бунта в Москве.
По прибытии в столицу Потемкин явился в главную квартиру своего полка — поселок из казарм и конюшен, выстроенных прямоугольником на берегу Невы возле Смольного монастыря. Рядом на лугу паслись полковые лошади; здесь же проводились учения и смотры.
Гвардейская молодежь того времени отличалась безудержной разгульностью: неугомонные пиршества, дуэльные истории, карточная игра, публичные женщины — все это характерные приметы гвардейского быта середины XVIII века. Поэтому, видимо, иные строгие отцы предпочитали отдавать детей не в гвардию, а в армию — как, например, отец пушкинского Гринева в «Капитанской дочке»: «Чему научится он, служа в Петербурге? мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон!»[32]
Потемкин весьма скоро стал в своем полку одним из первых удальцов. В двадцать два года он был высок, широк в плечах и очень привлекал женское внимание. Он «мог похвастаться самой роскошной шевелюрой во всей России». За красоту и таланты товарищи прозвали его Алкивиадом — высокая похвала в неоклассический век. В круг чтения культурных людей XVIII века обязательно входили Плутарх и Фукидид, так что все представляли себе образ благородного афинянина — умного, образованного, чувственного, непостоянного и пылкого.
Кроме того, Потемкин был необычайно остроумен — его замечательный талант пародиста впоследствии высоко поднял его над царством придворных шутов. Скоро он завоюет расположение гвардейских заводил — братьев Орловых, — а те, в свою очередь, посвятят его в тайны двора. у\")
Гвардия охраняла императорские дворцы, что и придавало ей огромный политический вес. «Допущенные к играм* балам, вечерам и театральным представлениям, внутрь святилища двора», они чуть ли не правили столицей. Их придворные обязанности давали им возможность наблюдать вблизи и в подробностях жизнь императорской фамилии, что, соответственно, возбуждало чувство личного участия в ее делах.[33]
В конце 50-х годов здоровье Елизаветы Петровны резко пошло на убыль. Случались дни, когда, она, казалось, находилась между жизнью и смертью. Это тщательно скрывали, но об этом знали все, кто имел отношение к петербургскому двору.
В случае смерти Елизаветы Петровны императором становился ее племянник великий князь Петр Федорович. Его не любили и опасались многие. И в придворных кругах и в гвардии уже зрел замысел возвести на престол его жену — Екатерину. Будучи в караулах, Потемкин имел возможность видеть эту женщину. Она никогда не была красива в собственном смысле этого слова, но обладала необыкновенной магией царственного достоинства, женской привлекательностью, природной веселостью и способностью очаровывать всех, кто имел с ней дело. Однажды про нее сказали: «Вот женщина, из-за которой порядочный человек мог бы вынести без сожаления несколько ударов кнута».[34]
Лучшее описание Екатерины в эти годы оставил Станислав Понятовский: «Ей было 25 лет. Она только что оправилась от первых родов и достигла расцвета, какой только возможен для женщины, от природы наделенной красотой. У нее были черные волосы, ослепительной белизны и свежести цвет лица, выразительные глаза навыкате, длинные черные ресницы, заостренный носик, губы, словно зовущие к поцелую, прелестной формы руки, гибкий и стройный стан; легкая, и при этом исполненная благородства походка, приятный тембр голоса, а смех — такой же веселый, как ее нрав, заставлявший ее с легкостью переходить от самых вздорных ребяческих забав к таблице шифров — монотонность этого тяжелого труда пугала ее не больше чем текст, каким бы важным или опасным ни было его содержание.»[35]
Примерно в то время, когда Потемкин поступил в гвардейскую службу, она начала привлекать на свою сторону гвардейцев. Юноша из провинции оказался на пороге заговора, который через некоторое время возведет ее на трон — а потом и соединит их судьбы.
2. ГВАРДЕЕЦ И ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ: ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
Один Бог знает,
откуда моя жена берет свои беременности.
(Великий князь Петр Федорович о своей жене)
Екатерина II. Записки
Будущая Екатерина II не имела ни капли русской крови, но, с четырнадцатилетнего возраста живя при дворе императрицы Елизаветы Петровны, прилагала все усилия к тому, «чтобы русские полюбили ее». Мало кто подозревал в ней талантливого политика, дальновидного государственного деятеля и великую актрису, страстно желавшую стать российской императрицей — роль, для которой она обладала всеми необходимыми качествами.
Принцесса София-Фридерика Ангальт-Цербсгская родилась 21 апреля (2 мая) 1729 года в Штеттине. Поворот в судьбе дочери мелкого немецкого князя произошел в январе 1744 года, когда императрица Елизавета искала подходящую партию для своего наследника, Карла-Петера-Ульриха, герцога Голштинского, недавно провозглашенного великим князем Петром Федоровичем. По ряду причин — политических, дипломатических и личных — императрица остановила свой выбор на принцессе Софии, которая перешла в православие, приняв имя Екатерины Алексеевны, и 21 августа 1745 года обвенчалась с Петром. Присутствовавшие на церемонии обратили внимание не только на ее скромное платье и ненапудренные волосы, но также на хороший русский язык и манеру держать себя со сдержанным достоинством.
Екатерина быстро поняла, что Петр не годится ни в мужья, ни в цари. Сразу после знакомства с ним она отметила, что он «очень ребячлив», «не очень любит народ, над которым ему суждено [...] царствовать», и «взирала с изумлением на его неразумие и недостаток суждения о многих вещах». Брак ее был не просто несчастлив: только благодаря удивительной силе характера ей удалось пережить его — и обратить себе на пользу.
Петр боялся русского двора и, вероятно, с самого начала чувствовал, что справиться с ним не сумеет. Он был внуком Петра Великого, правящим герцогом Голштинии и некоторое время наследником двух престолов — русского и шведского. Но, видно, он родился под несчастливой звездой. В раннем детстве отец отдал его на попечение педантичного и жестокого гофмаршала, который бил его, морил голодом и ставил коленями на горох. Главной страстью подростка стало муштрование игрушечных, а потом и живых солдат. Попав в Россию, он возненавидел ее всей душой и отчаянно тянулся ко всему немецкому, особенно прусскому. Он не уважал русскую религию, отдавая предпочтение лютеранству, презирал русскую армию и молился на своего кумира — прусского короля Фридриха Великого. Екатерина не могла не заметить бросающейся в глаза неразвитости и жестокости своего супруга, но «выказывала [...] безграничную покорность императрице, отменное уважение великому князю и изыскивала со всем старанием средства приобрести расположение общества». Со временем последнее стало первым и самым главным.[36]
Вскоре после приезда Екатерины Петр переболел оспой, и его без того неправильные черты стали безобразными. Теперь он казался ей «отвратительным», хотя его поведение было намного хуже его внешности. Ночью после венчания невеста пережила жестокое унижение: она осталась в спальне одна. Во время сезонных перемещений двора из Летнего дворца в Зимний, из Петергофа в Царское Село, или в Москву, или в Лифляндию, она утешалась верховой ездой и чтением французских просветителей (с этого времени книги станут спутниками всей ее жизни). Она изобрела седло особой конструкции, которое позволяло ей сидеть на лошади боком, когда за ней наблюдала императрица, и по-мужски, когда она оставалась одна.
Екатерина, кокетливая и чувственная (хотя сама она, возможно, еще этого не осознавала), состояла в браке с вечным подростком, а окружена была самыми красивыми и утонченными мужчинами России. Некоторые из них уже влюбились в нее, например, Кирилл Разумовский, брат фаворита императрицы, и Захар Чернышев, ее будущий министр. Она все время была на виду, но необходимость хранить верность мужу и родить наследника поставила ее в самое затруднительное положение. Екатерина искала разрядки и, как многие несчастные женщины высшего света, пристрастилась к картам, особенно к фараону.
В начале пятидесятых годов ее замужество превратилось из тяжелого в невыносимое. Екатерина имела все основания предать огласке недостойное поведение своего супруга, но жалела его. Петр, вероятно, страдал тем же физиологическим недостатком, что Людовик XVI, и, несомненно, был невежественным и поздно сформировавшимся мужчиной. Подробности их семейной жизни повергли бы в ужас любую женщину: Екатерина лежала в постели одна, а ее муж играл в солдатики или терзал над ее ухом скрипку. Он держал в комнате жены собак и заставлял ее часами стоять на карауле с мушкетом.
Легкие флирты не затрагивали ее чувств, пока не появился двадцатишестилетний Сергей Салтыков, потомок древнего боярского рода. По словам Екатерины, он был «прекрасен, как день». Она влюбилась. Возможно, он стал ее первым любовником. Как ни парадоксально, этого потребовала высочайшая воля: императрица Елизавета Петровна желала иметь наследника любой ценой.
После первого выкидыша Екатерина забеременела снова. А 20 сентября 1754 года родился наследник, Павел Петрович: «...императрица велела акушерке взять ребенка и следовать за ней». Плачущая Екатерина осталась «одна на родильной постели» в комнате с плохо затворявшимися окнами и дверьми. Салтыкова отослали от двора.
Кто же был отцом будущего императора Павла I, к которому восходят все последующие Романовы, до Николая II? Салтыков или Петр? Утверждениям самой Екатерины, что ее брак был только формальностью, нельзя полностью доверять: она имела все основания принижать роль мужа, а позднее стремилась отстранить сына от трона. Павел вырос курносым, некрасивым, а Салтыков, прозванный «le beau Serge» — «прекрасный Серж», — славился своей красотой. Впрочем, Екатерина лукаво отмечает, как нехорош собой был его брат. Скорее всего, отцом наследника все же был Салтыков.
Петр, совершенно неприспособленный к тонкостям придворных интриг, мог вызывать жалость, но его пьяное самодурство было невыносимо. Однажды Екатерина обнаружила у него в комнате повешенную крысу. На вопрос, что это значит, великий князь отвечал, что она совершила преступление и приговорена к смертной казни (крыса залезла в картонную крепость и съела двух солдатиков из крахмала). В другой раз он расплакался перед женой и объявил, что Россия его погубит.
В своих «Записках» Екатерина утверждает, что она, несчастная молодая мать, начала задумываться о будущем только тогда, когда безобразия великого князя стали опасны для нее и для ее ребенка, подразумевая, что ее восшествие на трон было чуть ли не вынужденным. На самом же деле Екатерина строила заговоры с целью захвата престола с середины 1750-х годов, опираясь на разных людей, от канцлера Бестужева до английского посланника в Петербурге. Когда же Елизавета начала угасать, Петр запил, а Европа оказалась на пороге Семилетней войны и струны российской политики туго натянулись, Екатерина исполнилась решимости во что бы то ни стало выжить — и на самом верху.
Теперь, после того, как она подарила стране наследника, ее домашняя жизнь стала спокойнее. Она наслаждалась положением красивой женщины при дворе, где все дышало любовными интригами: «Я [...] нравилась, следовательно, половина пути к искушению была уже налицо, и в подобном случае от сущности человеческой природы зависит, чтобы не было недостатка и в другой, ибо искушать и быть искушаемым очень близко одно к другому, и, несмотря на самые лучшие правила морали, запечатленные в голове, когда в них вмешивается чувствительность, как только она проявится, оказываешься уже бесконечно дальше, чем думаешь...»
В 1755 году на балу в Ораниенбауме, в загородном дворце великого князя недалеко от Петергофа, Екатерина встретила Станислава Понятовского, 23-летнего поляка, секретаря нового английского посланника. Понятовский был представителем прорусской партии польского шляхетства, сформировавшейся вокруг его дядей, братьев Чарторыйских, и их родственников. Образованный и светский молодой человек века Просвещения, с налетом меланхолического идеализма, влюбился в Екатерину; она отвечала ему взаимностью. Екатерина впервые почувствовала себя по-настоящему, страстно любимой.
Столкновение англичан и французов в верховьях реки Огайо повлекло за собой события, разжегшие Семилетнюю войну. Участие в войне России в значительной степени определялось тем, что Елизавета ненавидела Фридриха II, насмехавшегося над ее сластолюбием. Другие державы внезапно сменили союзников, и в результате «дипломатической революции», альянсы «старой системы» разрушились. Когда в 1756 году дипломатическая круговерть закончилась, Россия, заключив союз с Францией и Австрией, вступила в войну против Пруссии. В 1757 году русские войска вошли в Пруссию.
Война отравляла придворную жизнь и разрушила связь Екатерины с Понятовским — он должен был уехать из Петербурга. Екатерина была беременна от Понятовского: их дочь Анна родилась в декабре 1757 года и, так же, как сын, была изолирована от матери Елизаветой.
В это самое время Екатерина оказалась в очень опасной ситуации. После победного сражения при Гросс-Егерсдорфе 19 (30) августа 1757 года фельдмаршал Апраксин, с которым Екатерина поддерживала дружеские отношения, получил весть о болезни императрицы. Он дал пруссакам спокойно отступить, вероятно, полагая, что Елизавета вот-вот умрет и Петр III заключит мир со своим кумиром Фридрихом Великим. Однако Елизавета не умерла. Как все тираны, она боялась смерти, а такие мысли, какими позволил себе руководствоваться Апраксин, приравниваются к государственной измене. Екатерина оказалась под сильным подозрением. Великая княгиня осталась в одиночестве и в серьезной опасности. Она жгла свои бумаги, выжидала, а затем пошла на огромный риск, вооружившись своим редкостным самообладанием.
13 апреля 1758 года Екатерина, решив испытать силу привязанности Елизаветы Петровны к себе и ее отвращение к племяннику, обратилась к императрице с просьбой отправить ее домой, к матери. Императрица пожелала допросить великую княгиню лично. Петр бурчал обвинения, Екатерина мужественно защищалась. Она пустила в ход все свое обаяние, разыграла оскорбленные чувства и снова разоружила императрицу выражением искренней душевной привязанности. Отпуская ее, Елизавета шепнула: «Мне надо будет многое вам еще сказать...» Екатерина поняла, что победила, и была счастлива, когда узнала, что Елизавета назвала ее «очень умной женщиной», а своего племянника «дураком».
После того, как волнение улеглось, Екатерина II Петр продолжали сосуществовать довольно мирно. Великий князь взял себе в любовницы известную своей дурнотой Елизавету Воронцову, племянницу канцлера, и снисходительно смотрел на связь Екатерины с Понятовским, который ненадолго вернулся. Понятовский все так же любил Екатерину, но ему снова пришлось уехать, и она опять осталась одна.
Два года спустя Екатерина обратила внимание на Григория Орлова, капитана Измайловского гвардейского полка. Получив три ранения в битве при Цорндорфе, Орлов вернулся в Петербург. По легенде, она впервые залюбовалась им из окна, когда он стоял на часах.
Григорий Григорьевич Орлов был красив и одарен «самой счастливой наружностью и умением держать себя». Он принадлежал к породе гигантов{4} — все пятеро братьев Орловых были «гаргантюанского покроя». У Григория, вспоминали современники, было ангельское лицо, он был добродушен, весел, всеми любим и отличался удивительной силой. Когда пятнадцать лет спустя Орлов посетил Лондон, Гораций Уолпол так описал его обаяние: «Орлов Великий, или, точнее, Большой, здесь [...] Он танцует, как гигант и ухаживает, как исполин»{5}.[37]
Орлов, сын провинциального губернатора, не принадлежал к богатой знати. Дед его принимал участие в стрелецком мятеже и был приговорен Петром I к смерти. Взойдя на плаху, он смахнул с нее голову предыдущего казненного. Петра так восхитило его самообладание, что он помиловал его. Особенным умом Орлов не отличался. «Очень хорош собой, — писал французский посланник Бретейль своему министру Шуазелю в Париж, — но... очень глуп».[38] Вернувшись в Россию в 1759 году, Орлов был назначен адъютантом к графу Петру Шувалову — одному из самых влиятельных государственных лиц, двоюродному брату фаворита Елизаветы Петровны. Вскоре Орлов соблазнил любовницу Шувалова, княгиню Елену Куракину. К счастью для Орлова, Петр Шувалов умер, не успев ему отомстить.
В начале 1761 года Екатерина II Орлов полюбили друг друга. Понятовский отличался утонченностью и искренностью чувств, Григорий Орлов был мужествен, по-медвежьи добродушен, а главное, представлял политическую силу, которая в скором времени могла понадобиться. Еще в 1749 году Екатерина имела возможность предложить своему мужу поддержку верных ей гвардейцев. Теперь она получила опору в лице братьев Орловых. Самым энергичным и жестоким из них был Алексей. Очень похожий на своего брата, он отличался «грубой силой и бессердечностью»[39] — качествами, сделавшими Орловых незаменимыми в 1762 году.
Орлов с товарищами обсуждал планы возведения Екатерины на престол в конце 1761 года, хотя, вероятно, проекты эти были еще довольно расплывчаты. Примерно в это время с Орловыми знакомится Потемкин. Один источник указывает, что внимание Григория Орлова привлек ум Потемкина, хотя у них могли быть другие общие интересы — оба слыли отчаянными игроками и удачливыми соблазнителями женщин. Друзьями они не стали, но Потемкин начал вращаться в близком к Орловым кругу.
Екатерина нуждалась в таких союзниках. В последние месяцы жизни Елизаветы Петровны у нее уже не осталось никаких иллюзий относительно своего супруга, который открыто говорил о намерении развестись с ней, жениться на Воронцовой и порвать с союзниками, чтобы спасти Фридриха Прусского. Петр представлял опасность для нее, для ее сына — и для себя самого. Она ясно видела, из чего ей предстоит сделать выбор: «...во-первых, делить участь Его Императорского Высочества, как она может сложиться; во-вторых, подвергаться ежечасно тому, что ему угодно будет затеять за или против меня; в-третьих, избрать путь, независимый от всяких событий. Но, говоря яснее, дело шло о том, чтобы погибнуть с ним или через него, или же спасать себя, детей и, может быть, государство, от той гибели, опасность которой заставляли предвидеть все нравственные и физические качества этого государя».
В тот самый момент, когда Елизавета Петровна действительно начала угасать и Екатерина должна была подготовиться к спасению от «гибели» и возглавить возможный переворот, она обнаружила, что беременна от Григория Орлова. Она тщательно скрывала свое положение, но временно сошла с политической сцены.[40]
В 4 часа пополудни 25 декабря 1761 года 50-летняя императрица Елизавета Петровна сделалась так слаба, что уже не могла отхаркивать кровь. С распухшими руками и ногами, она лежала, тяжело дыша, в своих апартаментах в недостроенном Зимнем дворце. У постели умирающей императрицы собрались придворные, волнуемые надеждой и страхом. Духовник императрицы читал молитвы, но она уже не могла повторять за ним.
Трон переходил к 34-летнему Петру. В воздухе носились опасения по поводу воцарения Петра и надежды на Екатерину. Многие вельможи хорошо знали, что наследник не годится в монархи. Чтобы спасти свое положение и свою семью, каждый из них должен был сделать правильный расчет, но главным по-прежнему оставались молчаливое терпение и бдительность.
Гвардейцы, мерзнувшие на часах у дворца, гордились ролью, которую они играли в возведении на трон и низложении монархов. Больше всего рвались в бой горячие головы, сгруппировавшиеся вокруг Орловых — в том числе и Потемкин. Однако связь великой княгини с Григорием Орловым и тщательно оберегавшаяся тайна ее положения были известны очень немногим. Скрыть беременность — нелегкая задача и для частной женщины, не говоря уже о принцессе. Екатерине удалось это даже у одра императрицы.
Два фаворита Елизаветы — добродушный, могучий Алексей Разумовский и круглолицый, миловидный Иван Шувалов, которому в это время было еще только тридцать четыре года — смотрели на умирающую с любовью и печалью. Наследник отсутствовал — он пил со своими товарищами-немцами, выказывая то же отсутствие такта и достоинства, за которое его скоро возненавидят все. Но его жена Екатерина, которая и любила, и ненавидела государыню, заливалась слезами и не отходила от ее постели двое суток.
Екатерина являла собой воплощение заботливости и преданности. Кто поверил бы, глядя, как она оплакивает отходящую тетушку, что несколько лет назад она говорила — хоть и приписывая авторство этих слов Понятовскому: «Ох уж эта колода! Она истощает наше терпение! Скорей бы она умерла!»[41] Шуваловы уже предлагали Екатерине изменить порядок престолонаследия в пользу ее и ее малолетнего сына — но безуспешно. Интриганы потерпели крушение и удалились; Екатерина устояла, все более приближаясь к трону.
Дыхание императрицы стало слабеть. Позвали великого князя. Как только Елизавета Петровна испустила последний вздох, придворные упали на колени перед Петром III. Он тут же отправился в Совет, чтобы принять бразды правления. По словам Екатерины, он приказал ей оставаться у тела усопшей вплоть до его особого распоряжения.
Все рыдали: Елизавету любили, несмотря на ее сластолюбие и жестокость. Она много сделала для того, чтобы, продолжая дело отца, вернуть России статус великой европейской державы. Убитый горем Разумовский заперся в своих апартаментах. Шувалова одолели «ипохондрические мысли». Обер-прокурор Сената князь Никита Трубецкой распахнул двери в залу, где собрались придворные, и объявил со слезами на глазах, что императрица скончалась. Новое царствование уже вызывало глухой ропот — но пока еще «весь двор наполнился плачем и стенанием». Гвардейцы, шедшие во дворец присягать новому императору, «выглядели грустными и подавленными [...] Солдаты говорили приглушенными голосами и все разом [...] День Рождества [...] на этот раз стал днем скорби, у людей были мрачные лица».[42]
В 7 часов утра сенаторы, генералы и придворные принесли присягу Петру III и пропели «Тебе Бога хвалим». Когда к новому императору обратился митрополит Новгородский, Петр III не скрывал своего восторга, вел себя почти неприлично и «валял дурака». Позже сто пятьдесят первых дворян империи собрались на обед, чтобы отпраздновать наступление нового царствования — в галерее, отделенной от спальни покойной императрицы тремя комнатами. Екатерина, «чувствительная» женщина и хладнокровный политик, продолжала исполнять свою роль и три дня бодрствовала у тела умершей.
Тем временем в Пруссии русские войска взяли крепость Кольберг и занимали Восточную Пруссию, а другие корпуса продвигались вместе с австрийцами вглубь Силезии. Крах Фридриха Великого казался неминуемым. Дороги на Берлин лежали открытыми. Спасти прусского монарха могло только чудо — и это чудо сотворила для него смерть Елизаветы. Петр III приказал остановить наступление и начал переговоры с королем Пруссии, который не мог поверить своему счастью. Фридрих уже готов был уступить Восточную Пруссию, но теперь от него не требовали даже этого. Петр III готовился начать войну против Дании, чтобы вернуть Голштинии область Шлезвиг. «Мессалина Севера мертва!» — воскликнул Фридрих и приветствовал «истинно германское сердце» Петра III.
На похоронах Елизаветы Петровны, 25 января 1762 года, чтобы развеять скуку траурной церемонии, Петр III придумал такую игру: он отставал от катафалка на несколько метров, а потом догонял его, таща за собой престарелых придворных, которые несли его траурный шлейф. «Слух о недостойном поведении императора распространился мгновенно».
Недовольные новым царем обратили свои взоры на его супругу. Сразу после смерти Елизаветы князь Михаил Дашков прислал к Екатерине человека со словами: «Повели, мы тебя взведем на престол».[43] Дашков принадлежал к тому же кругу гвардейцев — героев Семилетней войны, что и братья Орловы. Но беременная Екатерина не дала хода их рвению. Любой заговор более или менее зависит от случая, но в екатерининском перевороте удивительно не то, что он был удачен, а то, что он имел все шансы на успех уже за полгода до его осуществления.
Как момент, так и энергичность выступления определил сам император. За свое шестимесячное царствование Петр умудрился восстановить против себя почти все политические силы общества — при том, что методы его правления, хотя подчас и неосторожные, никак нельзя назвать варварскими. Так, 21 февраля 1762 года он отменил страшную Тайную канцелярию (ее функции перешли к Тайной экспедиции, находившейся в ведении Сената), а тремя днями раньше обнародовал указ о вольности дворянства, отменявший введенную Петром I обязательную службу.
Эти меры вполне могли завоевать ему популярность, если бы другие его действия не были враждебны коренным интересам России. Сильнее всего была оскорблена армия: она почти окончила разгром прусской армии, но Петр III заключил мир с Пруссией и отдал под управление Фридриха корпуса, воевавшие вместе с австрийцами. 24 мая Петр, как герцог Голштинский, предъявил ультиматум Дании, который должен был повлечь за собой войну, противную российским интересам. Возглавить армию собирался он сам.
Гвардейцев Петр III презрительно называл янычарами, намекая на то, что турецкие пехотинцы возводили на престол и свергали султанов, и собирался расформировать гвардию. Ропот гвардейцев усиливался. Потемкин, еще мало знакомый с Орловыми, попросил принять его в ряды заговорщиков. Вот как это произошло. Один из «орловцев», капитан Преображенского полка, предложил Дмитрию Боборыкину, университетскому товарищу Потемкина, «вступить в общество». Боборыкин отказался: он не одобрял их «разнузданной жизни» и связи Григория Орлова с Екатериной, но поделился своими чувствами с другом. Потемкин немедленно попросил Боборыкина познакомить его с капитаном преображенцев и примкнул к заговору. Так, уже первое известное нам действие Потемкина показывает его бесстрашным, амбициозным и импульсивным человеком. Присоединение к партии Орловых решило судьбу молодого провинциала.
Петр III тем временем раздавал ключевые государственные посты членам своей голштинской фамилии. Георга-Людвига Голштейн-Готторпского, своего дядю, он назначил членом Совета, шефом конногвардейцев и фельдмаршалом. Этот Георг-Людвиг, приходившийся дядей и Екатерине, некоторое время ухаживал за молодой принцессой в Цербсте. (Когда он прибыл из Голштинии 21 марта 1762 года, Потемкин был назначен его ординарцем, что давало ему возможность информировать заговорщиков о дворцовых делах.) Другой голштинский принц был назначен генерал-губернатором Петербурга и командующим всеми войсками на Балтике.[44]
Императрица Елизавета дала согласие на секуляризацию значительной части земель православной церкви, а Петр 21 марта подписал соответствующий указ. Его поведение на похоронах Елизаветы Петровны демонстрировало не только неумение себя вести, но и презрение к духовенству. Все это оскорбляло армию и церковь, восстанавливало против нового монарха гвардию и лишало смысла победы в Семилетней войне.
Недовольство в Петербурге было так велико, что Фридрих II, больше всех выигравший от сумасбродств Петра III, опасался, что, если русский император оставит Россию для похода в Данию, его немедленно лишат престола. Дразнить армию было неосторожно, оскорблять церковь — безрассудно, ссориться с гвардейцами — откровенно глупо, а все вместе — самоубийственно. Но заговор, сдержанный беременностью Екатерины в момент смерти Елизаветы Петровны, оставался без руководителя.
10 апреля 1762 года Екатерина родила сына от Григория Орлова. Ее третий ребенок получил имя Алексея Григорьевича Бобринского. Даже через четыре месяца после воцарения Петра III лишь самому узкому кругу в гвардии была известна ее связь с Орловым. Действия Петра говорят о том, что не знал и он, — а это, в свою очередь, дает понять, почему заговор остался в тайне. Новый император не имел источников информации, то есть не мог воспользоваться важнейшей пружиной самодержавной власти.
Екатерина оправилась после родов в начале мая, но все еще продолжала колебаться. Напиваясь, ее супруг все громче угрожал развестись с ней и жениться на Воронцовой.
Законным наследником Петра считался его сын, шестилетний великий князь Павел: многие примкнули к заговору в убеждении, что именно он будет провозглашен новым императором, а Екатерина станет регентшей. Ходили слухи, что Петр хочет заставить Салтыкова признаться, что он отец Павла, чтобы отделаться от Екатерины, жениться на Воронцовой и положить начало новой династии.
Почти все уже забыли, что жив еще один российский император: Иван VI, свергнутый в младенчестве, в 1741 году, и заточенный теперь в Шлиссельбургской крепости на берегу Ладожского озера. Ему было теперь больше двадцати лет. По преданию, Петр III посетил Ивана в сыром застенке и обнаружил, что у несчастного помрачен рассудок. «Кто ты?» — спросил его Петр. «Я император», — последовал ответ. На вопрос, откуда он это знает, Иван отвечал — от ангелов и Богородицы. Петр подарил ему халат. Иван надел его и в восторге забегал по своей темнице, «как дикарь, которого одели в первый раз». Понятно, что Петр был рад обнаружить, что по крайней мере одного из потенциальных соперников можно сбросить со счетов.[45]
Петр собственными руками превратил группу противостоявших ему гвардейцев в мощную партию. 21 мая он объявил, что покидает Петербург, чтобы возглавить датский поход. Подготавливая войска к выступлению, он переехал из Петербурга в Ораниенбаум, откуда и собирался начать кампанию.
Тремя неделями раньше, в конце апреля, император праздновал мир с Пруссией. Изрядно выпив, он предложил тост за императорскую фамилию, имея в виду себя и своих дядей-голштинцев. Все, кроме Екатерины, встали. Петр обратил на это внимание, а когда она ответила, что также является членом императорской семьи и имеет право пить за себя сидя, крикнул через весь стол: «Дура!» Повисла скандальная пауза. Екатерина вспыхнула, ее глаза наполнились слезами, но через минуту она взяла себя в руки.
По некоторым свидетельствам, в ту же ночь Петр приказал своему адъютанту арестовать жену, чтобы отправить — в лучшем случае, в монастырь. Испуганный адъютант бросился к принцу Георгу-Людвигу Голштинскому, который понял все безрассудство этого шага и вразумил своего племянника.
Теперь не только политическое, но и физическое существование Екатерины и ее детей оказалось под угрозой. Ей действительно ничего не оставалось, как защищаться. В течение трех следующих недель Орловы готовили гвардейцев к выступлению. В каждом полку имелись преданные им офицеры. Потемкин должен был подготовить конных гвардейцев.
План состоял в том, чтобы арестовать Петра, когда он выступит из Ораниенбаума в датский поход, и заключить его в Шлиссельбург. По словам самой Екатерины, действовать были готовы человек тридцать-сорок офицеров и десять тысяч солдат.[46]
Екатерина Романовна Дашкова, урожденная Воронцова, не сомневалась, что переворот произошел благодаря ее усилиям. Эта бойкая 19-летняя женщина, жена одного из верных Екатерине гвардейцев, считала себя Макиавелли в юбке. Она представляла аристократическую партию: крестница императрицы Елизаветы Петровны, она была племянницей канцлера Михаила Воронцова и родной сестрой любовницы императора. Поведение сестры вызывало у нее отвращение. Екатерина Дашкова продемонстрировала, что семейные связи не всегда определяют политические предпочтения: Воронцовы стояли у власти, а она участвовала в заговоре против них. «Политика интересовала меня с раннего возраста», — писала она в своих записках, которые вместе с мемуарами самой Екатерины представляют собой лучшее свидетельство об этих днях.
Никита Иванович Панин, как обер-гофмейстер и воспитатель маленького великого князя Павла, контролировал одну из ключевых фигур на шахматной доске двора, и Екатерина не могла обойтись без его поддержки. Идея Петра III объявить Павла незаконным ребенком грозила Панину потерей высокого придворного поста обер-гофмейстера. Полный, ленивый, медлительный, Панин на первый взгляд не производил впечатления энергичного политика. Дашкова писала, что «этот сорокавосьмилетний человек, всю жизнь проведший при дворе или в должности посланника, немного старомодный, одевавшийся изысканно и носивший парик a trois marteaux (в три локона), всем обликом походивший на придворного Людовика XIV, был слабого здоровья и очень ценил покой».[47] Тем не менее Панин не одобрял тирании Петра III. Как многие высокообразованные царедворцы, Панин надеялся заменить правление Петра аристократической олигархией. Он был противником фаворитизма, хотя его собственный род возвысился благодаря царской прихоти.{6} В 1750-х годах к Никите Панину была благосклонна Елизавета Петровна, пока ставший фаворитом Иван Шувалов не настоял на отправке его послом в Швецию. Вернувшийся только в 1760 году, не отравленный ядом придворных интриг, он был выгодным приобретением для любой партии. Итак, и Екатерина, и Панин желали свержения Петра, но с одним существенным различием: Екатерина хотела править сама, тогда как Панин, Дашкова и многие другие надеялись возвести на трон малолетнего Павла. «Молодой заговорщице, — писала Дашкова, — было очень нелегко завоевать содействие такого осторожного политика, как Monsieur Panin», однако взаимопонимание в конце концов было достигнуто.
12 июня Петр выехал из Петербурга в Ораниенбаум. Екатерину, которая ждала в Монплезире, летней петергофской резиденции, отделяло от Ораниенбаума всего восемь верст.
27 июня случилось непредвиденное: был арестован капитан Пассек, один из гвардейцев-заговорщиков. Хотя дворян редко подвергали дознанию с пристрастием, раскрытие заговора казалось неминуемым.
Орловы, Дашкова и Панин впервые встретились вместе, чтобы выработать срочный план действий. Потемкин вместе с другими гвардейцами ждал их указаний. Бравые Орловы, по словам Дашковой, пришли в смятение, но, «чтобы показать им, что не побоюсь разделить с ними опасность, я попросила от моего имени передать солдатам: мною только что получены вести от императрицы [...] и им следует успокоиться». Ошибка могла стоить этим людям жизни, и едва ли самоуверенность юной княгини их успокаивала.
Самой же Дашковой грубоватые Орловы не внушали доверия. Она велела Алексею Орлову, главному организатору переворота, прозванному за шрам на лице «lе Balafre» — «помеченный шрамом», — немедленно скакать в Монплезир. Но Григорий Орлов колебался, ехать ли прямо ночью за императрицей или ждать следующего дня. Дашкова утверждает, что решение приняла она: «Я потеряла самообладание от гнева и тревоги... Я требовала объяснить, почему они медлят с исполнением моего приказания Алексею Орлову... «Теперь речь идет не о том, можно ли обеспокоить императрицу, — сказала я. — Лучше привезти ее сюда без чувств, чем рисковать, что, оставшись в Петергофе, она всю жизнь будет несчастной или вместе с нами взойдет на эшафот. Скажите вашему брату, чтобы он не медля скакал в Петергоф и привез императрицу».[48]
Наконец любовник Екатерины согласился. Петербургские участники заговора получили приказ поднимать гвардейские полки. В середине ночи Алексей Орлов выехал из Петербурга в сопровождении нескольких гвардейцев. Одни стояли на запятках кареты Орлова, другие ехали в отдельном экипаже. Среди них был и вахмистр Потемкин.
В 6 часов утра они прибыли к Монплезиру. Потемкин с другими ждал у экипажа, готового помчаться в обратный путь, а Алексей Орлов отправился будить возлюбленную своего брата. Екатерина быстро оделась. Переворот мог свершиться только сегодня — или никогда.
Алексей Орлов помог Екатерине подняться в карету, набросил ей на плечи свой плащ и велел гнать в Петербург что было духу. Потемкин и еще один офицер, Василий Бибиков, вскочили на запятки, чтобы охранять драгоценную путешественницу.
Историки спорят о том, что делал в решающие часы Потемкин; рассказ, приведенный здесь, был записан англичанином Реджинальдом Полом Кери, позднее знакомым с Потемкиным и, возможно, слышавшим эту версию от него.[49]
Екатерина мчалась в столицу, буквально не успев снять ночной чепец. По удачному совпадению, встреченная ею по пути карета везла ее французского парикмахера Мишеля, который пересел к ней и причесал ее, хотя к прибытию во дворец прическа осталась ненапудренной. На подъезде к Петербургу они встретили карету Григория Орлова. Екатерина, вместе с Алексеем и Парикмахером, пересела к нему. Экипажи понеслись к казармам Измайловского полка, где нашли «двенадцать солдат и барабанщика». Вполне достаточно для захвата империи...
Солдаты бросились целовать ей руки, ноги, начали приносить присягу. Полковник — и бывший поклонник Екатерины — граф Кирилл Разумовский также преклонил колени и поцеловал руку новой государыне.
Екатерина снова села в карету и, предшествуемая священником и солдатами, отправилась в Семеновский полк. «Они встретили нас криками Виват!» Объезд казарм превратился в триумфальное шествие. Однако не все гвардейские офицеры поддержали переворот: брат Дашковой и племянник канцлера, Семен Романович Воронцов, оказал сопротивление и был арестован. Когда Екатерина находилась между Аничковым дворцом и Казанским собором, во главе конных гвардейцев появился вахмистр Потемкин. Возможно, она уже знала его имя как одного из организаторов переворота, потому что позднее хвалила «офицера Хитрово и унтер-офицера 17-ти <лет> по имени Потемкин» за «сметливость, мужество и расторопность», проявленные в этот день, — хотя ее поддержали и другие офицеры — конные гвардейцы. Потемкину на самом деле было двадцать три года.[50]
Императорский кортеж, в сопровождении нескольких тысяч гвардейцев, направился к Зимнему дворцу, где Сенат и Синод готовы были присягнуть Екатерине и вручить ей отпечатанный манифест. Панин привез во дворец своего воспитанника — его подняли с постели, и он был еще в ночной рубашке и колпаке. Новость летела по городу, ко дворцу стекался народ и приветствовал появившуюся у окна Екатерину. Двери Зимнего распахнулись, и залы заполнили солдаты, священники, послы и простой народ, чтобы присягнуть новой царице или просто поглазеть на революцию.
Вскоре за Паниным и великим князем приехала Дашкова: «Я приказала горничной приготовить мне парадное платье [...] и поспешила в Зимний дворец». Появление разодетой княгини вызвало конфуз: сначала ее не хотели впускать, а затем она не могла протиснуться сквозь толпу. В конце концов солдаты подняли ее «и понесли над толпой. Мне говорили самые лестные и трогательные слова, желали счастья и благословляли... Мое помятое платье и растрепанная прическа представлялись моему воображению как дань победе [...] в таком виде я предстала перед императрицей».[51]
Императрица и княгиня обнялись, но радоваться победе было рано: армия Петра, достигшая Ливонии, могла вернуться и разгромить гвардейцев. Под его контролем оставалась и крепость Кронштадт, охранявшая морские рубежи столицы. По совету Панина, Орловых и других офицеров, включая графа Кирилла Разумовского, Екатерина послала в Кронштадт адмирала Талызина.
Теперь осталось захватить самого императора. Екатерина приказала гвардейцам приготовиться к походу на Петергоф. Возможно, вспомнив, как шел мужской наряд Елизавете, Екатерина потребовала себе гвардейский мундир. Солдаты с радостью сбрасывали ненавистную прусскую форму и надевали старую. Екатерине отдал свой мундир капитан Талызин (кузен адмирала), а княгине Дашковой — поручик Пушкин: оба эти офицера-гвардейца были приблизительно нашего роста», — вспоминала Дашкова.[52]
Пока Екатерина принимала своих сторонников в Зимнем дворце, Петр III прибыл, как было намечено, в Петергоф, чтобы отпраздновать вместе с супругой день св. Петра и Павла. Но Монплезир пустовал. На постели Екатерины, словно призрак, лежало ее праздничное платье. Увидев его, Петр разрыдался.
Единственным из его придворных, кто не потерял голову, был престарелый фельдмаршал граф Бурхардт фон Миних, участник переворота 1740-1741 годов, недавно возвращенный из ссылки. Он предложил немедленный марш-бросок на Петербург — но перед ним был не Петр Великий. Император послал эмиссаров, чтобы вступить в переговоры либо арестовать Екатерину, но все они перешли на ее сторону: канцлер Михаил Воронцов, стоявший на подножке кареты мятежной Елизаветы двадцать лет назад, вызвался отправиться в столицу, но, лишь только туда явился, бросился на колени перед новой государыней. Обескураженный Петр со своим двором вернулся в Ораниенбаум. Наконец, около 10 часов вечера, Миних уговорил его попытаться захватить Кронштадт. Петр был пьян, и взойти на борт галеры ему помогали Миних и Елизавета Воронцова. Через три часа они подошли к Кронштадту.
Миних крикнул часовому, что прибыл император, но в ответ послышалось: «Императора больше нет». Адмирал Талызин успел вовремя: Кронштадт уже признавал только Екатерину. По возвращении в Ораниенбаум несчастный император, который всегда предчувствовал свою судьбу, желал только одного: отречься от Престола и вернуться в родную Голштинию.
А в Петербурге Екатерина выстраивала гвардейские полки у Зимнего дворца. Именно в эти незабываемые часы Потемкин впервые встретился со своей императрицей.
3. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Приезжает конная гвардия; она была в бешеном восторге...
так что я никогда не видела ничего подобного, плакала,
кричала об освобождении отечества.
Екатерина II Станиславу Понятовскому, 2 августа 1762 г.
Из всех европейских монархов российская императрица,
я думаю, богаче всех брильянтами.
Она испытывает к ним какую-то особую страсть;
возможно, это ее единственная слабость.
Сэр Джордж Макартни о Екатерине II
Вечером 28 июня 1762 года только что провозглашенная Екатерина II показалась на пороге Зимнего дворца в зеленом мундире капитана Преображенского полка, в сопровождении свиты и с обнаженной саблей в руках. В легком сумраке петербургской белой ночи она спустилась по ступенькам к своему серому скакуну по кличке Брильянт и вскочила в седло как опытная наездница.
Собравшиеся на площади двенадцать тысяч гвардейцев были готовы совершить бросок на Петергоф и арестовать Петра III. Они пожирали глазами 33-летнюю царицу, словно рожденную для гвардейского мундира.
Вымуштрованные солдаты замерли, но стройности парада не получалось: площадь больше напоминала сутолоку лагеря.
Екатерина взяла поводья Брильянта, ей протянули шпагу, но тут оказалось, что на шпаге нет темляка. Должно быть, она огляделась вокруг, и один из остроглазых гвардейцев мгновенно понял ее затруднение. Он подскакал к ней, снял темляк со своей шпаги и подал с поклоном. Она поблагодарила его и, конечно, сразу обратила внимание на могучую фигуру, пышную шевелюру и выразительные черты лица Алкивиада. Григорий Потемкин не мог выбрать лучшего момента представиться императрице. Впрочем, ловить случай он умел как никто.
Княгиня Дашкова, не менее прекрасная в гвардейском мундире, следовала за императрицей на своей лошади. В этой «женской революции» было что-то от маскарада...
Чтобы поспеть в Ораниенбаум к рассвету, надо было немедленно выступать. Но Алкивиад все еще стоял возле императрицы.
Екатерина повесила темляк Потемкина на свою шпагу и пустила Брильянта вперед. Потемкин также пришпорил коня, чтобы вернуться в строй, но тот последовал за Брильянтом. Екатерина улыбнулась, «потом заговорила с ним, и он ей понравился своею наружностью, осанкою, ловкостью, ответами». Так, рассказывал сам Потемкин много лет спустя, «упрямство непослушной лошади повело его на путь почестей, богатства и могущества».[53]
Мемуаристы спорят о том, отдал ли Потемкин Екатерине свой темляк или же султан. Но для суеверного Потемкина важнее всего то, что его конь не захотел покидать коня государыни, словно указывая, что их седокам суждено находиться рядом, — и часто вспоминал об этом «счастливом случае». Однако броситься предлагать царице свои услуги его заставил не случай. Зная артистизм Потемкина и великолепные качества наездника, вполне можно предположить, что виноват был вовсе не конь.
Наконец длинная колонна мужчин двинулась вперед за двумя женщинами. Играла походная музыка; солдаты пели и выкрикивали: «Долгие лета матушке Екатерине!»
В 3 часа ночи колонна остановилась у Красного Кабачка отдохнуть. Екатерина легла на узкий соломенный матрас рядом с Дашковой, но заснуть не могла. Орловы со своим авангардом продолжали путь. Через два часа остальные двинулись за ними и встретили вице-канцлера князя Александра Михайловича Голицына с новым предложением от Петра. Но Екатерина не желала слышать ни о чем кроме безоговорочного отречения. Вице-канцлер присягнул ей.
Скоро пришла весть, что Алексей Орлов без боя занял обе летние резиденции. В 10 часов утра новую самодержицу приветствовал Петергоф, откуда сутки назад она умчалась в ночном чепце. Григорий Орлов, в числе сопровождающих которого был и Потемкин, уже отправился в Ораниенбаум, чтобы заставить Петра подписать акт об отречении. Получив бумагу, Орлов привез ее императрице, а Потемкин остался охранять низложенного монарха. Фридрих Великий, которому Петр III, можно сказать, принес в жертву свое царствование, говорил, что «он позволил свергнуть себя с престола, как ребенок, которого отсылают спать».[54]
Бывшего императора привезли в карете вместе с его любовницей и двумя приближенными, под охраной стражи, в которую входил и Потемкин. Петергофские войска приветствовали конвой криками: «Да здравствует императрица Екатерина Вторая!» Петр снял свою шпагу, ленту Андреевского ордена и мундир Преображенского полка. Его отвели в хорошо знакомую ему комнату, и к нему вошел Панин. Бывший царь упал на колени и умолял не разлучать его с Воронцовой. Ему было отказано.
Прежде чем отправить пленника в Шлиссельбург, его отвезли в его имение Ропшу (в девятнадцати милях от берега Финского залива). Неизвестно, находился ли Потемкин в составе команды, охранявшей низложенного императора, с первого дня, но спустя несколько дней мы обнаруживаем его в Ропше. Екатерина разрешила мужу взять скрипку, негра и собаку. Больше она никогда его не видела.[55]
Через несколько дней княгиня Дашкова, направляясь к императрице, с удивлением обнаружила в одной из комнат Григория Орлова, «растянувшегося на канапе (он ушиб ногу) и вскрывающего большие пакеты, присланные из Совета». Дашкова спросила его, что это означает. «Императрица приказала мне их вскрыть».[56] Новый режим вступал в силу.
Екатерина возвратилась в ликующую столицу 30 июня. Она победила — и теперь должна была заплатить за свою победу. Цена составляла более миллиона рублей при годовом бюджете страны в 16 миллионов. Поддержавшие Екатерину получили щедрые подарки: петербургский гарнизон — половину годового жалованья, всего 225 890 рублей. Григорию Орлову было обещано 50 тысяч рублей; Панин и Разумовский получили пенсии по 5 тысяч рублей. 9 августа Григорий и Алексей Орловы, Екатерина Дашкова и еще семнадцать главных заговорщиков получили по 800 душ крестьян либо по 24 тысячи рублей.
Григорий Потемкин был в числе одиннадцати гвардейских офицеров, получивших по 600 душ либо по 18 тысяч рублей: несомненно, она не забыла темляк. Его имя появляется и в других документах, носящих пометки Екатерины. На списке из шести вахмистров конного гвардейского полка, представленных к пожалованию корнетами, против имени Потемкина она означила «быть подпоручиком» — и обещала ему еще 10 тысяч рублей.[57]
Сразу после переворота Екатерина оказалась между двух огней: Никита Панин настаивал на том, чтобы она получила только регентские полномочия — до совершеннолетия ее сына Павла, воспитанием которого Панин руководил; естественно, против такого хода событий были братья Орловы — защищая самодержавие Екатерины, они хотели ее брака с Григорием Орловым. Их желанию мешало одно препятствие: Екатерина была замужем. Препятствие устранимое.
Петр III оставался в Ропше под охраной команды из 300 солдат, возглавлявшейся Алексеем Орловым. Орлов отправлял Екатерине неофициальные, сердечные — но жуткие письма. В них упомянуто имя Потемкина (еще одно свидетельство, что она знала, кто это такой). Петра Орлов называл в своих отчетах «уродом». Повторяющиеся мрачные шутки Орлова словно просили санкции Екатерины на страшное дело.
Едва ли она удивилась, узнав 5 июля, что Петр убит. Подробности остались неизвестны. Мы знаем только то, что низложенный император был задушен.[58]
Смерть Петра пришлась на руку всем. В стране, где трону вечно угрожали самозванцы, бывшие императоры являли собой живой укор и постоянную угрозу своим преемникам. Казалось, они восстают даже из могил. Само существование Петра III ослабляло положение Екатерины на троне. Мешало оно и планам Орловых. Участвовал ли в убийстве Потемкин? В течение его последующей карьеры его упрекали во всех смертных грехах — но никогда в этом. Следовательно, скорее всего, можно считать его непричастным к преступлению. Но в роковой день он находился в Ропше.
Екатерина горько плакала — не по Петру, а по своей репутации: «Моя слава омрачена. Потомство никогда мне этого не простит». Дашкова была потрясена, но также думала в первую очередь о себе: эта смерть «случилась слишком рано и для вашей, и для моей славы», — сказала она Екатерине.[59] Но Екатерина быстро оценила выгоды произошедшего. Никто не был наказан. Алексей Орлов на протяжении тридцати с лишним лет ее царствования играл в государстве самые видные роли. Однако в Европе Екатерина снискала репутацию цареубийцы и мужеубийцы.
Два дня тело императора в синем голштинском мундире, без орденов, в простом гробу стояло в Александро-Невской лавре. Посиневшую шею прикрыли галстуком, а шляпу надвинули как можно ниже, чтобы не так бросалась в глаза чернота лица: признак смерти от удушья.
Когда к государыне вернулось самообладание, она выпустила вызвавшее много шуток объявление о смерти Петра III «от геморроидальной колики». В Европе этот диагноз стал эвфемизмом для обозначения политического убийства: через несколько лет Екатерина пригласит в Петербург д’Аламбера, но тот напишет Вольтеру, что не отваживается принять приглашение — он подвержен геморрою, а в России эта болезнь, судя по всему, смертельна.[60]
Русские цари традиционно короновались в Москве, древней столице. Петр III, презиравший свою приемную родину, вообще не позаботился об этой церемонии. Екатерина не собиралась повторять эту ошибку. Узурпатор должен совершить все обряды, узаконивающие его положение. Государыня приказала в кратчайший срок приготовить все для пышной церемонии.
4 августа, в тот день, когда Потемкина произвели в подпоручики по личному распоряжению императрицы, он вместе с тремя эскадронами конных гвардейцев отправился в Москву для участия в коронации. Его мать и родственники по-прежнему жили в первопрестольной; блудный сын, оставивший дом молодым повесой, возвращался, чтобы охранять новую царицу. 27 августа восьмилетний великий князь Павел, единственная законная опора нового режима, в сопровождении своего воспитателя Панина и 27 карет, запряженных 257 лошадьми, выехал из северной столицы под охраной Григория Орлова. Императрица отправилась пятью днями позже, со свитой из 23 придворных, в 63 экипажах, на 395 лошадях. В город золотых куполов Екатерина II цесаревич въехали в пятницу, 1 сентября. Она не любила Москвы — здесь она когда-то тяжело болела, да и Москва не любила ее. Теперь она снова укрепилась в своем чувстве: маленький Павел простудился и проболел все праздники.
В воскресенье, 22 сентября, в Успенском соборе, в сердце Кремля императрица была коронована «Екатериной Второй и Самодержицей Всероссийской» перед лицом выстроившихся полукругом 55 иерархов православной церкви. Как и Елизавета, она сама возложила корону себе на голову, чтобы подчеркнуть, что сама сделала себя законной владычицей, взяла скипетр в правую руку, державу в левую, и все присутствующие преклонили колени. Запел хор. Салютовали пушки. Архиепископ Новгородский совершил миропомазание и причастил императрицу.
Екатерина возвращалась во дворец в золотой карете, под охраной спешившихся конных гвардейцев, среди которых был и Потемкин. В толпу бросали деньги, народ падал ниц. Перед объявлением коронационных торжеств Григорий Орлов был назначен генерал-адъютантом, и все братья Орловы, так же как Никита Панин, жало-ваны графами Священной Римской империи.
Подпоручик Потемкин, стоявший на часах во дворце, снова появляется в списках награжденных: он получает набор столового серебра и еще 400 душ в Московской губернии. 30 ноября он определен камер-юнкером, с дозволением оставаться в гвардии, тогда как остальные камер-юнкеры оставляли свои полки для службы при дворе.[61]
Последовала утомительная неделя балов и торжественных приемов, а тем временем болезнь великого князя усугублялась. Если бы он умер, худшего предзнаменования для нового царствования не могло бьггь, ибо Екатерина свергла мужа в значительной мере под предлогом защиты Павла, чьи права на престол были полностью законны. Император не перенес геморроя; смерть его сына покрыла бы Екатерину еще большим позором. Первые две недели октября цесаревич провел в бреду, но потом стал поправляться.
Атмосфера, однако, оставалась напряженной. Царствование Екатерины едва началось, а уже зрели новые заговоры. Гвардейцы по-прежнему чувствовали свою силу. Орловы требовали брака Екатерины с Григорием, а Панин желал правления от имени Павла.
Итак, всего через год с небольшим после приезда из Москвы и поступления в гвардию Потемкин из выгнанного студента университета превратился в придворного, удвоил свое состояние и продвинулся на два чина. Теперь, вернувшись в Петербург, Орловы рассказали императрице о самом забавном малом во всей гвардии, подпоручике Потемкине, который так смешно передразнивал чей угодно голос и мимику, что его товарищи умирали от хохота. Екатерина ответила, что желает познакомиться с искусством молодого лицедея. Орловы позвали Потемкина развлечь императрицу. Должно быть, он решил, что его час настал. «Баловень судьбы», как он называл сам себя, вечно переходивший от отчаяния к самому безудержному веселью, не сомневался, что его ждет необычная судьба.
Григорий Орлов говорил, что Потемкин особенно удачно передразнивает одного из придворных, бесподобно копируя его голос и манеры. Вскоре после коронации гвардейцы впервые официально представлялись императрице — и она потребовала, чтобы Потемкин изобразил ей эту сценку. Тот отвечал, что ничего подобного он делать не умеет.
Услышав его, все присутствующие застыли на месте. Голос, легкий немецкий акцент и неповторимая интонация... Екатерины! Старые придворные решили, что карьера молодого человека кончилась, не успев начаться. Орловы, вероятно, с любопытством ждали увидеть, какой эффект произведет дерзкая выходка их подопечного. Все устремили взоры на императрицу, а она громко рассмеялась и признала игру Потемкина восхитительной.
На этот раз Екатерина как следует рассмотрела подпоручика и камер-юнкера Потемкина и восхитилась красотой Алкивиада. Будучи истинной женщиной, она не упустила из виду и его вьющихся шелковистых кудрей — «лучшей шевелюры в России». Обернувшись к Орловым, она пожаловалась, что волосы у него красивее, чем ее собственные: «Я никогда не прощу вам, что вы представили мне этого человека». В самом деле, Орловым предстояло пожалеть о том, что познакомили Потемкина с императрицей. Об этих эпизодах рассказали люди, которые близко знали Потемкина в то время — его троюродный брат и его сослуживец по гвардии. Даже если в их рассказах есть доля вымысла, они звучат совершенно правдоподобно.[62]
За одиннадцать с половиной лет, прошедших с переворота до начала их романа, Екатерина наблюдала за Потемкиным. В 1762 году ничто не говорило о его предстоящем восхождении к власти, но чем чаще она его видела, тем неотразимее находила его оригинальность. Они словно двигались по двум орбитам, медленно, но неизбежно сходящимся. В двадцать три года он поразил императрицу смелостью и артистизмом. Через некоторое время она узнает, что он обладает еще и глубокими знаниями греческого языка, богословия и народных обычаев. Однако сведений о Потемкине за эти годы сохранилось немного, и почти все они легендарны. Прослеживая день за днем жизнь екатерининского двора, мы встречаем его, время от времени выступающего из толпы, чтобы обменяться острой шуткой с императрицей, — и исчезающего снова. Он делал все, чтобы его появления запечатлевались в ее памяти.
Подпоручик Потемкин воспылал страстью к своей государыне — и не заботился о том, чтобы это скрывать. В неустойчивом придворном мире он не боялся ни Орловых, ни кого-либо другого. В своей игре он делал самые высокие ставки. Царствование Екатерины II кажется нам не только долгим и славным, но и прочным — однако тогдашним иностранным послам положение женщины-узурпатора и цареубийцы представлялось очень и очень шатким. Потемкину, который провел в столице немногим более года, предстояло много узнать об императрице и вельможах.
«Я должна соблюдать тысячу приличий и тысячу предосторожностей, — писала Екатерина своему бывшему возлюбленному Понятовскому, который напугал ее намерением посетить Россию. — Последний гвардейский солдат, глядя на меня, говорит себе: вот дело рук моих». Понятовский все еще любил Екатерину — он будет любить ее всегда — и стремился вернуться к ней. Ответ Екатерины дает самое ясное представление о петербургской атмосфере — и о том раздражении, которое вызывало у нее наивное чувство Понятовского: «Раз нужно говорить вполне откровенно и раз вы решили не понимать того, что я повторяю вам уже шесть месяцев, это то, что, если вы явитесь сюда, вы рискуете, что убьют обоих нас».[63]
Окружая себя великолепным двором, который, как она полагала, ей необходим, Екатерина одновременно вела закулисную борьбу с интриганами. Одно за другим поступали сообщения о новых заговорах, в том числе и в рядах гвардии. Тайную экспедицию, подчинявшуюся генерал-прокурору Сената, все годы ее царствования возглавлял зловещий Степан Шешковский. Императрица постаралась ограничить применение пыток в дознании, особенно в тех случаях, когда преступники сами сознавались в своей вине, но неизвестно, насколько это ей удалось: чем дальше от Петербурга, тем свободнее чувствовали себя блюстители закона. Впрочем, преступников не столько пытали, сколько били и пороли. Штат Тайной экспедиции был крошечным — всего 40 человек (как тут не вспомнить о сети НКВД и КГБ в советское время!), — но все разговоры придворных и иностранцев слушали чуткие уши слуг и солдат, а о выражении недовольства мог донести любой чиновник. Иногда Екатерина приказывала установить слежку за своими политическими оппонентами, а Шешковского была готова принять в любой момент. Тоталитарное государство в XVIII веке было невозможно, но Тайная экспедиция всегда готова была следить, арестовывать и допрашивать — и в первые годы нового царствования работала очень энергично.
Две персоны имели большее, чем Екатерина, право на престол: узник Шлиссельбурга Иван VI и ее собственный сын Павел. Первые заговорщики, якобы умышлявшие в пользу Ивана, были обнаружены в октябре 1762 года, когда императрица отправилась на коронацию в Москву. Двое гвардейцев Измайловского полка, Гурьев и Хрущев, подверглись пыткам и побоям с разрешения Екатерины, но «заговор» оказался простым хвастовством.
Екатерина была хладнокровным игроком: она уравновешивала враждебные партии при дворе и одновременно укрепляла свою безопасность, беззастенчиво подкупая гвардию богатыми подарками. Екатерина сразу дала понять, что, подобно Петру I и герою тогдашней Европы Фридриху II, она сама будет управлять империей. Она стала править Россией с помощью штата секретарей, ставшего фактическим правительством империи. Через два года она заметит 34-летнего Александра Алексеевича Вяземского. Неутомимый, хотя и не любимый подчиненными администратор, он почти тридцать лет будет заправлять внутренними делами империи на посту генерал-прокурора Сената — должность, совмещавшая обязанности современных министров внутренних дел, финансов и юстиции.
Никита Иванович Панин стал ключевой фигурой правительства Екатерины. Этот поборник ограничения самодержавия дворянской думой предложил императрице самой назначить Совет, распустить который она, однако, будет не вправе. Осуществление панинского проекта, с одной стороны, ограничивало бы власть Екатерины, а с другой, сдерживало бы гвардию. Екатерина поручила Панину возглавить внешнюю политику в качестве первоприсутствующего Коллегии иностранных дел, но никогда не забывала, что в 1762 году он хотел возвести на трон не ее, а Павла. «Опасного змея» надежнее было держать в доме, а не за его пределами. Они нуждались друг в друге: она считала Панина «самым ловким, умным и усердным придворным», но никогда его особенно не любила. Как воспитатель Павла, на которого продолжали смотреть как на законного наследника, Панин, естественно, являлся сторонником передачи ему трона по достижении им совершеннолетия. Правление фаворитов он откровенно порицал и враждовал с Орловыми.[64]
Кроме двух этих главных партий имелся еще целый лабиринт семейных кланов и группировок. Захара Чернышева, своего поклонника 1750-х годов, Екатерина назначила управлять Военной коллегией, а его брата Ивана — флотом; поначалу Чернышевы занимали нейтральное положение, лавируя между Орловыми и Паниным. Но, как мы видели на примере княгини Дашковой и Воронцовых, члены влиятельных фамилий часто склоняются к оппозиционным партиям. Дашкова скоро превысила те полномочия, которыми, как ей казалось, она располагала. «Хваставшаяся тем, что возвела [Екатерину] на престол»,[65] Дашкова, как и елизаветинские вельможи Михаил Воронцов и Иван Шувалов, скоро отправится «путешествовать за границу» — эвфемизм для названия мягкой ссылки на европейские курорты.
Двор Екатерины быстро превратился в калейдоскоп сменяющих одна другую партий, в которые аристократов объединяли дружба, родственные связи, жажда богатства — или более или менее сходные взгляды. Двумя основными полюсами противоборства партий были поддержка союза с Австрией либо с Пруссией и близость к императрице либо к наследнику. Действовало простое и старое правило: «враг моего врага — мой друг».
Первым успехом иностранной политики нового правления стало возложение польской короны на голову недавнего возлюбленного Екатерины. Вскоре после переворота, 2 августа 1762 года, она писала Станиславу Понятовскому: «Я немедленно посылаю графа Кайзерлинга в Польшу, чтобы сделать вас королем после смерти нынешнего короля».
Этот шаг многие считали капризом императрицы, пожелавшей отблагодарить Понятовского за его любовь. Однако все обстояло сложнее. Польша представляла собой уникальное европейское государство. Фактически она состояла из двух государств — Царства Польского и Великого княжества Литовского, имела два правительства, но один парламент — Сейм; выборные короли почти не обладали реальной властью; назначая государственных сановников, они не могли отправлять их в отставку, тогда как шляхта (дворянство) была почти всесильной. Сеймы избирались всей шляхтой, а так как она составляла почти десять процентов населения, государственное устройство Польши оказывалось едва ли не демократичнее английского. Один-единственный голос мог аннулировать решение Сейма — действовало знаменитое liberum veto: беднейший польский дворянин оказывался сильнее царя. Чтобы разрешить возникающий в такой ситуации конфликт, дворяне могли объединяться в конфедерацию, временный альтернативный сейм, который распускался после решения поставленной перед ним задачи. Но на самом деле страной правили магнаты, владевшие территориями, по размеру равными иным европейским странам, и командовавшие собственными армиями. Поляки необыкновенно гордились своей странной конституцией, а хаос, царивший в огромной по европейским масштабам стране, считали драгоценной свободой.
Выборы польских королей можно назвать одной из излюбленных игр дипломатов XVIII столетия. Участниками этого дипломатического турнира были Россия, Пруссия, Австрия и Франция. Традиционно Польша, Оттоманская Порта и Швеция являлись союзниками Версаля, но с 1716 года, когда Петр Великий даровал Польше ее ущербную конституцию, Россия стала сажать на варшавский трон слабых королей, поддерживать власть магнатов — и держать у польских границ свою армию, готовую к действию. Поэтому Екатерина стремилась поддержать установленный Петром протекторат. Понятовский идеально подходил для этой задачи: с помощью его дядей Чарторыйских, опиравшихся на русские штыки и английское золото, Екатерина смогла бы держать Польшу под контролем.
Понятовский возмечтал о том, чтобы, став королем, жениться на Екатерине, и, как пишет его биограф, исполнить две свои заветные мечты. «Если я желал трона, — писал он Екатерине, — то только потому, что видел на нем вас». Когда ему дали понять, что это невозможно, он умолял: «Не делайте меня королем, но разрешите быть с вами».[66] Такой галантный, хотя и жалобный идеализм не предвещал ничего хорошего в будущих отношениях Понятовского с блюстительницей государственных интересов России. Другие участники игры были обессилены Семилетней войной, и все козыри оставались на руках у Екатерины и Панина. Для разгромленной Пруссии союз с Россией, заключенный 31 марта (11 апреля) 1764 года, был единственным выходом. 26 августа (6 сентября) Сейм, окруженный русскими войсками, проголосовал за Понятовского, который принял имя Станислава Августа.
Союз с Пруссией и протекторат над Польшей должны были стать столпами пропагандируемой Паниным «северной системы» — проекта, согласно которому северные державы, включающие Данию, Швецию и, возможно, Англию, стали бы противостоять «католическому блоку» — французским и испанским Бурбонам и австрийским Габсбургам.
Итак, Понятовский был сделан королем Польши, но о браке с русской императрицей не могло идти и речи.
Могла ли Екатерина сочетаться браком с Григорием Орловым? Прецеденты имелись. По слухам, Елизавета сочеталась морганатическим браком с бывшим украинским певчим Алексеем Разумовским, который теперь проживал на покое в Москве.
Один старый придворный явился в Покой Алексея Разумовского и застал его за чтением Библии. Посетитель этот был канцлер Михаил Воронцов, исполнявший свою последнюю политическую роль перед «заграничным путешествием». Он пришел, чтобы предложить Разумовскому княжеский титул: вежливый способ спросить, состоял ли тот в тайном браке с императрицей Елизаветой. Екатерина II Орловы желали знать: имеется ли брачная запись? Разумовский, вероятно, улыбнулся. Он закрыл Библию и достал шкатулку из черного дерева, инкрустированную золотом и перламутром. В шкатулке лежал старый пергаментный свиток, запечатанный императорским орлом...
Екатерина должна была действовать осторожно. Она прекрасно понимала, что означало бы возведение Орловых на вершину власти. Публично обвенчавшись с Орловым, она поставила бы под угрозу право на престол великого князя Павла Петровича, а возможно, и его жизнь, оскорбила бы и аристократию, и армию. Но она любила Орлова. Она была обязана Орловым троном. Она родила Григорию сына.{7} В XVIII веке личная и государственная жизнь монархов составляла единое целое. Екатерина всегда мечтала о семье. Родители ее умерли; тетка терроризировала ее и отобрала у нее сына; интересы Павла угрожали ее царствованию, если не жизни; Анна, ее дочь от Понятовского, рано умерла. Сделавшись императрицей, она мечтала о простом семейном счастье с Григорием Орловым, в котором видела спутника на всю жизнь. Поэтому она не противилась решительно этой идее.
Дипломатические способности братьев Орловых, однако, оставляли желать лучшего. На какой-то дружеской вечеринке Григорий похвастался, что, если захочет, может свергнуть императрицу с престола за месяц. Кирилл Разумовский парировал: «Может быть, мой друг, но зато и недели не прошло бы, как мы бы тебя вздернули». Перепалка шутливая — но жуткая. Когда Екатерина намекнула на возможность брака с Орловым Панину, тот якобы ответил: «Императрица может делать что ей угодно, но госпожа Орлова никогда не будет российской императрицей».[67]
Такое неустойчивое равновесие становилось опасным. В мае 1763 года, когда Екатерина отправилась в сопровождении Орлова из Москвы в Воскресенский монастырь, произошло событие, положившее конец притязаниям Орловых. Был арестован камер-юнкер Федор Хитрово, год назад поднявший за Екатерину вместе с Потемкиным конных гвардейцев. На допросе он сознался, что собирался убить Орловых, чтобы предотвратить планируемый брак и устроить замужество Екатерины с Иваном VI. Сама ли Екатерина с помощью Панина создала этого игрока, чтобы отказать Орловым? Если так, она добилась своей цели.
Вернемся к Алексею Разумовскому, который достал свиток из шкатулки. Воронцов протянул руку — но хозяин бросил свиток в огонь. «Передайте государыне, — сказал он, — что я всегда был только покорным рабом ее величества императрицы Елизаветы. Желаю быть также покорным слугой императрицы Екатерины. Просите ее оставаться ко мне благосклонной». История эта скорее всего легендарна, но пересказывающие ее считают, что Разумовский хотел таким жестом воспрепятствовать браку Екатерины. Впрочем, она очень любила обоих Разумовских — добродушных шармеров и ее старых друзей. Возможно, документа не существовало, а сжигание таинственного свитка было просто шуткой. Но если вопрос был задан — то скорее всего Алексей Разумовский дал тот ответ, какой хотела услышать Екатерина.[68]
В момент, когда Екатерина праздновала свой успех в Польше, она получила новый вызов от «безымянного узника номер один» — заключенного в крепости Ивана VI. 20 июня 1764 года императрица оставила столицу и отправилась в поездку по балтийским областям, 5 июля молодой офицер Василий Мирович, желая восстановить славу своего рода, предпринял попытку освободить Ивана VI из шлиссельбургского застенка, чтобы возвести его на престол. Он не знал, что Екатерина подтвердила отданное Петром III приказание: если кто-нибудь попытается освободить узника, тот должен быть убит.
4 июля Мирович, внезапно потерявший своего сообщника (тот утонул), составил манифест, объявлявший восшествие на трон императора Ивана VI. Зная атмосферу нестабильности, царившую после убийства Петра III, и суеверное преклонение русского народа перед царями, мы не можем удивляться тому, что Мировичу удалось собрать вокруг себя группу сообщников. В 2 часа ночи они захватили ворота крепости и двинулись к камере Ивана. Между мятежниками и охранниками началась перестрелка — и внезапно смолкла. Бросившись в камеру, Мирович нашел тело бывшего императора, истекающее кровью. Он все понял, поцеловал покойника и сдался.
Екатерина продолжила свою поездку еще один день, но затем вернулась, опасаясь обширного заговора. Допросы, однако, показали, что Мирович действовал в одиночку. Состоявшийся в сентябре суд приговорил его к смертной казни отсечением головы. Шестерых солдат присудили к десяти- или двенадцатикратному прогону сквозь строй из тысячи солдат; выживших ждала ссылка. Казнь Мировича состоялась 15 сентября 1764 года.
Умерщвление двух императоров шокировало Европу. Французским философам, уже вступившим в лестную для них переписку с императрицей, которая, как им казалось, разделяла их взгляды, пришлось изыскивать оправдания для августейшей корреспондентки. «Я согласен с вами, что наша философия не хотела бы похвастаться множеством таких учеников. Но что делать? Друзей надо любить такими, какие они есть, со всеми их недостатками», — писал д’Аламбер Вольтеру. «Это дела семейные, — отвечал фернейский мудрец, — и меня они не касаются».[69]
Екатерина знала, что быть только правительницей недостаточно. Ее двор как зеркало отражал ее успехи, а она стремилась стать его лучшим украшением.
«Я никогда не встречал особы, чья внешность, манеры и поведение в такой же мере соответствовали бы тому, что я ожидал увидеть, — писал английский посланник сэр Джордж Макартни. Несмотря на возраст — 37 лет — ее все еще можно назвать красивой. Те, кто знали ее молодой, утверждают, что она никогда не была так хороша, как теперь, и я охотно в это верю». Принц де Линь в 1780 году вспоминал: «Она была скорее красивой, чем хорошенькой. Величавость ее чела смягчалась приветливым взглядом и любезной улыбкой».[70] Проницательный шотландский профессор Уильям Ричардсон, автор «Анекдотов о Российской империи», писал: «Российская императрица выше среднего роста, грациозна и хорошо сложена, хотя не стремится это подчеркнуть; имеет хороший цвет лица, но пользуется румянами, как все женщины в этой стране. У нее красивый рот и хорошие зубы; ее голубые глаза смотрят на вас пронзительным взором. В целом назвать ее внешность мужественной было бы оскорбительно, но сказать, что она исключительно женственна, значило бы проявить к ней несправедливость».[71] Знаменитый Джакомо Казанова, который кое-что понимал в женщинах, уловил механизм ее чар: «Государыня, роста невысокого, но прекрасно сложенная, с царственной осанкой, обладала искусством пробуждать любовь всех, кто искал знакомства с нею. Красавицей она не была, но умела понравиться обходительностью, ласкою и умом, избегая казаться высокомерной. Коли она и впрямь была скромна, то, значит, она истинная героиня, ибо ей было от чего возгордиться».[72]
Макартни находил ее беседу «блестящей, может быть, несколько чрезмерно, ибо ей нравилось блистать в разговоре».[73] Казанова подметил ее стремление демонстрировать осведомленность: встретившись с ней на прогулке в Летнем саду, он заговорил о греческом календаре; она говорила мало, но, когда они встретились снова, продемонстрировала прекрасное знание предмета: «Я почувствовал, что она наверняка постаралась исследовать сей предмет, дабы блеснуть передо мной».[74]
Екатерина обладала глубоким тактом. Когда она обсуждала проект реформ с новгородскими дворянами, губернатор объяснил ей, что «эти господа не богаты». Она туг же парировала: «Прошу прощения, господин губернатор. Они богаты своим усердием».[75] Очаровательный ответ заставил депутацию прослезиться.
Работая, Екатерина одевалась в русское платье с длинными рукавами, но когда она отдыхала или появлялась на публике, «ее наряд, всегда богатый, никогда не бывал кричащим [...] ей необыкновенно шел вышитый мундир, и она обожала появляться в нем». Войдя в комнату, она всегда делала «три поклона, на русский манер» — направо, налево и вперед. Понимая, как много значат обычаи, она тщательно соблюдала православные обряды.[76]
Эта удивительная женщина прилагала все усилия, чтобы быть великой императрицей, и ко времени относилась по-немецки.
«Тратьте как можно меньше времени — говорила она. — Время не мне принадлежит, но империи».[77] Одной из самых сильных ее сторон было умение выбирать талантливых людей и находить им верное применение: «Екатерина имела редкую способность выбирать людей, — писал граф Рибопьер, хорошо знавший императрицу и ее сановников, — и история оправдала почти все ее выборы». А определив себе помощников, она искусно руководила ими. Она старалась не унижать тех, кто работал вместе с ней: «Моя политика — громко хвалить, но тихо ругать».[78] В самом деле, многие из ее мыслей украсили бы сегодняшний учебник по менеджменту.
Считалось, что в империи подданные слепо повинуются самодержцу. Но Екатерина знала, что на практике дело обстоит совершенно иначе (чего не понял ее муж и не поймет ее сын), и как-то раз сказала секретарю Потемкина Попову, что отдает только те приказания, в исполнении которых не сомневается.
Екатерина была любезна и щедра со своими придворными, добра со слугами, однако она получала изрядное удовольствие от обращения к тайным рычагам власти: читала полицейские доносы, а затем, как истинный диктатор, повергала свои жертвы в ужас, давая им понять, что за ними ведется слежка. Много лет спустя молодой француз граф де Дама, находясь один в своей комнате и наблюдая из окна парад войск, отправлявшихся сражаться со шведами, пробормотал: «Если бы шведский король увидел этих солдат, он сразу заключил бы мир». Через два дня, когда он представлялся императрице, она наклонилась и прошептала ему на ухо: «Вы в самом деле полагаете, что, сделав смотр моим гвардейцам, шведский король пошел бы на мировую?»[79] И рассмеялась.
Но не всех обманывало ее обаяние. Была доля правды в словах служившего при дворе желчного князя Щербатова, что она «за правило себе имеет ласкать безмерно и уважать человека, пока в нем нужда состоит, а потом, по пословице своей, выжатой лимон кидать».[80] Это было не совсем так, но власть действительно всегда стояла для нее на первом месте. Потемкин стал исключением, подтверждающим правило.
Как камер-юнкер, Потемкин проводил теперь много времени в императорских дворцах. Ему приходилось стоять за креслом государыни и прислуживать ей и ее гостям во время трапез: он часто видел императрицу, узнавал ее повседневную жизнь. Она стала выказывать к нему интерес — а его ответное рвение намного превосходило то, что требовалось от такого молодого придворного.
Часть вторая: ПРИБЛИЖЕНИЕ (1762-1774)
4 ЦИКЛОП
Природа сотворила Орлова русским мужиком,
и им он останется до смерти.
Дюран де Дистрофф
Когда императрица и подпоручик конной гвардии встречались в одном из бесчисленных коридоров Зимнего дворца, Потемкин падал на колени, целовал ей руку и признавался в страстной любви. В том, что им приходилось встречаться, не было ничего удивительного: любой придворный мог столкнуться с государыней во дворце. Вообще доступ во дворец был открыт для всякого прилично одетого человека, не носящего ливреи. Однако поведение Потемкина следует признать безрассудным, если не дерзким. От неловкости ситуации его спасали только собственное очарование и — кокетливая любезность императрицы.
Вероятно, многие молодые офицеры при дворе считали себя влюбленными в Екатерину, а многие притворялись, что питают к ней чувства из карьерных соображений. Десятки поклонников, включая Захара Чернышева и Кирилла Разумовского, влюблялись в императрицу и выслушивали ее мягкую отповедь. Но Потемкин не желал мириться ни с условностями двора, ни с господством Орловых. Он шел дальше всех. Многие придворные тайно роптали против братьев-цареубийц. Потемкин открыто щеголял своей дерзостью. Он презирал придворную иерархию задолго до того, как сам вознесся на ее вершину. Он подшучивал над шефом тайной полиции. Вельможи настораживались при появлении Шешковского, а Потемкин, весело смеясь, спрашивал: «Что, Степан Иванович, каково кнутобойничаешь?»[81]
Вести себя таким же образом по отношению к Орловым он мог только с молчаливого согласия Екатерины. Ей ничего не стоило его остановить — но она этого не делала. Это было почти жестоко с ее стороны, потому что тогда, в 1763-1764 годах, перспектива сделаться ее любовником была для Потемкина совершенно неочевидна. Он был слишком молод; Екатерина не могла принимать его всерьез. Она любила Григория Орлова, и для нее, как потом она сама будет говорить Потемкину, много значили привычка и преданность. О красивом и бравом, хотя и не особенно одаренном Орлове она, уже после расставания с ним, писала, что «сей бы век остался, естьли б сам не скучал».[82] Тем не менее, она не скрывала, что испытывает некоторую симпатию к Потемкину. А камер-юнкер делал все возможное, чтобы встречаться с ней как можно чаще.
Каждый день Екатерина вставала в 7 часов утра. Если ей случалось подняться раньше, она сама затапливала камин, чтобы не будить слуг. До 11 часов работала, либо одна, либо с министрами или секретарями, в 9 часов иногда давала аудиенции. Она собственноручно писала письма своим корреспондентам: Вольтеру, Дидро, доктору Циммерману, госпоже Бьельке, барону Гримму — и сама шутила, что страдает графоманией. Ее теплые, живые письма полны юмора, хотя иногда чуть тяжеловесного. Восемнадцатый век — век эпистолярный. Стиль и содержание писем составляли предмет особой гордости и заботы представителей большого света. Письма авторитетных сочинителей — принца де Линя, Екатерины, Вольтера — переписывались и читались в европейских салонах.
Екатерина сама составляла проекты указов и распоряжений. В середине 1760-х годов она уже набрасывала свой Наказ комиссии для составления нового Уложения законов, которая соберется в 1767 году. С юного возраста она делала обширные выписки из книг, особенно из Беккариа и Монтескье (это свое увлечение она именовала «легисломанией»).
В 11 часов государыня совершала туалет, приглашая к себе в спальню наиболее приближенных особ, например, Орловых. Затем нередко она отправлялась на прогулку — в теплое время она любила Летний сад, где к ней могли свободно подходить жители столицы; например, когда Панин устроил там Казанове встречу с императрицей, ее сопровождали только Григорий Орлов и две фрейлины. В час дня императрица обедала, в половине третьего возвращалась в свои апартаменты до шести: это был «час любовника» — она принимала Орлова.
Если вечером имело место собрание, она одевалась и выходила. Мужчины носили длинный камзол «а ля франсез», а женщины — платья с длинными рукавами, с твердым корсажем на китовом усе и небольшим шлейфом. Отчасти потому, что это отражало русское богатство и любовь к роскоши, отчасти потому, что новый двор стремился самоутвердиться, кавалеры и дамы соревновались в количестве и размере брильянтов — на пуговицах, пряжках, ножнах шпаг, эполетах и на полях шляп. Лица обоего пола носили ленты российских орденов; сама Екатерина любила показываться с лентой Андреевского ордена — красной с серебряной нитью и алмазами — и св. Георгия через плечо, Александра Невского, св. Екатерины и св. Владимира на шее и двумя звездами — Андреевской и Георгиевской — на левой стороне груди. Вкус к богатым платьям Екатерина унаследовала от двора Елизаветы. Она любила роскошь, понимала ее политический смысл и не жалела на нее денег — однако никогда не доходила до расточительности своей предшественницы. Понимая, что чрезмерный блеск только умаляет ту власть, которую призван подчеркнуть, со временем она приняла более сдержанный стиль.
Дворец охранялся снаружи гвардейцами, а покои государыни — специальным элитным подразделением, сформированным Екатериной в 1764 году из дворян — шестьюдесятью кавалергардами, в синих бархатных мундирах с серебряным шитьем и тяжелых серебряных шлемах с высоким плюмажем.
По воскресеньям происходили куртаги; по понедельникам представления французских комедий; по четвергам обычно французская трагедия и балет; по пятницам и субботам во дворце часто устраивались маскарады. На эти многолюдные, почти публичные празднества собиралось до 5000 гостей. Кто опишет такой вечер лучше Казановы?
«Все, по справедливости, кажется мне пышным, великолепным и достойным восхищения. Три или четыре часа проходят незаметно. Я слышу, как рядом маска говорит соседу:
— Гляди, гляди, государыня; она думает, что ее никто не признает, но ты сейчас увидишь Григория Григорьевича Орлова: ему велено следовать за нею поодаль.
...Сотни масок повторили то же, делая вид, что не узнают ее. [Орлова] все признавали по высокому росту и голове, опущенной долу».[83]
Екатерина любила наряды и маски. Она сама описала, как однажды, явившись в маскарад в офицерском мундире и розовом домино, принялась ухаживать за девушками. Княжна Настасья Долгорукова приняла ее за молодого человека и танцевала с ней. Екатерина шепнула девушке: «Как я счастлив!» — и поцеловала ей руку. Та покраснела: «Пожалуй, скажи, кто ты таков?» — «Я ваш», — ответила Екатерина, но своего инкогнито не раскрыла.[84]
Екатерина удалялась к себе в половине одиннадцатого в сопровождении Орлова. Засыпать она любила в одиннадцать часов.
Ранним вечером Екатерина любила собирать избранный кружок, около двух десятков человек, в своих апартаментах, а позднее — в пристройке к Зимнему дворцу, названной ею Малым Эрмитажем. Завсегдатаями этих собраний были конфидентка государыни графиня Брюс, обер-шталмейстер Лев Нарышкин, которого она называла «врожденным арлекином», конечно, Орловы и, среди прочих, все чаще — Потемкин.
Русский двор был гораздо более свободным, чем большинство европейских дворов того времени, включая английский. Даже когда Екатерина принимала министров, не входивших в ее ближайшее окружение, они беседовали с ней сидя, тогда как британские премьеры могли садиться только с разрешения Георга III, что случалось нечасто. В Малом Эрмитаже вольность заходила еще дальше. Екатерина играла в карты — обычно в вист или фараон — примерно до 10 часов вечера. Гвардейцы, проведшие всю свою молодость за зелеными столами, чувствовали себя здесь как дома. Кроме того, они участвовали в шарадах, загадках и даже пении.
Хозяином салона был Григорий Орлов: в Зимнем дворце Екатерина ставила своего любовника выше себя, так что он мог спускаться в ее покои без доклада. Не допуская вольностей в своем кругу, Екатерина, однако, не скрывала чувств к Орлову. «Мое присутствие не заставило их воздержаться от взаимных ласк», — записал один английский путешественник.[85] Итак, балагур и меломан Орлов задавал тон, а Екатерина казалась едва ли не одной из приглашенных.
Орловы достигли того, чего желали, — или почти. Хотя о браке Григория с императрицей речь уже не шла, Орлов оставался ее постоянным спутником, что придавало ему огромный вес. Однако правила императрица самостоятельно. Орловы плохо подходили для политической роли: ум, сила и обаяние не соединились в одном человеке, а распределились между братьями. Алексею Орлову досталась жестокость, Федору — образованность и дипломатическая смекалка, а Григорию — только красота, добродушие и здравый смысл.
Недоброхоты рассказывали, что Орлов, «взросший в трактирах и в неблагопристойных домах [...] вел [до 1762 года] развратную молодого человека жизнь», хотя и обладал «сердцем и душой доброй. Но все его хорошие качества были затмены его любострастием; он [...] учинил из двора государева дом распутства; не было почти ни одной фрейлины у двора, которая не подвергнута бы была его исканиям», утверждал князь Щербатов, строгий судья нравов российского дворянства.[86] «Фаворит, — писал английский посланник сэр Роберт Ганнинг, — большой гуляка».[87] Тогда, в 1760-е годы, Екатерина то ли закрывала глаза на его измены, то ли на самом деле о них не знала. Орлов не был так прост, как утверждали европейские дипломаты, но конечно не являлся ни интеллектуалом, ни политиком. Он переписывался с Вольтером и Руссо, но, вероятно, только для того, чтобы угодить Екатерине и потому, что того требовало положение просвещенного вельможи.
Екатерина никогда не стремилась поставить Орлова на высокий пост: он занимал только две важные должности. Сразу после переворота она поручила ему возглавить Комиссию по делам инородцев, ведавшую привлечением колонистов в причерноморские области и районы, пограничные с Северным Кавказом. На этом посту он развернул энергичную деятельность и заложил основы для будущих успехов Потемкина. В 1765 году она сделала его начальником всей артиллерии русской армии. Характерно, впрочем, что относительно этого назначения Екатерина проконсультировалась сначала с Паниным, который посоветовал ей предварительно ограничить круг его полномочий. Артиллерийского искусства, однако, Орлов так и не освоил и, «казалось, знал о нем меньше, чем любой школяр», — утверждал француз Дюран, видевший его на учениях. Настоящее мужество Орлов проявил позднее — в 1771 году, в борьбе с московской эпидемией чумы.[88]
Везде и всюду сопровождавший императрицу, Орлов никогда не получал из ее рук той власти, какую она впоследствии предоставит Потемкину.
Как мы уже говорили, Потемкин торопился продемонстрировать Екатерине свою смелость и остроумие, а ее приветливое обращение давало ему такую возможность. Как-то ему случилось забрести в гостиную, где Орлов играл с императрицей в карты. Нагнувшись над столом, он стал заглядывать в карты фаворита. Тот прошептал ему, чтобы он убирался, но Екатерина перебила его: «Пусть. Он нам не мешает».[89]
В конце лета 1762 года Потемкин получил свое первое — и последнее — заграничное поручение: отправиться в Стокгольм известить графа Ивана Остермана, русского посла в Швеции, о новом царствовании. Именно в эту северную страну традиционно отсылали от русского двора слишком пылких влюбленных. (По сходным причинам ранее туда отправлялись сам Панин и первый возлюбленный Екатерины Сергей Салтыков.) Из немногих дошедших до нас свидетельств о раннем этапе карьеры Потемкина можно понять, что он не сделал никаких выводов из этого урока и продолжал свою игру, как будто напрашиваясь на более суровые меры.
По его возвращении Екатерина продолжала выказывать к нему прежний интерес. Потемкин, которого она позднее будет называть своим учеником, использовал все возможности такого положения. Однажды, исполняя свои обязанности камер-юнкера, он сидел за столом напротив императрицы. Она спросила его что-то по-французски. Он отвечал по-русски, а когда ему указали, что отвечать государю следует на том же языке, на каком предложен вопрос, парировал: «А я, напротив того, думаю, что подданный должен ответствовать своему государю на том языке, на котором может вернее мысли свои объяснить; русский же язык учу я с лишком двадцать два года»: типичный пример его галантной дерзости.[90]
Екатерина сама занялась устройством карьеры своего юного протеже. Зная его интерес к религиям, она назначила его помощником обер-прокурора Синода и позаботилась самолично очертить круг его обязанностей. В ее указе от 19 августа 1763 года говорилось: «Повелели мы в Синоде беспрерывно при текущих делах, а особливо при собраниях, быть нашему камер-юнкеру Григорию Потемкину и место свое иметь за обер-прокурорским столом, с тем, дабы он слушанием, читанием и собственным сочинением текущих резолюций и всего того, что он к пользе своей за потребное найдет, навыкал быть искусным и способным к сему месту для отправления дел, ежели впредь, смотря на его успехи, мы заблагоусмотрим его определить к действительному по сему месту упражнению». Первое участие Потемкина в работе Синода было кратко, возможно, из-за враждебности Орловых, но из указа Синода за № 146 мы знаем, что он ежедневно посещал заседания весь сентябрь 1763 года.[91]
Восхождение началось.
Демонстрируя свои чувства императрице и начиная политическую карьеру, Потемкин не стремился ограничивать себя: Алкиви-ад снискал репутацию удачливого любовника. В самом деле, чего ради хранить верность Екатерине, пока место около нее занято
Орловым? Племянник Потемкина Александр Самойлов записал, что его дядя «отличал в своем сердце [...] некоторую знатного происхождения молодую, прекрасную и всеми добродетельми украшенную девицу», которая также была «сама к нему неравнодушною». Однако, продолжает он, «имени ее я не назову». Некоторые историки полагают, что речь идет о графине Брюс, впоследствии исполнявшей при императрице роль испытательницы претендентов на почетную должность фаворита. Но графине, как и ее покровительнице, шел тогда тридцать шестой год, и едва ли Самойлов назвал бы ее «девицей».[92]
Так или иначе, Екатерина продолжала позволять Потемкину играть роль ее «верного рыцаря». Любил ли он ее на самом деле? В случае с Потемкиным трудно отделить человека от его положения. Он был амбициозен и предан Екатерине — как императрице и как женщине. Но однажды он внезапно исчез.
Легенда гласит, что Григорий и Алексей Орловы пригласили Потемкина играть в бильярд. Он приехал, братья набросились на него и жестоко избили. В драке был поврежден левый глаз Потемкина. Он позволил какому-то знахарю наложить повязку, но снадобье принесло только вред, и в конце концов глаз ослеп.
И признания в любви Екатерине, и драка с Орловыми — часть потемкинской мифологии; другие источники утверждают, что он повредил глаз, играя в лапту. Первая версия принимается многими, потому что Потемкин действительно вел себя вызывающе, однако нам она не кажется правдоподобной, поскольку Григорий Орлов всегда вел себя корректно по отношению к своему молодому сопернику.
Это было его первое несчастье. За два года он прошел путь от безвестного смоленского дворянина до приближенного самодержицы всероссийской — но занесся слишком высоко. И все же, как ни ужасна была потеря глаза, удаление от двора сыграло ему на руку. Это первый из многих случаев, когда Потемкин использовал временное удаление от императрицы, чтобы заставить ее думать о себе.
Потемкин перестал бывать при дворе. Он ни с кем не виделся, отрастил бороду и, с ранних лет склонный к мистицизму и религиозной созерцательности, стал говорить о пострижении в монахи. Несмотря на все его актерство, современники не сомневались, что монашеская стезя привлекала его всерьез — так же, как не казался наигранным его аскетизм и чисто русское презрение к светскому успеху, в первую очередь — к своему собственному. В тот год он действительно переживал глубокий кризис. Знаменитое потемкинское обаяние в значительной степени было связано с резкими перепадами его настроения: циклотимический синдром, много объясняющий в его характере. Он впал в депрессию; пропала его уверенность в себе. Некоторые утверждали даже, что он сам повредил себе глаз в припадке то ли ярости, то ли отчаяния.[93]
Одной из причин его уединения было, конечно, уязвленное самолюбие. Ослепший глаз остался наполовину прикрытым. Он стыдился его и, возможно, считал, что теперь императрица от него отвернется. Потемкин всю жизнь будет стесняться своего ослепшего глаза и, позируя для портретов, всегда станет поворачивать голову в полупрофиль. А пока он убедил себя, что Карьера его кончена. Орловы придумали новое прозвище: Алкивиад, говорили они, превратился в Циклопа.
Потемкин отсутствовал полтора года. Императрица иногда спрашивала о нем у Орловых. Некоторые утверждали, что она даже стала реже собирать свой кружок, так ей не хватало его шуток и пантомим. Через некую доверенную даму она посылала ему приветы. Позднее Екатерина расскажет Потемкину, что графиня Брюс сообщала ей, что он по-прежнему ее любит. В конце концов, как пишет Самойлов, та, которая была благосклонна к Потемкину, велела передать ему следующее: «Весьма жаль, что человек толь редких достоинств пропадает для света, для отечества и для тех, которые умеют его ценить и искренне к нему расположены». Вероятно, это возвратило ему надежду. Проезжая мимо места добровольного заточения Потемкина, Екатерина якобы приказала Григорию Орлову призвать его ко двору. Честный и открытый Орлов всегда выказывал перед императрицей уважение к Потемкину. Возможно также, он полагал, что, лишенный своей красоты и самоуверенности, тот уже не представляет для него опасности.[94]
Страдание имеет свойство закалять терпение и волю. Вернувшийся ко двору одноглазый Потемкин был уже не прежний Алкивиад. Через полтора года после потери глаза он все еще носил на голове «пиратскую» повязку, демонстрируя всегдашнее сочетание робости и наклонности к позе. Екатерина встретила его приветливо. Он снова занял свою должность в Синоде. Отмечая третью годовщину своего восхождения на престол пожалованием серебряных сервизов тридцати трем поддержавшим ее лицам, она упомянула и его в конце списка, далеко позади Кирилла Разумовского, Панина и Орлова. Последние все так же сохраняли прочное положение, однако государыня не забыла своего дерзкого поклонника.
Теперь Орловы изобрели более деликатный план устранения соперника. Согласно одной из легенд, Григорий Орлов обратил внимание императрицы на то, что дочь Кирилла Разумовского будет великолепной партией для смоленского дворянина, и Екатерина не возражала.[95] Свидетельств об ухаживании Потемкина за Елизаветой Разумовской не осталось, но мы знаем, что позже он помогал ей, а Разумовский «относился к нему как к сыну».
В самом деле, отношение графа Разумовского к Потемкину характерно для этого выходца из народа, одного из самых симпатичных людей в екатерининском окружении. Если его сыновья, выросшие гордыми аристократами, стеснялись прошлого отца, то сам он иногда приказывал своему камердинеру: «Ступай, принеси мне свитку, в которой я приехал в Петербург: хочу вспомнить хорошее время, когда я пас волов да покрикивал: цоп! цоп!»[96] Разумовский жил в роскошном дворце; считается, что именно он ввел в России употребление шампанского. Потемкин с увлечением слушал его рассказы. Не за шампанским ли бывшего гетмана родилась его любовь к казачеству? Что же касается брака с дочерью Разумовского, то он не состоялся потому, что Потемкин продолжал любить Екатерину, а она не лишала его надежды на славное будущее.[97] Время от времени императрица, отвлекаясь от Орлова, «обращает свои взоры на других, — писал английский посланник граф Бэкингемшир, — особенно на одного галантного и способного человека, вполне достойного ее благорасположения; он имеет хороших советников и, возможно, некоторый шанс на успех».[98]
В 1765 году он получил новую должность, снова показывающую, что Екатерина создавала посты специально для него. После недолгой службы в Синоде она поручила ему должность казначея и надзор за шитьем мундиров. В 1767 году Потемкин вместе с генерал-прокурором Сената князем Вяземским и одним из секретарей императрицы, Олсуфьевым, был определен в Комиссию по составлению нового Уложения одним из трех опекунов по делам иноверцев. Государыня постепенно знакомила Потемкина с высшими сановниками. А в действиях Екатерины Второй не бывало ничего случайного.
Комиссия по составлению Уложения — нового свода законов Российской империи — была выборным органом из пятисот депутатов, необыкновенно широко для того времени представлявшим дворянство, городское сословие, государственных крестьян и нерусские народности. В 1767 году они съехались в Москву, получив наказы от своих избирателей. У Вяземского и Олсуфьева имелись и более серьезные обязанности, поэтому татары, башкиры, якуты, калмыки — всего пятьдесят четыре народа — были вверены попечению Потемкина.
Чтобы проследить за устройством депутатов, Потемкин прибыл в Москву с двумя эскадронами конных гвардейцев. Екатерина приехала в феврале и отправилась в путешествие по Волге до Казани и Симбирска, со свитой из 1500 человек, включая Орловых, обоих Чернышевых и иностранных послов — путешествие, имевшее целью продемонстрировать, что государыня вникает в нужды своей страны. Затем она вернулась в Москву, чтобы открыть работу Комиссии.
Возможно, Екатерина планировала отменить или реформировать крепостное право, в соответствии с идеями Просвещения, однако она не собиралась менять сложившийся политический порядок. Крепостное право образовывало одну из прочнейших скреп между троном и дворянством: сломать ее означало подрубить основы собственной власти. Пятьсот статей написанного ею «Наказа» представляли собой компиляцию из сочинений Монтескье, Бекка-риа и энциклопедистов. Целью Комиссии было упорядочить существующие законы — но даже этот шаг ограничивал ее полновластие. Екатерина верила в русское самодержавие, да и большинство французских философов были сторонниками не демократии в современном смысле этого слова, а лишь упорядоченной системы законов, ограничивающей самодержавный произвол. Екатерина была искренна в своих намерениях выслушать законодательные инициативы своих подданных, но при этом, немного рисуясь, желала продемонстрировать также прочность своей власти и стабильность России.
30 июля 1767 года Екатерина вместе с православными депутатами выслушала молебен в Успенском соборе и приветствовала заседателей в Кремлевском дворце. На следующее утро в Грановитой палате был зачитан «Наказ», и Комиссия открыла свои заседания церемонией, сходной с открытием английского парламента.
Комиссия не справилась со своей главной задачей (депутаты оказались слишком неподготовлены для систематической работы над законами), но позволила собрать материал для последующего законотворчества Екатерины. В конце 1767 года заседания Комиссии в Москве были прекращены и перенесены в Петербург, где Комиссия снова собралась через два месяца — в феврале 1768 года. Начавшаяся осенью война с Турцией положила конец бесплодным прениям депутатов.
22 сентября 1768 года камер-юнкер Потемкин получил чин действительного камергера. Вопреки традиции ему дозволили числиться в гвардии — теперь капитаном. Спустя два месяца его отозвали с военной службы и, по особому поручению императрицы, приписали ко двору. Впервые в жизни он пожалел об этом: 25 сентября 1768 года Оттоманская Порта объявила войну России.
5. ГЕРОЙ ВОЙНЫ
Генерал граф Потемкин был один из тех воинских
предводителей, которые чрез храбрость и искусство,
чрез рвение к службе Вашего Императорского величества
и победоносными своими делами вознесли
славу и пользу оружия Российского.
Фельдмаршал Румянцев
«Безпримерные Вашего Величества попечения о пользе общей учинили Отечество наше для нас любезным, — писал Потемкин императрице 24 мая 1769 года. — Долг подданической обязанности требовал от каждого соответствования намерениям Вашим.
И с сей стороны должность моя исполнена точно так, как Вашему Величеству угодно.
Я Высочайшие Вашего Величества к Отечеству милости видел с признанием, вникал в премудрые Ваши узаконения и старался быть добрым гражданином. Но Высочайшая милость, которою я особенно взыскан, наполняет меня отменным к персоне Вашего Величества усердием. Я обязан служить Государыне и моей благодетельнице. И так благодарность моя тогда только изъявится в своей силе, когда мне для славы Вашего Величества удастся кровь пролить. Сей случай представился в настоящей войне, и я не остался в праздности.
Теперь позвольте, Всемилостивейшая Государыня, прибегнуть к стопам Вашего Величества и просить Высочайшего повеления быть в действительной должности при корпусе Князя Прозоровского, в каком звании Вашему Величеству угодно будет, не включая меня навсегда в военный список, но только пока война продлится.
Я, Всемилостивейшая Государыня, старался быть к чему ни есть годным в службе Вашей; склонность моя особливо к коннице, которой и подробности, я смело утвердить могу, что знаю. В протчем, что касается до военного искусства, больше всего затвердил сие правило: что ревностная служба к своему Государю и пренебрежение жизни бывают лутчими способами к получению успехов... Вы изволите увидеть, что усердие мое к службе Вашей наградит недостатки моих способностей и Вы не будете иметь раскаяния в выборе Вашем.
Всемилостивейшая Государыня, Вашего Императорского Величества всеподданнейший раб
Григорий Потемкин».[99]
Война давала Потемкину наилучшую возможность вырваться из придворной рутины и отличиться — но еще и снова дать Екатерине почувствовать, что она нуждается в нем. Парадоксальным образом каждая разлука с императрицей приближала его к ней.
Русско-турецкая война началась, когда русские казаки, преследуя войска Барской Конфедерации (польской партии, восставшей против-короля Станислава Августа и русского влияния в Польше), перешли польскую границу и вошли в городок Балту, формально принадлежавший туркам, и перебили там евреев и татар. Франция поддержала Порту и внушила турецкому правительству, и безного недовольному распространением русского влияния в Польше, предъявить России ультиматум с требованием вывести все войска с земель Речи Посполитой. В Стамбуле арестовали русского посла Обрескова и заключили в Семибашенный замок. Это был традиционный турецкий способ объявления войны.
Екатерина немедленно создала Государственный совет, куда включила своих главных доверенных лиц, от Никиты Панина, Григория Орлова и Кирилла Разумовского до братьев Чернышевых, чтобы координировать военные действия.
Она разрешила Потемкину то, о чем он просил. «Нашего камергера Григория Потемкина извольте определить в армии», — приказала она военному министру Захару Чернышеву.[100] Через несколько дней Потемкин, генерал-майор от кавалерии — чин, соответствовавший придворному званию камергера, — уже отправлял рапорт генерал-майору князю Александру Прозоровскому из польского городка Бар.
Перед русской армией, номинальной численностью 80 тысяч человек, стояла задача овладеть Днестром — водным путем, соединявшим Черное море с южной Польшей. Стратегической целью России был выход к Черному морю. Русские войска разделились: Потемкин служил в Первой армии под командованием генерала князя Александра Михайловича Голицына, направлявшейся к крепости Хотин. Вторая армия, под командованием генерала Петра Александровича Румянцева, защищала южные рубежи. Если первая кампания пройдет удачно, они отвоюют черноморское побережье до Прута и Дуная. А если смогут перейти Дунай и выйти в турецкую Болгарию, то оттуда рукой подать до Константинополя, столицы Османской империи.
Императрица была необыкновенно уверена в своих силах. «Войска мои [...] идут воевать против турков с такою же охотою, как на свадебный пир», — хвасталась она Вольтеру.[101]
Жизнь русских рекрутов подчас заканчивалась еще до того, как они прибывали к месту службы. Когда они уходили из дома, семьи прощались с ними как с покойниками. Рекрутов вели колоннами, иногда за тысячу верст; многие умирали, не выдержав перехода. Граф Ланжерон, француз, служивший в России в конце XVIII века, утверждал, что из рекрутов до армии доходит лишь половина, и описывал страшный палочный режим, с помощью которого их держали в повиновении. (Впрочем, порядок этот едва ли отличался от принятого в прусской армии или на британском флоте.)
Русский солдат, однако, считался «лучшим солдатом в мире, — писал Ланжерон. — Он соединяет в себе все качества солдата и героя. Он умерен, как испанец, вынослив, как богемец, исполнен национальной гордости, как англичанин и подвержен вдохновению, как француз, валлонец или венгр».[102] Фридрих Великий, испытавший на себе храбрость и выносливость русских солдат во время Семилетней войны, сравнивал их с медведями. Потемкин служил в кавалерии, прославившейся своим бесстрашием и сражавшейся бок о бок со свирепыми казаками — легкой нерегулярной конницей.
Многие в Европе полагали, что в XVIII веке война стала менее кровавой. В самом деле, Габсбурги и Бурбоны по крайней мере делали вид, что воюют, соблюдая аристократические правила военного искусства. Но иначе обстояло дело в отношениях между русскими и турками. Мусульмане-татары, а потом турки угрожали православной Руси много веков, и русские солдаты смотрели на войны с Оттоманской Портой как на крестовые походы.
В течение осени 1768 — весны 1769 года, несмотря на то, что Россия и Турция находились в состоянии войны, военные действия не открывались. В момент разрыва отношений ни та, ни другая сторона не были готовы к войне и полгода собирали силы. Потемкин прибыл в Бар как раз в тот момент, когда начались первые столкновения.
16 июня 1769 года 12-тысячная татарская конница под предводительством крымского хана, союзника турецкого султана, пересекла Днестр и атаковала лагерь Потемкина. Через пятьсот лет после Чингисхана крымские татары, прямые потомки монголов, оставались лучшими наездниками в Европе. Совершая набеги на Украину и атакуя русские войска в южной Польше, они со своими луками и стрелами производили не менее устрашающее впечатление, чем их воинственные предки. Как всякая нерегулярная армия, они были малодисциплинированны, но их действия на Украине дали Турции время собрать войско, численность которого оценивалась в 600 тысяч человек.
В своем первом сражении Потемкин отразил атаку татарской конницы и был отмечен в списке отличившихся. 19 июня он принимает участие в Каменецкой битве, а затем помогает генералу Голицыну взять Каменец. 19 июля Екатерина заказывает торжественный молебен по случаю этой победы, но скоро Голицын отступает. В августе разгневанная императрица отзывает его из армии. Есть основания предполагать, что Потемкин через Орловых участвовал в интриге против Голицына.[103] Но прежде чем приказ Екатерины достиг его, Голицын собрал свои силы и перешел Днестр.
Кавалерия генерал-майора Потемкина участвовала в военных действиях почти каждый день: он отличился 30 июня, отразил турецкие вылазки 2 и 6 июля, 14 августа он со своими кавалеристами героически сражался в Прашковской битве, а 29-го помог разбить Молдаванчи-пашу. «Необычайную отвагу и искусство проявил генерал-майор Потемкин, — писал Голицын, — прежде наша кавалерия не знала такой дисциплины и мужества».[104]
Вероятно, Екатерина с удовольствием читала эти реляции. Правда, для Голицына победы пришли слишком поздно. Тем не менее его утешили фельдмаршальским чином и шпагой с алмазами. Брат министра иностранных дел, генерал П.И. Панин принял командование Второй армией, а Первую в сентябре возглавил П.А. Румянцев. Так вступил в апогей своей карьеры один из прославленных русских генералов, который стал покровителем — а затем и соперником Потемкина.
Потемкин безгранично его уважал. 43-летний Румянцев — высокий и сухощавый, придирчивый военачальник и человек острого ума — был родным братом графини Брюс. Как и его кумир Фридрих Великий, «он никого на свете не любил и никого не уважал», но был «самым блестящим из русских генералов, одаренным необычайными способностями». Так же, как его герой, Румянцев был поборником жесточайшей дисциплины — и великолепным собеседником. «Я проводил с ним целые дни с глазу на глаз, — вспоминал Ланжерон, — и не скучал ни одной минуты». Обладатель огромного состояния, он жил «в феодальной роскоши» и очаровывал своих гостей самыми утонченными аристократическими манерами. Ходили слухи, что он побочный сын Петра Великого.[105]
Потемкин, камергер при дворе, генерал на фронте, не упускал ни случая отличиться на поле боя, ни возможности воспользоваться доступом к командующему. «Как усердие и преданность к моей Государыне, так и тот предмет, чтоб удостоиться одобрения столь высокопочитаемого мною командира, — писал он Румянцеву, — суть основанием моей службы».[106] Румянцев ценил его ум, но знал, вероятно, о его положении при дворе и не отказывал ему в просьбах.
Начался второй год войны. Медленность успехов раздражала Екатерину, но наступала зима и сражения с главными турецкими силами откладывались до весны.
При первой возможности Румянцев разделил армию на несколько способных к маневрированию корпусов и двинулся вниз по Днестру. В январе Потемкин, теперь прикомандированный к корпусу генерала Штофельна, участвовал в стычках, отражая вылазки Абдул-паши. 4 февраля 1770 он участвовал и захвате Журжи; кавалерия совершила несколько дерзких атак, разбила 12-тысяч-ный отряд врага, захватила две пушки и несколько знамен. Несмотря на жестокий мороз, Потемкин не щадил себя. В конце месяца в Совете был зачитан рапорт Румянцева, где он писал о «ревностных подвигах генерал-майора Потемкина», который «сам просился у меня, чтоб я его отправил в корпус генерал-поручика фон Штофельна, где самым делом и при первых случаях отличил уже себя в храбрости и искусстве». Командующий рекомендовал представить Потемкина к награде, и тот получил свой первый орден — св. Анны.[107]
Когда войска, преследуя турецкую армию, двинулись к югу, Потемкин, как сообщал Румянцев в другом рапорте, «при движении армии по левому берегу реки Прута со вверенным ему деташементом, охраняя правую той реки сторону, как покушения против себя неприятельские отражал, так и содействовал армии в поверхностях над ним».[108] 17 июня главные русские силы перешли Прут и атаковали 22 тысячи турок и 50 тысяч татар. Генерал-майор Потемкин с резервным корпусом перешел реку тремя милями ниже по течению и запер вражеский тыл. Лагерь охватила паника; турки бежали.
Через три дня Румянцев двинулся навстречу 80-тысячной турецкой армии, удобно расположившейся при слиянии Прута с рекой Ларгой и ожидавшей основных сил под командованием великого визиря.
7 июля 1770 года Румянцев пошел в наступление. Потемкин впервые видел большой лагерь турецкой армии: огромное скопление шелковых палаток и шатких повозок, развевающиеся зеленые флаги и конские хвосты (символы власти Османской империи), экзотические мундиры, женщины, слуги — то ли армия, то ли базар. Оттоманская Порта не была еще тем вялым и апатичным гигантом, каким она станет в следующем веке, и, когда султан поднимал знамя пророка, могла собирать огромные силы из самых отдаленных пашалыков, от Месопотамии до Балкан.
«Турки, которые считаются ничего не смыслящими в военном искусстве, имеют свой метод ведения боя», — объяснял позднее де Линь.[109] Метод этот состоял в накоплении огромного количества солдат, которые выстраивались треугольниками и волнами накатывали на противника. Янычары представляли собой некогда самую грозную пехоту в Европе. Со временем, подобно римским преторианцам, они стали интересоваться больше дворцовыми переворотами, чем войной, но по-прежнему гордились своей удалью. Вооруженные ятаганами, копьями и мушкетами, они носили красные с золотом шапки, белые блузы, широкие шаровары и желтые сапоги.
Цвет татарской конницы составляли татары и спаги, представители турецкой знати. Элита турецкой армии воевала только когда была готова к бою и часто бунтовала: янычары, например, нередко продавали на сторону продовольствие, убивали своих начальников или отбирали у всадников лошадей, чтобы покинуть поле боя. Основную массу войска составляли не получавшие никакого жалования рекруты, собранные анатолийскими вельможами; им предоставлялось мародерствовать. Артиллерия, несмотря на усилия французских советников, сильно отставала от русской. Мушкеты устарели; хотя меткость стрелков была поразительна, частота стрельбы оставалась очень низкой.
Когда все было готово к наступлению, воинственная толпа из сотен тысяч солдат приводила себя в состояние возбуждения при помощи опиума. «Пятисоттысячное войско, — рассказывал Потемкин графу Сегюру, — стремится как река», — и уверял, что знаменитые треугольники построены по принципу убывания храбрости воинов: «В вершине [...] становятся отважнейшие из них, упитанные опиумом; прочие ряды, до самого последнего, замещены менее храбрыми и, наконец, трусами».[110] Атака, вспоминал де Линь, сопровождалась «ужасными воплями и криками Алла-Алла!» Выдержать такой натиск могла только самая дисциплинированная пехота. Попавшему в плен русскому солдату немедленно отрезали голову с криком «Не бойсь!» — и поднимали ее на пику. Религиозный фанатизм турок «возрастал пропорционально опасности».[111]
Самым устойчивым против турецких атак оказался строй каре. Турки — «самый опасный, но и самый жалкий противник не свете, — утверждал де Линь. — Они опасны, если позволить им пойти в наступление; жалки, если мы их опережаем». Спаги или татары, «роясь как пчелы», обступали русские каре и гарцевали вокруг, доводя себя до изнеможения. Но румянцевские каре, по-прусски вымуштрованные, связанные между собой егерями, продвигались вперед под прикрытием казаков и гусар. Опрокинутые в одном месте, турки либо разбегались, как зайцы, либо стояли насмерть. «Страшная резня», — рассказывал Потемкин, вот чем обычно все кончалось. «Турки обладают врожденным воинским инстинктом, который делает их превосходными солдатами; однако они способны только на первое движение и не в состоянии продумать следующий шаг [...] Смешавшись, они начинают вести себя как сумасшедшие или как малые дети».[112]
Именно так и случилось, когда румянцевские каре атаковали лагерь при Ларге, встречая удары турок стоическим терпением и артиллерийским огнем. 72 тысячи турок и татар оставили свои укрепления и бежали. Потемкин, прикомандированный к корпусу князя Репнина, атаковал укрепления крымского хана и, «предводя особливой каре, был из первых в атаке укрепленного там ретран-шамента и овладении оным», — рапортовал Румянцев. Получив очередную награду, орден Георгия 3-ей степени, он послал императрице благодарственное письмо.[113]
Стремясь предупредить соединение армий Румянцева и Панина, новый великий визирь выступил с главным турецким войском. Он переправился через Дунай и пошел вверх по Пруту. 21 июля 1770 года, чуть южнее Ларги, Румянцев вывел свою 25-тысячную армию навстречу 150 тысячам великого визиря, вставшим лагерем за тройным укреплением у озера Кагул, — и решил атаковать, невзирая на огромное неравенство сил. Опираясь на опыт предыдущего сражения, он выставил перед главными турецкими силами пять каре. Кавалерия Потемкина защищала обозы от «нападения многочисленных татарских орд [...] чтобы прикрыть армию с тыла». Давая Потемкину это поручение, Румянцев сказал ему: «Григорий Александрович, доставьте нам пропитание наше на конце шпаги вашей».[114]
Турки, ничему не научившиеся при Ларге, не ожидали подобной дерзости, яростно сражались весь день — и отступили, оставив на поле 138 пушек, 2 тысячи пленных и 20 тысяч убитых. Румянцев прекрасно воспользовался этой победой, спустившись к низовьям Дуная: 26 июля Потемкин помог Репнину взять Измаил, а 10 августа — Киликию. 16 сентября генерал Панин штурмом взял Бендеры, и наконец Румянцев завершил кампанию, взяв 10 ноября Браилов.
Чтобы ударить по турецкому тылу, Екатерина отправила Балтийскую эскадру в Средиземное море, через Северное море, Ла-Манш и Гибралтар. Главнокомандующий Алексей Орлов никогда не воевал на море; реально флотилией командовали два шотландца — Джон Элфинстон и Сэмюэл Грейг. Несмотря на все усилия Петра Великого воспитать русских моряков, в дальние плавания ходили только ливонцы и эстонцы. Русских морских офицеров было очень мало, подготовка их никуда не годилась. Когда Элфинстон прямо сказал Екатерине, что он думает о русских мореходах, она отвечала: «Невежество русских объясняется молодостью, а невежество турок — дряхлостью».[115] Русской экспедиции помогала Англия: в те времена «восточный вопрос» в Лондоне еще не поднимался. Напротив, врагом Англии была Франция, а Турция — союзником французов. Когда русские суда достигли британских берегов, большая их часть нуждалась в ремонте, 800 матросов были больны. Можно представить себе, какое зрелище являли измученные качкой русские, пополнявшие запасы воды в Гулле и Портсмуте.
Собрав суда в Ливорно, орловский флот наконец вошел в османские воды. После неудачной попытки поднять восстание греков и черногорцев Орлов нерешительно атаковал турецкий флот у острова Хиос. Турки отошли в Чесменскую бухту. В ночь с 25 на 26 июня 1770 года российские брандеры вошли в бухту и подожгли турецкий флот. «Битком набитая кораблями, порохом и пушками, — писал барон де Тотт, наблюдавший за боем с турецкого берега, — бухта превратилась в огнедышащий вулкан, поглотивший все морские силы Турции разом».[116] Это было самое страшное поражение Турции после битвы при Лепанто. Турки потеряли 11 тысяч человек. Алексей Орлов хвастался императрице, что вода в заливе сделалась красной. : <
Когда новость о Чесменской победе вскоре после известия о Кагульском сражении достигла Петербурга, столица возликовала. Служили благодарственные молебны; для каждого матроса была выбита медаль с краткой надписью: «Я был там». За кагульскую победу Екатерина наградила Румянцева фельдмаршальским жезлом и повелела воздвигнуть обелиск в Царскосельском парке, а Алексей Орлов получил титул графа Чесменского. Такого триумфа Россия не ведала со времен Полтавы. Слава Екатерины росла — особенно в Европе: больной Вольтер был готов пуститься в пляс от радости по поводу истребления такого множества варваров.
Потемкин решил воспользоваться успехом и в ноябре 1770 года, когда военные действия прекратились, отпросился у Румянцева в Петербург. Враги Потемкина утверждали, что Румянцев был рад избавиться от него. Однако полководец несомненно восхищался умом и воинскими доблестями Потемкина и одобрял поездку в столицу, поручив защитить свои интересы и интересы армии. Его письма к своему протеже дышат таким же отеческим духом, как письма Потемкина к нему — истинно сыновним.
Потемкин вернулся в Петербург с репутацией героя и восторженной рекомендацией Румянцева: «Он сам искал от доброй своей воли везде употребиться. Он [...] в состоянии подать объяснение относительно до нашего положения и обстоятельств сего края».[117]
Императрица, счастливая двумя громкими победами, встретила его тепло: камер-фурьерский журнал сообщает, что за время его короткого пребывания он обедал у нее одиннадцать раз. Легенда гласит, что имела место и аудиенция, во время которой Потемкин не мог снова не броситься на колени. Они договорились, что будут поддерживать переписку — вероятно, через ее библиотекаря В.П. Петрова и преданного императрице камергера И.П. Елагина. Мы не знаем, что происходило за закрытыми дверьми, но, скорее всего, и он, и она почувствовали, что между ними может возникнуть нечто серьезное. Отношения Екатерины с Григорием Орловым начинали охладевать, но престиж Алексея Орлова — теперь Чесменского — вознесся высоко. Сместить Григория Орлова Потемкин пока не мог — и все же поездка оказалась не напрасной.[118]
Орлов, без сомнения, заметил радушный прием, оказанный Потемкину, и позаботился, чтобы тот отбыл обратно. Потемкин вернулся в армию в конце февраля и привез Румянцеву письмо от Орлова, в котором фаворит поручал Потемкина заботам главнокомандующего и просил стать ему наставником.[119] Таким способом Орлов мягко указывал своему сопернику его место, но это же означало; что поездка прибавила ему веса.
В 1771 году военные действия возобновились. Но, в отличие от предыдущего года, армию, где служил Потемкин, ждали разочарования. В течение года Румянцев атаковал турецкие позиции в низовьях Дуная, пробиваясь в Валахию. Получив задание удержать Крайовскую область, Потемкин «не только что при многих случаях неприятеля [...] отразил, но нанося ему вящший удар, был первый, который в верхней части Дуная высадил войска на сопротивный берег онаго».[120] 5 мая он атаковал городок Цимбры на другом берегу Дуная, сжег склады и увел корабли на русский берег.
17 мая Потемкин опрокинул 4-тысячный турецкий отряд и гнал его до реки Ольга. Затем турки атаковали его 27 мая и снова были отброшены. Он снова соединился с Репниным, и 10 июня они вместе нанесли поражение корпусу под командованием сераскира (турецкого фельдмаршала) и заняли Бухарест.
Вскоре после этих успехов Потемкин заболел лихорадкой, свирепствовавшей летом в этих краях. Болезнь была так серьезна, что «выздоровлению своему [он был] обязан своему крепкому сложению», — писал Самойлов, так как «не соглашался принимать помощи от врачей». Обессиленный генерал вверился попечению двух казаков, поручив им обрызгивать себя холодной водой. Он живо интересовался обычаями состоявших под его началом казаков, восхищался их свободолюбием и умению радоваться жизни. Они прозвали его Грицко Нечеса, «серый парик» (какой он иногда носил), и предложили стать почетным членом войска. 15 апреля 1772 года Потемкин просил атамана принять его в ряды казаков, а в мае, включенный в списки Запорожской Сечи, отвечал ему: «Я счастлив».[121]
Потемкин выздоровел, когда армия уже перешла Дунай и двинулась к ключевому укреплению области, крепости Силистрия, контролировавшей устье Дуная. Именно здесь ему предстояло нажить себе непримиримого врага в лице Семена Романовича Воронцова, молодого представителя семьи, возвысившейся при Петре III.
Родившийся в 1744 году, хорошо образованный Воронцов, сын известного своим взяточничеством провинциального губернатора и племянник канцлера Петра III, во время переворота 1762 года был арестован за поддержку императора, но затем восстановил свою репутацию, одним из первых бросившись в турецкие траншеи при Кагуле. Как все Воронцовы, он очень гордился своим именем, но и Екатерина, и Потемкин считали его недостаточно надежным, отчего впоследствии он провел большую часть своей деятельной жизни в почетном изгнании, на посту русского посла в Лондоне. Но пока, под Силистрией, ему пришлось смириться с тем, что кавалерия Потемкина спасла его гренадер от 12 тысяч турецких конников.
Спустя шесть дней они поменялись ролями: «Мы не только прикрыли его, но и загнали турок обратно в крепость».[122] Воронцов, писавший эти слова в 1796 году, приводит оба сражения как доказательство некомпетентности Потемкина. Оба злились на необходимость принять помощь друг от друга.
Силистрия не сдалась, и армия вернулась за Дунай. Екатерина начинала понимать, что слава стоит дороже, чем она думала. Армия требовала все новых и новых рекрутов. Год выдался неурожайный. Жалованье солдатам задерживалось, а самих их косила лихорадка. В Турции разразилась чума, и генералы опасались, чтобы эпидемия не перекинулась на южные армии. Надо было срочно вступать в переговоры с турками, пока они не забыли Ка-гул и Чесму. Но в сентябре 1771 года страшная новость пришла из Москвы.
Чума объявилась в древней столице и стала распространяться с ужасающей быстротой. В августе умирало по 400-500 человек в день. Дворяне бежали; чиновники не знали, что предпринять; губернатор уехал из города; Москва погружалась в хаос; разлагающиеся трупы усеивали улицы; дымили зловонные костры. По городу бродили толпы отчаявшихся горожан и крестьян, уповающих на последнюю надежду: чудотворную икону Божьей Матери Боголюбской.
Епископ Амвросий, единственный оставшийся на месте представитель власти, приказал убрать икону, чтобы уменьшить риск заражения. Рассвирепевшая толпа растерзала его. Это был тот самый Амвросий, который когда-то дал Потемкину денег на поездку в Петербург. В стране, истощенной войной, толпа, как всегда, набирала силу. Чума грозила развязать и нечто более страшное — крестьянский бунт в провинции. А смертность все продолжала расти.
Григорий Орлов, которому Екатерина до сих пор не давала возможности проявить себя, вызвался отправиться в Москву. Он выехал 21 сентября 1771 года. Когда он приехал, смертность достигла
21 тысячи человек в месяц. Орлов бросился энергично действовать: сжег 3 тысячи старых домов, провел дезинфекцию 6 тысяч, устроил приюты для сирот, открыл городские бани, закрытые на карантин, и раздал продовольствия и одежды на 95 тысяч рублей.
22 ноября, когда он уезжал, смертность заметно уменьшилась — возможно, благодаря холодам, но, так или иначе, порядок в Москве был восстановлен. 4 декабря в Петербурге Орлова встречал ликующий народ. В Царскосельском парке Екатерина построила в его честь триумфальную арку и даже приказала выбить памятную медаль. Казалось, будущее Орловых — рода героев, как их называл Вольтер, — безоблачно.
В следующем году, когда начались переговоры о мире с турками, Екатерина доверила Григорию Орлову поручение государственной важности. Он по-прежнему вызывал ее восхищение. «Граф Орлов, — писала она г-же Бьельке, — красивейший человек своего времени».[123]
Приезжал ли Потемкин в Петербург после отъезда Орлова, чтобы помочь Екатерине преодолеть очередной кризис? Точных сведений о нем за эти месяцы мы не имеем, но в какой-то момент перемирия он, несомненно, снова посетил столицу.
Отъезд Орлова на юг вызвал к жизни еще один заговор против императрицы, что также играло на руку Потемкину. Некоторые офицеры Преображенского полка решили, что Орлов отправился в армию, «чтобы убедить ее присягнуть ему» и сделаться «государем Молдавии и императором». Они грозили воплотить вечный кошмар Екатерины: свергнуть ее и возвести на престол великого князя Павла. Заговор был раскрыт, но все же чем ближе подступало совершеннолетие Павла, тем сильнее волновалась императрица. Шведский дипломат Риббинг писал в одной из июльских депеш 1772 года, что она удалилась в одно из своих имений, чтобы обдумать необходимые меры, в сопровождении Кирилла Разумовского, Ивана Чернышева, Льва Нарышкина — и Григория Потемкина.[124] Первые имена не требовали пояснения — этим людям Екатерина доверяла почти двадцать лет. Но присутствие 31-летнего Потемкина было неожиданно. Это — первое упоминание его в качестве близкого советника императрицы. Впрочем, даже если швед допустил ошибку, из нее явствует, что Потемкин в Петербурге и уже гораздо ближе к Екатерине, чем кто-либо мог предположить.
Есть и другие намеки на то, что он давал ей приватные советы гораздо раньше, чем принято считать. Когда она вызвала его в конце 1773 года, то сказала, что он давно уже близок ее сердцу. В феврале 1774 года она писала ему, что жалеет, что их отношения не начались «полтора года назад» — то есть в 1772 году.[125] Теперь она чувствовала, что влюбляется.
Когда Григорий Орлов начал переговоры с турками в местечке Фокшаны в Молдавии, Потемкин, если верить преданию, также находился на переговорах, причем шокировал окружающих поведением, которое потом станет знаменитым. Пока Орлов вел переговоры, Потемкин часами лежал на диване, в халате, погрузившись в задумчивость. Это очень на него похоже. Но не менее вероятно и то, что он со своими войсками находился в Молдавии, как и вся армия.[126]
Орлов не обладал ни дипломатическим опытом, ни складом характера, необходимым для порученной ему роли. Может показаться, что Екатерина имела особые причины удалить его из Петербурга, но, с другой стороны, как представить себе, что она рискнула успехом переговоров, только чтобы отдалить его от себя? Некоторые предполагают, что ему помогал опытный Обрес-ков, русский посол в Порте, недавно освобожденный из Семибашенного замка. И все же Орлов едва ли мог справиться с долгим и уклончивым торгом — традиционным приемом турецкой дипломатии.
Затем он поссорился с Румянцевым. Орлов хотел возобновить военные действия; Румянцев, который знал, как мало осталось солдат, как близка эпидемия и как тают деньги, отказывался. Твердый и резкий фельдмаршал, вероятно, вывел из себя вспыльчивого и недальновидного великана, и тот, к великому изумлению турецкой делегации, прямо во время заседания объявил, что повесит Румянцева. Турки, считавшие себя воплощением цивилизованности, конечно, только покачали головами, дивясь славянскому варварству. Однако переговоры шли все труднее. Екатерина решительно требовала, чтобы турки отказались от контроля над Крымом. Те отвечали, что Черное море — «чистая и непорочная дева», озеро султана. Принять условия Екатерины означало для Порты утратить контроль над северным побережьем Черного моря, за исключением крепостей, и позволить России сделать еще один шаг к осуществлению заветной мечты Петра I.
Успехи Румянцева беспокоили и Австрию, и Пруссию. Фридрих II не хотел, чтобы его союзница Россия приобрела слишком много оттоманских земель. Австрия, враждебная и Пруссии, и России, тайно обсуждала с Портой оборонительный трактат. Пруссия желала компенсации за союзническую верность России, Австрия — за неверность Турции. Изрядный аппетит как у России, так и у Пруссии вызывала анархичная Польша. Австрийская императрица Мария Терезия не одобряла грабежа, однако, как выразился Фридрих II, «плакала, но взяла». Слабая и сама себя разрушающая Польша напоминала открытый банк, откуда коронованные разбойники могли брать сколько им нужно, чтобы оплачивать свои дорогостоящие войны. Австрия и Пруссия договорились с Россией о первом разделе Польши и позволили Екатерине выставлять требования Турции.
Когда раздел Польши был уже почти решен, на сцену выступил традиционный союзник Турции — Швеция. Много лет Россия тратила миллионы рублей на взятки, чтобы эта северная держава оставалась ограниченной монархией, балансирующей между французской и русской партиями. Но в августе 1772 года ее новый король Густав III восстановил абсолютизм в полной мере и теперь подталкивал турок к продолжению войны.
Тем временем Орлов устал от упорного нежелания турок предоставить независимость Крыму. Утомила ли его сложность дипломатии, замысловатый турецкий этикет или присутствие зевающего Потемкина, но Орлов выставил ультиматум, и турки удалились. Переговоры были сорваны.
Орлова заботило другое: происходящее при петербургском дворе. 23 августа, не дожидаясь высочайших распоряжений, он помчался в Петербург. Если в это время Потемкин все еще лежал на диване, вероятно, он задумался еще сильнее.
Подъехав к Петербургу, Григорий Орлов был остановлен на заставе по специальному приказу императрицы и вынужден был отправиться в свое имение Гатчину.
Несколькими днями раньше, 30 августа, 22-летний красавец, офицер конной гвардии Александр Васильчиков, был официально назначен генерал-адъютантом императрицы — и поселился в Зимнем дворце. При дворе знали, что их любовная связь длится уже месяц. Васильчикова представили государыне По инициативе Панина. Она внимательно присмотрелась к нему. В Царском Селе, когда он сопровождал ее карету, она подарила ему золотую табакерку с надписью «За усердие к службе» — необычная награда для караульного. 1 августа он был назначен камер-юнкером.
Узнав, что Григорий Орлов едет в Петербург, Екатерина взволновалась и разгневалась: бросить и без того зашедшие в тупик переговоры означало выставить ее частную жизнь на обозрение всех кабинетов Европы. В самом деле, иностранные послы смутились: они считали, что Орлов — партнер Екатерины на всю жизнь. Они привыкли балансировать между Паниными и Орловыми, теперь союзниками братьев Чернышевых. Политического смысла появления Васильчикова не мог угадать никто. Очевидно было лишь, что Орловы сходят со сцены, а Панины возвышаются.
Охлаждение между Орловым и Екатериной длилось уже около двух лет; причины его нам точно неизвестны. Теперь ей было сорок лет, ему — тридцать восемь: возможно, оба казались друг другу слишком старыми. Он никогда по-настоящему не разделял ее интеллектуальных интересов. В политике она ему доверяла, однако умом Орлов все-таки не блистал: Дидро, позднее встречавшийся с ним в Париже, сравнил его с котлом, «который вечно кипит, но ничего не варит». Может быть, разочарованию в Орлове способствовало и общение Екатерины с Потемкиным — и тем не менее остается непонятным, почему она заменила Орлова другим. Возможно, выплачивая многие годы свой долг Орлову и его семье, она еще не чувствовала себя готовой к сближению с эксцентричным и властным Потемкиным. Позже она пожалеет, что не призвала его сразу.
В тот же день, как Орлов отбыл в Фокшаны, расскажет она позднее Потемкину, ей живо описали все разнообразие его любовных подвигов. Конечно, она подозревала его в неверности много лет. Иностранные послы были прекрасно осведомлены о его любовных аппетитах и неразборчивости. «Он любит так же, как ест, — утверждал Дюран, — и ему все равно, что калмычка или финка, что первая придворная красавица». Как бы то ни было, Екатерина решила, что не может более доверять ему.[127]
Екатерина откупилась от Орлова с щедростью, которой будут отмечены все ее последующие расставания с возлюбленными: он получил годовую пенсию в 150 тысяч рублей, 100 тысяч на заведение дома, строящийся Мраморный дворец, 10 тысяч душ, другие многочисленные блага и привилегии — и два серебряных сервиза, один на каждый день и один для особых случаев.[128] В 1763 году император Священной Римской империи Франц, супруг Марии Терезии, жаловал ему титул князя Римской империи. В России титул князей носили только потомки древних царских фамилий.{8} Когда русские монархи XVIII века желали поднять кого-либо до этой ступени, они обращались к Римскому императору. Теперь Екатерина позволила своему бывшему любовнику пользоваться этим титулом.
Орлов был возвращен ко двору только через восемь месяцев — в мае 1773 года — но фаворитом оставался Васильчиков. Нетерпеливый Потемкин по-прежнему томился ожиданием.
Вероятно, в армию Потемкин вернулся разочарованным. Впрочем, 21 апреля 1773 года Екатерина произвела его в генерал-поручики. Все завидовали ему. Семен Воронцов писал брату, что не может смириться с возвышением Потемкина, который был еще поручиком гвардии, когда он имел уже чин полковника.[129] Кампания 1773 года протекала вяло, энтузиазм утратили даже ветераны румянцевских побед. Была предпринята еще одна попытка переговоров, на этот раз в Бухаресте, но время ушло.
Армия Румянцева, сократившаяся до 30 тысяч, еще раз осадила упрямую Силистрию. «Когда армия приближилась к переправе чрез реку Дунай и когда на Гуробальских высотах сопротивного берега в немалом количестве людей и артиллерии стоявший неприятельский корпус приуготовлен был воспящать наш переход, [...] граф Потемкин, 7-го июня, первый от левого берега учинил движение чрез реку на судах, и высадил войска на неприятеля», — рапортовал Румянцев. Высадившись на другом берегу, генерал-поручик захватил турецкий лагерь. Его воспринимали уже как любимца августейшей особы: генерал Юрий Долгоруков утверждал, что силы «робкого» Потемкина переправлялись через реку в беспорядке и что Румянцев уважал его только за «кредит при дворе».[130] Но записки князя Долгорукова известны своей необъективностью, тогда как требовательный Румянцев — как и его офицеры — искренне восхищался Потемкиным и высоко оценил сделанное им в этом походе.
Гарнизон Силистрии предпринял мощную вылазку против Потемкина. 12 июня, неподалеку от крепости, он отразил еще одну атаку, захватив неприятельскую артиллерию. Румянцевские войска подошли к уже знакомым стенам. 18 июня генерал-поручик Потемкин «во главе авангарда, преодолев жестокое сопротивление, выбил врага из фортификаций перед крепостью». 7 июля он разбил 7-тысячную конницу. Даже в объятиях Васильчикова, а может быть, именно благодаря его приятному, но скучному обществу Екатерина не забывала Потемкина: в июне, описывая Вольтеру переход через Дунай, она упоминает его имя.[131] Ей не хватало его.
В начале осени Потемкин руководил строительством артиллерийских батарей на острове против Силистрии. Погода портилась; турки давали понять, что намерены удерживать крепость любой ценой. «На острову [...] где отягощала и суровость непогоды и вопреки [...] вылазок от неприятеля, производил он в действие нужное тогда предприятие на город чрез непрестанную канонаду и нанося туркам превеликий вред и страх».[132] Когда русские наконец вступили в Силистрию, турки бились за каждый дом. Румянцев отступил. Начинались морозы. Батареи Потемкина возобновили бомбардировки крепости.
В этот напряженный момент в лагерь Румянцева прибыл императорский курьер с пакетом для Потемкина. Письмо, датированное 4 декабря, говорит само за себя:
“Господин Генерал-Поручик и Кавалер. Вы, я чаю, столь упражнены глазеньем на Силистрию, что Вам некогда письмы читать. И хотя я по сю пору не знаю, предуспела ли Ваша бомбардирада, но тем не меньше я уверена, что все то, чего Вы сами предприемлете, ничему иному приписать не должно, как горячему Вашему усердию ко мне персонально и вообще к любезному Отечеству, которого службу Вы любите.
Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то Вас прошу попустому не даваться в опасности. Вы, читав сие письмо, может статься зделаете вопрос, к чему оно писано?На сие Вам имею ответствовать: к тому, чтоб Вы имели подтверждение моего образа мысли об Вас, ибо я всегда к Вам весьма доброжелательна.
Екатерина[133]”
В грязном, холодном и опасном военном лагере это письмо должно было показаться посланием с Олимпа, из обители богов. Оно не производит впечатления записки, набросанной второпях. Это лукавая, осторожная и тщательно продуманная декларация, в которой сказано все — и как бы ничего. Можно подозревать, что он уже знал «образ мыслей» о нем Екатерины: знал, что она уже полюбила того, кто страдал по ней больше десяти лет. Своенравная небрежность в отношении августейших посланий должна была только прибавить ему очарования в глазах императрицы, окруженной лестью и подобострастием. Восхищенный Потемкин понял это письмо как долгожданный призыв в Петербург.
Опасения Екатерины за его жизнь были небеспочвенны. Румянцеву пришлось отвести армию обратно за реку, а Потемкину досталась честь взять на себя самое опасное: прикрытие отходящих на вражеском берегу. И тем не менее нельзя сказать, что Потемкин торопился в столицу.
Критики Потемкина, такие, как С. Воронцов и Ю.Долгоруков, писавшие в основном после его смерти, когда чернить его стало модно, называли его трусом и неумелым воином. Однако мы видели, что фельдмаршалы Голицын и Румянцев восхищались его подвигами задолго до его возвышения, а многие офицеры писали друзьям о его отваге во всех кампаниях, вплоть до Силистринской. Рапорт Румянцева описывал Потемкина как «одного из воинских предводителей, которые чрез храбрость и искусство вознесли славу и пользу оружия российского». Где правда?
Конечно, Румянцев в рапорте, составленном в 1775 году, уже после возвышения Потемкина, мог преувеличить его заслуги, но заподозрить такого прямодушного человека в откровенной лжи невозможно. Потемкин геройски сражался в Первой русско-турецкой войне и заслужил свою славу.
Когда армия встала на зимние квартиры, он наконец бросился в Петербург. Нетерпение его сделалось заметно. Наблюдатели придворных интриг спрашивали друг друга: «Куда он так спешит?»[134]
6. «НА ВЕРХУ ЩАСТИЯ»
Твои прекрасные глаза меня пленили,
и я трепещу от желания сказать о своей любви.
Потемкин Екатерине II, февраль-март 1774 г.
Эта голова забавна, как дьявол.
Екатерина II о Потемкине
Все так изменилось с тех пор,
как приехал Григорий Александрович!
Е.М. Румянцева П.А. Румянцеву, 20 марта 1774 г.
Генерал-поручик Григорий Потемкин прибыл в Санкт-Петербург в январе 1774 года, надеясь, возможно, что сразу будет приглашен к ложу императрицы и к управлению государством. Если он действительно рассчитывал на это, его ждало разочарование.
Генерал поселился во флигеле дома своего зятя Николая Самойлова и отправился представляться императрице. Рассказала ли она ему об окруживших ее интригах? Призвала ли его к терпению? Потемкин был измучен ожиданием. С детских лет он верил, что рожден править, а с тех пор, как поступил в гвардию, любил императрицу. Он был сама страсть и стремительность, но ждать все же научился.
Он стал часто являться ко двору. Придворные видели, что он «пошел в гору». Однажды он поднимался по лестнице Зимнего дворца, а Григорий Орлов спускался ему навстречу. «Что говорят при дворе?» — спросил Потемкин. «Ничего, — отвечал Орлов, — разве только то, что вы идете вверх, а я вниз». Но ничего не происходило — по крайней мере на публике. Шли дни, недели. Ожидание изматывало нетерпеливого Потемкина. Екатерина оказалась в сложной и щепетильной ситуации, как личной, так и политической, и действовала очень осторожно. Ее официальным любовником оставался Васильчиков — он продолжал жить во дворце, — но Екатерина находила его удручающе скучным и жестоко тосковала. «Всякое [его] приласканье во мне слезы возбуждало», — писала она потом Потемкину.[135] Тот становился все более нетерпелив: она посылала ему обнадеживающие письма; она вызвала его в столицу. Он преданно ждал двенадцать лет и теперь примчался при первой возможности. Ей известно, как он умен и талантлив. Почему она не разрешает ему стать ее помощником? Она признала, что чувствует к нему то же, что он к ней; Зачем она держит при себе Васильчикова?
Но все оставалось по-прежнему. Он потребовал объяснений. Она отвечала что-то вроде: «Calme-toi.{9} Я обдумаю твои слова и сообщу свое решение».[136] Может быть, она хотела дождаться благоприятной политической ситуации. Екатерина как никто верила в необходимость тщательных приготовлений. Скорее всего, она просто хотела, чтобы он решил вопрос силой, нуждаясь не только в его уме и любви, но и в его бесстрашной самоуверенности. Потемкин быстро понял, почему он нужен Екатерине именно сейчас, но не мог не видеть, что она переживает кризис — политический, военный, эмоциональный, — самый сильный с момента своего вступления на престол.
Трудности Екатерины начались год назад, когда она отставила Орлова. Его падение как будто обозначило триумф Никиты Панина, который, как воспитатель Павла, претендовал на особую роль в управлении государством. Но в мае 1773 года жизнерадостный князь Орлов вернулся из-за границы, вскоре занял свой пост в Совете, и равновесие восстановилось.
Однако скоро случились происшествия, по меньшей мере на год нарушившие равновесие во всей стране. 17 сентября 1773 года перед возбужденной толпой казаков, калмыков и татар, собравшихся в Яицком городке, столице яицкого казачества, за тысячи верст от Москвы и еще дальше от Петербурга, предстал человек, объявивший, что он — император Петр III, который не был убит и теперь пришел к ним, чтобы повести против злодейки Екатерины. Он называл ее «немкой, дочерью дьявола». Смуглый, темноволосый, бородатый Емельян Пугачев, дезертировавший из армии, ничем не напоминал Петра III, но в тех далеких краях это не имело никакого значения. Ровесник Потемкина (он родился около 1740 года), Пугачев участвовал в Семилетней войне и в осаде Бендер, за что-то был посажен под арест и бежал.
«Сладкоязычный, милостивый, мяхкосердечный российский царь» обещал своим подданным все и вся. Показав разгневанным мужикам «царские знаки» на теле, он жаловал их «землями, водами, лесами, жительствами, травами, реками, рыбами, хлебами, законами, пашнями, телами, денежным жалованьем, свинцом и порохом».[137]
Щедрый манифест завоевывал почти всех, кто его слышал, и в первую очередь яицких казаков. Казачьи воинства представляли собой общины равноправных граждан, составившиеся из беглых крепостных и преступников, старообрядцев, дезертиров и разбойников, обосновавшихся у границ империи. Каждое войско — Донское, Яицкое, Запорожское — имели собственную культуру, но все были организованы как примитивные демократии.
Яицких казаков особенно взволновали недавние нововведения, касающиеся ограничения рыбной ловли. Год назад они подняли мятеж, который был жестоко подавлен. Что же касается крестьян, то пятый год русско-турецкой войны тяжело давил на их плечи, и они хотели верить в своего «Петра III».
Самозванство было распространенным явлением в России. В начале XVII века, в Смутное время, Лжедмитрий даже правил Москвой. Огромная неграмотная страна, видевшая в царе воплощение силы и блага, избранника Божия, верила в образ милосердного, христоподобного правителя, странствующего среди народа, а затем обнаруживающего себя, чтобы этот народ спасти.{10} Напомним, что самозванцев знала и Англия: например, Перкин Уорбек в 1490 году выдавал себя за Ричарда, одного из убиенных «принцев в Тауэре».
Самозванство стало историческим призванием для бродяг, дезертиров и староверов, живших на границах империи. Петр III правил слишком мало: это рождало иллюзию, что если бы злые дворяне и немцы не свергли его, он помог бы простому народу. К концу екатерининского царствования число лже-Петров достигло двадцати четырех — но ни один из них не добился такого успеха, как Пугачев.
5 октября 1773 года Пугачев подошел к столице Уральского края, Оренбургу, с 3-тысячной армией и 20 пушками. 6 ноября «анператор Петр Федорович» основал Военную коллегию при своей главной квартире в Берде, под Оренбургом.
Когда в середине октября новость достигла Петербурга, «дочь дьявола» приняла происходящее за локальный казацкий мятеж и отправила усмирять его генерала Василия Кара. В начале ноября орда повстанцев, достигшая уже 25 тысяч, отбросила его отряд, и Кар с позором вернулся в Москву.
Города встречали Пугачева звоном колоколов, священники выносили иконы, народ молился о здравии Петра III и его сына великого князя Павла Петровича. В начале декабря войска Пугачева осаждали Самару, Оренбург и Уфу; в 30-тысячную армию вливались все новые недовольные — казаки, татары, башкиры, киргизы и калмыки.
Впрочем, Пугачев уже начал делать ошибки: он женился на любимой наложнице, что едва ли было уместно для императора, имеющего жену в Петербурге. И тем не менее становилось ясно, что восстание представляет собой реальную угрозу для государства.
Момент, выбранный Екатериной для письма Потемкину, отнюдь не случаен. Она написала ему сразу по получении известия о неудаче Кара. Поволжье поднималось под руководством сильного и авторитетного вождя. Через пять дней после отправки письма Потемкину она поручила командование правительственным отрядом генералу Александру Бибикову, другу Панина и Потемкина. Как политик, она нуждалась в советнике по военным вопросам, который не принадлежал бы ни к одной из придворных партий. Как женщина — в друге, которого уже любила. Годы их странной дружбы, потенциально такой близкой и всегда такой далекой, как будто подготавливали этот момент.
Кроме мятежа у Екатерины имелся и другой повод для волнений, другой претендент на престол, гораздо более опасный: ее сын. 20 сентября 1772 года великому князю Павлу Петровичу исполнилось 18 лет, и она должна была официально признать его совершеннолетие, то есть разрешить вступить в брак, обзавестись собственным двором и начать играть значимую политическую роль. Первое было возможно, второе выполнимо, третье совершенно исключалось. Принять Павла в качестве соправителя, даже в минимальной степени, было с точки зрения Екатерины первым шагом к потере престола.
Невеста была выбрана к лету 1773 года — принцесса Вильгельмина, вторая дочь ландграфа Гессен-Дармштадтского. 15 августа она приняла православие, получив имя Натальи Алексеевны. Свадьба состоялась в конце сентября 1773 года — именно в те дни, когда в Яицком городке поднимался мятеж Пугачева.
Вскоре после женитьбы Павла едва не разразился новый политический скандал, в который оказались замешаны молодые супруги: состоявший на русской службе уроженец герцогства Голштинского, принадлежавшего Павлу, Каспар фон Сальдерн стал развивать в разговорах с великим князем заманчивую идею. Сальдерн убеждал Павла в том, что теперь, будучи совершеннолетним, он имеет такие же права на престол, как и его мать, и что следует установить новый политический режим — совместное правление, по образцу Австрии, где мать и сын — Мария Терезия и Иосиф — делили между собою власть. По слухам, в беседах с Сальдерном живое участие принимала энергичная Наталья Алексеевна.
Никита Панин знал о плане Сальдерна, но не донес о нем Екатерине. Донес кто-то другой, и на Павла, его молодую жену и Панина легло тяжкое подозрение в составлении заговора против императрицы. Сальдерн успел уехать из России, а возмущенная Екатерина пообещала, что «велит привезти к себе злодея, связанного по рукам и ногам».[138] Поскольку дело не имело продолжения, никто наказан не был.
В довершение ко всем заботам, осаждавшим императрицу, — войне, сложностям в отношениях с сыном, угрозе заговора и ширящемуся крестьянскому восстанию, — 28 сентября 1773 года в Петербург прибыла литературная знаменитость. Императрица, конечно, восхищалась «Энциклопедией», но Дени Дидро не мог выбрать более неподходящего момента для своего визита. Энциклопедист, разделявший общее заблуждение французских философов насчет возможностей быстрого практического воплощения теоретических построений, он рассчитывал дать Екатерине советы по немедленному реформированию ее государства. Дидро говорил, что Екатерина обладает «душой Цезаря и обольстительностью Клеопатры».[139] Беседы с философом, прожившим пять месяцев неподалеку от Зимнего дворца, развлекали императрицу, тосковавшую в обществе Васильчикова. Но скоро Дидро начал ее раздражать — хотя, если вспомнить, чем закончилось пребывание Вольтера у Фридриха Великого, визит энциклопедиста к северной царице придется признать почти успешным. Екатерина жаловалась, что, доказывая свои идеи, он с такой горячностью хватал ее за руку, что у нее оставались синяки. Но одно доброе дело он точно сделал — познакомил императрицу со своим компаньоном Фридрихом Мельхиором Гриммом, который стал любимым корреспондентом Екатерины до конца ее жизни.
После визита Дидро Екатерина окончательно убедилась, что абстрактная программа реформ в России неприменима: «Вы трудитесь на бумаге, которая все терпит, — говорила она ему, — между тем как я, несчастная императрица, имею дело с человеческой кожей, которая чрезвычайно чувствительна».[140]
После женитьбы Павла граф Никита Панин утратил пост воспитателя великого князя (поскольку был упразднен сам этот пост) и потерял свои апартаменты во дворце, но при отставке от воспитательных дел получил пенсию в 30 тысяч рублей и 9 тысяч душ. Панин по-прежнему продолжать ведать иностранной политикой и упорно старался построить «северную систему». Однако после истории с Сальдерном Екатерина все меньше доверяла ему.
Противовесом Панину оставались Орловы. Григорий Орлов был отстранен от должности любовника, но ему простили Фокшаны и он снова стал заседать в Совете. Союзник Орловых — Захар Чернышев — получил чин фельдмаршала и место президента Военной коллегии.
Постоянно наблюдая ожесточенное противостояние Панина и Орловых, Екатерина не могла опереться ни на кого из них. Своего сына Павла она считала недалеким, он был ей чужд, и она не могла доверить ему никакой роли в управлении государством. Она сделала официальным фаворитом Васильчикова, но его общество тяготило ее.
Екатерина никогда не была так одинока.
Страдала и ее европейская репутация. Женоненавистник Фридрих, окруженный суровым мужским двором, злопыхательствовал: Орлов возвращен ко всем обязанностям, говорил он, «кроме постельной». Фридрих понимал также, что неопределенное положение Панина вредит идее союза с Пруссией. «Хуже нет, — заявлял прусский король, — когда кол и дыра решают судьбы Европы».[141]
В конце января Потемкин, по-прежнему не игравший никакой роли, решил, что должен действовать.
Потемкин объявил, что его больше не интересует земная слава: он удаляется в монастырь. Оставив дом Самойлова, он поселился в Александро-Невской лавре, располагавшейся на тогдашней окраине Петербурга, и, отрастив бороду, стал жить послушником. Напряжённое ожидание на пороге успеха вполне могло толкнуть неуравновешенного Потемкина к погружению в религиозный мистицизм; но не надо забывать, что он был прирожденным политиком и актером. Его почти театральный уход от мира ставил Екатерину перед выбором. Высказывались предположения, что они с императрицей разыграли этот спектакль вместе, чтобы оправдать его возвышение и придать ему большее значение. Позднее они действительно дали примеры подобных «постановок», но все же на этот раз состояние Потемкина кажется на самом деле балансирующим между душевной депрессией, искренней религиозностью — и театральной игрой.[142]
Его келья изрядно напоминала штаб-квартиру; в промежутках между постами появлялись многочисленные посетители. Приезжали и уезжали кареты; слуги, придворные и шуршащие платьями статс-дамы, в частности, графиня Брюс, мелькали в ограде барочного монастыря, как персонажи оперы, привозя записки и шепотом передавая слова императрицы. Как полагается опере, она началась с арии. Потемкин сообщил Екатерине, что написал ей песню. «Как скоро я тебя увидел, — приводит ее слова Массон, — я мыслю только о тебе одной... Боже! какая мука любить ту, которой я не смею об этом сказать, ту, которая никогда не может быть моей! Жестокое небо! Зачем ты создало ее столь прекрасной? Зачем ты создало ее столь великой? Зачем желаешь ты, чтобы ее одну, одну ее я мог любить?» Потемкин убедил графиню Брюс передать императрице, что его «несчастная и жестокая страсть довела его до отчаяния и он должен бежать предмета своих мучений; один вид его возлюбленной усугубляет страдания, и без того непереносимые». Императрице передали, что «он по любви к ней возненавидел свет; самолюбию ее было лестно».[143]
Екатерина отвечала устно примерно следующее: «Я не могу понять, что довело его до такого отчаяния, поскольку я никогда не объявляла, что отвергла его. Я считала, что мой любезный прием даст ему почувствовать, что свидетельства его преданности мне не неприятны».[144] Этого было недостаточно. Посты и молитвы продолжались, так же как и визиты, разумеется, шокировавшие насельников монастыря.
Наконец Екатерина приняла решение и послала за Потемкиным графиню Брюс — по забавному совпадению, родную сестру фельдмаршала Румянцева. Она прибыла в монастырь в дворцовой карете. Ее провели к обросшему бородой Потемкину, одетому в монашескую рясу и простертому на полу своей кельи перед образом св. Екатерины. Для того чтобы графиня не усомнилась в его искренности, он продолжал молиться еще довольно долгое время, но в конце концов выслушал ее. Затем быстро побрился и надел мундир.
Что чувствовала Екатерина во время этой оперной интерлюдии? Через несколько недель, когда они наконец стали любовниками, она рассказала ему в нежном и волнующем письме, что уже любила его, когда он вернулся из армии:
“Потом приехал некто богатырь. Сей богатырь по заслугам своим и по всегдашней ласке прелестен был так, что услыша о его приезде, уже говорить стали, что ему тут поселиться, а того не знали, что мы письмецом сюда призвали неприметно его, однако же с таким внутренним намерением, чтоб не вовсе слепо по приезде его поступать, но разбирать, есть ли в нем склонность, о которой мне Брюсила сказывала, что давно многие подозревали, то есть та, которую я желаю чтоб он имел. ”[145]
Императрица находилась за городом, в Царском Селе. Потемкин прискакал туда — скорее всего, в сопровождении графини Брюс. Камер-фурьерский журнал сообщает, что он представлялся вечером 4 февраля 1774 года: его провели прямо в апартаменты государыни, где они оставались наедине в течение часа. Затем он снова упомянут 9-го числа как присутствовавший на обеде в Екатерининском дворце. В феврале они официально обедали вместе четыре раза, но можно догадываться, что они провели друг с другом гораздо больше времени: несколько недатированных записок Екатерины можно отнести к этим дням. Первая, с обращением «Mon ami»{11} свидетельствует о нарастающей теплоте ее отношения, но предупреждает, чтобы он остерегался шокировать великого князя, который уже ненавидит Орлова за то, что тот был любовником его матери. Во второй, написанной через несколько дней, Потемкин именуется уже «Mon cher ami»{12}. Здесь Екатерина уже употребляет прозвища, придуманные ими вместе для придворных: один из Голицыных — «Monsieur lе Gros»{13}, зато Потемкин — «l'esprit»{14} .[146]
Они становились все ближе с каждым часом- 14 февраля двор вернулся в Зимний дворец. На обеде 15-го в числе двадцати гостей был и Потемкин.
Возможно, любовные отношения Екатерины и Потемкина начались именно в эти дни. Немногие их записки датированы, но одну можно предположительно считать написанной около 15 февраля — ту, где императрица отменяет их встречу в бане, потому что «все мои женщины сейчас там и вероятно уйдут не ранее чем через час».[147] Это первое упоминание о встрече в бане, но позднее «мыленка» станет излюбленным местом их свиданий.
18 февраля императрица присутствовала на представлении русской комедии в придворном театре, а затем, возможно, встретилась с Потемкиным у себя. Она не спала до часу ночи — необыкновенно поздно по сравнению с ее обычным распорядком. «Я встревожена мыслью, — писала она ему по-французски, — что злоупотребила Вашим терпением и причинила Вам неудобство долговременностью визита. Мои часы остановились, а время пролетело так быстро, что в час ночи еще казалось, что нет и полуночи...»[148]
«Какие счастливые часы я с тобою провожу... — пишет она в один из этих первых дней. — Я отроду так счастлива не была, как с тобою». Они оба были эпикурейцами и знали толк в наслаждении: «...мне кажется, будто я у тебя сегодни под гневом. Буде нету и ошибаюсь, tant mieux{15}. И в доказательство сбеги ко мне. Я тебя жду в спальне...»[149]
Васильчиков оставался на своем месте — по крайней мере официально. Екатерина II Потемкин прозвали его «холодным супом» (soupe a la glace). Это теперь она признается, что жалеет о потерянных полутора годах. Но присутствие Васильчикова раздражало Потемкина, который был истерически ревнив. Вероятно, он вспылил, потому что в одном из следующих писем Екатерина упрашивает его вернуться: «Принуждать к ласке никого неможно... Ты знаешь мой нрав и сердце, ты ведаешь хорошие и дурные свойства... тебе самому предоставляю избрать приличное тому поведение. Напрасно мучися, напрасно терзаеся [...] без ни крайности здоровье свое надоедаешь напрасно».[150]
О Васильчикове почти забыли, но для него эти дни должны были показаться настоящей пыткой. По отношению к тем, кого она не уважала — а она, несомненно, стыдилась его посредственности, — Екатерина была безжалостна. Васильчиков понимал, что никто не смог бы сыграть ту же роль, что Потемкин. «Положение совсем иное, чем мое, — говорил он о Потемкине. — Я был содержанкой. Так со мной и обращались. Мне не позволяли ни с кем видаться и держали взаперти. Когда я о чем-нибудь ходатайствовал, мне не отвечали. Когда я просил чего-нибудь для себя — то же самое. Мне хотелось анненскую ленту, и, когда я сказал об этом, нашел назавтра у себя в кармане 30 тысяч. А Потемкин, тот достигает всего, чего хочет. Он диктует свою волю, он «властитель»».[151]
«Властитель» настоял, чтобы «холодный суп» убрали со стола. Васильчиков освободил апартаменты в Зимнем дворце. Они стали залом заседаний Совета, потому что Потемкин отказался жить в чужих комнатах; для него обустраивались новые, а он пока переехал от Самойлова к Ивану Перфильрвичу Елагину.
В конце февраля его отношения с императрицей — уже не любовное ухаживание и не вспышка страсти: они живут как счастливая супружеская пара. Потемкин настолько уверен в себе, что пишет императрице письмо, в котором почти требует назначить его генерал-адъютантом. В этой должности состояло несколько человек; это были просто придворные. Но в данном случае смысл был ясен. Он добавляет, вполне в своем духе: «Сие не будет никому в обиду, а я приму за верх моего щастия».[152] Наверное, они вместе смеялись этой шутке. Его появление было «в обиду» всем, от Орловых до Паниных, от Марии Терезии и Фридриха Великого до Георга III и Людовика XVI. Оно изменило сначала внутренний политический ландшафт, а потом и союзнические отношения России. Письмо было передано через Стрекалова, как все прошения. Однако на этот раз ответ пришел гораздо быстрее обыкновенного.
«Господин Генерал-Порутчик!.. — отвечала она на следующий день. — Я прозьбу Вашу нашла... умеренну в рассуждении заслуг Ваших, мне и Отечеству учиненных». Обратиться с официальным прошением — очень по-потемкински. «Он был единственным из ее фаворитов, кто сам осмелился сделаться ее любовником», — как выразился один из мемуаристов. Екатерина оценила смелость своего возлюбленного: «...я приказала заготовить указ о пожаловании Вас Генерал-Адъютантом. Признаюсь, что и сие мне весьма приятно, что доверенность Ваша ко мне такова, что Вы прозьбу Вашу адресовали прямо письмом ко мне, а не искали побочными дорогами».[153]
С этого момента Потемкин становится одним из главных деятелей своего века.
«Здесь открывается совершенно новое зрелище, — докладывал 4 марта английский посланник сэр Роберт Ганнинг в Лондон графу Саффолку, министру по делам Северной Европы, — по мнению моему, заслуживающее более внимания, чем все события, происходившие здесь с самого начала этого царствования». Дипломаты, которые, как Ганнинг, сразу поняли, что Потемкин по масштабу своих дарований не идет ни в какое сравнение ни с Орловым, ни с Васильчиковым, сгорали от нетерпения узнать, что последует дальше. Интересно, что за несколько дней до его появления в качестве официального фаворита императрицы, даже не вхожие ко двору иностранцы сообщали своим государям, что Потемкин прибыл, чтобы любить императрицу — и помогать ей править. «Господин Васильчиков, чье понимание было слишком ограниченно чтобы допустить, что он имеет какое-либо влияние на дела или пользуется доверием своей возлюбленной, — объяснял Ганнинг, — заменен человеком, несомненно обладающим тем и другим, в высочайшей степени». Посол Фридриха Великого граф фон Сольмс шел в своих прогнозах еще дальше: «По-видимому Потемкин [...] сделается самым влиятельным лицом в России. Молодость, ум и положительность доставят ему такое значение, каким не пользовался даже Орлов».[154]
Главный союзник России испытывал еще большее отвращение, чем при появлении Васильчикова два года назад. Подробно информируемый Сольмсом, Фридрих II писал своему брату Генриху, коверкая имя нового героя — «генерал Патукин или Тапукин», — что его приход к власти «может обернуться весьма неблагоприятным для наших дел». И оставался верным своей философии: «Баба останется бабой, и при женском правлении п.... всегда будет иметь больше влияния, чем твердая политика, направляемая здравым рассудком».[155]
Русские придворные не менее пристально наблюдали за Потемкиным, фиксируя каждый шаг нового фаворита, каждый его новый бриллиант и украшение в его комнатах. Всякая деталь имела свое значение. «Мне представляется, что сей новый актер станет роль свою играть с великой живостью и со многими переменами, если только утвердится», — писал генерал Петр Панин князю Александру Куракину 7 марта. Очевидно, Панины думали, что им удастся использовать Потемкина, чтобы уничтожить кредит Орловых. «Новый генерал-адъютант дежурит постоянно вместо всех других, — писала графиня Сивере своему мужу, одному из первых сановников Екатерины. — Говорят, он очень скромен и приятен». Потемкин уже набирал влияние, каким никогда не располагал Васильчиков. «Если тебе что-нибудь нужно, мой дорогой, — сообщала графиня Румянцева своему супругу, фельдмаршалу, в армию, — попроси Григория Александровича».[156]
Екатерина поспешила поделиться своей радостью по поводу избавления от Васильчикова и обретения Потемкина со своим эпистолярным другом бароном Гриммом: «Я отдалилась от некоего превосходного, но весьма скучного человека, которого немедленно и сама точно не знаю как заменил величайший, забавнейший и приятнейший чудак, какого только можно встретить в нынешнем железном веке».[157]
Часть третья: ВМЕСТЕ (1774-1776)7. ЛЮБОВЬ
7. ЛЮБОВЬ
Les portes seront ouvertes... Pour moi je vais me coucher..{16}
Милушенька, как велишь: мне ли быть к тебе или ко мне пожалуешь?
Екатерина II Г.А. Потемкину
Потемкин был чудовищно богат Поместьями, деньгами и чинами В те дни, когда убийство и разврат Мужчин дородных делало богами. Он был высок, имел надменный взгляд И щедро был украшен орденами. В глазах царицы за один уж рост Он мог занять весьма высокий пост! Байрон. Дон Жуан. VII: 37. Пер. Т. ГйедичВ любви Екатерины и Потемкина все необыкновенно. Богато одаренные личности, они были поставлены судьбой в исключительное положение. И все же начавшийся между ними роман был похож на всякий роман. Страсть их пылала так бурно, что, следя за ее развитием, забываешь, что они управляли огромной империей, ведущей войну с внешним и внутренним врагом. Она — императрица, он — подданный, оба обладали непомерным честолюбием и жили в окружении дышащего соперничеством двора, подмечавшего каждую деталь и придающего политическое значение каждому взгляду. В потоке чувств они часто забывали себя — но ни она, ни он не были частными лицами: Екатерина всегда оставалась государыней, а Потемкин с первого дня был не просто фаворитом, но политиком высочайшего ранга.
По меркам своего времени любовники были далеко не молоды — Потемкину тридцать четыре, Екатерина на десять лет старше, — но это делало их отношения еще более трогательными. В феврале 1774 года Потемкин уже почти ничем не напоминал прежнего Алкивиада; его странная внешность в одинаковой мере поражала, отталкивала и притягивала. Огромный рост, по-прежнему подвижные черты лица; знаменитые каштановые волосы, длинные и нерасчесанные, иногда покрывались париком. Голова его имела несколько грушеобразную форму. В мягком очертании его профиля было что-то голубиное — возможно, отсюда прозвище, которым его так часто называла Екатерина. Лицо удлинненное, бледное и неожиданно чувствительное для такого гиганта: лицо скорее поэта, чем генерала. Рот был одной из самых красивых его черт: полные красивые губы и ровные белые зубы — большая редкость по тем временам; на подбородке ямочка. Правый глаз — голубой с зеленоватым отливом; левый — незрячий, полуприкрытый. Как говорил шведский дипломат Ян Якоб Йеннингс, встречавшийся с ним позднее, «дефект глаза» был не слишком заметным. Потемкин до конца жизни стеснялся этого изъяна и щурился, что придавало ему подчас уязвленный и немного пиратский вид. «Дефект» действительно делал этого великана похожим на какое-то мифическое существо. Панин называл его «lе Borgne» — слепцом, — но остальные по примеру Орловых — Циклопом.[158]
Дипломатический корпус был заинтригован. «Его фигура огромна и непропорциональна, а внешность далеко не притягательна», — писал Ганнинг, но: «Похоже, что Потемкин прекрасно знает людей и более проницателен, чем его соотечественники, и обладает при том такой же ловкостью в интриге и гибкостью, как каждый из них. Хотя манеры его отличаются исключительной распущенностью, он один поддерживает хорошие отношения с духовенством. Эти качества могут давать ему надежду подняться на ту высоту, на которую претендует его непомерное честолюбие».[159]
Сольмс сообщал, что «Потемкин высок ростом, хорошо сложен, но имеет неприятную наружность, так как сильно косит. [...] При его молодости и уме генералу Потемкину будет легко занять в сердце императрицы место Орлова, которого не умел пополнить Васильчиков».[160]
Манеры его напоминали то обитателя Версаля, то кого-то из его друзей-казаков — вот почему Екатерина называла его то казаком, то татарином, то именем какого-нибудь дикого животного. Его современники сходились во мнении, что в этом диковатом человеке, одновременно красивом и уродливом, смешивались первобытная энергия, почти животная сексуальность, неподражаемая оригинальность, завораживающий ум и удивительная чувствительность. Его либо любили, либо ненавидели.
Екатерина по-прежнему оставалась красивой, привлекательной для мужчин и величественной женщиной. Высокий открытый лоб, живой взгляд голубых глаз, черные ресницы, красиво очерченный рот, нос с небольшой горбинкой, белая матовая кожа. Из-за своей гордой осанки она казалась выше своего роста. Чтобы скрыть начинающуюся полноту, она носила «широкие платья с пышными рукавами, напоминавшие старинный русский наряд». Все отмечали ее «гордое достоинство, смягченное грацией»; «по-прежнему красивая, необыкновенно умная и проницательная, но романтичная в своих сердечных предпочтениях».[161]
Екатерина II Потемкин стали неразлучны. Разделенные несколькими комнатами, они писали друг другу письма. Оба прекрасно владели пером — и, к счастью для нас, придавали словам большое значение. Иногда они обменивались записками по нескольку раз в день. Эти тайные любовные записки, в которых речь шла и о делах государственной важности, чаще всего неподписаны. Почерк Потемкина, на удивление мелкий для такого великана, со временем становится все хуже и к концу его жизни делается едва читаемым. Русский язык перемежается с французским; первый часто используется для государственных вопросов, а второй — для сердечных материй. До нас дошло более тысячи этих посланий: история многолетнего любовного и политического партнерства. Некоторые типичны для своего века, но другие написаны как будто сегодня. Одни не могли быть написаны никем, кроме императрицы и государственного деятеля; другие говорят вечным — и обычным — языком любви.
Екатерина обращается к своему возлюбленному: «душенька», «голубчик», «сокровище». Потом появляется чисто русское: «батюшка», «батенька», «батя» или «папа» — и бесконечные уменьшительные от Григория — Гриша, Гришенька, Гришенок и даже Гришефишенька. В разгар их любви имена становятся еще более колоритными: tonton (юла), «гяур», «казак», «тигр», «лев», «фазан» и другие, передающие сочетание силы и нежности. Если он «заносился», она переходила на шутливо-официальный тон: «милостивый государь мой», «господин подполовник». Давая ему новый титул, она непременно использовала его в обращении: «гневный и превозходительный господин генерал-аншеф и разных орденов кавалер».
Потемкин же пишет либо «матушка», либо «Всемилостивейшая государыня» — старинные русские обращения к царице — и совсем не называет ее Катенькой, как будут делать некоторые ее любовники после него. Это вызвано не недостатком чувства, а скорее глубоким уважением к своей повелительнице. Так, посланцев, приносивших письма Екатерины, он заставлял вставать на колени, пока составлял ответ. Этот романтизм забавлял Екатерину: «Напиши пожалуй, твой церемониймейстер каким порядком к тебе привел сегодня моего посла и стоял ли по своему обыкновению на коленях?»
Потемкин всегда волновался, что их письма могут перехватить. Некоторые из его ранних посланий аккуратная императрица сжигала сразу по прочтении, поэтому от первого периода их отношений сохранились в основном ее записки — и те его письма, на которых она писала свои ответы. Лучше сохранились его послания за более поздние годы, в которых в равной степени трактуется о делах государственных и личных. Потемкин хранил драгоценные письма в тугом свертке, перевязанном бечевкой, иногда носил с собой в кармане или на груди, чтобы иметь возможность перечитать в любой момент. «Гришенька, здравствуй, — начинает Екатерина, вероятно, одно из мартовских писем 1774 года. — Я здорова и спала хорошо [...] Боюсь я — потеряешь ты письмы мои: у тебя их украдут из кармана и с книжкою. Подумают, что ассигнации, и положат в карман, как ладью костяную».[162] Но, к счастью для нас, письма по-прежнему были при нем и семнадцать лет спустя, когда он умер.
Когда 9 апреля двор вернулся из Царского Села, Потемкин переехал из дома Елагина, где жил с тех пор, как стал любовником императрицы, в только что отделанные для него апартаменты Зимнего дворца: «Говорят, они великолепны», — писала графиня Сивере на следующий день. Потемкина привыкают видеть повсюду в городе: «Я часто вижу Потемкина, который носится в карете шестеркой». Его роскошная карета, породистые лошади и скорая езда становятся неотъемлемой частью его образа. Обычно он присутствовал на выходах императрицы. 28 апреля, когда Екатерина посещала театр, Потемкин сидел в ее ложе и «говорил с императрицей все представление; он пользуется полным ее доверием», — отмечала Сиверс.[163]
Новые комнаты Потемкина в Зимнем дворце располагались прямо под покоями императрицы. Окна тех и других выходили на Дворцовую площадь и на внутренний двор. Желая посетить Екатерину — в любой момент, без доклада, — Потемкин поднимался по винтовой лестнице, устланной зеленым ковром. Зеленый был цветом любви: такой же вид имела лестница, соединявшая апартаменты Людовика XV с будуаром маркизы Помпадур.
Потемкин получил апартаменты во всех императорских дворцах, включая Летний дворец в Петербурге и Петергофскую резиденцию, но за городом они больше всего времени проводили в Екатерининском (или Большом) дворце Царского Села, где Потемкин проходил в спальню государыни по такому холодному коридору, что они часто предостерегали друг друга в письмах о том, чтобы не простудиться. «Сожалею, душа беспримерная, что недомогаешь. Вперед по лестнице босиком не бегай, а естьли захочешь от насморка скорее отделаться, понюхай табак крошичко».[164] Они редко оставались вместе на всю ночь (что позже Екатерина будет разрешать другим фаворитам), потому что Потемкин любил играть в карты до поздней ночи, а потом лежать все утро, тогда Как Екатерина просыпалась рано. Она следовала распорядку дня немецкой классной дамы — хотя и наделенной изрядной чувственностью, — а он вел жизнь закоренелого вояки.
На вечера Екатерины, где собирался интимный круг, Потемкин часто врывался в турецком халате, надетом обычно на голое тело и плохо прикрывающем ноги и волосатую грудь. Как бы ни было холодно, он носил туфли на босу ногу; зимой иногда набрасывал шубу — и присутствующие затруднялись определить, имеют ли дело с денди или с грубияном. Довершался наряд этого персонажа восточной вольтеровской драмы розовым платком на голове. С самых первых дней их романа Потемкин поставил себя в исключительное положение: например, мог не явиться на зов государыни. В ее комнатах он появлялся, когда хотел сам, всегда без доклада, не дожидаясь приглашения. Он входил и выходил, как медведь-шатун — то самый остроумный из гостей вечеринки, то угрюмый невежа, не приветствующий даже императрицу.
Вкусы у него были «варварские, истинно московитские»; пищу он любил «больше всего простонародную, особенно пирожки И сырые овощи» — и держал эти кушанья у своей кровати.[165] Поднимаясь наверх, он мог грызть яблоко, репу, редиску или чеснок, ведя себя в Зимнем дворце так же, как в детстве, когда бегал с дворовыми мальчишками вокруг Чижево. Выбор князем этих закусок, типичных для народа его страны, был осознанным и имел такой же политический смысл, как красные норфолкские яблоки, которые любил держать под рукой Гораций Уолпол.
Столь неприличное поведение шокировало и придворных, и щепетильных дипломатов, но когда он считал нужным, Потемкин являлся в безупречном кафтане или военном мундире и держался очень чопорно. Задумавшись, что часто с ним случалось, он начинал грызть ногти. «Первый ногтегрыз в Российской империи», называла его Екатерина.[166] Вывесив в Малом Эрмитаже правила поведения в своем кружке, Екатерина, несомненно, именно ему адресовала пункт 3: «Быть веселым, однако ж ничего не портить, не ломать и ничего не грызть».
Потемкинские привычки вторгались и в быт Екатерины: в ее гостиной он поставил турецкий диван. «Мистер Том [английская борзая] громко храпит у меня за спиной на турецком диване, учрежденном генералом Потемкиным», — сообщала она Гримму. Его вещи были разбросаны по ее аккуратным комнатам. «Долго ли это будет, что пожитки свои у меня оставляешь. Покорно прошу, по-турецкому обыкновению платки не кидать. А за посещение словесно так, как письменно, спасибо до земли тебе скажу и очень тебя люблю».[167]
Ни дружбу, ни тем более любовь невозможно разложить на составные части. И все же их отношения основывались на сексе, смехе, восхищении умом друг друга и властолюбии — в последовательности, непрерывно менявшейся. Его остроумие, заставившее ее смеяться двенадцать лет назад» оставалось тем же. «Говоря об оригиналах, которые меня смешат, и особливо о генерале Потемкине, — писала она Гримму 19 июня 1774 года, — он нынче более в моде, чем другие, и смешит меня так, что я держусь за бока». Письма пронизаны ее смехом — и честолюбием, и взаимным притяжением: «Миленький, какой ты вздор говорил вчерась. Я и сегодня еще смеюсь твоим речам. Какие счастливые часы я с тобою провожу».[168]
Потемкин успешно соревновался с «мистером Томом», кто устроит больше беспорядка в царских покоях. Ее письма к Гримму переполнены рассказами о дурачествах Потемкина. «Я шью новую подстилку для Тома [...] генерал Потемкин уверяет, что прежнюю украл он».[169] Позднее Потемкин поселит во дворце обезьяну.
Екатерина никогда не скучала с Потемкиным и всегда скучала без него. Не видя его некоторое время, она начинала ворчать: «Я скучаю смертельно. Когда я снова увижу Вас?» Она гордилась его притягательностью для других женщин и длинным списком побед: «Не удивляюсь, что весь город безсчетное число женщин на твой щет ставил. Никто на свете столь не горазд с ними возиться, я чаю, как Вы. Мне кажется, во всем ты не рядовой, но весьма отличаешься от прочих».[170]
“Миленький, и впрямь, я чаю, ты вздумал, что я тебе сегодня писать не буду. Я проснулась в пять часов, теперь седьмой *— быть писать к нему... От мизинца моего до пяты и от сих до последнего волоску главы моей зделано от меня генеральное запрещение сегодня показать Вам малейшую ласку. А любовь заперта в сердце за десятью замками. Ужасно, как ей тесно. С великою нуждою умещается, того и смотри, что где ни на есть — выскочит. Ну сам рассуди, ты человек разумный, можно ли в столько строк более безумства заключить. Река слов вздорных из главы моей изтекохся. Каково-то тебе мило с таковою разстройкою ума обходиться, не ведаю. О, Monsieur Potemkine, quel fichu miracle Vous aves opere de diranger ainsi une tete, qui ci-devant dans le monde passoit pour etre une des meilleures de Europe?{17} Право пора и великая пора за ум приняться. Стыдно, дурно, грех, Ек[атерине] Вт[орой] давать властвовать над собою безумной страсти. Ему самому ты опротивися подобной безрассудностью [...] Пора перестать, а то намараю целую метафизику сентиментальную, которая тебя наконец рассмешит, а иного добра не сделает [...] Прощай, Гяур, москов, казак...[171]”
Любовь в эти месяцы тесно перемешана с делами: «Я тебя люблю чрезвычайно, — пишет она в апреле, — и, когда ты ко мне приласкаешься, моя ласка всегда твоей поспешно ответствует», — и далее продолжает об устройстве состояния Павла Потемкина, которому собирается поручить комиссию по расследованию причин пугачевского мятежа: «По Павла послать надобно».[172]
Екатерина буквально не могла обходиться без него: однажды вечером, когда он не пришел, она «встала, оделась и пошла в вивлиофику к дверям, чтоб Вас дождаться, где в сквозном ветре простояла два часа; и не прежде как уже до одиннадцатого часа в исходе я пошла с печали лечь в постель, где по милости Вашей пятую ночь проводила без сна».[173]
Если он был занят, она не решалась ему мешать — и к тому же не могла позволить себе столкнуться с кем-нибудь из слуг или секретарей: «Я приходила, а у тебя, сударушка, люди ходят [...] Я искала к тебе проход, но столько гайдуков и лакей нашла на пути, что покинула таковое предприятие к вышнему моему сожалению [...] Я к Вам прийти не могла по обыкновению, ибо границы наши разделены шатающимися всякого рода животными».[174]
Ученица Вольтера и поклонница Дидро не устает жаловаться, что потеряла рассудок. Просвещенная монархиня начинает говорить языком школьницы: «Чтоб мне смысла иметь, когда ты со мною, надобно, чтоб я глаза закрыла, а то заподлинно сказать могу того, чему век смеялась: “что взор мой тобою пленен”». Намекает ли она на ту песню, которую он сочинил ей? «Глупые мои глаза уставятся на тебя смотреть: разсужденье ни в копейку в ум не лезет, а одурею Бог весть как». Он снится ей: «Со мною зделалась великая диковинка: je suis devenue somnambule»{18}. Она рассказывает, как встретила «прекрасного человека» — а потом проснулась: «теперь я везде ищу того красавца, да его нету [...] Куда как он мил! Милее целого света. [...] Миленький, как ты его встретишь, поклонись ему от меня и поцалуй его».[175]
Естественно, ходили слухи о необычайных мужских достоинствах Потемкина — а также о том, что Екатерина заказала сделать с них слепок. Это звучит не более правдоподобно, чем другие истории про Екатерину в этом же роде, однако рассказы о «славном оружии» Потемкина вошли в петербургскую мифологию.{19} [176]
На первом этаже Зимнего дворца, под часовней Екатерины, находилась ее баня, где, как можно понять, происходила значительная часть их встреч.{20} «Голубчик, буде мясо кушать изволишь, то знай, что теперь все готово в бане. А к себе кушанье оттудова отнюдь не таскай, а то весь свет сведает, что в бане кушанье готовят».[177]
Любовники много и подробно пишут о здоровье: «Adieu, Monsieur, — заканчивает она одно из утренних посланий, — напиши пожалуй, каков ты сегодни: изволил ли опочивать, хорошо или нет, и лихорадка продолжается и сильна ли?.. Куда как бы нам с тобою было весело вместе сидеть и разговаривать». Когда жар спал, она уговаривает его прийти: «Во-первых, прийму тебя в будуаре, посажу возле стола, и тут Вам будет теплее и не простудитесь, ибо тут из подпола не несет. И станем читать книгу, и отпущу тебя в пол одиннадцатого». Он поправляется — но теперь занемогла она: «Я спала хорошо, но очень немогу, грудь болит и голова, и, право, не знаю, выйду ли сегодни или нет. А естьли выйду, то это будет для того, что я тебя более люблю, нежели ты меня любишь, чего я доказать могу, как два и два — четыре. Выйду, чтоб тебя видеть. Не всякий вить над собою столько власти имеет, как Вы. Да и не всякий так умен, так хорош, так приятен».[178]
Потемкин был известен своей ипохондрией — болезненной тревогой о собственном здоровье, — но, и здорового и больного, нервное напряжение не покидало его, и иногда Екатерина переходит на тиранический тон немецкой матроны, приказывая ему успокоиться: «Пора быть порядочен. Я не горжусь, я не гневаюсь. Будь спокоен и дай мне покой. Я скажу тебе чистосердечно, что жалею, что неможешь. А баловать тебя вынужденными словами не буду». Но когда он заболевал серьезно, она не скупилась на ласковые слова: «Душа моя милая, безценная и безпримерная, я не нахожу слов тебе изъяснить, сколько тебя люблю. А что у тебя понос, о том не жалей. Вычистится желудок...»[179]
Потемкин требовал все больше и больше внимания. Он желал подтверждений, что она думает о нем всегда, а в противном случае обижался. «Позволь доложить... — успокаивала она «друга милого и любезного» после очередной его обиды, — что я весьма помню о тебе» А сей час, окончив тричасовое слушанье дел, хотела поддать спросить. И понеже не более десяти часов, то пред тем опасалась, что разбудят тебя. И так не за что гневаться, но в свете есть люди, кои любят находить другим людям вины тогда, когда надлежало им сказать спасибо за нежную атенцию всякого рода». Рассердившись по-настоящему, она этого не скрывала: «Вы и вам дурак, ей Богу ничего не прикажу, ибо я холодность таковую не заслуживаю, а приписую ее моей злодейке проклятой хандре». Она терпела перепады его настроения, находила его страстность лестной и старалась понять его огорчения: «Вздор, душенька, несешь. Я тебя люблю и буду любить вечно противу воли твоей». Ее любовь стремилась успокоить и утешить вечно от чего-то страдающую и мятущуюся душу: «Прийди ко мне, чтоб я могла успокоить тебя безконечной лаской моей».[180]
Его меняющееся настроение становилось предметом их игр. «Что-то написано было на сем листе? — спрашивает она, делая вид, что не прочла одно из его бешеных посланий. — Уж верно брань, ибо превосходительство Ваше передо мною вчерась в том состояло, что Вы были надуты посереди сердца, а я с сокрушенным сердцем была ласкова и искала с фонарем любви Вашей утомленную ласку, но до самого вечера оная обретать не была в силе [...] Брань родилась третьего дни оттого, что я чистосердечно искала дружески [...] изъясниться с Вами о таких мыслях, кои [...] были в собственную Вашу пользу. Вчерась же вечеру я поступала с лукавством нарошно. Признаюсь, нарошно не посылала к Вам до девяти часов, чтоб видеть, приидешь ли ко мне, а как увидела, что не идешь, то послала наведаться о твоем здоровье. Ты пришел и пришел раздут. Я притворялась, будто не вижу [...] погоди маленько, дай перекипеть оскорбленному сердцу. Ласка сама придет везде тут, где ты сам ласке место дашь». Возможно, после этого он посылает ей чистый лист бумаги. Императрице обидно, но одновременно и смешно. Она вознаграждает его почти полной энциклопедией его прозвищ: «Гяур, Москов, казак яицкий, Пугачев, индейский петух, павлин, кот заморский, фазан золотой, тигр, лев в тростнике».[181]
Под внешне холодным немецким темпераментом Екатерина скрывала такой эмоциональный голод, который задушил бы любого мужчину, не говоря о беспокойном Потемкине. Получавший все, чего он желал, поднимаясь все выше и выше, избалованный любимой им женщиной, он превратился в такой клубок нервов, поэтически экзальтированных чувств и славянского своенравия, что был не в состоянии просто быть счастливым: «...спокойствие есть для тебя чрезвычайное и несносное положение». Чтобы дышать, ему нужен был простор. Его непоседливость притягивала ее, но и оскорбляла: «Я пришла тебя будить, а не то, чтоб спал, и в комнате тебя нету. И так вижу, что только для того сон на себя всклепал, чтоб бежать от меня. В городе, по крайней мере, бывало сидишь у меня, хотя после обеда с нуждою несколько, по усильной моей прозьбе, или вечеру; а здесь [в Царском Селе] лишь набегом. Гаур, казак москов. Побываешь и всячески спешишь бежать... естьли одиножды принудишь меня переломить жадное мое желанье быть с тобою, право, холоднее буду. Сему смеяться станешь, но, право, мне не смешно видеть, что скучаешь быть со мною и что тебе везде нужнее быть, окроме у меня».[182] Однако Потемкин умел манипулировать людьми не хуже самой императрицы: избегая ее, он приводил ее в отчаяние. Живой ум Потемкина быстро утомлялся, хотя общество Екатерины никогда не заставляло его скучать. У них было слишком много общего.
Несмотря на воспитание в духе идей Просвещения, Потемкину, человеку традиционного русского склада, было нелегко поддерживать ровные отношения с женщиной, обладающей не только большей властью, чем он, но и полностью независимой от него. Потемкин держал себя высокомерно и часто распущенно, но он находился в очень двусмысленном положении, как в политическом, так и в личном плане — и потому мучил Екатерину. Он дико ревновал ее к другим мужчинам. Она обожала его всей душой — и все же роль официального любовника его не устраивала.
Сначала он ревновал к Васильчикову. Екатерина поручила ему самому определить условия отставки прежнего фаворита: человеку «умнее меня отдаю на размышление сию статью». Потемкин и Елагин устроили Васильчикова прекрасно, хотя, конечно, по сравнению с тем, что жаловали потом его преемникам, весьма скромно. Васильчиков получил полностью отделанный дом, 50 тысяч рублей «на учреждение дома», 5 тысяч пенсии и серебряный сервиз на двадцать четыре персоны (без сомнения, включавший супницу для холодного супа). Бедному Васильчикову пришлось «низко кланяться» и благодарить Потемкина — впрочем, было за что благодарить.[183] И при всем том он не мог смириться с тем, что Екатерина может расстаться с ним самим точно так же легко, как с «холодным супом».
«Нет, Гришенька, *— отвечает она ему после какой-то ссоры, — статься не может, чтоб я переменилась к тебе. Отдавай сам себе справедливость: после тебя можно ли кого любить. Я думаю, что тебе подобного нету... Как бы то ни было, но сердце мое постоянно. И еще более тебе скажу: я перемену всякую не люблю». Репутация распутницы удручает ее: «Quand Vous me connaitres plus, Vous m’estimeres, car je Vous jure que je suis estimable. Je suis extremement veridique, j’aime la verite, je hais le changement, j’ai horriblement souffert pendant deux ans, je me suis brule les doigts, je ne reviendrai plus, je suis parfaitement bien... si Vous continuees a avoir l’esprit alarme sur des propos de commer, saves Vous ce que je ferai? Je m’enfermerai dans ma chambre et je ne verrai personne excepte Vous, je suis dans le besoin [de] prendre des parties extremes et je Vous aime au-dela de moi-meme»{21}.[184]
Она выказывала ангельское терпение — но всякое терпение имеет предел: «Буде Ваша глупая хандра прошла, то прошу меня уведомить, ибо мне она кажется весьма продолжительна, как я ни малейшую причину, ни повода Вам не подала к такому великому и продолжительному Вашему гневу. И того для мне время кажется длинно, а, по нещастию, вижу, что мне одной так и кажется, а вы лихой татарин».[185]
Их отношения, казалось, держались на этих перепадах — однако оба от них уставали. Парадоксальным образом, его выходки поддерживали уважение и любовь Екатерины, хотя, конечно, он спекулировал своим неровным характером. Ее восхищала его страстность, ей льстила его ревность, но, ничем не сдерживаемый, он иногда заходил слишком далеко. «Фуй, миленький, как тебе не стыдно, — выговаривает она ему. — Какая тебе нужда сказать, что жив не останется тот, кто место твое займет. Похоже ли на дело, чтоб ты страхом захотел приневолить сердце [...] Признаться надобно, что и в самом твоем опасеньи есть нежность. Но опасаться тебе причины никакой нету. Равного тебе нету. Я с дураком пальцы обожгла. И к тому я жестоко опасалась, чтоб привычка к нему не зделала мне из двух одно: или навек безщастна, или же не укротила мой век... Теперь читай в душе и в сердце моем. Я всячески тебе чистосердечно их открываю, и естьли ты сие не чувствуешь и не видишь, то недостоен будешь той великой страсти, которую произвел во мне...»[186]
Потемкин потребовал полного отчета. Он объявил, что ему предшествовало пятнадцать любовников, то есть открыто обвинил императрицу в безнравствености. Чтобы успокоить его ревность, Екатерина составила «Чистосердечную исповедь» — совершенно удивительный документ для любого века. Исповедально-женский тон, кажется, принадлежит нашему времени, светская и практичная мораль — восемнадцатому столетию. Чувства влюбленности и чести не изменяются. Других примеров, когда монархиня подобным образом давала бы объяснения по поводу своей интимной жизни, мы не знаем. Она описывает четырех любовников, предшествовавших Потемкину — Салтыкова, Понятовского, Орлова и Васильчикова. Об отношениях с первым и последним она сожалеет. Потемкин предстает сказочным героем, богатырем. «Ну, Госп[один] Богатырь, после сей исповеди могу ли я надеяться получить отпущение грехов своих. Изволишь видеть, что не пятнадцать, но третья доля из сих: первого да четвертого из дешперации я думала на счет легкомыслия поставить никак не можно; о трех прочих, еcтьли точно разберешь, Бог видит, что не от распутства, к которому никакой склонности не имею, и еcтьли б я в участь получила смолоду мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась».[187]
А затем она признается в том, что считает неотъемлемом качеством своей натуры: «Беда та, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви». Это не нимфомания, в которой столько обвиняли Екатерину, а потребность в эмоциональном Комфорте. Восемнадцатый век назвал бы это признанием в чувствительности; девятнадцатый — поэтической декларацией романтической любви; сегодня мы видим в этих строках только одну грань сложной, страстной натуры.
Их взаимная любовь была огромна, хотя крутой нрав и властность Потемкина делали ее бурной и неспокойной. Тем не менее Екатерина заканчивает свою исповедь предложением: «...есть ли хочешь на век меня к себе привязать, то покажи мне столько же дружбы, как и любви, а наипаче люби и говори правду».
8. ВЛАСТЬ
Она от него без ума.
Она должны очень любить друг друга, так как
вполне схожи между собой.
Иван Елагин Дюрану де Дистроффу
«Эти два великих характера казались созданными друг для друга», — писал Массон. — Сначала он обожал свою государыню как любовницу, а потом нежно любил как свою славу».[188] Сходство их честолюбия и талантов было и основанием их любви, и ее проклятием. Великая любовь императрицы открыла новую политическую эру: всем сразу стало ясно, что, в отличие от Васильчикова и даже Григория Орлова, Потемкин способен проявить свое влияние и жаждет сделать это как можно скорее. Но в начале 1774 года, в самой сложной ситуации за годы екатерининского царствования, обоим приходилось проявлять осторожность: в прикаспийских областях, на юге Урала, на востоке от Москвы бушевало пугачевское восстание — и дворянство было взволновано. Турки по-прежнему не хотели подписывать мир, а армия Румянцева устала и страдала от болезней. Неверный шаг в отношении Пугачева, поражение в дипломатической игре с турками, провокация против Орловых, оскорбление гвардии — любое из этих действий могло бы стоить любовникам жизни.
Для того чтобы они не строили никаких иллюзий, Алексей Орлов-Чесменский решил продемонстрировать им, что внимательно наблюдает за светящимся окном императорской бани. Братьям Орловым, изрядно упрочившим свое положение по сравнению с 1772 годом, возвышение Потемкина угрожало в первую очередь.
«Ал[ексей] Григорьевич] у меня спрашивал сегодня, смеючись, сие:
— Да или нет?
На что я ответствовала:
— Об чем?
I На что он сказал:
По материи любви.
Мой ответ был:
— Я солгать не умею.
Он паки вопрошал:
— Да или нет?
Я сказала:
— Да.
Чего выслушав, расхохотался и молвил:
— А видитеся в мыленке ?
Я спросила: «Почему он сие думает ?»
Потому, дескать, что дни с четыре в окошке огонь виден был попозже обыкновенного. Потом прибавил: «Видно было и вчерась, что условленность отнюдь не казать в людях согласия меж вами, и сие весьма хорошо».[189]
Екатерина пересказала этот разговор своему любовнику; вероятно, они вместе посмеялись, как озорные дети, с удовольствием шокирующие взрослых. Но в шутках Алексея Орлова всегда было что-то мрачное.
Потемкин с первых дней начал помогать Екатерине. Они старались согласовывать свою игру. «Веди себя при людях умненько, — говорит она ему, — и так, чтоб прямо никто сказать не мог, чего у нас на уме, чего нету». Потемкин вселял в нее чувство, что нет ничего невозможного, что все их мечты о славе выполнимы и все проблемы будут решены.[190]
Очень скоро Екатерина ощутила давление, направленное против Потемкина. В начале марта кто-то из ее окружения, некто Аптекарь — возможно, Панин или один из Орловых — советовал ей отдалить его от себя: «Был у меня тот, которого Аптекарем назвал [...] Хотел мне доказать неистовство моих с тобою поступков и, наконец, тем окончил, что станет тебя для славы моей уговаривать тебя ехать в армию, в чем я с ним согласилась. Они все всячески снаружи станут говорить мне нравоучения [...] Я же ни в чем не призналась, но и не отговорилась, так чтоб [не] могли пенять, что я солгала».[191]
Екатерина стремилась предотвратить конфликт с Орловыми: «...одного прошу не делать: не вредить и не стараться вредить Кн[язю] Ор[лову] в моих мыслях, ибо я сие почту за неблагодарность с твоей стороны. Нет человека, которого он более мне хвалил и, по видимому мне, более любил и в прежнее время и ныне до самого приезда твоего, как тебя. А естьли он свои пороки имеет, то ни тебе, ни мне непригоже их расценить и разславить. Он тебя любит, а мне оне друзья, и я с ними не расстанусь».[192]
Потемкин требовал места в правительстве. Самыми важными ведомствами были военное и внешнеполитическое. Вернувшись с Дуная прославленным воином, он, естественно, обратил свои взоры на Военную коллегию. Уже 5 марта 1774 года, через неделю после его назначения генерал-адъютантом, Екатерина передает приказы Захару Чернышеву, президенту Военной коллегии и союзнику Орловых, через Потемкина.[193] Пугачевское восстание способствовало возвышению Потемкина. В неудачной борьбе с Пугачевым обвиняли Захара Чернышева, которому победы Румянцева не принесли никаких дивидендов: в случаях общественных катастроф любое правительство нуждается в том, чтобы свалить на кого-нибудь вину. «Граф Чернышев очень встревожен и все твердит, что подаст в отставку». 15 марта Екатерина назначает Потемкина подполковником Преображенского гвардейского полка (сама она числилась его полковником). Прежде этот пост занимал Алексей Орлов, то есть назначение свидетельствовало о высшей степени ее благоволения. Кроме того, он стал поручиком кавалергардов. «Их было всего шестьдесят человек; выбирались по желанию каждого; высокого росту, из дворян; они все считались поручиками в армии; капралы были штаб-офицеры, вахтмейстер — полковник, корнет — генерал-майор, поручик [...] Потемкин; ротмейстер — сама императрица; должность их была стоять по двое на часах у тронной, а когда императрица хаживала пешком в Александро-Невский монастырь [...] то они все ходили пешком по сторонам ее; мундир их парадный был синий бархатный, обложен в виде лат кованым серебром, и шишак тоже из серебра и очень тяжел».[194]
Потемкин знал, что со всеми придворными партиями справиться невозможно, и потому стал «учтив предо всеми», как писала графиня Румянцева, — особенно перед Паниным. Панин казался «более довольным», чем до появления Потемкина; но говорили также, что Потемкин, «имеющий вообще репутацию лукавого и злого человека», может «воспользоваться добротой Панина».[195]
С помощью Панина Потемкин надеялся нейтрализовать великого князя цесаревича Павла, который жаждал роли, соответствующей его положению. Павел не любил Орлова, но нового фаворита возненавидел еще больше, сразу почувствовав, что тот обеспечит его изоляцию. Нанося визит матери, Павел столкнулся с Потемкиным и, поборник прусской военной дисциплины, выказал недовольство его нарядом. «Батинька, В[еликий] К[нязь] ко мне ходит по вторникам и по пятницам от 9 до 11 часов. Изволь сие держать в памяти вашей».[196] Хорошо еще, что Павел не застал Потемкина в незапахнутом халате, с платком на голове.
Панин попытался склонить раздраженного цесаревича на сторону «умного» фаворита.[197] В результате Потемкин использовал Панина, который думал, что использует Потемкина.
Сначала Потемкин сконцентрировал свои усилия на уральском мятеже. 22 марта генерал Александр Бибиков разбил 9-тысячную армию Пугачева, снял осаду Оренбурга, Уфы и Яицкого городка и выгнал самозванца из его «столицы» Берды. Фаворит предложил своего троюродного брата, Павла Сергеевича Потемкина, на пост главы Тайной комиссии, которая учреждалась в Казани для изыскания причин мятежа (подозревали козни французов и турок) и наказания преступников. Екатерина приказала Захару Чернышеву вызвать Павла Потемкина с турецкого фронта.
Павел Сергеевич был истинным представителем культуры своего века: бравый воин, тонкий придворный, поэт и полиглот, первый переводчик Руссо на русский язык. Как только он прибыл в Петербург, Екатерина отправила его к Бибикову.[198] Теперь, когда Бибиков был близок к поимке Пугачева, а Павел Потемкин спешил помочь ему покончить с неприятными деталями, влюбленные сосредоточились на русско-турецкой войне.
«Что значит, матушка, артикулы, которые подчеркнуты линейками?» — читаем каракули Потемкина на проекте мирного соглашения. Ниже — объяснение Екатерины: «Значит, что прибавлены и на них надстоять не будут, буде спор бы об них был». Призванный в советники императрицы, он немедленно начал работать вместе с ней над инструкциями для фельдмаршала Румянцева. Сначала наблюдатели решили, что он пытается низвергнуть своего бывшего начальника. Легенда утверждает, что Потемкин всю жизнь завидовал тем, кто имел несчастье равняться с ним талантом. Это не так. «Говорили, что он не хорош с Румянцевым, — сообщал Сольмс Фридриху, — но теперь я узнал, что, напротив того, он дружен с ним и защищает его от тех упреков, которые ему делают здесь». Жена фельдмаршала также с удивлением отмечает:
«Григорий Александрович столько много тебе служит во всяком случае и, пожалуй, поблагодари его. Вчерась он мне говорил, чтобы ты к нему обо всем писал прямо».[199]
Чтобы подтолкнуть турок к столу переговоров, требовался какой-то энергичный ход, но для запланированной переправы через Дунай истощенная армия Румянцева нуждалась в подкреплении.
В конце марта 1774 года Потемкин убедил Екатерину «дать полную мочь П.А. Румянцеву, и тем, — по ее собственному выражению, — кончилась война».[200] Румянцев получил полномочия провести переговоры на месте согласно инструкциям, данным ему Екатериной и Потемкиным, но без необходимости сноситься с Петербургом. 10 апреля фельдмаршалу послали новые мирные условия, отредактированные Потемкиным. Но тут умер султан Мустафа III.
На турецкий престол вступил его брат Абдул-Хамид. Французы — а возможно, и двуличные пруссаки — подстрекали Порту к продолжению войны: Фридрих, хотя и завладев изрядным куском Польши, продолжал завидовать русским завоеваниям на юге. Переговоры надо было снова завоевывать. Румянцев приготовился переходить Дунай.
Первым шагом Потемкина к власти стало вступление в члены Государственного совета, консультативного военного кабинета, созданного Екатериной еще в 1768 году. Возвышение фаворита описывали как быстрое и легкое, но на самом деле благосклонность императрицы отнюдь не гарантировала ему власти. Потемкин считал, что он готов заседать в Совете, однако немногие были того же мнения. Кроме того, все члены Совета имели чин первого или второго класса по табели о рангах, а Потемкин — лишь третий.
«Я не член Совета, — говорил он французскому дипломату де Дистроффу. — Почему же вы не сделаетесь им? — Этого не желают, но я заставлю».[201] Такая откровенность удивила француза. Почти всех дипломатов он шокировал своими откровенными репликами «в сторону». Послы понимали, что, проведя всего несколько месяцев в алькове императрицы, Потемкин жаждет скорее получить реальную власть и не терпит промедлений.
Когда двор переехал на лето 1774 года в Царское Село, Екатерина все еще отказывалась назначить его в Совет. «В субботу, когда я сидел за столом рядом с ним и с императрицей, — записал Дистрофф, — я увидел, что он не только не разговаривает с ней, но даже не отвечает на ее вопросы. Она была вне себя, и все мы в большом смущении. Молчание нарушил шталмейстер [Лев Нарышкин], но и тому не удалось оживить беседу. Встав из-за стола, императрица удалилась и потом вернулась с заплаканным лицом».[202] Добился ли Потемкин своего?
«Миленький, — писала Екатерина 5 мая, — как ты мне анамесь говорил, чтоб я тебя с чем-нибудь послала в Совет сегодня, то я заготовила записку, которую надлежит вручить Кн[язю] Вяземскому. И так, естьли итти захочешь, то будь готов в двенадцать часов или около того. А записку и с докладом Казанской Комиссии при сем прилагаю». Это кажется разовым поручением, но фактически она приглашала Потемкина принять участие в Совете. Вручив записку генерал-прокурору, Потемкин уселся за главный стол — и остался за ним навсегда. «Ни в одной другой стране, — сообщал Ганнинг в Лондон на следующий день, — фавориты не возвышаются так быстро. К величайшему удивлению членов Совета, генерал Потемкин занял место среди них».[203]
Примерно в это время Казанская Тайная комиссия открыла «заговор»: план убийства Екатерины в Царском Селе. Пойманный пугачевец признался на допросе, что посланы убийцы. Екатерина не принимала этих сведений всерьез: «Я думаю, что гора родит мышь».[204] Но Потемкин обеспокоился и запросил у Вяземского подробности дела.
Впоследствии выяснилось, что история действительно была вымышлена из страха наказания, — одна из причин, почему Екатерина возражала против русской традиции пороть подозреваемых. Она была слишком далеко от Казани, но все же попыталась внушить Бибикову, что необходимо ограничить применение кнута.
30 мая Потемкин — генерал-аншеф и вице-президент Военной коллегии. В эти дни битв за командные посты для фаворита Екатерина II Потемкин переживают свой «медовый месяц». Записка по-французски, отправленная, возможно, в самый день его повышения, полна все того же любовного лепета: «Генерал, любите ли Вы меня? Я очень любить Генерала».[205] Уязвленный военный министр Чернышев вскоре подал в отставку и был отправлен управлять белорусскими провинциями, отошедшими к России по первому разделу Польши. Кризис, начавшийся двумя годами раньше с падения Орлова, закончился.
Потемкин получает новые высокие назначения, на него сыплются почести и деньги. 31 марта 1774 года он назначен генерал-губернатором Новороссии, огромной области на юге России, граничившей с Крымским ханством и Османской империей; 21 июня он — главнокомандующий иррегулярных войск. Он становится немыслимо богат.
Жалованье солдата-пехотинца составляло тогда 7 рублей в год, офицера — 300. Потемкин получает по 100 тысяч к своим именинам или к праздникам. Его столовые средства составляют 300 рублей в месяц. Во всех императорских резиденциях он живет и обслуживается дворцовым персоналом бесплатно. Говорили, что 1-го числа каждого месяца на его туалетный столик ложилось 12 тысяч рублей, но, скорее всего, как утверждал Васильчиков, Екатерина время от времени просто выдавала ему значительные суммы. Потемкин тратил деньги так же легко, как они ему доставались; с одной стороны, это положение его смущало, с другой — он постоянно требовал все больше и больше. При этом он далеко еще не достиг потолка ни своего богатства, ни своей экстравагантности. А скоро потолок исчезнет вовсе.[206]
Екатерина следила за тем, чтобы Потемкин получал столько российских и иностранных наград, сколько возможно, — упрочивать его статус означало укреплять и свое положение. Монархи любили доставлять своим фаворитам иностранные ордена. Иностранные государи жаловали их неохотно — тем более любовникам цареубийц, узурпировавших трон, — но иногда все же уступали. Переписка по поводу этих орденов между европейскими монархами и русскими поемами — увлекательнейшее чтение.
«Миленький, здравствуй... — приветствовала Екатерина Потемкина. — Что встала, то послала к Вице-канцлеру по ленты, написав, что они для Ген[ерал]-Пор[учика] Пот[емкина], после обедни и надену на него. Знаешь ли его? Он красавец, да сколь хорош, столь умен. И сколь хорош и умен, столь же меня любит и мною любим совершенно наравне».[207] В этот день он получил русский орден Александра Невского и польский Белого Орла, присланный Станиславом Августом.
Одна из трогательных черт Потемкина — его детский восторг по поводу орденов. Скоро его коллекция будет включать орден Андрея Первозваного, Фридрих II пришлет прусского Белого Орла; Дания — Белого Слона; Швеция — св. Серафима. Но Людовик XVI и Мария Терезия откажут в орденах св. Духа и Золотого Руна, объявив, что они только для католиков, а Георг III будет шокирован, когда русский посол в Лондоне передаст ему просьбу об ордене Подвязки.[208]
«Она, кажется, хочет доверить ему бразды правления», — сообщал Ганнинг в Лондон.[209] Действительно, произошло невозможное:
Потемкин поднялся выше князя Орлова. Этого иностранные послы принять не могли. Они привыкли к Орловым и думали, что те могут вернуться к власти в любую минуту. Происходящее казалось невероятным и самим Орловым.
Григорий Орлов примчался к Екатерине 2 июня — это зрелище испугало даже императрицу. «Говорят, что результатом [...] было больше, чем объяснение, и что горячий спор имел место по этому случаю между Князем и Императрицей». От природы мягкий Орлов теперь находился в постоянно взвинченном состоянии. А в гневе он был страшен. Екатерина называет его «fou»{22} и расстроена тем, что ей пришлось от него выслушать. Однако она не потеряла умения находить с ним общий язык, и он согласился на «заграничное путешествие». Ей было все равно, куда он отправится. У нее был Потемкин: «Прощайте, друг мой. Завтра пришлите сказать мне, как вы себя чувствуете. Я очень скучаю без вас».[210]
9 июня 1774 года Румянцев, переправив два корпуса через Дунай, пошел в наступление и разбил главную турецкую армию под Козлуджи. Великий визирь оказался отрезан от дунайских фортов. Русская конница стала спускаться на юг, мимо Шумлы, в сегодняшнюю Болгарию. Екатерина II Потемкин надеялись, что наступление Румянцева скоро приведет к окончанию войны и долгожданному миру.
Внутри страны тоже все складывалось благополучно. Пугачевский мятеж был усмирен. Неожиданно умер от лихорадки победитель Пугачева — Бибиков, Екатерина II Потемкин очень сожалели об этой утрате, но в Приуралье было тихо, и на место Бибикова назначили ничем не выдающегося Федора Щербатова. Правда, в начале июля императрица узнала, что Пугачев, несмотря на все поражения, снова собрал изрядные силы. Тогда она отставила Щербатова и назначила генерала князя Петра Голицына: «При сем, голубчик, посылаю и письмо, мною заготовленное к Щербатову. Изволь поправить, а там велю прочесть в Совете подписанное».[211]
20 июня турки запросили мира. Обычно это привело бы к перемирию и многомесячным переговорам. Но не зря Потемкин убедил государыню «дать полную мочь» Румянцеву: встав лагерем у болгарской деревни Кючук-Кайнарджи, фельдмаршал объявил, что если мир не будет подписан, русская армия продолжит наступление. Туркам пришлось согласиться. Счастливой новости ожидали со дня на день.
Но тут случилась беда. На Волге снова объявился Пугачев. 11 июля он подошел к Казани с 25-тысячной армией. Казань отстояла всего на полторы сотни верст от Нижнего Новгорода, а Нижний — на такое же расстояние от Москвы. Древний татарский город, покоренный Иваном Грозным в 1552 году, насчитывал 11 тысяч жителей. Генерал Павел Потемкин, назначенный ведать Казанской и Оренбургской Тайными комиссиями, прибыл в город 9 июля, за два дня до подхода Пугачева. Старый губернатор хворал. Потемкин принял командование, но, увидев, что в его распоряжении всего 650 человек пехоты и 200 весьма ненадежных всадников-чувашей, заперся в крепости. 12 июля Пугачев занял Казань; мятежники буйствовали в городе с 6 часов утра до полуночи. Они перебили всех безбородых и одетых в «немецкое платье» мужчин, а женщин доставили в лагерь самозванца. Прежде чем армия вышла из Казани, деревянный город запылал. Павел Потемкин остался дожидаться отряда Михельсона.
Мятеж на Волге разгорелся в полную силу и, что было еще хуже, начинал увлекать за собой казаков. Бунт превратился в настоящую войну, подобную Жакерии, охватившей в середине XIV века север Франции. Под знамя самозванца встали тысячи заводских и помещичьих крестьян, 5 тысяч башкирских всадников. Примкнувшие к мятежу казаки скакали от деревни к деревне, поднимая крестьян.{23} 21 июля новость о падении Казани дошла до Петербурга. Правительство охватила паника: неужели бунтовщик дерзнет пойти на Москву?
На следующий день Екатерина срочно созвала Совет. Она объявила, что намерена самолично отправиться в Москву для спасения империи. Совет безмолвствовал. Пораженная падением Казани, государыня не скрывала своего волнения.
Екатерина обратилась к Никите Ивановичу Панину с вопросом, что он думает о ее решении. «Мой ответ был, — писал Никита Панин брату, — что не только не хорошо, но и бедственно в рассуждении целостности всей Империи», поскольку покажет мятежникам, что им удалось смутить столицу. Екатерина стояла на своем.[212] Потемкин поддерживал ее — может быть, потому, что ему, как наименее «европеизированному» из этих вельмож, когда отечество оказалось в опасности, Москва виделась подлинной, православной столицей, а может быть, потому, что он просто еще не чувствовал себя достаточно самостоятельным, чтобы противоречить императрице.
Орлов «с презрительной индифферентностью все слушал, ничего не говорил и извинялся, что он не очень здоров, худо спал и для того никаких идей не имеет» (Орлов был в обиде на Екатерину за возвышение Потемкина и возвращение доверия Панину); Разумовский и Голицын молчали; «скаредный Чернышев трепетал между фаворитами, полслова раза два вымолвил, что самой ей ехать вредно, и спешил записывать только имена тех полков, которым к Москве маршировать вновь поведено». Все согласились, что на борьбу с бунтовщиком необходимо отправить «знаменитую особу с такой же полной мочью, какую имел покойный генерал Бибиков», — но никаких конкретных предложений не последовало. Орлов отправился досыпать, и Совет разошелся, постановив дожидаться вестей из Турции.[213]
После заседания взволнованный Панин подошел к Потемкину и предложил в качестве «знаменитой особы» своего брата, Петра Ивановича Панина. Это был прославленный боевой генерал, достаточно именитый, чтобы внушить доверие перепуганным помещикам; в это время он жил в Москве в отставке. Правда, имелось одно существенное «но»: строгий педант в вопросах как военной дисциплины, так и привилегий дворянства, он держался старомодного убеждения, что править государством подобает мужчинам. Екатерина терпеть его не могла — и даже учредила за ним тайный полицейский надзор. Поэтому Никита Панин, не решившись озвучить свое предложение в Совете, передал его императрице через Потемкина. Вероятно, тому удалось убедить государыню, что в ситуации, когда колеблется даже ее ближайшее окружение, выбора у нее нет.
Когда Панин заговорил с ней об этом, Екатерина, которой, несомненно, пришлось использовать свои незаурядные актерские способности, заверила его, что «никогда не умаляла своей доверенности» к его брату, отпустила его от службы «с прискорбием» и будет счастлива, если он возьмет на себя роль спасителя отечества. Никита Панин немедленно написал брату.[214]
Заставив Екатерину проглотить такое унижение, Панины произвели чуть ли не государственный переворот. Теперь они угрожали Екатерине и Потемкину едва ли не меньше, чем сам Пугачев. Панины потребовали предоставить генералу полный контроль над гражданскими и судебными властями в губерниях, охваченных бунтом, а также над войсками (исключая лишь Первую армию Румянцева, Вторую армию, оккупировавшую Крым, и корпус, стоявший в Польше) с правом смертной казни. «Увидишь, голубчик, из приложенных при сем штук, что Господин Граф Панин из братца своего изволит делать властителя с беспредельной властию в лучшей части Империи». Она же не намерена, «побоясь Пугачева, выше всех смертных в Империи хвалить и возвышать [...] пред всем светом первого враля и [ей] персонального оскорбителя».[215] Потемкин взял переговоры с Паниными на себя.
Екатерина II Потемкин еще не знали, что до того, как Казань пала, Румянцев подписал на выгоднейших условиях трактат с турками: Кючук-Кайнарджийский мир. Вечером 23 июля два курьера (один из них — сын Румянцева) прискакали с этой новостью в Петергоф. Отчаяние императрицы сменилось бурной радостью. «Я думаю, сегодня счастливейший день моей жизни», — сказала она.[216] Трактат дал России выход к Черному морю — крепости Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн и полоску побережья между Днепром и Бугом; российские торговые суда могли отныне проходить через проливы в Средиземное море; можно было строить Черноморский флот; Крымское ханство отпало от Порты — арена для будущих свершений Потемкина в Причерноморье была готова. Екатерина распорядилась об устройстве пышных торжеств; через три дня двор переехал в Ораниенбаум.
Все это усиливало позицию Потемкина в отношениях с Петром Паниным, который ждал в Москве подтверждения выдвинутых им условий. Сохранившиеся проекты этих полномочий показывают, что и Екатерина, и Потемкин стремились «окоротить» генерала сколько возможно. Направляя через несколько дней инструкции императрицы Петру Панину, Потемкин сообщал, что тот обязан этим назначением исключительно его усилиям. Назначение Панина состоялось 2 августа: ему поручалось только командование общее войсками, уже сражающимися против Пугачева, и управление Казанью, Оренбургом и Нижним Новгородом. Но в Поволжье у Потемкина оставался его кузен Павел Сергеевич, так что фактически власть над Казанью была поделена между ним и Паниным.
Последние новости с Волги еще больше ослабили Паниных. Оказалось, что после падения Казани Михельсон разбил Пугачева несколько раз, и сама страшная новость, достигнув петербургского Совета, уже устарела. Пугачев не шел на Москву, а бежал к югу. Кризис миновал.
27 июля в Ораниенбауме начались торжества по случаю победы над турками, но Екатерина продолжала с тревогой следить за событиями на Волге.
Отступление Пугачева немногим отличалось от наступления. К нему по-прежнему присоединялись крестьяне и казаки, сдавались города, звонили колокола и горели усадьбы. 6 августа был разграблен Саратов, где Пугачеву присягнули священники. Были повешены 24 помещика и 21 чиновник.
Добравшись до Царицына, Пугачев убедился в том, что самозванцам нет чести в своем отечестве. Казаки узнали в «Петре III» Емельяна Пугачева и отказались идти за ним. Он двинулся дальше вниз по Волге с 10 тысячами человек, но был арестован своими же приближенными. «Вы хотите изменить своему государю?» — воскликнул он, — но «анператор» уже утратил свою власть. Атаманы выдали его правительственным войскам в Яицком городке — там, где восстание началось год назад. Между честолюбивыми полководцами — Павлом Потемкиным, Петром Паниным, Иваном Михельсоном и Александром Суворовым — разгорелась склока за право считаться «поимщиком» Пугачева, хотя по сути это право не принадлежало ни одному из них. Суворов передал бунтовщика Петру Панину, который не позволил Павлу Потемкину допросить его. С августа по сентябрь они отправляли в Петербург рапорт за рапортом; письма, противоречащие одно другому, иногда приходили в столицу в один день. Теперь, когда гроза миновала, эта борьба и раздражала, и смешила Екатерину и Потемкина. «Голубчик, Павел прав: Суворов тут участия более не имел, как Томас, — писала императрица, сравнивая успехи Суворова с заслугами своей собачки, — а приехал по окончании драк и по поимке злодея».[217] Потемкин выражал всеобщее ликование в письме к Петру Панину: «Мы все исполнены радостью, что наконец покончено с бунтовщиком».
Рвение Панина дошло до того, что он убил нескольких свидетелей. Добравшись до самозванца, который, как выяснилось, служил под его командованием при Бендерах, он ставил его на колени и бил по лицу, причем повторял это для каждого любопытного посетителя — за исключением Павла Потемкина, которому на самом деле и полагалось допрашивать плененного злодея. Екатерина II Потемкин разрубили этот гордиев узел, распустив Казанскую комиссию и создав для следствия по делу Пугачева Особую комиссию при Тайном департаменте Сената в Москве, куда был назначен Павел Потемкин — но не Петр Панин. Потемкин, несомненно, хлопотал за своего троюродного брата. «Я надеюсь, что все распри и неудовольствия Павла кончатся, как получит мое приказание ехать к Москве, — писала ему Екатерина, соединяя, как всегда, в одном письме дела политические и частные: — Пожалуй, возврати ко мне письмы Пе[тра] Ивановича]. Ответ нужно сочинить и разрешить некоторые запросы его. А я, миленький, очень тебя люблю и желаю, чтоб пилюли очистили все недуги. Только прошу при них быть воздержан: кушать бульон и пить чай без молока».[218]
Петр Панин предлагал объявить, что убийцы представителей властей и их сообщники будут преданы смерти через отрубание рук, ног и головы, а их тела положены на площадях. Деревням, где были учинены убийства, надлежало выдать виновных, из коих каждого третьего ожидала виселица; в случае отказа выдавать злодеев каждого сотого мужика следовало вешать за ребра, а прочих пороть. Екатерина, однако, не одобрила таких мер.
Панин писал Екатерине, что «приемлет с радостью пролитие проклятой крови государственных злодеев на себя и на чад [своих]».[219] Древняя казнь, к которой предлагал прибегнуть Панин, предполагала протыкание грудной клетки преступника железным крюком и подвешивание на глаголи — старинной виселице с длинной перекладиной. Екатерина опасалась, что такие меры едва ли упрочат ее европейскую репутацию, но Панин уверял, что они необходимы для устрашения черни. Виселицы ставили на плоты и пускали вниз по Волге. Впрочем, учитывая размах восстания, смертных приговоров было вынесено не так уж много: официально к смертной казни были приговорены всего 324 человека, включая изменивших государству священников и дворян, — цифра, вполне сопоставимая с масштабом репрессий в Англии после Каллоденской битвы 1746 года.[220]
Яицкое казачье войско было распущено, а станицу Зимовеевскую — родину Пугачева — Екатерина, предвосхищая советскую традицию именования населенных пунктов в честь руководителей государства, переименовала в Потемкинскую.
В начале ноября Пугачев был доставлен в Москву, как опасный зверь, в специально построенной железной клетке. Москвичи заранее предвкушали кровавое зрелище. Екатерину это беспокоило: восстание уже нанесло чувствительный ущерб ее славе философа на троне.
Вместе с Потемкиным она приняла тайное решение о смягчении казни — поразительное для времени, когда смертные приговоры в Англии и Франции приводились в исполнение с изощренной жестокостью. В Москву были посланы генерал-прокурор Вяземский и секретарь Сената Шешковский, который, как Екатерина сообщала Потемкину, «имеет особый дар допрашивать простолюдинов». И тем не менее Пугачева не пытали.
Екатерина старалась лично досматривать за ходом следствия, естественно, привлекая к делу Потемкина. Она посылает своему главному советнику проект Манифеста «о преступлениях казака Пугачева». Больной Потемкин не отвечает. Императрица настаивает: «Изволь читать и сказать нам о сем, буде добро и буде недобро». И, возможно, на следующий день, снова торопит его: «Превозходительный Господин, понеже двенадцатый час, но не имам в возвращении окончания Манифеста, следственно, не успеют его переписывать, ни прочесть в Совете [...] буде начертания наши угодны, просим о возвращении. Буде неугодны — о поправлении». Возможно, Потемкин действительно был болен — или занят подготовкой московских торжеств. «Душа милая, ты всякий день открываешь новые затеи».[221]
Суд открылся 30 декабря 1774 года в Большом Кремлевском дворце. 2 января 1775 года Пугачев был приговорен к смертной казни четвертованием и отсечением головы. Вспарывания живота и потрошения заживо не предполагалось — эта выдумка принадлежала британской цивилизации. И все же москвичи с нетерпением ожидали увидеть, как злодею отрубят сначала руки и ноги, а потом голову. У Екатерины были иные планы. Она объявила генерал-прокурору Вяземскому, что жестоких казней не желает. 21 декабря она сообщала Гримму, что «через несколько дней фарс маркиза Пугачева завершится. Когда вы получите это письмо, можете быть уверены, что более никогда не услышите об этом господине».[222]
Декорацией для заключительной сцены «фарса маркиза Пугачева» стала Болотная площадь возле Кремля. 10 января 1775 года Пугачева, «одетого во все черное», привезли «на повозке наподобие золотарской». Он стоял, привязанный к столбу, рядом с ним — двое священников и палач. На плахе сверкали два топора. На спокойном лице преступника «не было видно и тени страха». Он поднялся на эшафот, разделся и лег, вытянув руки и ноги.
И тут произошло «нечто странное и неожидаемое». Палач взмахнул топором — и, в нарушение приговора, отсек Пугачеву голову. Толпа взревела от негодования. «Стоявший там подле самого его какой-то чиновник вдруг на палача с сердцем закричал: «Ах сукин сын! что ты это сделал! и потом: — Ну, скорее — руки и ноги!» В толпе говорили, что «за такую ошибку» палачу самому вырвут язык. Но тот не обращал внимания на возмущение зрителей и, закончив свою работу, перешел к вырезанию языков и вырыванию ноздрей тех, кому приговор суда оставил жизнь. Голову и части тела Пугачева подняли на шесте в середине эшафота. Пугачевщина кончилась.[223]
Примерно в эти дни Екатерина писала Потемкину: «Душатка, cher Epoux{24}, изволь приласкаться. Твоя ласка мне и мила и приятна [...] Безценный муж...»[224]
9. ГОСПОЖА ПОТЕМКИНА
Красавец мой миленький, на которого ни единый король непохож...
Екатерина II Г.А. Потемкину
4 июня 1774 года императрица написала Потемкину из Царского Села в Петербург записку загадочного содержания: «Батинька, я завтра буду и те привезу, о коих пишете. Да Фельдмаршала] Голицына шлюбки велите готовить противу Сиверса пристани, буде ближе ко дворцу пристать нельзя...»[225] Александр Михайлович Голицын, первый армейский командир Потемкина, занимал пост генерал-губернатора Петербурга, располагал своими шлюпками, а Яков Ефимович Сивере, наместник тверской и новгородский, имел пристань на Фонтанке, неподалеку от Летнего дворца,там где Павел I построил потом Михайловский замок.
5 июня, как она и обещала, Екатерина вернулась в столицу. На следующий день, в пятницу, она обедала в узком кругу в саду Летнего дворца, возможно, чтобы попрощаться с отъезжающим за границу Орловым. В воскресенье, 8 июня Екатерина II Потемкин присутствовали на торжественном обеде со штаб- и обер-офицерами Измайловского полка. Тосты сопровождались пушечным салютом, обеД сопровождали итальянские певцы. Затем императрица отправилась пешком по набережной Фонтанки к дому Сиверса.
В полночь Екатерина от Летнего дворца отправилась на прогулку на лодке по Фонтанке. Она часто посещала своих придворных, живших на набережной Невы или на островах. Но что делала она на реке ночью — она, привыкшая ложиться раньше 11 часов вечера? Она выехала тайно, возможно, в плаще с капюшоном, закрывавшим лицо. Считается, что с ней не было никого, кроме ее верной наперсницы Марьи Савишны Перекусихиной. Генерал-аншеф Потемкин, сопровождавший ее весь день, отсутствовал. Другая лодка, чуть раньше, унесла его в сумрак петербургской ночи.[226]
Лодка Екатерины прошла по Фонтанке мимо Летнего дворца и повернула по Неве к невзрачной Выборгской стороне. У одной из пристаней Малой Невки дамы пересели в карету с задернутыми шторами, доставившую их к церкви св. Сампсония Странноприимца. Этот храм, первоначально деревянный, в украинском стиле, был возведен по велению Петра Великого в честь Полтавской победы (перестроенная в камне в 1781 году, церковь с высокой колокольней сохранилась до наших дней).
Потемкин ждал императрицу в церкви. В церкви присутствовало еще только трое мужчин: священник и двое свидетелей. Свидетелем Екатерины выступал камергер Евграф Александрович Чертков, Потемкина — его племянник Александр Николаевич Самойлов. Последний начал читать Евангелие. Дойдя до слов «Жена да убоится мужа своего», он смутился и взглянул на императрицу. Та кивнула — и он продолжал.[227] Затем священник приступил к обряду. Самойлов и Чертков держали венцы. По окончании церемонии были сделаны брачные записи — выписки из церковной книги — и вручены свидетелям, которые поклялись хранить тайну. Потемкин стал тайным супругом Екатерины II.
Такова легенда о венчании Екатерины и Потемкина. Неопровержимого доказательства этого факта не существует, но скорее всего он действительно имел место. Впрочем, легенды о тайных браках всегда были составной частью монархической мифологии. В России считали, что императрица Елизавета Петровна была обвенчана с Алексеем Разумовским; в Англии принц Уэльский спустя много лет заключит с миссис Фицгерберт брак, законность которого вызовет оживленные споры.
Существует несколько вариантов рассказа об этом венчании. Некоторые утверждают, что оно состоялось в Москве в следующем году, или в Петербурге в 1784-м, или даже в 1791 году.[228] Московская версия называет храм Большого Вознесения у Никитских ворот, расположенный рядом с домом матери Потемкина. Позже церковь была отремонтирована на средства, завещанные Потемкиным, в память о его матушке, Дарье Васильевне. Теперь этот храм известен всем как место, где Александр Пушкин венчался с Натальей Гончаровой 18 февраля 1831 года, — одно из нескольких обстоятельств, связывающих поэта с Потемкиным{25}.
Конечно, тайный брак мог быть заключен и в другой день, но все же 8 июня — дата наиболее вероятная. Письмо Екатерины ясно указывает на некое секретное предприятие и называет пристань Сиверса. Камер-фурьерский журнал фиксирует ее отплытие из этого места и возвращение туда же. Отмеченные в журнале события дня оставляют время для поездки ранним либо поздним вечером. Все устные предания, восходящие к свидетелям церемонии и записанные в девятнадцатом веке П.И. Бартеневым, упоминают церковь св. Сампсония, середину или конец 1774 года и одних и тех же свидетелей. Местонахождение брачных записей неизвестно. Считается, что запись, принадлежавшая Потемкину, перешла к его любимой племяннице Александре Браницкой, которая открыла секрет своему зятю князю Михаилу Воронцову, а документ оставила дочери, княгине Елизавете Ксаверьевне. Граф Орлов-Давыдов вспоминал о том, как однажды А.Н. Самойлов показал ему пряжку с драгоценным камнем и сказал, что получил ее от императрицы на память о венчании с его покойным дядюшкой. Экземпляр, принадлежавший Самойлову, по словам его внука графа А.А. Бобринского, был похоронен вместе с ним. Об экземпляре Черткова ничего не известно.
Исчезновение доказательств и строго соблюдавшаяся секретность сами по себе не должны вызывать удивления. Никто не осмелился бы раскрыть эту тайну ни в эпоху сына Екатерины Павла I, ни во время правления ее внуков — Александра I и Николая I. Романовы стыдились частной жизни Екатерины; неясность обстоятельств рождения Павла I ставила под вопрос саму легитимность их династии. Даже столетие спустя, в 1870 году, П.И. Бартенев должен был испрашивать августейшего разрешения на проведение своих архивных разысканий, а их результаты появились в печати лишь после революции 1905 года.
Самые яркие свидетельства заключены в письмах Екатерины; в том, как она и Потемкин вели себя по отношению друг к другу; в описаниях их отношений, оставленных близко их знавшими людьми. Она называет его «дорогим мужем», а себя «верной женой» по меньшей мере в 22 письмах. «Умру, буде в чем переменишь поступок... милой друг, нежный муж...» — один из первых примеров этого обращения. «Батинька, Ch[er] Ep[oux]{26} [...] люблю тебя очень, мой бесценный друг», — пишет она. Племянника Потемкина она называет «наш племянник».[229] С некоторыми другими его родственниками она вплоть до своей смерти обращалась как с собственными — настолько, что ходили слухи, что Александра Браницкая — ее дочь.[230] Письмо, в котором она почти открыто пишет об их браке, относится, возможно, к началу 1776 года:
«Владыко и Cher Ероих!.. Для чего более дать волю воображению живому, нежели доказательствам, глаголющим в пользу твоей жены? Два года назад была ли она к тебе привязана Святейшими узами ?.. люблю тебя и привязана к тебе всеми узами.[231]»
Брак, как оба, вероятно, надеялись, сблизил их еще больше. Возможно, он успокоил Потемкина, влюбленного в Екатерину, мучимого ревностью и сознанием непрочности своего положения, но стремящегося к независимости.
Впрочем, даже если не принимать имеющихся указаний на совершение церковного обряда, достаточно того, что до конца жизни Потемкина Екатерина обращалась с ним именно как с супругом. Что бы он ни делал, он никогда не терял своей власти; он имел полный доступ к казне и право на самостоятельные решения.
Послы иностранных держав строили догадки: один дипломат узнал от «достойного доверия человека», что «у племянниц Потемкина есть свидетельство».[232] Имелась в виду брачная запись, однако само слово «брак» не упомянуто ни разу; об этом послы докладывали своим монархам только лично. Французский посол граф Сегюр сообщал в Версаль в декабре 1788 года, что Потемкин пользуется «особыми правами», основание которых — «великая тайна, известная только четырем человекам в России. Случай открыл ее мне, и если мне удастся вполне увериться, я оповещу Короля при первой возможности».[233] Возможно, что Людовик XVI уже знал эту тайну: в октябрьском письме своему министру иностранных дел графу Верженну он называет Екатерину «мадам Потемкин» — впрочем, это могло быть и просто шуткой.[234]
Император Священной Римской империи Иосиф II так объяснял английскому посланнику лорду Кейту загадку Екатерины и Потемкина: «По тысяче причин и обстоятельств она не может избавиться от него, даже если бы захотела это сделать. Чтобы понять положение императрицы, нужно побывать в России». Возможно, то же самое имел в виду и английский посол в России Чарльз Уитворт, сообщая в 1791 году из Петербурга, что Потемкин никому не подотчетен и не может быть отставлен от дел.[235]
Сам Потемкин намекал на то, что он почти император. Во время Второй русско-турецкой войны принц де Линь заметил ему, что он мог бы стать князем Молдавии и Валахии. «Это для меня пустяк, — отвечал Потемкин. — Если бы я захотел, я мог бы стать королем польским; я отказался от герцогства Курляндского. Я стою гораздо выше».[236] Что могло быть выше королевского трона, как не пост супруга императрицы Всероссийской?
Они понимали, что об их тайне догадываются. «Что делать, миленький, не мы одне, с кем сие делается, — рассуждает она. — Петр Великой в подобныя случай посылывал на рынки, где обыкновенно то говаривали, чего он в тайне держал. Иногда par combinaison{27} догадываются...»[237]
16 января 1775 года, получив известие о казни Пугачева, императрица в сопровождении Потемкина выехала из Царского Села в Москву, на торжества по случаю победы над турками. Екатерина собиралась совершить эту поездку сразу после подписания мира, но «маркиз Пугачев» ей помешал. Потемкин, если верить Ганнингу, настойчиво советовал ей посетить древнюю столицу, вероятно, для того, чтобы отпраздновать выход к Черному морю и закрепить свой авторитет после подавления восстания.
25 января Екатерина II великий князь Павел торжественно въехали в Москву. Москвичи не преминули напомнить ей, что она в сердце России. Ганнинг сообщает, что «во все время церемонии со стороны народа почти не было возгласов или вообще какого бы то ни было выражения хотя бы малейшего удовольствия».[238] Но пугачевское восстание научило ее, что внутренние области империи нуждаются в пристальном внимании: она осталась в Москве почти на весь год. Екатерина жила во дворце Головина и в подмосковном Коломенском. Там же отводились апартаменты Потемкину, но Екатерина находила их мрачными и неуютными — как, впрочем, и саму Москву.
Царствующим особам не полагается медовый месяц, и все же очевидно, что они с Потемкиным хотели провести какое-то время вместе, в уединении. В июне она купила имение князя Кантемира Черная Грязь и решила построить там новый дворец, назвав его Царицыно. Стремясь к покою и уюту, они подолгу жили в Царицыно в домике из шести комнат, как чета скромных буржуа.[239]
Они вместе вели государственные дела. Екатерина не во всем соглашалась со своим «учеником», так же как и он с ней. «...Буде найдешь, что все мои пропозиции бешены, то не прогневайся... луче не придумала», — писала она ему, обсуждая ревизию соляной торговли и соглашаясь поручить контроль за ней Павлу и Михаилу Потемкиным. Обращаться с финансами — как с собственными, так и с государственными — Потемкин не умел. Он предлагал смелые идеи, но не годился в управляющие. Когда он пожелал сам заняться соляной проблемой, она отвечала, что предпочитает его «сим не отягощать, ибо от сего более будет ненависти и труда и хлопот, нежели истинного добра». Он обиделся. Она утешала его, но строго: «Я дурачить вас не намерена, да и я дурою охотно слыться не хочу [...] Прошу, написав указ порядочно, прислать к моему подписанию и притом перестать меня бранить и ругать тогда, когда я сие никак не заслуживаю». Если он ленился, например, задерживая исправление документа, она выговаривала: «От понедельника до пятницы, кажется, прочеть можно было».[240]
Для устранения последствий бунта Екатерина хотела внести изменения в административную систему государства, обеспечив участие в судебных инстанциях дворян, мещан и государственных крестьян. Она хвастается Гримму, что заболела «новым недугом — легисломанией». Потемкин исправляет ее проекты, как будет исправлять потом «Устав благочиния» и «Жалованью грамоты» дворянству и городам: «Просим и молим при каждой статье поставить крестик таковой +, и сие значить будет апробацию Вашу. Выключение же статьи просим означивать #. Переменение же статьи просим прописать точно». Его предложения восхищают ее своей продуманностью: «Вижу везде пылающее усердие и обширный твой смысл».[241]
Следующим предприятием правящей четы стало пиратское похищение. В феврале 1775 года императрица поручила Алексею Орлову соблазнить некую молодую особу в Ливорно, в Италии, где он командовал русским флотом, и привезти ее в Россию.
Ей было двадцать лет. Стройная, изящная, с серыми глазами, черными волосами и итальянским профилем, она пела, рисовала и играла на арфе. Разыгрывая набожную девственницу, она сменяла любовников, как куртизанка. Женщина пользовалась разными именами, но важнее всех было одно: она называла себя «княжной Елизаветой», дочерью императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского.
Каждая эпоха состоит из противоположностей, и золотой век аристократии был одновременно веком самозванства; век чистокровных родословных — веком подделки. Путешествовать стало легче, но расстояния преодолевались не быстро, и Европу наводнили молодые люди обоих полов сомнительного происхождения, которые объявляли себя отпрысками аристократических или царствующих домов. Россия, как мы видели, имела свою самозванческую традицию, и дама, на свидание с которой отправился Орлов-Чесменский, была одной из самых романтических ее представительниц.
Сначала она появилась под именем Али Эмены, объявив себя дочерью персидского сатрапа. Затем она появлялась в разных точках Европы под самыми разными именами и титулами: принцесса Владимирская, Султана Селиме, девица Франк или Шелл; графиня Сильвиска; графиня Треймилл в Венеции; графиня Пиннеберг в Пизе. Потом она стала княжной Азовской — это имя уже напоминало о Петре Великом, который завоевал, а потом потерял этот черноморский порт. Как многие авантюристы, она обладала незаурядным обаянием и умением располагать к себе людей. Тонкая, загадочная, несчастная — такая, какой и полагается быть таинственной принцессе. Доверчивые старые аристократы влюблялись в нее, защищали ее, снабжали деньгами...
К концу русско-турецкой войны она перебралась в край маскарадов — в Италию, страну Казановы и Калиостро, где авантюристов было не меньше, чем кардиналов. Никому так и не удалось узнать ее настоящее происхождение, хотя скоро все дипломаты в Италии стали гадать, дочь ли она польского трактирщика или нюрнбергского булочника.
На ее крючок попался князь Кароль Радзивйлл; участник польской антирусской Конфедерации. Она стала политическим орудием польской шляхты — но совершила ошибку, написав английскому послу в Неаполе. Сэр Уильям Гамильтон, позднее муж любовницы адмирала Нельсона, питал слабость к молодым красавицам сомнительного происхождения. Он выдал ей паспорт, но сообщил об этом Алексею Орлову, который немедленно рапортовал о ней в Петербург.[242]
Ответ Екатерины высвечивает обыкновенно скрытую сторону ее характера и напоминает, что она была безжалостным узурпатором трона. После истории с Пугачевым она не собиралась шутить с самозванцами, даже с молоденькими женщинами. Тон ее письма показывает ее такой, какой, вероятно, ее видели только Орловы за закрытыми дверьми: если власти Рагузы не выдадут злодейку, писала она Орлову, когда интересующая ее особа отправилась в этот город, «можно будет сделать и бомбардираду». Но лучше все же захватить ее, «делая как можно меньше шума».[243]
Орлов разработал план, чтобы воздействовать на романтическое воображение авантюристки и ее любовь к пышности. Вместе с ним действовали двое его помощников, чья хитрость вполне соперничала с его жестокостью. Неаполитанец Хосе де Рибас поступил служить на русский флот в Италии; этому талантливому шарлатану, который станет впоследствии прославленным русским генералом и одним из близких друзей Потемкина, помогал некто Иван Христинек, который вошел в доверие к свите «княжны» и заманил ее на встречу с Орловым в Пизу.
Орлов писал ей страстные письма, возил ее в театр, позволял пользоваться своей каретой. Никому из русских не разрешалось сидеть в ее присутствии, как будто она была действительно членом императорской семьи. Он говорил, что ненавидит Потемкина, сместившего его брата Григория, и предлагал использовать свой флот, чтобы помочь ей взойти на русский престол и вернуть его семье подобающее ей место у трона новой императрицы. Для Орлова эта игра была забавным времяпрепровождением: скорее всего, «княжна» стала его любовницей; их роман продолжался неделю. Вероятно, женщина поверила, что ей удалось его одурачить и что он действительно влюбился в нее. Орлов был мастером жестоких шуток. Он сделал самозванке предложение. Ловушка захлопнулась.
Она согласилась осмотреть флот Орлова в Ливорно. Вице-адмирал Сэмюэл Грейг согласился встретить княжну на борту с царскими почестями. Вступив на корабль вместе с двумя польскими шляхтичами, двумя камердинерами и четырьмя слугами-итальянцами, с царскими почестями, она обнаружила, что их ждет священник в окружении экипажа в парадных мундирах. Салютовали пушки; матросы кричали: «Да здравствует Елизавета!» Священник благословил «жениха и невесту». Рассказывали, что она плакала от счастья.
Но, оглядевшись вокруг, она увидела, что «жених» исчез. Его подручные схватили «злодейку» и отвели в трюм. Мы знаем, что в то время, как корабль шел к Петербургу, Потемкин переписывался с Алексеем Орловым и, конечно, обсуждал это дело с императрицей, которая также показывала ему письма от Орлова. Участие Грейга в похищении женщины многие находили весьма неблаговидным для британского офицера, однако вряд ли сам адмирал, делавший карьеру на русской службе, испытывал угрызения совести по поводу этого дела, тем более что в Москве Екатерина лично выразила ему свою благодарность.
«Княжну» привезли в Петербург 12 мая 1775 года и под покровом ночи доставили в Петропавловскую крепость, хотя по некоторым сведениям сначала ее содержали в одной из загородных резиденций Потемкина. Ее допросил губернатор Петербурга фельдмаршал Голицын, чтобы выяснить, кто ей помогал. Вероятно, как многие авантюристы, которым удавалось убедить других в истинности их историй, она сама верила в свою легенду. Голицын докладывал императрице, что «жизнь ее наполнена небылицами». Несомненно, Екатерина II Потемкин следили за ходом следствия с особенным вниманием: русские крестьяне собирались в армии, поверив куда более невероятным рассказам. Но когда пленница написала Екатерине, прося о встрече с ней, и подписалась «Елизавета», та отвечала: «Велите сказать этой женщине, что, если она желает облегчить свою судьбу, пусть не ломает комедию».[244]
Пока Екатерина II Потемкин праздновали в Москве победу над Турцией, «княжна Елизавета», уже в сыром подземелье, больная чахоткой, продолжала строить свои воздушные замки. Она писала Екатерине патетические письма, прося облегчить условия ее заключения, но ее никто не слушал. В июне и в июле того года в Петербурге случилось два наводнения, и еще одно, огромной силы, в 1777 году. Одна из легенд гласит, что самозванка захлебнулась в своем тюремном подвале, залитом водой, — так представляет ее смерть известная картина Флавицкого. Другая легенда утверждает, что она умерла, дав жизнь ребенку Алексея Орлова, и что того якобы мучили угрызения совести. Но все это только легенды: «княжна Елизавета» умерла от туберкулеза 4 декабря 1775 года. Ее похоронили тайно и поспешно.
В историю эта женщина вошла под именем, которым сама никогда не пользовалась, — княжны Таракановой. Это имя связано с тем, что она называла себя дочерью Алексея Разумовского: его племянники носили фамилию Дарагановы — отсюда, вероятно, Тараканова. Возможно также, что эта фамилия происходит и просто от тараканов — единственных свидетелей ее последних дней.[245]
В июле 1775 года в Москве состоялись грандиозные торжества - первые из организованных Потемкиным: праздновали победу над Турцией. Неотъемлемый элемент праздников в XVIII веке составляли триумфальные арки и фейерверки. Арки, на манер древнеримских, иногда делали из камня, но чаще из полотна, натянутого на деревянный каркас, или из папье-маше. Екатерина обсуждала с Потемкиным каждую деталь.
Подготовка к торжествам утомляла всех. В Москву со своим полком прибыл Семен Воронцов. «Я показал Потемкину, в каком состоянии мой полк, и он дал слово, что не будет делать публичного смотра три месяца [...] Но через десять дней прислал сказать, что императрица и весь двор прибудут глядеть наши учения. Я понял, что он просто желает уронить меня в общем мнении». На следующий день между ними произошло бурное объяснение.[246]
8 июля в Москву прибыл фельдмаршал Румянцев. Потемкин послал ему почтительное письмо, обещая встретить «батюшку» в Чертаново, «где стоит маркиза [триумфальная арка] и все готово», подписавшись «Ваш верный слуга Г. Потемкин». Встретив Румянцева, он проводил его к императрице.
10-го числа государыня со свитой прошла пешком от Пречистенских ворот до Кремля. Потемкин подготовил грандиозное представление. «Все улицы в Кремле установлены были войсками, а подле самой колокольни стояло несколько вестовых пушек. По всему пространству от Красного, главного крыльца до дверей Успенского собора сделан был помост, огражденный парапетом и устланный сукном красным, а все стены соборов и других зданий окружены были, наподобие амфитеатра, подмостками одни других возвышеннейшими, и все они установлены были бесчисленным множеством благородных и лучших зрителей [...] Но ничто не могло сравниться с тем прекрасным зрелищем, которое представилось нам при схождении императрицы с Красного крыльца вниз в полном ее императорском одеянии и во всем блеске и сиянии ее славы». Земля содрогнулась от звона колоколов, и Екатерина, в большой короне и пурпурном плаще, отделанном горностаем, прошла в собор, с Румянцевым по левую руку и Потемкиным по правую. Балдахин над ее головой несли двенадцать генералов, а шлейф — кавалергарды в красно-белых мундирах и серебряных шлемах с плюмажем из страусовых перьев. Затем прошел двор в роскошных платьях. У ворот Успенского собора государыню приветствовали архиереи. Последовала торжественная служба. «На все оное не могли мы довольно насмотреться», — вспоминал очевидец.[247]
После молебна императрица, в окружении четырех фельдмаршалов, вручала награды в Грановитой палате. Румянцеву был пожалован титул Задунайского; эта идея принадлежала Потемкину. «Мой друг, верно ли надо дать фельдмаршалу титул Задунайский?» — уточняла Екатерина. Потемкин, как всегда, поддержал своего бывшего командира. Румянцев получил также 5 тысяч душ, 100 тысяч рублей, серебряный сервиз и шляпу с драгоценными камнями стоимостью 30 тысяч рублей. Князь Василий Долгоруков за взятие Крыма в 1771 году получил титул Крымский. Но самые крупные награды ждали Потемкина: осыпанный брильянтами миниатюрный портрет императрицы, грамота о пожаловании ему титула графа Российской империи и церемониальная шпага. Императрица желала подчеркнуть его политическую деятельность, особенно вклад в заключение мира с Турцией. «Ах, что за светлая голова у этого человека! — писала она Гримму. — Ему более, чем кому-либо, мы обязаны этим миром».[248]
Праздники должны были продлиться две недели: Потемкин приготовил все для народного гулянья и ярмарки на Ходынском поле, где он возвел два павильона, символизирующие «Черное море со всеми нашими завоеваниями». Там же был разбит целый парк с дорожками, представлявшими Дон и Днепр, с театрами и столовыми, названными по именам черноморских портов, с турецкими минаретами, готическими арками и классическими колоннами. Екатерина дала его воображению развернуться и осталась очень довольна первым опытом Потемкина в организации политического праздника. Вереницами карет правили кучера, «наряженные турками, албанцами, сербами, черкесами, гусарами и неграми в красных тюрбанах». В небе пылали вензели императрицы. 60 тысяч человек пили вино из фонтанов И угощались жареными быками.[249]
12 июля празднования приостановились из-за болезни Екатерины. Есть легенда, что «болезнь» была не чем иным, как рождением дочери от Потемкина. Если Екатерине и в прежние годы удавалось скрывать свою беременность, то тем легче это было сделать теперь, когда она почти всегда появлялась на людях в широком русском платье, скрадывающем ее полноту. В Европе, конечно, подозревали самое пикантное. «Госпоже Потемкиной добрых сорок пять лет: самое время рожать детей», — иронизировал Людовик XVI за год до этого.[250] Говорили, что девочка получила имя Елизаветы Григорьевны Темкиной и воспитывалась в семье Самойловых. В России действительно имелась традиция давать внебрачным детям фамилию отца, отбросив первый слог: Иван Бецкой был незаконнорожденным сыном князя Ивана Трубецкого, Иван Ронцов — графа Романа Воронцова.
И все же эта история не кажется нам правдоподобной. Потемкин придавал большое значение своим родственным связям, заботился обо всех своих родственниках, но нет никаких свидетельств о том, что он оказывал какое-то внимание девице Темкиной. Никак не выделяла ее и Екатерина. А старинный род Темкиных существовал на самом деле и к Потемкиным не имел никакого отношения. Кроме того, иметь побочных детей не считалось зазорным. Екатерина II Орлов не скрывали, что Алексей Григорьевич Бобринский — их сын. Если бы Темкина была дочерью Потемкина от женщины незнатного происхождения, он тем более не стал бы этого скрывать. Судьба Елизаветы Темкиной остается загадкой — но вовсе не обязательно связанной с Екатериной и ее супругом.[251]
Итак, императрица провела неделю в Пречистенском дворце, а затем празднования возобновились.
Накануне июльских торжеств 1775 года Потемкин получил печальное известие от своего зятя Василия Энгельгардта: тот сообщал о смерти своей жены, сестры Потемкина, Елены (Марфы). У Энгельгардта осталось шесть дочерей (замуж вышла только старшая) и сын в армии. Младшим дочерям было от 8 до 21 года. «Прошу быть милостивым и заступить Марфы Александровны место...» — писал Энгельгардт Потемкину 5 июля. «По приказанию вашему я их к [вашей] матушке пришлю».[252] Отец вполне мог растить дочерей и в Смоленске, но он знал, что при дворе девицам может посчастливиться. Потемкин вызвал племянниц в Москву.
Екатерина, как и полагается жене, познакомилась с родственниками Потемкина. Встретившись со своей суровой свекровью, Дарьей Васильевной, которая по-прежнему жила в Москве{28}, она проявила свою всегдашнюю наблюдательность и деликатность: «Я приметила, что Матушка Ваша очень нарядна сегодня, а часов нету. Отдайте ей от меня сии». Когда прибыли племянницы, она встретила их так же тепло и сообщала Потемкину: «Матушке твоей во утешение объяви фрейл[ин]ами, сколько хочешь из своих племянниц». 10 июля, в разгар празднеств, фрейлиной императрицы была назначена старшая из девушек, 21-летняя Александра Энгельгардт.[253] Скоро фрейлиной стала и Варвара. Обеих признали первыми красавицами при дворе.
С неожиданной просьбой обратились к Потемкину в Москве англичане. Как известно, в 1775 году британские колонии в Америке, восстали против Англии. Эти события на целых восемь лет отвлекли внимание западного мира от российских дел — чем потом с блеском воспользуется Потемкин. Французские и испанские Бурбоны увидели в американских событиях прекрасную возможность отомстить Англии за победу в Семилетней войне. Лондон отклонил предложение Панина об англо-русском союзе: Англия не стала помогать России в войне с Оттоманской Портой. Однако теперь Георг III и его министр по делам Северной Европы граф Саффолк оказались перед лицом американской революции. Британия располагала лучшим в мире флотом, но очень посредственной армией. Для сухопутных операций она традиционно пользовалась наемными силами — и теперь решила обратиться за ними к России.
Около 1 сентября 1775 года Саффолк жаловался на «усиливающееся безумие несчастных и заблуждающихся подданных ее величества по ту сторону Атлантического океана»: это означало, что русские солдаты требуются немедленно. Англия просила «20 тысяч пехоты, приученной к дисциплине, вполне вооруженной (за исключением их полевых орудий) и готовой, как только весной откроется плавание по Балтике, к отплытию на транспортных судах, которые будут высланы отсюда». Панин проигнорировал эту просьбу, и Ганнинг обратился к Потемкину; тому дело показалось очень интересным. Но Екатерина отказала, направив Георгу III вежливое письмо с пожеланием удачи.[254]
В конце концов англичанам пришлось воспользоваться услугами всегдашних наемников гессенцев. Американцы, сильные своей верой в свободу и партизанской тактикой, разгромили неспособных к маневрированию и деморализованных англичан — но что было бы, если бы против них выступили суровые и бесстрашные казаки? Размышления на эту тему продолжались вплоть до эпохи холодной войны — а впрочем, не окончились и вместе с ней.
Бурные отношения Екатерины и Потемкина начинали утомлять их обоих. «Естьли б друг друга меньше любили, умнее бы были, веселее». Накал страсти за полтора года остыл, а Потемкин тяготился положением официального фаворита. При его талантах и властности трудно было выносить установленные между ними в государственных делах отношения учительницы и ученика. Брак не изменил его положения перед лицом двора: он по-прежнему во всем зависел от воли государыни. При этом она любила его дикий нрав — как раз то, что заставляло его рваться прочь.
Она отчаянно пыталась восстановить прежнюю идиллию. «И ведомо пора жить душа в душу. Не мучь меня несносным обхождением, — пишет она. — Я хочу ласки, да и ласки нежной, самой лучей. А холодность глупая с глупой хандрой вместе не произведут, кроме гнева и досады. Дорого тебе стоило знатно молвить или душенька или голубушка». Ей грустно и досадно от мысли, что супруг ее разлюбил: «Неужто сердце твое молчит? Мое сердце, право, не молчит».[255]
Она делала все, что могла, чтобы ему угодить: осенью 1775 года, перед отъездом из Москвы в Коломну, сообщал Ганнинг, «было позабыто о том, что в следующую среду имянины графа Потемкина, вспомнив о чем, ее величество отложила на некоторое время предполагаемую свою поездку, с тем чтобы в этот день граф мог принимать поздравления дворянства и всех сословий». Ганнинг добавляет, что императрица подарила ему 100 тысяч рублей и по его рекомендации назначила архиерея в южные провинций. Это очень по-потемкински: изменить распорядок дня императрицы, получить царский подарок — и не забыть добиться нужного ему политического назначения.[256]
Иногда Екатерина жалуется, что он заставляет ее терпеть унижение в присутствии других: «Милостивый государь мой Григорий Александрович. Я желаю Вашему Превосходительству всякого благополучия, а в карты сего вечера необходимы Вы должны проигрываться, ибо Вы меня внизу вовсе позабыли и оставили одну, как будто бы я городовой межевой столб». Ниже рукой Потемкина: строка условных знаков, «то есть ответ».[257] Каков был этот ответ? И что еще она могла сделать, чтобы он был счастлив?
Некоторые их письма представляют собой эпистолярные дуэты: он посылает страстные заверения в любви, она отвечает ясны-ми, успокаивающими словами:
Моя душа безценная, Знаю.
Ты знаешь, что я весь твой, Знаю, ведаю.
И у меня только ты одна. Правда.
Я по смерть тебе верен, Без сомненья.
и интересы твои мне нужны. Верю.
Как по сей причине,
так и по своему желанию,
мне всего приятнее
твоя служба и употребление
заранее моих способностей. Давно доказано.
Зделав что ни есть для меня, С радостию, чего?
право не раскаешься, Душой рада, да тупа.
а увидишь пользу. Яснее скажи.[258]
Но Потемкин все больше отдалялся от императрицы. Говорили, что он притворялся больным, чтобы избежать ее объятий. Вспышки гнева могут разнообразить начало любовной истории, однако становятся тяжкими и утомительными между мужем и женой. Его поведение стало невыносимо, но в этом была и ее вина. Она не понимала всей щекотливости положения фаворита, это разрушило и многие из ее последующих романов. Екатерина хотела любви не менее жадно, чем Потемкин. Они были похожи на две топки, требующие бесконечного количества славы и власти, с одной стороны, любви и внимания — с другой. Ненасытные аппетиты делали их отношения столь же плодотворными, сколь и болезненными. Они были слишком похожи, чтобы быть вместе.
В мае 1775 года, перед началом московских торжеств, Екатерина отдала дань православной традиции, совершив паломничество в Троице-Сергиеву лавру, — обычай, восходящий к тем временам, когда женщины сидели взаперти в теремах, а не на тронах. Во время этого путешествия Потемкин снова продемонстрировал свое безразличие к светскому успеху, свою набожность и, возможно, недовольство своим положением. Он опять оставил двор и провел несколько дней в монашеской келье.[259]
Постоянная смена его настроений утомляла их обоих. Возможно, именно это она имела в виду, говоря, что хотела бы любить его меньше: это чувство отнимало у них слишком много сил. Они продолжали любить друг друга и работать вместе весь 1775 год, но напряжение росло. Екатерина начинала понимать, что происходит. Она нашла в Потемкине соратника, редкий алмаз — но как найти для него поле деятельности? И как сохранить их союз, удовлетворив жадные запросы обоих? Оба оглядывались вокруг в поисках ответа.
Все это время Екатерина не оставляла своего законотворчества. Ей помогали двое секретарей, которых она недавно «одолжила» у Румянцева: Петр Завадовский и Александр Безбородко. Безбородко отличался выдающимся умом, но при том еще неряшливостью и на редкость непривлекательной внешностью, а вот Завадовский был не только образован и опрятен, но и замечательно хорош собой. Его поджатые губы и серьезные глаза выдавали отсутствие чувства юмора, но зато он был склонен к упорному, методичному труду — полная противоположность Потемкину, а может быть, необходимое противоядие.
Скоро Екатерина, Потемкин и Завадовский образовали странный союз.
10. ССОРЫ И ПРИМИРЕНИЕ
Душа, я все сделаю для тебя, хотя б малехонько ты о меня
encouragupoвал{29} ласковым и спокойным поведением...
Сударка, муж безценный.
Екатерина II графу Потемкину
В таких делах все женщины так близки, Что государыням равны модистки. Байрон. Дон Жуан. IX: 77. Пер. М. Кузмина«Mon mari m’a dit tantdt: Куды мне итти, куды мне деваться? — писала Екатерина Потемкину примерно в это время. — Mon cher et bien aime Epoux, venes chez moi, Vous seres re?u a bras ouverts»{30}.[260]
2 января 1776 года Петр Завадовский получил должность генерал-адъютанта. Двор был озадачен.
Дипломаты поняли, что в личной жизни императрицы что-то происходит, и решили, что карьера Потемкина кончена: «Императрица начинает совсем иначе относиться к вольностям, которые позволяет себе ее любимец. [...] Уже поговаривают исподтишка, что некоторое лицо, определенное ко двору г.Румянцевым, по-видимому, скоро приобретет полное ее доверие». Пошли слухи, что на посту президента Военной коллегии Потемкина вот-вот сменит либо Орлов-Чесменский, либо племянник Панина князь Репнин. Но английский дипломат Ричард Оукс заметил, что интересы Потемкина расширяются: «Кажется, в последнее время он гораздо больше интересуется иностранными делами, чем показывал сначала».[261]
Пока британцы раздумывали о смысле загадочных назначений, проницательный французский посланник шевалье Мари Даниель Бурре де Корберон, оставивший подробный дневник своего пребывания в России, понял, что Завадовский — не та фигура, которая может сместить Потемкина: «Лицом лучше Потемкина, — отметил он. — Но о фаворе его говорить пока рано». И продолжал в том же саркастическом тоне, в каком дипломаты обычно обсуждали интимные дела монархов: «Его таланты подверглись испытанию в Москве. Но Потемкин, похоже, пользуется прежним влиянием [...] так что Завадовский взят, возможно, лишь для развлечения».[262]
С января по март 1776 года императрица избегала многолюдных собраний, стараясь уладить свои отношения с Потемкиным. В январе из-за границы вернулся Григорий Орлов, что еще больше осложнило ситуацию: теперь при дворе находились трое ее фаворитов, настоящих или бывших. Орлов, по-прежнему добродушный, был уже не прежний красавец: сильно располневший, он страдал приступами «паралича». Он был влюблен в свою кузину Екатерину Зиновьеву, 15-летнюю фрейлину императрицы; некоторые утверждали даже, что он сделал ее своей любовницей. Слухи о том, что болезнь Орлова вызвана медленным ядом, которым отравлял его Потемкин, совершенно неправдоподобны и отражают только жестокость придворных нравов. «Паралич» Орлова больше всего похож на симптомы застарелого сифилиса, плод его известной неразборчивости.
Екатерина появлялась лишь на обедах в узком кругу. Часто на них присутствовал Петр Завадовский; Потемкин — реже, чем раньше, но все же достаточно много, чтобы вызвать огорчение нового генерал-адъютанта. Должно быть, Завадовский чувствовал себя неуютно между двумя людьми, которые считались самыми искусными мастерами беседы своего времени. Потемкин оставался любовником Екатерины, но Завадовский влюблялся в нее все больше и больше. Мы не знаем точно, когда она заменила одного другим (если это произошло именно так), и можем указать лишь на зиму 1776 года. Скорее всего ни тогда, ни позже она не отказывалась полностью от близости с человеком, которого называла своим мужем. Пыталась ли она вызвать ревность в одном из них, выказывая благосклонность обоим? Конечно, да. Поскольку сама она признавалась, что не может прожить ни дня, не будучи любима, то совершенно естественно, что в ответ на демонстративную холодность Потемкина она обратила взор на своего секретаря.
В каком-то смысле эти напряженные полгода — самый интенсивный период их отношений. Они любили друг друга, считали друг друга мужем и женой, но чувствовали, что взаимно отдаляются, и пытались найти способ остаться вместе навсегда. Случалось, что Потемкин плакал в объятиях своей государыни.
«Хто велит плакать? — нежно вопрошает она своего «владыку и дорогого супруга» в том письме, где напоминает о связавших их «святейших узах». — Переменяла ли я глас, можешь ли быть нелюбим? Верь моим словам, люблю тебя».[263] Потемкин наблюдал за развитием отношений между Екатериной и Завадовским и по меньшей мере терпел их. Он был так же капризен, как всегда, но уже, очевидно, не грозил убить того, кто претендовал на его место. Письма этого периода отражают его ревность к Завадовскому, но Потемкин был так уверен в себе, что не воспринимал молодого человека как реального соперника. Вероятно, до некоторой степени он даже одобрял ее выбор. До какой именно?
«Жизнь Ваша мне драгоценна и для того отдалить Вас не желаю», — прямо говорит ему Екатерина.[264] Мы уже видели, что иногда они заканчивали ссоры письмами-диалогами. Второй из таких дошедших до нас эпистолярных дуэтов похож на примирение после жестокой схватки. Императрица так же нежна и терпелива со своим невозможным «оригиналом», а он, нехарактерно для себя, мягок почти так же, как она:
Позволь, голубушка, сказать последнее, Дозволяю.
чем, я думаю, наш процесс и кончится. Чем скорее, тем луче.
Не дивись, что я безпокоюсь в деле
любви нашей. Будь спокоен.
Сверх безсчетных благодеяний
твоих ко мне, Рука руку моет.
поместила ты меня у себя на сердце. Твердо и крепко.
Я хочу быть тут один
преимущественно всем прежним Есть и будешь.
для того, что тебя никто так не любил; Вижу и верю.
а как я дело твоих рук, то и желаю,
чтоб мой покой был устроен тобою, Душою рада.
чтоб ты веселилась, делая мне добро; Первое удовольствие.
чтоб ты придумывала все
к моему утешению Само собою придет.
и в том бы находила себе отдохновение
по трудах важных, коими ты занимаешься
по своему высокому званию.
Аминь. Дай успокоиться мыслям, дабы чувства
действовать свободно могли; оне нежны,
сами сыщут дорогу лучую. Конец ссоры.
Аминь.[265]
Но он не всегда так любезен. Чувствуя свою уязвимость, он бросает ей самые жестокие упреки. «Бог да простит Вам [...] пустое отчаяние и бешенство не токмо, но и несправедливости, мне оказанные, — отвечает она. — Я верю, что ты меня любишь, хотя и весьма часто и в разговорах твоих и следа нет любви». Оба сильно страдают. «Я не зла и на тебя не сердита, — говорит она ему после очередного спора. — Обхождения твои со мною в твоей воле». Она предлагает прекратить вечное напряжение: «Я желаю тебя видеть спокойным и сама быть в равном положении».[266]
Пока они обдумывали, как жить дальше, двор внимательно высматривал признаки падения Потемкина и возвышения Завадовского. Первый хотел сохранить свою власть, а значит, и оставить за собой апартаменты в Зимнем дворце. Она предлагала ему то, что предложила бы всякая любящая женщина — «Нетрудно решиться: останься со мною».[267] Но в конце концов душевное равновесие потеряла и Екатерина.
«Иногда, слушая вас, можно подумать, что я чудовище, имеющее все недостатки, и прежде всего — глупость... [Мой]ум не знает других способов любить, как делая счастливыми тех, кого он любит. И по этой причине для него невозможно быть, хоть на минуту, в ссоре с теми, кого он любит, не приходя в отчаяние... Мой ум занят выискиванием добродетелей и заслуг в том, кого он любит. Я люблю видеть в Вас все чудесное...[268]»
Чувствуя, что Потемкин отдаляется от нее, она так сформулировала суть проблемы: «Мы ссоримся о власти, а не о любви».[269]Эти ее известные слова — в некотором смысле женская версия их истории. Их любовь была не более трудной, чем политическое сотрудничество. Даже если бы власть составляла единственный предмет их разногласий, то отказ от любви тем более осложнил бы их отношения. Наверное, правильнее было бы сказать, что напряженная страсть исчерпала себя и Потемкин все больше нуждался в свободе и поприще для своих созревших творческих сил. Едва ли у Екатерины хватило бы мужества признать, что он потерял интерес к ней как к женщине, тогда как власть всегда останется предметом их споров.
Судя по ее письмам, Потемкин не переставал выказывать ей свое недовольство. «Друг мой, вы сердиты, — пишет она ему, — вы дуетесь на меня. Вы говорите, что огорчены, но чем?.. Какого удовлетворения можете вы еще желать? Даже церковь, когда еретик сожжен, не требует большего... Если вы будете продолжать дуться на меня, то на все это время убьете мою веселость. Мир, друг мой. Я протягиваю вам руку. Принимаете ли вы ее?»[270]
Вернувшись из Москвы в Петербург, Екатерина написала князю Дмитрию Голицыну, своему послу в Вене, что желает, чтобы «Его Величество [император Священной Римской империи] удостоил Генерала Графа Григория Потемкина, много мне и государству служащего, дать Римской Империи княжеское достоинство, за что весьма обязанной себя почту». 16/27 февраля 1776 года Иосиф II неохотно согласился, несмотря на протест своей матери, королевы Марии Терезии. «Очень забавно, — усмехался французский поверенный в делах Корберон, — что набожная императрица-королева награждает любовников не принадлежащей к истинной церкви русской царицы».[271]
«Князь Григорий Александрович! — приветствует Екатерина Потемкина 21 марта. — Всемилостивейше дозволяем Мы Вам принять от Римского Цесаря присланный к Вам диплом на Княжеское достоинство Римской Империи». В России было много князей, но Потемкин становится отныне светлейшим князем — или просто светлейшим. Вспомнив случай Григория Орлова, дипломаты сделали вывод, что это прощальный подарок фавориту. Екатерина «подарила ему еще 16 тысяч крестьян, приносящих ежегодный доход по 5 рублей с души». Что это? Отставка — или подтверждение его заслуг?[272]
«Я обедал у графа Потемкина, — записывает Корберон 24 марта. — Говорят, что его кредит падает, что Завадовский по-прежнему пользуется интимным доверием и что влиятельные Орловы снова ему протежируют».[273]
Светлейший хотел быть не только князем, но и монархом: он уже опасался, что Екатерина может умереть и оставить его на произвол Павла, от которого «ему нечего ждать, кроме Сибири».[274] Чтобы избежать этого, требовалась независимость — владения за пределами России. Некогда императрица Анна Ивановна сделала своего фаворита Эрнста Бирона герцогом Курляндии, прибалтийского княжества, подчиненного России, но формально принадлежавшего Польше. Потемкин пожелал получить Курляндию, которой управлял сын Бирона Петр.
2 мая Екатерина сообщала своему послу в Варшаве графу Отто-Магнусу Штакельбергу: «Желая отблагодарить князя Потемкина за его службу отечеству, я намерена отдать ему герцогство Курляндское», — и предлагала способ действий. Фридрих Великий приказал своему посланнику в Петербурге предложить Потемкину помощь в этом деле и 18/29 мая направил князю теплое письмо. Но Екатерина ничего не делала без оглядки: Потемкин еще не проявил себя как правитель и ей нужно было действовать осторожно, как в Курляндии, так и в России. Требование независимого трона станет лейтмотивом всей дальнейшей карьеры Потемкина, но она всегда будет стараться удержать его энергию в пределах России.[275]
В то самое время, когда, по мнению иностранцев, Потемкин полностью потерял доверие императрицы, непредсказуемая пара переживала кульминацию своей любви. Она посылает ему, наверное, лучшее признание, какое может сделать женщина: «Батинька Князь! До рождения моего Творец назначил тебя мне быть другом... За дар твой благодарствую, равномерно же за ласку».[276] Вероятно, они снова на какое-то время соединились, но болезненные переговоры не прекращались. Оба чувствовали, что им не спасти свой союз.
В начале апреля 1776 года в Петербург приехал прусский принц Генрих, чтобы подтвердить союз своего брата Фридриха с Россией. Усилия, приложенные Фридрихом, чтобы сократить российские приобретения в русско-турецкой войне, охладили отношения между двумя державами. Младший брат Фридриха был умелым военачальником, тонким дипломатом, одним из инициаторов раздела Польши 1772 года и тайным гомосексуалистом. На четырнадцать лет младше Фридриха, он казался пародией на него и жестоко ему завидовал — такова судьба младших братьев всех королей. Он одним из первых стал заигрывать с Потемкиным, который, вдруг обнаружив интерес к иностранным делам, устраивал путешествие Генриха. «Я буду счастлив, — писал ему принц, — если во время моего пребывания в Петербурге смогу засвидетельствовать вам свою дружбу и уважение». 9 апреля, в день своего приезда, он подтвердил это заявление, добавив к уже обширной коллекции иностранных орденов Потемкина прусского Черного Орла, что дало награжденному повод обменяться с Фридрихом II лестными письмами. Можно не сомневаться, что принц Генрих горячо поддержал курляндский проект.[277]
В день приезда прусского принца случилось несчастье.
В 4 часа утра 10 апреля 1776 года у великой княгини Натальи Алексеевны начались роды. Императрица поспешила в покои невестки и оставалась с ней и с Павлом до 8 часов утра.[278]
Время было самое неподходящее: принц Генрих требовал августейшего внимания. Вечером государыня и принц присутствовали на концерте скрипача Лиоли «в апартаментах его сиятельства князя Григория Александровича Потемкина», сообщает камер-фурьерский журнал. Принц обсуждал с Потемкиным русско-прусский союз; следуя инструкциям Фридриха, Генрих старался понравиться фавориту. Ночью Наталья Алексеевна, казалось, вот-вот подарит империи наследника.
Великая княгиня уже успела разочаровать императрицу. Павел любил ее, но она вряд ли оправдывала его привязанность. Екатерина II Потемкин подозревали, что у нее роман с Андреем Разумовским, ближайшим другом Павла и большим любителем женщин. Тем не менее 11 апреля Екатерина вернулась к постели роженицы, провела возле нее шесть часов, а затем обедала у нее в покоях с двумя князьями, Орловым и Потемкиным. Весь следующий день она также провела у великой княгини.
Иностранные дипломаты почти досадовали на то, что роды отсрочили «падение Потемкина», как записал Корберон. Великая княгиня была близка к агонии. «Кушание было подано во внутренние Ее Величества покои, только кушать не изволила, а кушал князь Григорий Александрович Потемкин», — отмечено в камер-фурьерском журнале.[279]
Доктора делали все, что было в их силах, следуя правилам заботливого живодерства, которое тогда именовалось медициной. Хирургические клещи употреблялись для родовспоможения с середины XVIII века; кесарево сечение, хотя и очень опасное, практиковалось с римских времен: мать почти всегда погибала от инфекции, болевого шока и потери крови, но ребенка иногда удавалось спасти. Врачи великой княгини не попробовали ни того, ни другого, а время ушло. Ребенок погиб в утробе и инфицировал организм матери. «Дело наше весьма плохо идет, сообщала Екатерина своему статс-секретарю С.М. Козмину, возможно, на следующий день, в письме, помеченном 5 часами утра, и уже думала о том, как ей обращаться теперь с Павлом. — Какою дорогой пошел дитя, чаю, и мать пойдет. Сие до времяни у себя держи...» Она приказала коменданту Царского Села приготовить отдельные апартаменты для Павла. «Кой час решится, то сына туда увезу».[280]
Пока все ждали неизбежной развязки, князь Потемкин играл в карты. «Я уверен, — говорит Корберон, — что, когда все рыдали, Потемкин проиграл [...] 3 тысячи рублей в вист».[281] Это неверно. Императрице и ее супругу надо было решить много важных вопросов. Екатерина послала ему список из шести кандидаток на роль новой жены цесаревича. На первом месте стояла принцесса София Доротея Вюртембергская, которую императрица и раньше хотела видеть супругой Павла.
15 апреля в 5 часов утра великая княгиня умерла. Обезумевший Павел отказывался в это верить. Он кричал, что доктора лгут, что она еще жива, что он хочет к ней, что не даст похоронить ее. Доктора пустили ему кровь, а затем Екатерина выехала вместе с убитым горем сыном в Царское Село. Потемкин присоединился к ним, в сопровождении своей старой приятельницей графини Брюс. «Sic transit gloria mundi»{31}, — писала Екатерина Гримму. Наталья Алексеевна ей не нравилась, и дипломаты уже сплетничали, что она не дала врачам спасти невестку. Вскрытие, однако, показало, что та страдала дефектом, который не позволил бы ей родить ребенка естественным путем, и что медицина того времени была бессильна ей помочь. Но поскольку дело происходило в России, где царствующие особы внезапно умирали от «геморроя», Корберон сообщал, что никто не поверил официальной версии{32}.[282]
«Два дня великий князь пребывал в невообразимой прострации, — писал Оукс. — Принц Генрих почти не отходил от него». Прусский принц, Екатерина II Потемкин объединили свои усилия, чтобы как можно скорее устроить женитьбу Павла с принцессой Вюртембергской: империи требовался наследник. «Выбор принцессы откладывать не станут», — сообщал Оукс через несколько дней.[283]
Павел, что вполне понятно, вовсе не горел желанием вступать в новый брак, но его подтолкнула к этому мать. Столь же нежная к приемным родственникам, сколь жестокая к собственным, она показала ему письма Андрея Разумовского к великой княгине, найденные среди вещей покойной. Екатерина II Потемкин подготовили все для поездки Павла в Берлин на смотрины невесты. Братья Гогенцоллерны были в восторге от перспективы влиять на наследника российского престола: принцесса София приходилась им племянницей. Сыграло свою роль и унаследованное Павлом Петровичем от отца преклонение перед Фридрихом Великим.
Двор мог возвращаться к своему любимому занятию: наблюдать за падением фаворита.
Гроб с телом Натальи Алексеевны, облаченным в белое платье, стоял в церкви Александро-Невской лавры. Мертворожденный ребенок лежал в открытом гробике у нее в ногах. Светлейший оставался в Царском Селе с Екатериной, принцем Генрихом и Павлом, который горевал не только о жене, но и о разбитой иллюзии своего семейного счастья. Дипломаты не могли понять, почему императрица держит при себе и Завадовского, и Потемкина («Царствование последнего подходит к концу, — уверял Корберон, — его место в Военном министерстве уже отдано графу Алексею Орлову»), и волновались, видя, что князь как будто обращает происходящее в свою пользу. И французский, и английский посланники соглашались, что принц Генрих поддерживает его против Орловых и много сделал «чтобы замедлить удаление князя Потемкина, привязав его лентой к своим интересам» (речь шла о ленте ордена Черного Орла).[284]
Похороны Натальи Алексеевны состоялись 26 апреля в Александро-Невской лавре. Екатерину сопровождали Потемкин, Зава-довский и князь Григорий Орлов; Павел не нашел в себе сил присутствовать на церемонии. Дипломаты старались подмечать каждый жест — так же, как потом советологи, которые внимательно анализировали подробности кремлевского протокола и иерархии на похоронах советских руководителей. Как те, так и другие часто ошибались. Корберон отметил «верный знак» падающего кредита Потемкина: Иван Чернышев, президент Морской коллегии, сделал «три низких поклона» князю Орлову и «один едва заметный Потемкину, хотя тот кланялся ему непрерывно».[285]
Светлейший мог дурачить наблюдателей в свое удовольствие. 14 июня, когда принц Генрих и великий князь Павел отправились в Берлин, он по-прежнему оставался у власти. Поездка оказалась удачной. Павел вернулся с Софией Вюртембергской — будущей великой княгиней Марией Федоровной, матерью двух императоров.
Говорят, князь Орлов и его брат донимали Потемкина насмешками по поводу его неминуемой опалы. Тот не протестовал. Он знал, что, если все пойдет как задумано, эти шутки скоро потеряют смысл. «Здесь слух пронесся из Москвы, — писал Кирилл Разумовский правителю канцелярии Потемкина, — что ваш шеф зачал будто бы с грусти спивать. Я сему не верю и крепко спорю, ибо я лучшую крепость духа ему приписываю, нежели сию». Корберон отмечает, что Потемкин «погряз в разврате». В самом деле, в тяжелые периоды светлейший имел обыкновение снимать эмоциональное напряжение, предаваясь безудержным удовольствиям.[286] Екатерина II Потемкин обсуждали его будущее, обмениваясь то нежностями, то оскорблениями. Правы были те, кто утверждал, что в эти дни закладывались основания его дальнейшей карьеры.
«Катарина [...] и теперь всей душою и сердцем к тебе привязана», — пишет она ему в мае 1776 года. Она хотела знать правду о его чувствах к ней: «Кто из нас воистину прямо, чистосердечно и вечно к кому привязан, кто снисходителен, кто обиды, притеснения и неуважение позабыть умеет?» Потемкин был счастлив сегодня и взрывался назавтра — от ревности, чрезмерной чувствительности и просто из-за своего скверного нрава. Его ревность была, как и все в нем, непоследовательна, но не он один страдал от этого чувства. Вероятно, Екатерина спрашивала его о какой-то женщине... «Я не ожидала и теперь не знаю, в чем мое любопытство тебе оскорбительно».[287]
Она требовала, чтобы он соблюдал приличия на людях: «От уважения, кое ты дашь или не дашь сему делу, зависит рассуждение и глупой публики». Некоторые историки утверждают, что в эти дни Потемкин разыгрывал ревность, чтобы добиться своего и одновременно пощадить ее женскую гордость. Он вдруг потребовал удаления нового секретаря. «Просишь ты отдаления Завадовского, — пишет она. — Слава моя страждет всячески от исполнения сей прозьбы... Не требуй несправедливостей, закрой уши от наушников, дай уважение моим словам. Покой наш возстановится».[288] Скорее всего, они почти пришли к соглашению и решили на время расстаться, чтобы спасти уважение друг к другу. Между 21 мая и 3 июня присутствие Потемкина при дворе не зафиксировано.
20 мая, согласно сообщению Оукса, Завадовский появился в качестве официального фаворита Екатерины и получил в подарок 3 тысячи душ. В годовщину восшествия императрицы на престол он был произведен в генерал-майоры с пожалованием еще 20 тысяч рублей и тысячи крестьян. Потемкин уже не возражал. Буря миновала, супруги наконец успокоили взаимные претензии, и он позволял ей утешаться с Завадовским. «Вот, матушка, следствие Вашего приятного обхождения со мною на прошедших днях, — благодарил он ее. — Я вижу наклонность Вашу быть со мною хорошо...»[289]
Однако и умиротворенный Потемкин не может долго оставаться в тени. 3 июня он снова является в Царское Село: «Я приехал сюда, чтоб видеть Вас для того, что без Вас мне скушно и несносно. Я видел, что приезд мой Вас амбарасировал...{33} Всемилостивейшая Государыня, я для Вас хотя в огонь... Но, ежели, наконец, мне определено быть от Вас изгнану, то лутче пусть это будет не на большой публике. Не замешкаю я удалиться, хотя мне сие и наравне с жизнью». Под этой страстной декларацией Екатерина приписывает свой ответ: «Mon Ami, Votre imagination Vous trompe{34}». Я Вам рада и Вами не еmbarrasирована. Но мне была посторонняя досада, которую Вам скажу при случае».[290]
Светлейший снова появляется возле государыни. Несчастный Завадовский, как сообщает камер-фурьерский журнал, исчезает в тот же день. Дипломаты этого не понимают: они уверены, что окончательное отстранение Потемкина от всех постов — только вопрос времени. Их предположения как будто подтверждаются, когда Екатерина жалует князю огромный, но запущенный Аничков дворец возле моста через Фонтанку, раньше принадлежавший Алексею Разумовскому. За этим могло последовать только освобождение Потемкиным его апартаментов в Зимнем и отъезд на европейские курорты.
Потемкин сокрушался, что, если потеряет свои покои во дворце, он потеряет все. Екатерина не уставала успокаивать его: «Батинька, видит Бог, я не намерена тебя выживать изо дворца. Пожалуй, живи в нем и будь спокоен. По той причине я тебе и не давала ни дома, ни ложки, ни плошки».[291] Позднее он освободит апартаменты фаворита, но никогда окончательно не покинет Зимнего дворца и никогда не потеряет доступа в будуар Екатерины.
Его новая резиденция полностью соответствовала их пожеланиям. До конца жизни Потемкина его жилищем станет Шепелевский дворец — отдельное здание, выходящее на Миллионную улицу и связанное с Зимним дворцом галереей, переброшенной через Зимнюю канавку. Императрица и князь могли навещать друг друга через коридор, ведущий от дворцовой часовни, никого не встречая — и, в случае Потемкина, не одеваясь.
23 июня светлейший отправился с инспекцией в Новгород. Один английский дипломат заметил, что из его комнат во дворце вынесли часть мебели: Потемкин в опале и удаляется в монастырь... Но более сведущие наблюдатели отмечали, что его поездка оплачивается из казны и что на его пути ставятся триумфальные арки: это было возможно только по высочайшему указу.[292] Никто не знал, что писала ему Екатерине перед его отъездом: «Князь Григорий Александрович, купленный Нами Аничковский у Графа Разумовского дом Всемилостивейше жалуем Вам в вечное и потомственное владение». К сему было добавлено 100 тысяч рублей на обустройство дворца. Невозможно подсчитать, какую сумму Екатерина потратила на Потемкина за эти два года — деньгами, подарками, оплатой его долгов. Он жил в том запредельном мире, где размеры богатства исчисляются царской мерой: для него было обычным делом получить от Екатерины 100 тысяч рублей, тогда как жалованье полковника составляло 1 тысячу в год. Считается, что всего князь получил 37 тысяч душ, многочисленные поместья вокруг Петербурга и Москвы и в Белоруссии (один Кричев, например, насчитывал 14 тысяч душ), брильянты, сервизы, серебро — и девять миллионов рублей. Но всего этого ему было мало.[293]
Через несколько недель князь возвратился. Екатерина приветствовала его теплым письмом. Он поселился в своих прежних апартаментах. Наблюдатели были снова сбиты с толку: светлейший «приехал в субботу вечером и явился ко двору на следующий день. Его возвращение в апартаменты, которые он занимал во дворце прежде, вызывают у многих опасения, что он вернет себе прежнее положение». Они удивились бы гораздо больше, если бы узнали, что князь редактирует письма Екатерины к Павлу в Берлин.
Можно почти не сомневаться, что супруги играли по заранее намеченному сценарию, как делают и сегодняшние политики, чтобы обмануть любопытную прессу. Начав год со вспышек ревности и опасений за свою любовь и дружбу, теперь они установили свой брак на новых основаниях. Оба обрели свободу, сохранив поддержку друг друга — в политике, повседневных делах и в любви. Это было очень непросто. Сердечные дела не решаются переговорами, как мирные трактаты, особенно между такими эмоциональными людьми. Это сделали время, природа, ошибки, ум и взаимное доверие. Из влиятельного любовника Потемкин превратился в «министра-фаворита». Они обманули всех.
В день, когда светлейший вернулся ко двору, оба знали, как жадно присутствующие будут ловить знаки ее милости или его опалы. Князь прошел в покои государыни «с самым спокойным видом». Та играла в вист; он сел напротив нее. Как ни в чем не бывало, она сдала ему карты и заметила, что ему всегда везет.[294]
Часть четвертая: ПАРТНЕРСТВО (1776-1777)
11. ЕЕ ФАВОРИТЫ
Екатерина, следует сказать, Хоть нравом и была непостоянна, Любовников умела поднимать Почти до императорского сана. Екатерина всем понять дала, Что в центре августейшего вниманья Стал лейтенант прекрасный. Без числа Он принимал придворных излиянья, Потом его с собою увела Протасова, носившая названье Секретной eprouveuse{35}— признаюсь, Перевести при музе не решусь. Байрон. Дон Жуан. IХ:70, 84. Пер. Т. ГнедичРоман Потемкина и Екатерины II как будто закончился, но на самом деле он не завершался никогда. Он превратился в устойчивый брак. Супруги влюблялись и заводили себе любовников и любовниц, но их отношения между собой оставались для них важнее всего. Эта ситуация породила миф о Екатерине-нимфоманке и Потемкине — сутенере императрицы. Возможно, сегодняшняя свобода нравов мешает нам в полной мере оценить трогательность их партнерства.
Завадовский стал первым официальным фаворитом, который делил ложе с Екатериной, в то время как Потемкин царствовал в ее душе, оставаясь ее супругом, другом и первым государственным лицом. Мы знаем, что за шестьдесят семь лет жизни Екатерина имела по меньшей мере двенадцать любовников (далеко не та армия, которую ей приписывают). Обманчива даже и эта цифра: каждый раз, обретая новое счастье, она надеялась, что теперь обрела его навсегда. Она редко прерывала отношения по собственной воле. Салтыкова и Понятовского у нее отобрали; Орлов ей изменял, и даже Потемкин удалился от нее по своей инициативе. После Потемкина ее связи с мужчинами, намного ее младшими, выглядели действительно скандальными — но таково было ее положение.
Реальность существенно отличается от мифа. Да, она сделала пост любовника официальной должностью, и Потемкин помогал ей. Историки часто выпускали из виду треугольник «Екатерина — Потемкин — молодой фаворит», однако именно такой треугольник и составлял «семью» императрицы.
Роман с Завадовским стал первой попыткой царского menage-a-trois{36}. Присутствие Потемкина делало положение фаворитов достаточно унизительным, поскольку они не имели ни возможности, ни права препятствовать его близости с Екатериной. Роль фаворита была весьма сложной и без Потемкина, в чем Завадовский очень скоро убедился на собственном опыте.
Письма Екатерины Завадовскому дают нам удивительную возможность заглянуть в душный и жуткий мир фаворита. Он искренне любил Екатерину, но пробыл в этой должности всего полтора года. По ее письмам видно, что она тоже отвечала ему привязанностью, но паритет между ними отсутствовал. Он был ровесником Потемкина и благоговел перед ней. Она относилась к нему покровительственно. Если Потемкин жаждал простора и свободного времени, то Завадовский хотел находиться при ней неотлучно, и ей приходилось объяснять ему: «Время принадлежит не мне, но империи».
Возможно, новый фаворит имел меньше любовного опыта, чем Потемкин, и потому так безоглядно влюбился. «Ты самый Везувий», — писала она Завадовскому. Возможно, к его неопытности относятся и слова: «...когда менее ожидаешь, тогда эрупция{37} окажется; но нет, ничего, ласками их погашу. Петруша милый!» Ее переписка с Завадовским менее формальна, чем с Потемкиным. Он называет ее «Катюша» или «Катя», а не «Матушка» и «Всемилостивейшая Государыня». Письма императрицы к Завадовскому кажутся более интимными: «Петрушинька, радуюсь, что моими подушечками тебя излечила, а буде ласка моя способствует твоему здоровью, так не будешь болен никогда».[295]
Завадовский часто болел, скорее всего, от постоянного нервного напряжения. Он не выдерживал интенсивности окружавших его интриг и ненависти. Несмотря на то что Екатерина постоянно заверяла его в своих чувствах, он не мог успокоиться: на его частную жизнь смотрели «в микроскоп». Она не понимала, что с ним творится, а он не обладал способностью Потемкина добиваться от нее того, чего хотел. Прежде всего он должен был сносить вездесущность самого светлейшего, которому уделяли внимание каждый раз, как он того требовал. Когда они ссорились, их отношения улаживал Потемкин: «Нужно нам обоим восстановление душевного покоя! — писала Екатерина. — Я наравне с тобою три месяца стражду, мучусь... Князю Гри[горию] Александровичу] говорить буду». Разговоры с Потемкиным о чувствах Завадовского едва ли способствовали восстановлению душевного равновесия фаворита. Позднее он утверждал, что постоянное присутствие кипучего Потемкина было ему безразлично, но на самом деле князь угнетал его и он старался его избегать. «Я не понимаю, — писала императрица Завадовскому, — почему на меня не можешь возреть без слез». Когда Потемкин получил титул светлейшего князя, Екатерина приказала Завадовскому: «Буде ты пошел новую Светлость поздравить, Светлость примет ласково. Буде запресся, ни я, никто не привыкнет тебя видеть».[296]
Рассказывали, что Потемкин однажды, вспылив, потребовал у императрицы отставить Завадовского, ворвался к ним в комнаты и запустил в Екатерину шандалом.[297] Это очень похоже на Потемкина, но, если такая вспышка действительно случилась, мы не знаем, что послужило ее причиной. Возможно, скучный Завадовский ему надоел или рассердил своей дружбой с его недругом Семеном Воронцовым. Завадовский, несомненно, был весьма ограниченной натурой, ничем не схожей с Потемкиным; возможно, он раздражал и Екатерину.
Дипломаты заметили подавленное настроение фаворита. Уже в середине 1776 года Корберон желал узнать «имя следующего фаворита [...] потому что, говорят, Завадовский уже клонится к закату». Сравнивая работу дипломатов по расшифровке екатерининского фаворитизма с реальностью XX века, ее можно сравнить и с «кремлевской аналитикой», и со сплетнями из желтой прессы: они занимались разгадыванием обманных маневров, иногда двойных. «О фаворе судят по степени немилости», — записал французский поверенный в делах.
Через год и Екатерина наконец заметила уныние Завадовского. В мае 1777 года она написала ему: «Мне князь Ор[лов] сказал, что ты желаешь ехать, и на сие я соглашаюсь [...] После обеда, буде будешь кушать, я могу с тобою увидеться». Между ними произошел тяжелый разговор — естественно, переданный в подробностях Потемкину: «Я посылала к нему и спросила, имеет ли он, что со мною говорить? На что он мне сказал, что, как он мне вчерась говорил, угодно ли мне будет, естьли кого выберет». Екатерина разрешила фавориту выбрать посредника, нечто среднее между литературным агентом и адвокатом по бракоразводным делам, для переговоров об условиях его отставки. «Выбрал Гр[афа] Ки[рилла] Григорьевича] Ра[зумовского]. Сие говорил сквозь слез, прося при том, чтоб не лишен был ко мне входить, на что я согласилась. Потом со многими поклонами просил еще не лишать его милости моей et de lui faire un sort.{38} На то и на другое я ответствовала, что его прозьбы справедливы и чтоб надеялся иметь и то, и другое, за что, поблагодари, вышел со слезами». И заканчивала, посылая какой-то подарок в растущую библиотеку Потемкина: «Прощай, милый, занимайся книгами. Оне по твоему росту». После беседы с Разумовским Екатерина преподнесла Завадовскому «три или четыре тысячи душ... к тому 50 тысяч рублей и впредь 30 тысяч пенсиона, да серебряный сервиз на шестнадцать персон...»[298]
Екатерина нелегко переживала это расставание. «Я в страдании сердечном и душевном», — сообщала она Потемкину. Она всегда была щедра к своим любовникам, но Завадовскому, как мы увидим, подарила меньше всех, исключая только Васильчикова. Прав был Массон, констатируя: «Екатерина была снисходительна в любви, но неумолима в политике».[299]
Завадовский был подавлен. Екатерина тоном строгой воспитательницы велит ему успокоиться, для чего «переводить Тациту» — психотерапия неоклассического века. Разумеется, она не забыла добавить: чтобы князь Потемкин «был с тобою по прежнему, о сем приложить старание нетрудно [...] приближатся умы, обо мне единого понятия и тем самым ближе к друг другу находящиеся, нежели сами понимают». Перспектива налаживать отношения с Потемкиным посыпала его раны солью. 8 июня Завадовский уехал на Украину. «Князь Потемкин, — отметил английский посланник сэр Джордж Харрис, — снова на верху могущества».[300] Не надо пояснять, что Екатерина, которая не хотела «быть ни на час охотно без любви», уже нашла нового избранника.
В субботу 27 мая 1777 года императрица прибыла в новое имение Потемкина Озерки, за Александро-Невским монастырем. Когда сели обедать, ее приветствовал пушечный салют: Потемкин чествовал почетных гостей с размахом. На обед съехались тридцать пять человек — первые лица государства, Александра и Екатерина
Энгельгардт, Павел и Михаил Потемкины — и, в самом конце списка, гусарский майор Семен Гаврилович Зорич, тридцатилетний серб, смуглый курчавый атлет. Он впервые попал на официальный придворный прием. Однако создается впечатление, что Екатерина с ним уже встречалась. Красавца Зорича, которого дамы тут же прозвали Адонисом, а мужчины — vrai sauvage{39}, считали почти героем. Потемкин помнил его с турецкой войны: Зорич побывал в турецком плену. Обычно турки сразу уничтожали попавших к ним в руки неверных, но офицеров-дворян оставляли для выкупа. Зорич объявил себя графом и выжил.
Вернувшись, он попал в свиту Потемкина. Светлейший имел обыкновение представлять своих адъютантов ко двору, и Екатерина обратила на Зорича внимание. Через несколько дней он стал новым официальным фаворитом. Он был первым в ряду екатерининских «mignons» — любимчиков, — не имевших никаких других официальных обязанностей. Восхищаясь красотой Зорича и ласково называя его то Симой, то Сенюшей, Екатерина тем не менее не могла жить без Потемкина. «Отдайте Сенюше приложенное письмецо, — просит она супруга. — Куда как скучаю без вас».[301] Если тихий, скромный секретарь послужил противоядием от буйства Потемкина, то пылкий серб был приятной переменой после элегического Завадовского.
Завадовский же, услышав о появлении Зорича, срочно вернулся в Петербург. Он метался «наподобие уязвленного еленя» — и двор обращался с ним соответственно. Ему было приказано держаться в рамках, «чтобы утишить беспокойство».[302] Чье беспокойство? Возможно, императрицы, но скорее всего ипохондрика Потемкина. Скоро Завадовский убедился, что окончательно потерял прежнее место.
Завадовский вызывает симпатию своей преданной службой государству и романтическим страданием. Двадцать лет он не переставал жаловаться своим друзьям на всесилие и капризность Потемкина. Храня верность Екатерине, он не женился еще десять лет, а когда построил дворец в Екатеринодаре, с 250 комнатами, фарфоровыми изразцами, малахитовыми каминами и роскошной библиотекой, его главным украшением стала статуя Екатерины в натуральную величину.[303] От последовавших за ним фаворитов он существенно отличался тем, что, хотя его царственная любовница и не давала ему полномочий, хоть отдаленно напоминающих потемкинские, он сделал выдающуюся служебную карьеру при Екатерине и после нее.{40}
А в Зорича Екатерина влюбилась страстно. Потемкин был доволен своим бывшим адъютантом и подарил ему бриллиантовое перо на шляпу и трость. Екатерина, которая будет требовать от всех фаворитов уважать Потемкина, писала: «Князюшка, перо мною получено и отдано Симе», — и сравнивала его с приехавшим в Петербург Густавом III, известным щеголем: «и Сима разщеголял, по милости Вашей. Vous lui aves envoye une canne superbe. II ressamble au Roy de Suede avec la sienne, mais il surpasse celui-ci en reconnaissance pour Vous{41}».[304] Скоро выяснилось, что больше всего «vrai sauvage» интересуется сменой нарядов. Кроме того, он страдал болезнью века: страстью к игре. Когда первая волна восхищения его мужественной красотой прошла, Екатерина поняла, что с ним будет очень непросто. Новый фаворит не понимал, как он должен относиться к светлейшему.
Через несколько месяцев все знали, что его ждет отставка. Дипломаты снова стали гадать об особе преемника. «На случай отставки господина Зорича имеется персидский кандидат», — писал сэр Джеймс Харрис уже 2 февраля 1778 года. Но Зорич оставался на своем месте, во всеуслышание объявляя, что, если его отошлют, он «призовет своего преемника к ответу», то есть по меньшей мере вызовет на дуэль. «Я обрублю уши, — грозился он, — тому, кто посягнет на мое место». Понятно, что подобные декларации только приближали минуту его падения. Скоро Харрису показалось, что он отгадал нового кандидата. Как и все дипломаты, сэр Джеймс решил, что «Потемкину, вероятно, поручат поиск нового любимчика, и я слышал, что он уже остановился на некоем Архарове [...] Средних лет, скорее Геркулес, чем Аполлон».[305]
Три месяца спустя двор перебрался на лето в Царское Село. Здесь, в театре, рассказывает Харрис, Потемкин представил императрице «высокого гусарского офицера, одного из своих адъютантов. Она обращалась с ним очень приветливо». Как только Екатерина удалилась, Зорич «яростно набросился на Потемкина и, прибегая к самым сильным выражениям, вызвал его на дуэль». Потемкин с презрением отклонил дерзкий вызов. Зорич примчался в апартаменты императрицы и похвастался своим подвигом. «Когда перед Екатериной появился Потемкин, его приняли холодно, а Зорич, казалось, в прежнем фаворе», — писал английский посланник.[306]
Потемкин вернулся из Царского Села в город — и снова выяснилось, что наблюдатели введены в заблуждение. «Дикарь» получил приказ скакать за князем и упросить его вернуться к ужину. Светлейший возвратился. За ужином «они опять выглядели друзьями». То, что Зорич рассердил Потемкина, было не ново, все фавориты время от времени навлекали на себя его гнев, но сэр Джеймс проницательно отмечал: «Этот хитрец извлечет из дерзости Зорича наибольшую выгоду».[307]
Неудивительно, что шесть дней спустя Харрис констатировал отставку Зорича, «о которой ему очень мягко объявила сама государыня». Зорич разразился градом упреков. Однако он получил богатое белорусское имение Шклов с 7 тысячами душ и огромную сумму наличных денег. В последний раз его видели при дворе 13 мая 1778 года. На следующий день Екатерина встретилась с Потемкиным на обеде в Кекерекексинском дворце, по дороге из Царского Села: «Дитятя уехал et c’est tout, — писала она Потемкину, — du reste nous parlerons ensemble...{42}»[308] Последние слова, возможно, относились к ее новой отраде.
В Кекерекексинский дворец (позже финское название — «лягушачий» — было заменено на «Чесменский») князь Потемкин прибыл с майором Иваном Николаевичем Римским-Корсаковым. Естественно, расставаясь с Зоричем, Екатерина уже увлеклась новой особой. 8 мая, когда Римский-Корсаков стал адъютантом Потемкина, Зорич еще сыпал своими угрозами. Екатерина не была бессердечной гедонисткой, и перемена фаворитов каждый раз вызывала у нее если не жестокий стресс, то по крайней мере эмоциональный кризис. Поначалу, пока Зорич еще не покинул столицы, Екатерина, по словам Харриса, размышляла о возвращении «тихого и заурядного» Завадовского. Потемкин, «не знающий себе равных в умении пользоваться моментом», представил Корсакова.
Через два дня Екатерина, в сопровождении двора и нескольких родственников Потемкина, включая двух его племянниц, отправилась в имение князя Осиновую рощу, чтобы «забыть свои заботы [...] в обществе нового любимца». Читая, с каким энтузиазмом она описывает Гримму «озера, холмы, леса, поля, скалы и хижины» Осиновой рощи, где «весь двор живет в доме из десяти комнат» и в сравнении с которой «Царское Село, Гатчина и даже Царицыно по местоположению дрянь», трудно догадаться, что ее новое чувство уже встретило препятствие.[309] Внимание красавца-адъютанта оспаривали две немолодые, но страстные женщины.
В числе двадцати гостей находилась графиня Брюс (по слухам, «испытательница» екатерининских фаворитов). Скорее всего, именно ее привлек обаятельный Корсаков. Екатерина заметила это и колебалась, прежде чем дать волю своим чувствам. «Боюсь пальцы обжечь и для того луче не ввести во искушение», — писала она Потемкину в загадочном послании, в котором она как будто просит его сделать так, чтобы некто держался на расстоянии: «...опасаюсь, что вчерашний день расславил мнимую атракцию,{43} которая, однако, надеюсь лишь односторонняя и которая Вашим разумным руководством вовсе прекратиться лехко может». Она определенно желала заполучить нового «дитятю» себе: «И так, хотя не хотим и не хотя хотим. Morbleu, voila qui est clair comme le jour{44}».[310] Несмотря на невнятность этой скороговорки, видно, что она уже влюблена — и не желает соперничества.
«Разумное руководство» Потемкина сделало свое дело. Графиня Брюс, если это была она, отступила, и Екатерина объявила своего нового mignon. Загородная поездка окончилась. Через два дня Римский-Корсаков был назначен флигель-адъютантом. Прозвав «античного красавца» «Пирром, царем Эпирским», она хвасталась Гримму, что «он вызывает отчаяние художников и скульпторов». Екатерина чередует типажи своих любовников: насколько Зорич был грубо-мужествен, настолько Римский-Корсаков изящен: портреты передают его действительно классические черты. Он любил петь, и Екатерина говорила, что у него соловьиный голос. Для него приглашается учитель пения. Подарки, полученные им, помимо 4 тысяч душ, оцениваются в полмиллиона рублей. Высокомерный и тщеславный, он «добр, но глуп».[311]
Екатерина снова наслаждается счастьем: «Благодаря Вам и царю Эпирскому, — пишет она Потемкину, — я весела как зяблик и хочу, чтобы и Вы были также веселы и здоровы». Устроив счастье императрицы, Потемкин, все более занятый управлением армией, снова поднялся на такую высоту, что Завадовский, обнаруживший в когда-то принадлежавших ему апартаментах очередного фаворита, поражен, что «князь Г[ригорий] П[отемкин] не имеет против себя балансу, — ворчал он в письме своему бывшему начальнику Румянцеву. — Во все века редко Бог производил человека столь универсального, каковым есть Князь П[отемкин]: везде он и все он.»[312]
«Нетерпеливость велика, — пишет Екатерина в первые дни своей новой любви, — видеть лучшее для меня Божеское сотворение. По нем грущу более сутки, уже навстречу выезжала». Харрис описывает чувства императрицы суше: «Корсаков пользуется горячей привязанностью, всегда сопровождающей новизну». Корсаков, несомненно, был очень доволен своим положением и быстро вошел во вкус. Потемкин предложил произвести его в камер-юнкеры, но молодой человек потребовал сразу камергерского чина. Чтобы не обижать светлейшего князя, Екатерина заодно определила камергером и Павла Потемкина. Скоро Корсаков уже генерал-майор; польский король пришлет ему орден Золотого Орла, и он будет носить его, не снимая. Жадное чувство императрицы к Корсакову сквозит в письмах: «...что же любишь, за то спасибо», — откровенно объявляет она ему.[313]
Но Екатерина не видела или не хотела видеть тревожных симптомов. Даже по письмам складывается впечатление, что Корсаков всегда далеко от нее и она никогда не знает, где именно. «Ни единая минута из мысли не выходишь. Когда-то вас увидим». Он очевидно избегает ее общества: «Буде скоро не возвратишься, сбегу отселе и понесусь искать по всему городу». Этот эмоциональный голод составлял ахиллесову пяту Екатерины — железного политика.[314]
Скоро Екатерина опять разочаровалась. В начале августа 1778 года, через несколько месяцев после назначения Корсакова, Харрис сообщал в Лондон, что фавор нового избранника уже клонится к закату, а Потемкин, Григорий Орлов и Никита Панин борются между собой за новую протекцию. Через пару недель он узнал даже, что «секрет графа Панина носит имя Страхов [...] На него впервые обратили внимание на балу в Петергофе 28 июня». Если возникнет эта новая связь, доносил Харрис министру по делам Северной Европы, она «должна кончиться падением Потемкина».[315]
В январе 1779 года количество предполагаемых кандидатов умножилось. Кроме Страхова упоминали некоего Левашева, майора Семеновского полка, говорили, что какой-то молодой человек, по фамилии Свиховский, едва не зарезался от отчаяния, когда потерял надежду получить Место фаворита. Эти слухи о любовных делах Екатерины часто основывались только на досужих вымыслах, но их интенсивность отражала напряженную придворную борьбу. Отгадывание имени очередного счастливца становилось столь же популярно при дворе, как вист или фараон.
Надо полагать, весь Петербург — за исключением, увы, одной императрицы — знал, что в Корсакова влюблена графиня Брюс. «Брюсша» сдержала свои чувства только на время. Они оба жили во дворце, в нескольких шагах от спальни императрицы, и любили друг друга буквально у нее под носом. Неудивительно, что государыня никогда не могла найти своего фаворита. Опытная придворная дама, ровесница Екатерины, вероятно, потеряла голову от красоты «Пирра». Со светлейшим она к этому времена испортила отношения — возможно, по поводу Корсакова. Потемкин, скорее всего, знавший о романе графини с самого начала, хотел удалить ее. Еще в начале сентября 1778 года он, вероятно, деликатно намекнул об этом императрице. Они поссорились. Дипломаты решили, что причиной тому его ревность к панинскому кандидату Страхову.
Князь, который не хотел ни ранить императрицу, ни снова терять ее доверие за попытку помочь, решил довести дело до конца. Наиболее правдоподобно, что однажды, когда императрица отправилась искать Корсакова по дворцу, кто-то из доверенных Потемкина указал ей нужную комнату.[316] Екатерина застала графиню со своим любовником в компрометирующем положении, чем и закончился фавор Корсакова.
Екатерина была разгневана и уязвлена, но она никогда не мстила изменившим ей фаворитам. Даже через год она доброжелательно писала Корсакову: «Прозьбу мою, дабы вы успокоили дух ваш и ободрили мысли, вам повторяю. На сей прошедшей неделе вы имели опыты, что пекусь о вашем благосостоянии, чем и доказано, что вы не оставлены». Несмотря на щедрые подарки, Корсаков не покинул Петербурга и, более того, самым недостойным образом болтал в гостиных о подробностях своей связи с императрицей. Вероятно, об этом узнал Потемкин и, когда Екатерина обсуждала с ним, награждать ли следующего фаворита, намекнул, что стоило бы положить предел ее снисходительности, и, может быть, даже рассказал о поведении Корсакова. Самолюбие Екатерины снова было задето.
Корсаков упорно не желал сходить со сцены. Изменив императрице, он изменил и участнице своей измены, Прасковье Брюс, и завел роман с графиней Екатериной Строгановой, которая ради него бросила мужа и ребенка. Это было уже слишком даже для Екатерины. Неугомонный донжуан отправился в Москву. В довершение личных невзгод Екатерины уже опальная графиня Брюс последовала за «царем Эпирским». Он не принял ее жертвы, и она вернулась к своему мужу, Якову Ефимовичу Брюсу.[317]
После этого неприятного эпизода Екатерина провела целых полгода, никого к себе не приближая. Харрис отмечал, что именно в такие грустные периоды влияние Потемкина особенно усиливалось. Скорее всего, они на время вернулись к прежней близости, что будет происходить впоследствии еще не раз.
Двор тем временем был занят поисками нового фаворита. Среди кандидатов были некто Станев и побочный сын Романа Воронцова Иван Ронцов, год спустя возглавивший лондонскую толпу в беспорядках, организованных лордом Джорджем Гордоном. Наконец, весной 1780 года она нашла достойного себя человека: Александра Дмитриевича Ланского.
Двадцатилетний Александр Ланской, избранный Екатериной на пятьдесят втором году ее жизни, этот, по словам английского путешественника, «очень красивый юноша», был наименее амбициозным из всех фаворитов императрицы. Что же касается его нрава, то, как говорил секретарь Екатерины Безбородко, «Ланской конечно не хорошего был характера», но по сравнению с последующими фаворитами «сущий ангел». Мнению Безбородко, который замечал все, происходившее в кабинете государыни, вполне можно доверять. Хотя Ланской и был замешан по крайней мере в одной интриге против светлейшего, он охотнее других любимцев вошел в семью Екатерины-Потемкина.[318]
Ланской, также служивший в конногвардейском полку, несколько месяцев состоял адъютантом Потемкина — потому, вероятно, Екатерина его и заметила. Однако Харрис, в это время встречавшийся с Потемкиным ежедневно, утверждает, что тот предлагал другого кандидата, а переубедили его подаренные ко дню рождения имения и деньги. Английский посланник говорит о 900 тысячах рублей — сумме, вполне убедительной даже для очень алчного спорщика. Имел Потемкин на примете другого кандидата или нет, но в будуарных вопросах он всегда проявлял гибкость.
Произведенный в генерал-поручики, Ланской скоро стал идеальным учеником и компаньоном Екатерины. Не получивший хорошего образования, он увлекался живописью и архитектурой и с огромным желанием учился. В отличие от других он, насколько возможно, избегал политики и прилагал все усилия, чтобы оставаться в хороших отношениях с Потемкиным, что также было нелегко. Хотя сам он любил роскошь, а его родственники жаждали денег, Ланской был лучшим из всех избранников Екатерины, потому что искренне обожал ее, и она, платя ему тем же, провела с ним четыре спокойных и счастливых года.
Если Екатерина начинала флиртовать с кем-то другим, Ланской «не ревновал, не изменял ей, не дерзил, но так трогательно [...] сокрушался о ее немилости и так искренне страдал», что снова завоевывал ее любовь. Екатерина надеялась, что он останется с ней до конца ее жизни.[319]
Фаворитизм при дворе Екатерины осуждали многие — прежде всего те, кто, будучи отстранен от участия в государственных делах, оказался в политической оппозиции (например, великий князь Павел Петрович, Семен Воронцов, Петр Панин). Критики императрицы утверждали, что фаворитизм отравлял всю атмосферу двора. «К коликому разврату нравов женских и всей стыдливости — пример ея множества имения любовников, един другому часто наследующих, а равно почетных и корыстями снабженных, обнародывая через сие причину их щастия, подал другим женщинам, — писал князь Михаил Щербатов в своем сочинении «О повреждении нравов в России», опубликованном через много лет после смерти Екатерины. — Видя храм сему пороку сооруженный в сердце императрицы, едва ли за порок себе считают ей подражать». Потемкина же обвиняли в том, что именно из-за него при дворе расцвели «властолюбие, пышность, подобострастие ко всем своим хотениям, обжорливость и следственно роскошь в столе, лесть, сребролюбие, захватчивость и, можно сказать, все другие знаемые в свете пороки».[320]
Эта щекочущая воображение читателей клевета стала еще более модной в последние годы царствования Екатерины, когда ни один иностранец, писавший о России, не обходился без упоминания об амурных делах царицы. Падкий на сплетни оксфордский профессор Джон Паркинсон, посетивший империю после смерти Потемкина, собирал и популяризировал анекдоты о Екатерине: «В одной компании зашел спор о том, какой из каналов обошелся в самую большую сумму. Один из присутствовавших заметил, что об этой материи не может быть двух мнений: самый дорогой канал — Екатерининский». Даже такая выдающаяся личность, как посол сэр Джон Макартни, не избежал подобных пошлостей, заявив, например, что вкус Екатерины к русским мужчинам объясняется тем, что «русские кормилицы имеют обычай постоянно оттягивать мужской орган у младенцев, что чудесным образом удлиняет его».[321]
Дипломаты без устали проходились насчет «функций» и «обязанностей» фаворитов и отпускали каламбуры, которых постыдились бы сегодняшние желтые газеты. Чаще всего они основывали свои сведения на сплетнях, а историки повторяли их, подтверждая всегдашние мужские фантазии о сексуальных аппетитах женщин-правительниц: один из немногих случаев, когда истина с огромной охотой искажалась хранителями исторического предания.
Природа фаворитизма была связана с особенным положением императрицы и ее необычными отношениями с Потемкиным. Всякий новый фаворит вступал в «семью», состоявшую не из двух, а из трех членов. Живя в мужском мире, Екатерина не могла обходиться без фаворитов. Не могла она и публично заключить брак и, по закону или по духу, являлась супругой Потемкина. Их характеры, таланты и эмоциональный склад были слишком сходны, чтобы жить вместе, но Екатерина постоянно нуждалась в обществе любимого человека. Она жаждала иметь семью, а ее сильный материнский инстинкт требовал предмета для заботы и обучения. Эти эмоциональные потребности были не слабее, чем ее пресловутые сексуальные запросы. Она действительно принадлежала к числу тех, кто не мог обходиться без партнера, и чаще всего давала отставку своему избраннику, лишь предварительно найдя ему замену. Такая привычка свидетельствует больше о неуверенности в себе, чем о склонности к распутству, но возможно, что одно связано с другим. Была и другая причина, почему Екатерина, становясь старше, продолжала выбирать молодых любовников, даже в ущерб своему достоинству и репутации. Она сама коснулась этой темы в своих мемуарах, описывая соблазны, окружавшие ее при дворе Елизаветы. Двор был полон молодых красивых мужчин; она была императрицей. Кто на ее месте поступил бы иначе?
Положение фаворита Екатерины стало официальным постом. «Любить императрицу России, — объяснял принц де Линь, уважавший Потемкина и Екатерину, — это придворная должность».[322] Назначая своего любовника публично, она в каком-то смысле следовала просвещенческой идее гласности, полагая, что честность и разумность победят предрассудки и сплетни.
Внешние приличия поддерживались, но восемнадцатый век все же был веком откровенности. Сама Екатерина держалась на людях очень сдержанно, хотя иногда позволяла себе рискованные шутки. Так, посещая какую-то гончарную мастерскую, она сделала столь смелое замечание по поводу формы одного из изделий, что шокированный Корберон записал его в своем дневнике условными знаками. Позднее ее секретарь отметил, как ее забавляло то, что мифологические героини объясняли свои беременности посещениями богов.[323] Несколько вольных шуток за целую жизнь, проведенную на публике, — не диво.
Там, куда свидетели не допускались, Екатерина обращалась с любовниками со сдержанной грубоватостью. Письма Потемкину и Завадовскому выдают ее безудержную чувственность. При этом, насколько нам известно, она никогда не вступала в связь без любви. Нет никаких свидетельств тому, что она когда-либо приближала к себе мужчину, не веря, что вступает в долгие и серьезные отношения.
С другой стороны, вероятно, должны были иметь место и «переходные случаи» и «однонощные свидания» в поисках совместимости, однако они были неизбежно редки. В Зимний дворец практически невозможно было кого-нибудь ввести — и вывести обратно, — миновав горничных, лакеев и придворных. Мы помним, как, подходя к комнатам Потемкина в 1774 году, Екатерина часто не могла войти из-за присутствия адъютантов и незаметно возвращалась в свои апартаменты, хотя он был официальным фаворитом.
Жизнь Екатерины проходила настолько на виду, что даже наш век папарацци кажется торжеством частной тайны. Каждый шаг, сделанный ею во дворце, подмечался и комментировался» Только Потемкин мог входить к ней и выходить, когда желал, потому что их покои соединял прямой коридор, но зато все и признавали, что он — исключение.
Роман императрицы получал официальный статус в тот день, когда фаворит назначался на должность генерал-адъютанта ее величества. В некоторых случаях, как мы видели, они выбирались из числа адъютантов Потемкина — должность, исполнение которой подразумевало частые встречи с государыней.[324] Поэтому, когда дипломаты спешили сообщить, что Потемкин представил Екатерине такого-то офицера, это могло иметь важные последствия{45}. Государыня действительно предпочитала выбирать любовников из числа помощников Потемкина: они были как бы отмечены его личностью и знали принятый порядок.
Прежде чем получить назначение, молодой человек проходил ряд испытаний. Легенда гласит, что Потемкин просто выбирал одного кандидата из длинного списка. Затем, если тот нравился Екатерине, он попадал к «eprouveuse» («испытательнице»): сначала эту роль играла графиня Брюс, затем Анна Протасова. Сен-Жан, автор весьма сомнительных мемуаров, возможно, служивший в кавалерии Потемкина, заявляет, что князь стал чем-то вроде специалиста по семейным проблемам: будущий фаворит проводил с ним полтора месяца, чтобы «обучиться всему, что необходимо знать» партнеру Екатерины.[325] Затем его осматривал доктор Роджерсон, после чего, наконец, следовало главное испытание. Эта легенда почти полностью ложна, особенно в том, что касается роли Потемкина.
Как они выбирались? По вкусу, по случаю, иногда с помощью хитрости. В сутенерство Потемкина верили почти все: «Теперь он играет ту же роль, что Помпадур в конце жизни при Людовике XV», — заявлял Корберон. Действительность была гораздо сложнее, потому что она затрагивала чувства проницательной и самолюбивой женщины. Ни Потемкин, ни кто иной не мог «поставлять» Екатерине мужчин. Оба они были для этого слишком горды. Так, он не «поставлял» ей Завадовского, который являлся ее секретарем. Как ее друг и супруг, он в конце концов санкционировал их союз, хотя предварительно сделал попытку избавиться от скучного секретаря. Говорят, что он «назначил» Зорича. В день, когда состоялся обед в Озерках, непосредственно перед тем, как Зорич стал фаворитом, они с Екатериной обменялись посланиями, из которых можно многое понять.
Князь пишет императрице, «всеподданнейше прося» определить Зорича себе в помощники, «пожаловав ему такую степень, какую Ваше Императорское Величество за благо признать изволите». Таким образом Потемкин выяснял, одобряет ли Екатерина персону Зорича. Она приписала: «Определить с чином подполковника».[326] Потемкин желал, чтобы она была счастлива, а он сохранил бы свою власть. Возможно, подобным косвенным путем — а вовсе не так вульгарно, как передавали дипломаты, — он «пробует воду», спрашивая, желает ли Екатерина видеть определенного молодого человека при дворе, не унижая при этом ее достоинства. Она же, выбрав фаворита, часто обращалась к Потемкину за тем, что называла «его разумным руководством».
Но, разумеется, выбор она делала сама: Ланской, например, состоял адъютантом Потемкина, но князь прочил в фавориты кого-то другого. Панин и Орловы соперничали, представляя государыне своих кандидатов, поскольку считалось, что фавориты обладают некоторым влиянием. Так, Румянцев и Панин надеялись выиграть от возвышения Потемкина, но он разочаровал их обоих.
Подвергались ли кандидаты проверке у «eprouveuse»? На это нет никаких указаний, зато известно ревностное отношение Екатерины к своим избранникам. Этот миф возник из-за того, что графиня Брюс, возможно, имела связь с Потемкиным до его возвышения (именно она призвала его к императрице из монастыря), и потому, что у нее же был роман с Корсаковым. Может быть, это установление выдумал Корсаков, чтобы оправдать свое поведение? О медицинской проверке также нет никаких твердых свидетельств, но что может быть разумнее, чем отправить лихого гвардейца на осмотр к врачу, прежде чем допускать его к постели императрицы?
После этого счастливец обедал с государыней, присутствовал на приеме, который ей угодно было дать, а затем переходил в Малый Эрмитаж, где играл в карты в избранном кругу (Потемкин, обер-шталмейстер Лев Нарышкин, один из Орловых, если в тот момент Екатерина была к ним благосклонна, племянники и племянницы Потемкина и кто-нибудь из иностранцев). Она играла несколько робберов в вист или фараон либо устраивала буриме или шарады. В 11 часов Екатерина вставала, и молодой человек провожал императрицу в ее апартаменты. За исключением торжественных дней и особых случаев, так заканчивался каждый вечер. Екатерина всегда чувствовала благодарность Потемкину за его советы, за великодушие в деликатных делах, за отсутствие ревности. Вот как, например, она писала Потемкину о Корсакове: «Это ангел! Огромное, огромное спасибо».[327]
Фавориты извлекали огромную выгоду из своей должности — они получали имения, крестьян, драгоценности и деньги в количестве, достаточном, чтобы основать аристократическую династию.
Фаворит вселялся в роскошно отделанные, устланные зелеными коврами комнаты, соединенные с покоями Екатерины лестницей. Говорили, что там его ждала некоторая сумма денег в качестве приветственного подарка — 100 тысяч рублей. Доказательств этому факту у нас нет, но мы знаем, что Екатерина регулярно делала своим любимцам щедрые денежные подарки и, конечно, оплачивала их платье и обеспечивала столовые средства. Легенда утверждает также, что в благодарность за свою должность фавориты возвращали Потемкину около 100 тысяч рублей — как будто приобрели должность откупщика или взяли в аренду принадлежащее ему место.[328] Поскольку позднее фаворит получал огромные богатства, он вполне мог отблагодарить человека, который дал ему подняться в высшие сферы, как никому не возбраняется благодарить своего покровителя, — но даже если бы подобная система существовала, вряд ли с провинциала, не имеющего за душой ни копейки, требовалась такая огромная сумма. Нам известно, что один из фаворитов, получив назначение, подарил Потемкину золотой чайник, а другой отблагодарил патрона золотыми часами. Обычно же Потемкин не получал ничего.
Фаворит и его родственники становились очень богаты. «Поверь мне, друг мой, — писал Корберон, — здесь это ремесло в большом почете!» Иностранцы не могли надивиться суммам, отпускаемым на содержание фаворитов, особенно при их отставке. «Не меньше миллиона рублей ежегодно», — подсчитывал английский посланник Харрис. Он полагал, что, например, Орловы получили с 1762 по 1783 год 17 миллионов.[329] Проверить эту цифру невозможно, но следует признать, что Екатерина действительно была чрезвычайно щедра, даже когда ей наносили обиды. Может быть, она надеялась, что ее великодушие продемонстрирует, что она не чувствует себя ущемленной.
Как бы то ни было, недостатка в молодых людях, жаждущих занять место фаворита, не наблюдалось. В один из периодов, когда она выбирала нового компаньона, адъютант Потемкина Лев Энгельгардт заметил, что «в придворной церкви у обедни сколько молодых людей вытягивались, кто сколько-нибудь собою был недурен, помышляя сделать так легко свою фортуну».[330]
Порядок выбора фаворитов может показаться циничным, но отношения Екатерины с ее избранниками были самыми теплыми. Она на самом деле страстно влюблялась в каждого из них и окружала каждого заботой и вниманием. Каждый роман начинался со вспышки ее материнской любви, немецкой сентиментальности и восхищения красотой нового возлюбленного. Она восторгалась им перед всяким, кто был готов слушать, а так как она была императрица, слушать были готовы все. Хотя многие ее избранники не отличались особенным умом, она любила каждого так, будто собиралась провести с ним весь остаток своих дней. Когда возникала необходимость расстаться, она впадала в депрессию и иногда на несколько недель забрасывала дела.
Распорядок ее жизни очень быстро делался для фаворита смертельно скучным: бесконечные обеды, вист и постельные обязанности с женщиной, которая, несмотря на все свое обаяние, старела с каждым годом; в 1780 году ей шел уже шестой десяток. Все это было очень непросто для человека двадцати с небольшим лет после того, как его переставала радовать роскошь и волновать близость к власти. Ласка Екатерины действовала удушающе. Если фаворит обладал характером, он едва мирился с тем, что стареющая императрица обращается с ним как с малолетним учеником. «Паренек считает житье свое тюрьмою, очень скучает», — записал как-то раз секретарь императрицы ее слова об одном из фаворитов. Двор кипел недоброжелательством; фавориты чувствовали себя «как между волками в лесу». При этом «лес» был заселен молодыми и очаровательными дамами, и соблазн распрощаться с императрицей становился почти непреодолимым.[331]
Роль Потемкина в жизни Екатерины лишь усугубляла положение молодого человека. Оказывалось, что в обязанности фаворита входит не только услаждать немолодую даму, но и обожать Потемкина. Большинство фаворитов признавали, что, тогда как их баловали и ими умилялись, Потемкин всегда оставался хозяином.
Даже если фаворит искренне любил Екатерину, подобно Завадовскому или Ланскому, ему приходилось мириться с постоянным присутствием Потемкина, чьи комнаты по-прежнему соединялись с апартаментами императрицы. В конце семидесятых годов он проводил много времени на юге России, но, приезжая в Петербург или в Царское Село, продолжал врываться к ней в любой момент. В такие дни фавориты неизбежно оттеснялись в тень, тем более что никто из них не мог сравняться с ним умом и обаянием. Не удивительно, что Завадовский прятался и проливал слезы. Екатерина ставила за правило, чтобы ее любимцы почитали Потемкина и терпели это унизительное положение. Все они писали ему комплиментарные письма, а Екатерина заканчивала свои непременным «поклоном» от фаворита.
Трудно отделаться от ощущения, что Екатерина желала, чтобы молодые люди относились к ней и к Потемкину как к родителям. Собственного сына Павла ей не позволили воспитывать самой, поэтому естественно, что она переносила свои нерастраченные материнские чувства на фаворитов, годившихся ей в сыновья. «Я делаю и государству немалую пользу, воспитывая молодых людей», — утверждала она, словно директриса лицея, готовящего будущих сановников.[332]
Если она исполняла роль матери, то Потемкину отводились в этом странном «семействе» функции отца. «Любезный дядюшка, — писал Потемкину Ланской, — не можете представить, как мне без вас скушна, приезжайте, батюшка, наискарее». Когда Потемкин серьезно заболел в Крыму, Ланской писал: «Вы не можете себе представить, сколь чувствительно огорчен я болезнию вашей. Несравненная наша Государыня Мать тронута весьма сею ведомостию и неутешно плачет».[333]
Что касается светлейшего, он, как и Екатерина, относился к фаворитам как к детям. После отставки задиристого Зорича он великодушно отписал в Польшу королю Станиславу Августу, чтобы обеспечить отосланному достойный прием. Он объяснял королю, что некое «несчастное происшествие» заставило Зорича «на время потерять в этой стране те преимущества, которых он достоин за свои воинские заслуги и безупречное поведение».[334] Из благодарственных писем Ланского явствует, что светлейший посылал ему фрукты и дружеские записки — и поддерживал его родственников.
Придворным и дипломатам потребовались годы, чтобы понять, что фаворит только потенциально влиятелен — реальную власть он получит, если ему удастся каким-то образом сместить Потемкина. Граф фон дер Герц уверял Фридриха II, что «их специально выбирали из числа посредственностей, неспособных... придать себе какой-либо вес».[335]
Для того чтобы обладать властью, человек нуждается в публичном престиже, который заставит других подчиниться. Но сама откровенность института фаворитизма подразумевала, что публичный престиж занимающего эту должность минимален. «Именно та определенность, с какой она устанавливала их положение, ограничивала почетность их должности, — отмечал хорошо знавший Екатерину и Потемкина граф де Дама. — Они управляли ею в мелочах, но никогда в делах серьезных». Обыкновенно восхождение нового избранника «имело значение только для протежировавшей ему партии, — объяснял Харрис британскому министру иностранных дел виконту Веймуту. — Они [...] креатуры Потемкина, и любая их смена послужит только его усилению».[336]
Легенда гласит, что Потемкин мог добиться отставки фаворита в любой момент. Обеспечив счастье Екатерины, он мог быть спокоен и управлять вверенной ему частью империи. Вообще светлейший извлекал огромную выгоду из системы фаворитизма. В периоды, когда Екатерина находила себе постоянного партнера, Потемкин завоевывал место в истории. За годы, проведенные ею с Ланским, Потемкин стал государственным деятелем, изменил направление внешней политики России, присоединил Крым, основал города, заселил пустыни, построил Черноморский флот и реформировал русскую армию.
Раньше или позже он пытался добиться отставки каждого любимца, но на самом деле Екатерина отставила по его требованию всего одного, обычно не обращая внимания на его протесты. Светлейший, который не был ни упрям, ни мстителен, в конце концов смирялся и дожидался, когда кризис наступит без его участия. Он знал: самый глупый фаворит — тот, кто воображает, что в силах свалить его.
Чаще всего фавориты сами ускоряли развязку, обманывая Екатерину, как Корсаков, впадая в депрессию, как Завадовский, либо впутываясь в интриги против светлейшего, как Зорич. Когда Потемкин приступал к императрице с требованием отставки молодого человека, что происходило достаточно часто, она, вероятно, предлагала ему заняться своими делами, или дарила очередное имение, или делала комплименты по поводу последних планов его строительства. В других случаях она, напротив, упрекала его за то, что он не сообщил ей, что ее обманывают: по всей видимости, он знал, что влюбленной императрице говорить об этом бесполезно.
Потемкин любил хвастаться, что Екатерина всегда нуждается в нем, когда расстраиваются ее дела, политические или любовные. Особенно необходим он становился в моменты будуарных кризисов. Как доносил Харрис во время ее ссоры с Ланским в мае 1781 года: «В периоды этих революций власть моего друга делается безгранична; все, чего бы он ни попросил, даже самое немыслимое, — будет выполнено».[337]
В периоды отчаяния, как после измены Корсакова, он снова становился ее мужем и любовником. «Когда никакое другое средство не помогает ему добиться цели, — сообщал Иосифу II австрийский посланник граф Людвиг Кобенцль, один из немногих иностранцев, по-настоящему хорошо знавший Екатерину и Потемкина, — он на несколько дней снова берет на себя обязанности фаворита». Переписка между императрицей и Потемкиным так интимна и доверительна, что можно не сомневаться: ни он, ни она не испытывали никаких колебаний по поводу возобновления близости, в любой год до самой смерти Потемкина. Поэтому некоторые мемуаристы именуют его «фаворит-аншеф», а остальных — «унтер-фаворитами».[338]
Потемкин и Екатерина разрешили свою личную дилемму, установив описанный порядок, который должен был охранять их дружбу, оберегать любовь императрицы от политики и гарантировать политическое могущество Потемкину. Эта система работала лучше, чем любой брак, и все же имела свои изъяны. Никто, даже эти двое искусных манипуляторов, не мог по-настоящему контролировать фаворитизм — взвешенную смесь эмоций, страстей, амбиций и алчности.
И все же эта система служила им противоядием от ревности. В 1780 году, когда Екатерина обрела счастье с Ланским, ее перестали волновать скандальные похождения Потемкина. «Сие положение усилило власть Потемкина, — доносил Харрис, — которую ничто не может разрушить, если только дошедший до меня слух не верен». Слух заключался в том, что Потемкин «женится на своей племяннице».[339]
12. ЕГО ПЛЕМЯННИЦЫ
Потемкин был в то время знаменит. Геракла он имел телосложенье... Байрон. Дон Жуан. VII: 36. Пер. Т. ГнедичПосле того как его связь с императрицей перестала быть постоянной, Потемкин погрузился в океан открытых и тайных романов — столь сложных, что им дивились современники и затруднялись распутать историки. «Подобно Екатерине, он был эпикурейцем, — писал сын одного из потемкинских адъютантов, граф Александр Рибопьер. — Чувственные удовольствия занимали важное место в его жизни; он страстно любил женщин и страстям своим не знал преграды».[340] Теперь он мог позволить себе вернуться к своему любимому образу жизни. Поздно вставая, навещая Екатерину по приватному коридору, он переходил от лихорадочной работы к крайнему гедонизму, от государственных бумаг и проектов к любовным свиданиям, от богословских споров к карточной игре.
Когда пятеро сестер Энгельгардт прибыли ко двору в 1775 году, дядюшка немедленно превратил необразованных, но хорошеньких барышень, оставшихся без матери, в светских дам, с которыми обращались как с членами императорской фамилии. Почти сразу после их приезда он приблизил к себе одну из них — красавицу Варвару. Очень скоро при дворе зашептали, что развратный князь соблазнил всех своих юных родственниц.
Ничто так не шокировало его современников, как легенда о пяти его племянницах. Все дипломаты с нескрываемым злорадством сообщали домашние новости Потемкина своим заинтригованным министрам. «Способ, каким князь Потемкин покровительствует своим племянницам, — информировал Корберон Версаль, где только что воцарился чопорный Людовик XVI, — даст вам понятие о состоянии нравов в России». Чтобы подчеркнуть всю глубину морального падения князя, он добавлял: «Одной из них всего двенадцать лет, и ее, без сомнения, ждет та же участь». Нечто подобное писал Семен Воронцов: «...князь Потемкин устроил гарем из собственной семьи в императорском дворце, часть которого он занимал».[341]
«Почти великие княгини» стали первыми грациями екатерининского двора, самыми богатыми невестами империи и родоначальницами аристократических династий. Ни одна из них никогда не забывала, кто она и кто ее дядя: вся их жизнь была окружена почти царственным ореолом.
В Петербург явились только пять дочерей Василия Энгельгардта. Старшая, Анна, вышла замуж до возвышения Потемкина (впрочем, он не терял из вида и ее и доставил ее мужу, Михаилу Жукову, пост астраханского губернатора). Следующая по старшинству, Александра, которой в 1776 году исполнилось 22 года, стала ближайшим другом Потемкина после императрицы. Она приехала в Петербург уже сложившейся женщиной, и ей нелегко было приспособиться к придворным тонкостям. Она была так же самолюбива, как Потемкин, обладала «умом и твердой волей». «Величественностью» она старалась скрыть «недостатки своего образования».[342] Портреты изображают ее стройной брюнеткой с выступающими скулами, умными голубыми глазами, большим чувственным ртом, изящным носиком; величественная осанка вполне к лицу конфидентке первого государственного деятеля империи.
Третью сестру, 20-летнюю Варвару, поэт Державин называл «златовласой Пленирой». Даже в зрелом возрасте она сохранила стройную фигуру, а черты ее лица «дышали девической свежестью». Кокетливая, капризная, вспыльчивая, она вечно чего-то требовала. Но при жизни светлейшего никто не мог критиковать ее за дурное поведение и манеры — однажды она оттаскала за волосы подругу; в другой раз велела высечь своего камердинера.
У 15-летней Надежды рыжие волосы причудливо сочетались со смуглой кожей; вероятно, она чувствовала себя гадким утенком среди прекрасных лебедей, но светлейший и ее сделал фрейлиной. Она отличалась упрямством и своеволием; Потемкин, придумывавший прозвища для всех и каждого, окрестил ее «безнадежной».
Пятая, Екатерина, была кротка и послушна. Ее ангельское личико изображено на портрете работы Виже-Лебрен. Младшей, Татьяне, в 1776 году было только 6 лет, но она вырастет такой же умницей и красавицей, как Александра.
Итак, покинув альков императрицы, Потемкин влюбился в Варвару.
«Матушка, Варинька, душа моя; жизнь моя, — писал Потемкин Варваре. — Ты заспалась, дурочка, и ничего не помнишь. Я, идучи от тебя, тебя укладывал и разцеловал, и одел шлафраком и одеялом, и перекрестил».[343] Можно было бы подумать, что дядюшка просто поцеловал племянницу, желая ей спокойной ночи, но все же письмо с очевидностью говорит о том, что он покидал ее утром.
«Ангел мой, твоя ласка столько же мне приятна, как любезна. Друг безценный, сочти мою любовь к себе и увидишь, что ты моя жизнь и утеха, мой ангел; я тебя целую без счета, а думаю еще больше». Даже в век чувствительности такие выражения едва ли можно принять за излияние только родственных чувств. Он называет ее «сокровищем», «божественной Варюшкой», «сладкими губками», «любовницей нежной». При этом письма отражают и их семейные отношения: «...приходи обедать, я и сестер звал».[344]
37-летний князь был на семнадцать лет старше Варвары. Сестры и их брат Василий каждый день появлялись при дворе и каждый вечер у Потемкина — в доме Шепелева или в Аничковом дворце. Они присутствовали на обедах, которые он давал, и наблюдали, как он играет в карты с императрицей в Малом Эрмитаже. Они составляли самое драгоценное его украшение и одновременно его семью. Ничего удивительного, что именно Варвара — первая кокетка в семье — стала любовницей князя, фамильного героя.
Впрочем, он поучает ее, как взрослый ребенка. Сообщая, что императрица пригласила ее на обед, он добавляет: «Сударка, оденься хорошенько, и будь хороша и мила», — и напоминает, чтобы она следила за своим поведением. Из загорода, возможно, из Царского Села, он пишет: «Я завтра буду в городе [...] Отпиши, голубушка, где ты завтра будешь у меня — в Аничковом или во дворце». Варенька часто видела императрицу и светлейшего вместе. «Государыня сегодня изволила кровь пустить, и потому не кстати ее беспокоить, — сообщает он ей. — Поеду к Государыне и после к вам зайду».[345]
Варенька тоже любила его. Она называет его теми же нежными словами и, как все женщины, беспокоится о его здоровье, одновременно купаясь в доставляемой им роскоши: «Папа, жизнь моя, очень благодарю за подарок и письмо, которое всегда буду беречь. Ах, мой друг папа, как я этому письму рада! Жизнь моя, приеду ручки твои целовать... В мыслях тебя целую миллионы раз». Но через какое-то время начинаются ссоры: «Напрасно вы меня так ласкаете, — заявляет она. — Я уже не есть так, которая была [...] Послушайте, я теперь вам серьезно говорю, если вы помните Бога, если вы, когда-нибудь, меня любили, то, прошу вас, забудьте меня на веки, а я уж решилась, чтобы оставить вас. Желаю, чтобы вы были любимы тою, которую иметь будете; но, верно знаю, что никто вас столь же любить не может, сколько я».[346] Ревновала ли она к какой-то другой женщине (на что, безусловно, имела основания) или только делала вид?
«Варенька, ты дурочка и каналья неблагодарная, — отвечает ей Потемкин. — Можно ли тебе сказать: Варенька неможет [т.е. болеет], а Гришенька ничего не чувствует. Я за это, пришедши, тебе уши выдеру». Вероятно, она в самом деле порою сердила его: «Хорошо, батюшка, положим, что я вам досадила, да ведь вы знаете, когда я разосплюсь, то сама себя не помню...»[347] Таким образом, Варенька дулась и рисовалась, а Потемкин переживал муки немолодого человека, влюбившегося в избалованную юную особу.
Императрица, которая приглашала Варвару на все обеды и празднества, знала об их связи и не возражала против счастья Потемкина. Она делала все, чтобы держать его племянницу рядом с ним и с собой. Когда одна из фрейлин оставила дворец, Потемкин просил императрицу, чтобы ее комнаты были отданы «моей Варваре Васильевне». «Прикажу...», — отвечала Екатерина.[348]
Слух о скандальном романе дошел до Дарьи Васильевны Потемкиной. Мать светлейшего горько упрекала сына, но тот бросал ее письма в огонь, не читая.
Когда Потемкин стал проводить много времени в южных краях России, Варвара не скрывала своей обиды. Екатерина решила вмешаться: «Слушай, голубчик, Варенька очень неможет. Si c’est Votre depart qui en est cause, Vous aves tort.{46} Уморишь ее, а она очень мне мила становится. Ей хотят пустить кровь».[349]
Освободилась ли Варенька от любви к Потемкину? Или дело было в чем-то другом? Возможно, лукавая девица повела двойную игру против дяди. Поначалу письма ее были полны изъявлений сердечных чувств; потом тон изменился. Потемкин по-прежнему любил ее — но знал, что ей пора замуж: «Победа твоя надо мною и сильна, и вечна. Если ты меня любишь — я счастлив, а ежели ты знаешь, сколько я тебя люблю, то не остается тебе желать чего-либо больше».[350] Теперь, когда она стала женщиной, она хотела большего. Она уже познакомилась с князем Сергеем Федоровичем Голицыным, представителем многочисленной и могущественной семьи, и влюбилась в него.
Впрочем, Варвара настаивала, что расставание произошло по его вине: «Ну, теперь все кончилось; ожидала я этого всякую минуту с месяц назад, как я примечала, что вы совсем не таковы против меня, как были прежде. Что же делать, когда я так несчастлива? [...] Посылаю к вам все ваши письма, а вас прошу, если помните Бога, то пришлите мои [...] Я очень чувствую, что делала дурно, только вспомните, кто этому причиною?»[351]
Потемкин добился того, чтобы князь Голицын женился на Варваре. «Позавчера, — записал английский посол Харрис 14 сентября 1778 года, — во дворце состоялось их торжественное обручение.» В январе следующего года Екатерина присутствовала на свадьбе Варвары (как потом будет присутствовать на венчании всех остальных сестер). Варвара и Потемкин оставались близки до конца жизни князя, и она продолжала писать ему письма в том же тоне: «Целую ручки твои; прошу тебя, папа, чтоб ты меня помнил; я не знаю, отчего мне кажется, что ты меня забудешь — жизнь моя, папа, сокровище мое, целую ножки твои». Подписывалась она по-прежнему: «Дочка твоя — кошечка Гришииькина».[352]
Варвара и Сергей Голицыны жили счастливо и имели десять детей. Екатерина II Потемкин крестили их старшего сына Григория. Современники, естественно, считали его сыном Потемкина. И в детстве, и в зрелом возрасте Григорий Голицын поражал всех своим сходством с дядей: еще одна загадка генетики.
После свадьбы Варвары Потемкин переключил свое внимание на другую племянницу — Александру. До нас не дошло ни одного любовного письма, и мы не знаем, что происходило за закрытыми дверьми, но современники не сомневались, что они находились в самой короткой близости. Императрица сердечно любила ее, и был даже слух о том, что Сашенька — ее дочь{47}.[353] «Очень приятная молодая особа, очень талантливая, великая мастерица дворцовых интриг» скоро стала хозяйкой дома Потемкина. Приглашение на ее обед означало его благосклонность. Эта барышня, деликатно намекал Харрис английскому кабинету, «умеет ценить подарки». Она принимала от английского посланника презенты и деньги, и неслучайно Харрис рекомендовал ее свому преемнику Алену Фицгерберту как источник конфиденциальной информации.[354]
Следующей после Сашеньки стала Екатерина Энгельгардт. Катенька, Катишь или «котенок», как ее называли императрица и Потемкин, была Венерой среди своих граций-сестер. «Восхитительное лицо в сочетании с ангельской кротостью, — писала Виже-Лебрен, — делали ее очарование неотразимым». Потемкин называл ее «ангелом во плоти» — «и никогда это название не было более справедливым», утверждал позднее принц Нассау-Зиген.[355]
Она была малообразованна и не желала ничему учиться, зато была очень соблазнительна. «Высшим счастьем ее было, — вспоминала Виже-Лебрен, — лежать на кушетке, без корсета, закутавшись в огромную черную шубу». Когда гости спрашивали ее, почему она никогда не надевает великолепных брильянтов, которые дарил ей Потемкин, она отвечала: «Для чего, для кого, зачем?!»[356] Она была слишком флегматична для Потемкина, который влюблялся обычно в страстных и энергичных женщин, но тем не менее оставалась с ним дольше других его племянниц.
В конце 1779 года в гареме Потемкина случился скандал. Варвара, теперь уже замужняя дама, стала вести себя все более вызывающе и как-то раз с порицанием отозвалась о личной жизни императрицы. Государыне это не понравилось, Потемкин также пришел в ярость и приказал племяннице уехать в деревню — имение ее мужа Голицына. В этот самый момент «ангел во плоти» Екатерина объявила о своей беременности от дяди. Доктор Роджерсон прописал ей лечение на европейских водах. Светлейший уговорил Варвару поехать вместе с сестрой. Таким образом, Варвара отправилась не в ссылку, а в Европу, а Екатерина поехала не прятать свой живот, а путешествовать вместе с Голицыными. Утверждали, что она уехала на шестом месяце.
Двумя годами раньше, когда Екатерину Энгельгардт только что назначили фрейлиной, на нее сразу обратил внимание сын Екатерины и Григория Орлова Бобринский, что очень позабавило императрицу, которая шутила по этому поводу в письмах к светлейшему. Бобринский влюбился всерьез. Французский поверенный в делах Корберон утверждал даже, что после того, как открылась беременность Екатерины Энгельгардт, императрица обещала устроить их свадьбу. Бобринский был типичным внебрачным сыном «великих родителей» — положение, которое делало его всем и одновременно ничем. Побочные сыновья многих монархов делали блестящие карьеры — высшей вершины достиг, наверное, маршал Людовика XVI Мориц Саксонский, сын польского короля Августа II, но Бобринский славился только шумными историями и долгами. Неизвестно, отказался ли он жениться на девице, которую обрюхатил ее дядя, или браку воспротивился Потемкин, не пожелав отдавать племянницу за дурака и, еще того хуже, сына Орлова.[357]
Младшая из племянниц, Татьяна, ставшая фрейлиной в 1781 году, в возрасте 12 лет, была «очень умненькой». Когда князь уезжал на юг, она писала ему письма крупным детским почерком. Как и его племянницы, она скучала без него: «Я не знаю, дорогой дядюшка, когда буду иметь счастье увидеть вас. Те, у кого я спрашиваю, отвечают, что ничего не знают и что вы останетесь на всю зиму. Ах, как это долго, если только они говорят правду. Но я не верю этим шутам». Он делал ей дорогие подарки: «Дорогой дядюшка, тысячу, тысячу и миллион раз спасибо за вас щедрый подарок. Я никогда не забуду вашей доброты и прошу вас не оставлять ее. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы быть ее достойной». Но любовницей его она не стала.[358]
Екатерина заботилась не только о племянницах Потемкина, но и об остальных его родственниках: его троюродный брат Павел Сергеевич Потемкин после пугачевского дела стал наместником Кавказа, а брат Павла Михаил — главным инспектором Военной коллегии и членом ближайшего кружка императрицы. Александр Самойлов, сын сестры Потемкина Марии, стал секретарем Государственного совета и генералом — «бравым, но неумелым». Другие племянники, Василий Энгельгардт и Николай Высоцкий, сын его сестры Пелагеи, состояли адъютантами императрицы и также считались почти членами семьи.
Фаворит Александр Ланской был очень ласков с племянницам Потемкина. «Месье Ланской оказывает нам всевозможные знаки внимания», — сообщает в одном из писем к дядюшке Татьяна. В другом письме она рассказывает дяде, как великие князь и княгиня Павел Петрович и Мария Федоровна встретили ее в саду — «они нашли, что я очень выросла, и беседовали со мной с большой добротой».[359]
Екатерине удалось создать какое-то подобие семьи, в которой племянницы и племянники Потемкина, наряду с ее фаворитами, заменяли ей собственных детей. Она выбрала себе семью, как другие выбирают друзей.
Отношения Потемкина с его племянницами были необычными, но не представляли собой исключения для того времени и совершенно не шокировали Екатерину. Она рассказывает в своих записках, что, когда она была подростком, за ней, до ее отъезда в Россию, ухаживал (мы не знаем, насколько успешно) ее дядя, Георг-Людвиг Голштинский, и даже хотел на ней жениться. Такое поведение — и даже более откровенное — было почти обычным для венценосных фамилий. Многие Габсбурги женились на своих племянницах. В начале века регента Франции Филиппа Орлеанского подозревали в соблазнении собственной дочери, герцогини Беррийской.
Август II, король Польши и лицемерный союзник Петра Великого, установил непобиваемый рекорд — прецедент, до которого Потемкину было далеко. Любитель искусств, вечно нуждающийся в деньгах и скользкий в политике бонвиван, которого Карлейль называл «веселым грешником, здоровым сыном Белиала», породил, согласно легенде, не только наследника и 354 детей от легиона своих наложниц, но и сделал своей любовницей собственную дочь графиню Оршельскую. На этом кровосмешение не остановилось, и графиня влюбилась в своего сводного брата графа Рудорфского. Простым смертным, разумеется, подобное воспрещалось, но что касается высокопоставленных особ — в XVII веке французский кардинал Мазарини сделал своих племянниц богатейшими невестами страны и, ходили слухи, своими любовницами. Героиней последнего романа долгой жизни Вольтера также стала его племянница, алчная и неразборчивая мадам Дени (они держали свои отношения в тайне, которую раскрыла только их переписка). В следующем за Потемкиным поколении Байрон щеголял романом со своей сводной сестрой.
В России союзы между дядюшками и племянницами были не менее распространены. Говорили, что Никита Панин имел связь с княгиней Дашковой — женой своего племянника, — хотя она это отрицала. Кирилл Разумовский жил в Батурине с дочерью своей сестры Анны, графиней С. Апраксиной. Впрочем, об этой истории выдающегося вельможи почти не упоминают, потому что она происходила в деревне, вдали от света. Грех Потемкина заключался в вызывающей открытости, которая шокировала современников так же, как екатерининские фавориты: это были параллельные линии одного и того же установления. Светлейший считал себя почти императором и откровенно наслаждался вседозволенностью.[360]
Историки заклеймили отношение Потемкина с его племянницами позором, но сами девушки искренне любили его всю жизнь. Далеко не оскорбленные и поруганные сироты, Александра и Варвара стали матерями счастливых семейств, оставаясь в прекрасных отношениях с дядей. Говорили, что Екатерина, в замужестве Скавронская, время от времени снова становившаяся его любовницей, только «терпела» его, но она точно также «терпела» своего мужа, бриллианты и окружавшую ее роскошь. Несомненно, племянницы боготворили своего покровителя и повторяли в каждом письме, что скучают и хотят его видеть. Повторим и мы, что в те времена в этом не было ничего из ряда вон выходящего.
Есть два типа любителей женщин: одни жаждут только наслаждения и презирают своих избранниц; для других, настоящих ценителей женской природы, процесс соблазнения закладывает основу для искренней любви и дружбы. Потемкин, безусловно, относился ко вторым; он обожал общество женщин. Его архив переполнен сотнями неподписанных посланий от женщин, страстно влюбленных в одноглазого гиганта. Вот листки, исписанные мелким почерком по-французски: «Как вы провели ночь, мой милый, желаю, чтобы для вас она была покойнее, нежели для меня: я не могла глаз сомкнуть». Им никогда не хватало времени, которое он им уделял: «Сказать ли? — продолжает та же корреспондентка. — Я вами недовольна. Вы казались таким рассеянным; что-то такое есть, что вас занимает». Его любовницы томились во дворцах своих мужей, узнавая подробности о нем от друзей и слуг: «Знаю, что вечером вы не были у императрицы; что вы захворали. Скажите мне, я беспокоюсь и не знаю, когда получу вести о вас. Прощайте, мой ангел, я не успеваю сказать вам больше, множество обстоятельств тому мешают...»[361]
Дамы переживают по поводу его здоровья, путешествий, игры, рациона. Его умение привлекать к своей персоне столько внимания — возможно, результат того, что в детстве его окружали обожавшие его сестры: «Милый князь, если бы только вы могли принести мне эту жертву — не так сильно предаваться игре! Это только расстраивает ваше здоровье». Любовницы жаждут видеть его: «Завтра бал у великого князя — надеюсь иметь удовольствие видеть вас там».[362]
А вот письмо другой женщины: «Матинька, как досадно, я тебя так издали только видела, а так хотелось тебя поцеловать, ты мой милый дружочек [...] Боже мой, как мне досадно, мочи нет! Dites-moi au moins si vous m’aimez{48} мой миленькой. C’est la seule chose qui peut nie reconcilier avec moi-meme{49} [...] мне бы хотелось всякую минуту быть с тобой; все бы тебя целовала, да тебе бы надоела; je vous ecris devant un miroir{50} и мне кажется, что я с тобою болтаю et je vous dis tout ce qui me vient dans la tete{51}. [363]
Эти записочки, которые неизвестные женщины сочиняли, сидя у столика с зеркалом и баночками с помадой, пудрой и флаконами духов, рисуют живого Потемкина: «Целую вас миллион раз прежде чем позволить вам уйти [...] Вы слишком много работаете [...] Целую вас 30 миллионов раз, и нежность моя только растет [...] Поцелуйте меня мысленно. Прощайте, жизнь моя».[364] Но по-настоящему обладать им не мог никто. Его романы с племянницами тем более понятны, что он не имел права жениться и обзавестись семьей. Он мог любить многих, но он был женат на императрице и империи.
13. ГЕРЦОГИНИ, ДИПЛОМАТЫ, ШАРЛАТАНЫ
Или великолепным цугом В карете английской, златой, С собакой, шутом или другом, Или с красавицей какой... Г.Р. Державин. ФелицаВаша светлость даже представить себе не можете, какого размаха достигает коррупция в этой стране.
Сэр Джеймс Харрис виконту Стормонту.
13 декабря 1780 г.
Летом 1777 года в устье Невы вошла великолепная яхта Елизаветы, герцогини Кингстон, графини Бристольской. Герцогиня была искушенной соблазнительницей; в Лондоне ее считали двоемужницей и распутницей. Однако Петербург находился очень далеко, а русские демонстрировали удивительную неспешность в разоблачении всякого рода шарлатанов. В то время, когда Европу захватила мода на все британское, в России английские герцогини еще были в диковинку, хотя многочисленные английские купцы уже образовали в Петербурге целый «Английский ряд», или Английскую набережную. Главным англофилом при русском дворе был князь Потемкин.
Потемкин готовился к карьере государственного деятеля, тщательно изучая языки, обычаи и политику европейских держав и окружая себя стекавшимися в Россию иностранцами. В конце 1770-х годов Россия стала одним из модных пунктов «туристического маршрута» для английских путешественников, а Потемкин — одной из обязательных ее достопримечательностей. Открыла маршрут герцогиня Кингстон.
Ее приветствовал президент Морской коллегии Иван Чернышев (его брата Захара Чернышева Кингстон очаровала, когда тот служил послом в Лондоне). Он представил ее Екатерине, великому князю Павлу и, разумеется, светлейшему. Даже на Екатерину и Потемкина произвели впечатления богатства этой аристократки, чей плавучий дворец переполняли чудеса механики и предметы английского и европейского искусства.
Герцогиня Кингстон была одной из тех женщин XVIII века, которые сделали карьеру в аристократическом обществе, где господствовали мужчины, через обольщение, брак и обман. Леди Элизабет Чадли родилась в 1720 году и в возрасте 24 лет тайно обвенчалась с Огастом Херви. Наследник графа Бристольского, Херви принадлежал к семье, столь же ловко накапливавшей богатства, сколь склонной к излишествам. Чадли была одной из самых развратных и женщин своего времени, рано снискавшей знаменитость на дешевых эстампах: она стремилась к известности, и издатели листков следили за всеми перипетиями ее приключений. Апогеем «легитимного» периода ее биографии стало появление на балу-маскараде венецианского посла в 1749 году в костюме Ифигении перед жертвенником: с распущенными волосами, в газовом платье — «столь прозрачном, — комментировала Мери Уортли Монтегю, дочь первого герцога Кингстона, — что жрец без труда мог бы рассмотреть внутренности жертвы». Эстампы, запечатлевшие это зрелище, долгие годы оставались в числе самых популярных. Говорили, что эта выходка помогла ей соблазнить самого короля, престарелого Георга II.
Пробыв много лет любовницей герцога Кингстона, одного из виднейших вигов, она вышла за него замуж, не разведясь с первым супругом. После смерти герцога началась склока вокруг его наследства. Открыв брак герцогини с Херви, родственники герцога Пьерпонты, призвали ее к суду палаты лордов, где она была признана виновной. Ее ждало клеймо преступницы, но тут Херви очень вовремя получил наследство и избавил ее от позора. Она потеряла герцогский титул, но получила деньги и продолжала называть себя герцогиней. Преследуемая разъяренными Пьерпонтами, «герцеговитая графиня», как называл ее Гораций Уолпол, бежала в Кале, купила яхту и оборудовала на ней гостиную, столовую, кухню, галерею живописи и орган (все необходимое она взяла из замка Кингстона, Торсби-Холла). Ее матросы позволяли себе все что угодно, включая два мятежа, так что английский экипаж пришлось уволить. Когда наконец она подняла парус, ее пестрое окружение составляли французский экипаж, английский капеллан (он же, вероятно, внештатный корреспондент нескольких английских газет) и несколько компаньонов.
По прибытии в Россию эта компания вызвала войну священников — явление, более привычное в центральных британских графствах, чем на берегах Невы. Прием, который дала герцогиня на борту своей яхты, ее преданный капеллан подробно описал в «Джентльмен Мэгезин»: «Как только подали обед, оркестр из флейт, барабанов, кларнетов и французских рожков заиграл английские марши [...] После обеда было исполнено несколько концертов на органе». Но петербургская английская община была возмущена дерзостью особы, которая, по словам их священника Уильяма Тука, «заслуживала всеобщего презрения». Тем не менее в Петербурге «дерзкие выходки» понравились.
Герцогиня со своей свитой получила от императрицы дом на Неве и стала проводить много времени с Потемкиным. Она очень хорошо вписалась в его беспорядочный образ жизни. Князь действительно флиртовал с глуховатой, густо нарумяненной герцогиней, которая продолжала одеваться как молоденькая девушка. Светлейший поручил ее попечению одного из своих помощников, Михаила Гарновского. Последний состоял при Потемкине кем-то вроде ординарца-коммивояжера: он был его шпионом, советником и коммерческим агентом, а теперь добавил к своим обязанностям и амплуа жиголо. Гарновский стал любовником графини, которая проводила за туалетом «по пять-шесть часов» и являла собой деликатес, который в Англии назвали бы бараниной, поданной под видом ягненка. Она делала богатые подарки Потемкину, преподнесла полотно Рафаэля Ивану Чернышеву и предлагала взять с собой в Европу младшую племянницу Потемкина Татьяну, чтобы заняться ее воспитанием...
Кингстон планировала ослепить Петербург и, не задерживаясь долго, отбыть под звуки фанфар. План этот рухнул, когда сентябрьское наводнение 1777 года выбросило ее яхту на берег. Французские матросы разбежались. Нанимать новый экипаж и оплачивать починку судна пришлось на средства русской императрицы. К тому времени, когда герцогиня оставила Петербург сухопутным маршрутом, она называла Екатерину своим «великим другом», а Потемкина «великим министром, полным ума, [...] образцом порядочного и галантного мужчины». Он и Екатерина вежливо пригласили ее приезжать еще, хотя очень устали от ее присутствия. Гарновский проводил ее до границы.
Через два года она действительно вернулась. По словам ее бывшего садовника из Торсби, который теперь служил у Екатерины, она украсила «великолепнейший» особняк в Петербурге «красными камчатными обоями», «пятью люстрами с музыкальным секретом, органом, живописью и серебряной посудой». Она купила несколько имений в Ливонии, в том числе, по свидетельству молодого англичанина Сэмюэла Бентама, одно у Потемкина, больше чем за 100 тысяч фунтов стерлингов, и дала одному из них название «Чадли».
К 1780 году «Кингстонша» надоела и Екатерине, и Потемкину. «Она служила всеобщим посмешищем», — записал Бентам. Тем не менее она посылала в лондонские газеты всяческие небылицы о своем общении с российской императрицей. «Екатерина держится приветливо на публике, — замечал Бентам, — но она [Кингстон] не имела с ней никаких приватных бесед, которыми хвастается в английских газетах». Герцогиня держала открытый дом, но «к ней не ходил никто, кроме русских офицеров, желающих бесплатно пообедать». После неудачной попытки выйти замуж за одного из Радзивиллов, она посетила «Чадли» и снова уехала в Кале. В 1784 году она снова приехала, уехала в 1785-ом и больше уже не могла обгонять время. Герцогиня Кингстон умерла в Париже в 1788 году, и Гарновский, получивший 50 тысяч рублей по ее завещанию, сумел распорядиться большей частью имущества «Чадли» и трех других имений, составив себе отличное состояние.[365]
Герцогиня несомненно повлияла на эстетические вкусы Потемкина: к нему перешли самые дорогие предметы ее коллекции.{52} «Часы-павлин», произведение механика Джеймса Кокса, привезенные герцогиней в 1778 году — один из известнейших экспонатов петербургского Эрмитажа, — ходят и по сей день. Составляющие его фигуры — золотой павлин в натуральную величину, стоящий на золотом дереве, и сова в золотой клетке высотой 12 футов, с подвешенными по кругу колокольчиками. Циферблат вделан в шляпку гриба, над которым каждую секунду подпрыгивает стрекоза. Каждый час, когда бьют куранты, сове вращает головой, а павлин поет и распускает роскошный хвост. Кингстон привезла также часы-орган, еще один предмет удивительной красоты, — возможно, этот орган и играл на ее яхте. Эти часы стоят теперь в Меншиковском дворце, филиале Эрмитажа, и бьют по воскресеньям, в полдень. Их музыка доносит до нас звуки, раздававшиеся в гостиной Потемкина двести лет назад.
Светлейший приобрел эти вещи после смерти герцогини и — вероятно, они перевозились в разобранном виде — приказал своим механикам собрать их и установить в его дворце.
Впрочем, герцогиня оставила о себе и менее красивые воспоминания. В 1779 году, когда ей были еще рады, она привезла с собой молодого англичанина довольно благородной наружности, который назвался специалистом по военному делу и коммерции. «Майор» Джеймс Джордж Семпл действительно служил в британской армии, сражаясь против американцев, и несомненно знал толк в торговле, хотя особого рода. Приехав в Россию, он был уже известен как «северный самозванец» или «король мошенников». Через несколько лет вышла целая книга о нем: «Северный герой. Удивительные приключения, любовные интриги, хитроумные предприятия, непревзойденное лицедейство, чудесные избавления, инфернальные обманы, дерзкие прожекты и злодейские подвиги». Семпл был женат на кузине Кингстон, но, когда она готовилась ко второму русскому путешествию, находился в долговой тюрьме. Она выкупила его и предложила сопровождать ее в Петербург. Возможно, проходимец стал любовником «герцеговитой графини».[366]
Потемкин, ценивший артистизм, был очарован — еще только начиная свои контакты с западным миром, он не проявлял щепетильности в знакомствах. Но и в последующие годы общество занятных безродных плутов предпочитал скучным аристократам. «Северный герой» органично вписался в англо-французский кружок «заднего двора», куда также входили ирландский рыцарь удачи по фамилии Ньютон, впоследствии гильотинированный во Франции, француз де Вомаль де Фаж, расстриженный монах, его любовница и таинственный шевалье де Ла Тессоньер, помогавший Корберону в отстаивании французских интересов.[367] Очень жаль, что авантюрист века номер один приезжал в Россию пятнадцатью годами раньше: Казанова и Потемкин понравились бы друг другу.
Международное население потемкинского двора представляло собой миниатюрную пародию на дипломатический мир. Серьезно занявшись военными делами и обустройством юга России, светлейший стал вторгаться в сферу Никиты Панина: внешнюю политику. Неофит в дипломатии, Потемкин тем не менее обладал всеми качествами, необходимыми для этой области политической деятельности.
Дипломатию XVIII века часто описывают как балет, в котором все танцоры знали каждое па наизусть. На должность послов назначались высокообразованные аристократы, которые, в зависимости от расстояния до их столиц, обладали некоторой степенью свободы в отстаивании интересов своих королей, хотя иногда их инициативы расходились с линией их правительств и подписанные ими трактаты дезавуировались их собственными министрами иностранных дел. Дипломатическая корреспонденция доставлялась нескоро: депеши из столицы в столицу везли курьеры, покрываясь дорожной пылью и останавливаясь на ночлег в трактирах, полных тараканов и крыс. Дипломаты любили делать вид, что отправляют свою должность как аристократы-любители — чтобы чем-то занять избыток свободного времени. Министерства иностранных дел имели крошечный штат (например, британский Форин Оффис в 1780 году состоял из 20 человек).
Дипломатия считалась прерогативой королей. Иногда монархи вели тайную переписку, диаметрально противоположную по содержанию стратегии их министерств. Послы и военные служили своим королям, а не странам. В тот космополитичный век иностранцев принимали на службу к любому двору, особенно в дипломатические миссии и в армии. Сегодняшнее убеждение, что человек должен служить той стране, где родился, показалось бы тогда глупым и ограниченным.
«Мне нравится быть иностранцем повсюду, — говорил вельможа без родины, принц де Линь, своей подруге француженке, — пока вы со мной и где-нибудь у меня есть небольшое имение». Де Линь объяснял, что, «если вы остаетесь в одной стране слишком долго, вас перестают уважать».[368] Посольства и армии были наполнены ливонскими баронами, итальянскими маркизами, немецкими графами, вездесущими шотландцами и ирландцами-якобитами. Итальянцы специализировались на дипломатии, а шотландцев и ирландцев считали искусными вояками.
После якобитских восстаний 1715 и 1745 годов многие кельтские фамилии рассеялись по разным странам; некоторые из этих «перелетных гусей», как их называли в Англии, поступили на русскую службу{53}. Лейси, Брауны и Кейты{54} командовали европейскими армиями. Братья Кейты — Джордж, изгнанный лорд-маршал Шотландии, и его брат Джеймс — воевали с турками в русской армии, а затем стали близкими друзьями Фридриха Великого. Встретившись во время русско-турецкой войны с оттоманским посланником, генерал Джеймс Кейт был немало удивлен, услышав шотландскую речь, — тюрбан украшал голову уроженца Керколди,[369] В сражении при Цорндорфе, одной из главных битв Семилетней войны, командующих русской, прусской и шведской армиями звали Фермор, Кейт и Гамильтон.
Пышный этикет скрывал жестокую войну послов за информацию и политическое влияние. Их правительства оплачивали авантюристов, ловких актрис, шифровальщиков, курьеров и соблазнительниц — горничных и аристократок. Большую часть депеш перехватывали так называемые черные кабинеты — секретные отделы, где вскрывали, переписывали и снова запечатывали письма, а затем расшифровывали их содержание. Российский «черный кабинет» был одним из самых эффективных{55}. Когда короли и дипломаты желали что-то сообщить иностранному правительству неофициальным путем, они посылали нешифрованную депешу — это называлось писать «еп clair», в открытую.
Соперничавшие друг с другом послы управляли дорогостоящей сетью шпионов, в основном домашних слуг, и тратили огромные суммы на «пенсионы» министрам и придворным. Фонды секретных служб использовались либо для получения информации (английские подарки Александре Энгельгардт), либо для влияния на политику (ссуды английского посольства Екатерине в 1750-х годах). Последняя статья расходов чаще всего не приносила никакого эффекта, и в целом представление о продажности петербургского двора было сильно преувеличено.[370] Россия считалась особенно коррумпированной, но вряд ли отличалась в этом отношении от Франции или Англии. За влияние на Петербург соревновались между собой в первую очередь Англия, Франция, Пруссия и Австрия. Теперь они употребляли весь арсенал своих средств, чтобы завоевать благосклонность Потемкина.
В 1778 году политическая ситуация в Европе была весьма напряженной. Франция, жаждавшая отомстить англичанам за Семилетнюю войну, собиралась поддержать американские колонии Англии в их борьбе за независимость (война началась в июне 1778 года, и в следующем году к Франции присоединилась Испания).
Россию волновали другие проблемы. Турецкий султан не хотел мириться с условиями Кючук-Кайнарджийского трактата 1774 года; больше всего его раздражали независимость Крыма и открытие Черного и Средиземного морей для русских торговых судов. В ноябре 1776 года Екатерине и Потемкину пришлось посылать в Крым армию, чтобы посадить на ханский престол лояльного к России Шагин-Гирея и предотвратить беспорядки, подстрекаемые Константинополем. Теперь в Крыму начинали роптать против русской креатуры, и две империи опять приближались к войне.
Между тем Австрия, и Пруссия соперничали из-за немецких княжеств. С 1726 года Россия союзничала с Австрией и переключилась на Пруссию только в 1762-м, с воцарением Петра III. В Австрии не прощали этого предательства, так что теперь у Екатерины и Фридриха не было иного выбора, как держаться друг друга. Никита Панин поставил на этот союз свою дипломатическую карьеру, однако дальше его замыслов «северной системы» — блока североевропейских стран, к которому должна была присоединиться и Англия — дело не пошло. Зато Фридрих получил такое влияние на русскую политику в отношении Польши и Турции, которое почти равнялось праву вето.
Потемкин всегда считал , что интересы России лежат не на севере, а на юге. Австро-прусский и англо-французский конфликты интересовали его в той мере, в какой они затрагивали русские отношения с Портой. Территориальные приобретения, сделанные во время Первой русско-турецкой войны, были сокращены благодаря двуличной политике Фридриха и доказали невыгодность союза с Пруссией.
Светлейший начал изучать дипломатию. «...Он нонеча учтив предо всеми. Веселым всегда и говорливым делается. Видно, что сие притворное только. Со всем тем, чего бы он ни хотел и ни просил, то, конечно, не откажут», — писала Е.М. Румянцева.[371] В 1773-1774 годах Потемкин особенно усердно ухаживал за Никитой Паниным.
Панин являл собой воплощение медлительности русской бюрократии. Дипломаты считали его «великим обжорой, заядлым игроком и большим любителем поспать». Как-то раз одна депеша пролежала нераспечатанной в кармане его халата четыре месяца. Он проводил жизнь «среди дам и придворных средней руки», отличаясь при том «прихотливостью вкусов изнеженного юноши». Когда шведский посол попробовал заговорить с ним о государственных делах за столом, Панин остановил его: «Видно, дорогой барон, что вы не привыкли возиться с политикой, раз позволяете ей мешать вам обедать». «Вы не поверите мне, если я скажу, что граф Панин уделяет своим служебным обязанностям не больше получаса в день», — сообщал Харрис в Лондон.[372]
Поначалу Потемкин «думал только об упрочении своего фавора и не вмешивался в иностранные дела, в управлении которыми Панин выказывал предпочтение королю прусскому», — писал польский король Станислав Август.[373] Теперь он стал показывать свою силу. Скорее всего, с самого начала своего романа с Екатериной он убеждал ее, что интересы России состоят в том, чтобы поддержать завоевания Петра на Балтике, сохранить влияние на Польшу, а затем заключить союз с Австрией и овладеть Черным морем. Екатерина никогда не любила Фридриха, не доверяла Панину, но переориентация на Австрию предполагала полную перестройку внешней политики. Императрица не хотела торопиться, однако напряжение между ней и Потемкиным стало расти. На одном из заседаний Совета он сообщил, что получены известия о волнениях в Персии, которые, по его мнению, можно обратить на пользу России. Панин не желал ничего слышать о южных делах, и их столкновение заставило прекратить заседание.[374] Панин не собирался сдаваться без боя, а Потемкин еще не доказал своей компетентности в иностранных делах. «Подождите немного. Это не будет длиться вечно», — сказал как-то Панин одному из своих доверенных лиц. Но Потемкин с каждым годом только укреплял свои позиции. Екатерина поощряла его дипломатические стремления: она поручила ему переговоры с принцем Генрихом Прусским; когда Густав III, восстановивший абсолютную монархию в Швеции, прибыл в Петербург, его встречал и сопровождал все тот же Потемкин. Замысел князя состоял в том, чтобы убедить императрицу отказаться от «северной системы» и заключить союз, который позволил бы ему заняться осуществлением его мечты на юге России.
В начале 1778 года в центре и на юго-восточной окраине Европы одновременно вспыхнули два конфликта. Они еще раз подтвердили, что ориентация Панина на Пруссию устарела, и развязали руки Потемкину, рвавшемуся заняться обустройством южной России. В обоих случаях Екатерина согласовывала с ним и военные, и дипломатические демарши.
Первый конфликт получил название «картофельной войны». В декабре 1777 года умер курфюрст баварский. Император Иосиф II, чье влияние росло по мере того, как старела Мария Терезия, давно планировал обменять австрийские Нидерланды на Баварию, чтобы распространить австрийское присутствие в германских землях и компенсировать Австрии потерю Силезии, отошедшей к Пруссии. В январе 1778 года Австрия заняла большую часть Баварии. Это поставило под угрозу недавно приобретенный Пруссией статус великой державы в рамках Священной Римской империи. 65-летний Фридрих собрал немецких князей, не желавших расширения границ Австрии, и в июле вторгся в принадлежавшую Габсбургам Богемию, Иосиф двинул свои войска ему навстречу.
В Центральной Европе снова началась война. Но союзница Австрии Франция была занята войной с англичанами, а Екатерина не спешила поддержать Фридриха. В результате ни австрийская, ни прусская армия не решались дать генерального сражения и ограничились вялой перестрелкой. Солдаты перезимовали, питаясь мерзлой картошкой с богемских полей, отчего инцидент и получил свое название.
Тем временем в Крыму свергли Шагин-Гйрея. Потемкин приказал войскам, стоявшим на полуострове, восстановить власть хана. Турки, желавшие возвращения Крыма под их покровительство, ничего не могли поделать без европейской поддержки. Австрийская и прусская армии собирали урожай на богемских полях, а Франция готовилась отстаивать независимость Северо-Амери-канских штатов.
И Потемкин, и Панин согласились с Екатериной, что России, хотя и связанной союзным договором с Пруссией, не стоит вступать в европейскую войну. Франция также не хотела серьезной войны, ее единственной целью было не позволить Англии обзавестись союзником на континенте, и она занялась миротворчеством в обоих конфликтах. Россия предложила выступить вместе с Францией посредницей между Австрией и Пруссией, а Франция за обязательство Екатерины не помогать Пруссии обещала помочь ей в переговорах с Портой.
Посредники убедили Австрию отступить. Не прекращая ссор об отношениях друг с другом, о ее фаворитах и его племянницах, Екатерина II Потемкин напряженно сотрудничали. «Батя, — писала она ему, — план операции из рук Ваших с охотою прийму [...] Пеняю, сударь, на тебя, для чего в притчах со мною говорить изволишь». Потемкин приказал корпусу Репнина выступить на запад, на подмогу Пруссии. Говорили, что обе стороны конфликта в Германии предложили Потемкину крупные взятки: австрийский канцлер Кауниц — большую сумму денег, а Фридрих — герцогство Курляндское. «Если бы я согласился принять Курляндию, — якобы заявлял позднее Потемкин, — мне ничего не стоило бы добавить к ней и польскую корону: императрица заставила бы короля отречься в мою пользу».[375] Тем не менее нет никаких доказательств тому, что взятки предлагались или принимались, особенно если вспомнить скупость Фридриха, вошедшую в пословицу{56}.
В марте 1779 года в Айналикаваке была заключена русско-турецкая конвенция, подтверждавшая независимость Крыма под управлением Шагин-Гирея. 2/13 мая было подписано Тешенское мирное соглашение; Россия выступала гарантом статуса-кво в Священной Римской империи. Оба эти соглашения еще больше упрочили престиж Екатерины в Европе.
В 1778 году светлейший в Петербург снова прибыл прусский принц Генрих, чтобы подтвердить пошатнувшийся русско-прусский альянс. Генрих изо всех сил старался подольститься к Потемкину: «Я польщен оказанными мне знаками благорасположения императрицы, дружбой великого князя и вашим вниманием, князь», — писал он ему.[376] К тому времени принц Генрих уже хорошо знал Потемкина. Остается только гадать, было ли ему смешно, когда Потемкин спустил с поводка свою обезьяну во время деловой беседы с Екатериной, которая начала с ней играть и не скрывала своего удовольствия по поводу изумления Генриха. Понимал то Принц или нет, эти шутки означали, что союз с Пруссией Потемкина больше не интересует. Он искал средства подорвать линию Панина и внедрить собственную стратегию.
В конце концов Потемкин получил неожиданного — и невольного — помощника. В качестве полномочного министра и экстраординарного посланника сент-джеймсского двора в Петербург прибыл сэр Джеймс Харрис. Этот обходительный и высокообразованный 32-летний джентльмен представлял собой Обвеем иной тип англичанина, чем прежние знакомцы Потемкина Семпл и Кингстон. Инструкции, полученные Харрисом от министра по делам Северной Европы графа Саффолка, предписывали ему вести переговоры о «наступательном и оборонительном союзе» с Россией, которая, как предполагалось, могла помочь Англии на море в войне против американцев и французов. Сначала Харрис обратился к главе иностранной коллегии — Панину, но, получив холодный прием, решил подружиться со светлейшим.[377]
28 июня 1779 года Харрис, собрав всю свою смелость, подошел к князю в передней апартаментов императрицы и обратился с дерзкой лестью, которая должна была понравиться адресату. «Я заявил ему, что настал момент для России играть главную роль в Европе и что он один способен возглавить эту политику», Харрис уже заметил возрастающий интерес Потемкина к международным делам и восхищался его «проницательностью и безграничным честолюбием».[378]
Во все время своей службы в Петербурге сэр Джеймс Харрис полагал, что борьба между Англией и Францией занимает Россию гораздо больше, чем конфликт с Турцией. Потемкин обратил анг-лоцентризм прирожденного вига себе на полВзу. Соперничество между западными державами и вынашивание тайных планов Екатерины и Потемкина шли одновременно и параллельно. По-Настоящему Потемкина объединяли с Харрисом только любовь к Англии и враждебное отношение к Панину.
Довольный смелой вылазкой Харриса, светлейший тут же пригласил его на обед в загородном доме одного из своих племянников. Если поначалу Харрис ворчал по поводу вольных нравов Екатерины и «рассеянности» Потемкина, то теперь он почти влюбился в Непосредственность человека, которого стал отныне называть «своим другом». Харрис умолял Потемкина организовать морскую экспедицию в помощь Англии в обмен на пока неопределенные блага, чтобы восстановить баланс сил и упрочить международное влияние России. Князь, которого, по словам Харриса, привлекла эта идея, отвечал: «Кому же поручить составление декларации и подготовку экспедиции? Граф Панин не сможет и не захочет [...] он пруссак, и ничего более; граф Чернышев [морской министр] бездельник и не выполнит ни одного приказа».[379]
Одновременно за Потемкиным ухаживали французский поверенный в делах Корберон и новый прусский посланник Герц. В турнире иноземцев победил Харрис: светлейший обещал ему приватную аудиенцию у императрицы, чтобы он смог лично изложить ей свою просьбу.[380]
22 июля 1779 года Корсаков, тогдашний фаворит, подошел к Харрису на маскараде, когда Екатерина окончила играть в карты, и провел его в гардеробную государыни. Харрис изложил свой проект Екатерине, которая выслушала его благожелательно, но рассеянно. Она понимала, что экспедиция втянет Россию в англо-французскую войну. Харрис спросил, предоставила ли бы она на месте английского короля независимость Америке. «Я лучше отдала бы свою голову!» — последовал гневный ответ. На следующий день Харрис передал проект меморандума Потемкину.[381]
Соперничество Потемкина с Паниным как будто работало на пользу Англии, но, с другой стороны, такое соотношение сил требовало от Харриса особой осторожности. В одном из разговоров Потемкин поразил англичанина заявлением, что «сам он так несведущ в иностранных делах, что многое из сообщаемого для него внове». Когда дело дошло до обсуждения английского предложения в Совете, Екатерина попросила не Потемкина, а Панина обратиться к Харрису с пожеланием составить еще один меморандум.
Тем не менее Потемкин и сэр Джеймс проводили вместе целые дни, играя в карты и строя планы. Возможно, Потемкин водил Харриса за нос, но все же тот ему искренне нравился. Пока Харрис рассуждал о делах, Потемкин в спешном порядке знакомился с английской цивилизацией. Курьеры без устали носили их письма друг к другу. Опубликованные письма Харриса представляют собой его официальный отчет о его отношениях, но те, что хранятся в российских архивах, дают истинное представление об их частых контактах. Например, в одном из писем говорится о гардеробе, который один из должников Харриса прислал ему вместо 1500 гиней. «Вы дали бы мне неоспоримое подтверждение вашей дружбы, — пишет чрезвычайный посланник, — если бы убедили императрицу приобрести его [...] Простите мне мою откровенность,,.» Уважил ли эту просьбу Потемкин, неизвестно, но он был щедрым другом. В мае 1780 года Харрис отправил своему отцу, признанному знатоку классиков, «посылку с греческими произведениями, которые мне преподнес для вас князь Потемкин».[382]
Когда Потемкин встречал Харриса в Зимнем дворце, он отводил его в покои императрицы, как в свои собственные, и они беседовали допоздна. «Я дал князю Потемкину и его компании souper dansant{57}», — сообщал Харрис своей сестре Гертруде в 1780 году. Гости выпили «три бутылки токайского, присланного польским королем, и дюжину бутылок шампанского и бордо». Сам Харрис, по его собственному уверению, пил только воду.[383]
Наблюдая этот всплеск русско-английской дружбы, дипломаты других держав вовсю подсматривали, подслушивали и не скупились на деньги, чтобы выведать, о чем идет речь. Больше всего взволновались французы. Корберон неусыпно шпионил за многочисленными домами Потемкина. Он записал, что Харрис поставил у себя в саду шатер «на десять человек», который, как он заявлял, подарил ему Потемкин. Корберон осмелился даже явиться к Потемкину и высказать претензии по поводу его враждебности к Франции. Он «достал из кармана бумагу и огласил список всех случаев», когда Харрис встречался с князем по неформальным поводам. Тот прервал его монолог, объявив, что занят. Об этом эпизоде рассказал Харрис, услышавший его, возможно, от племянницы Потемкина Александры (англичанин проводил в ее обществе столько времени, что Корберон подозревал его в волокитстве). Пруссаки также внимательно следили за происходящим. «Весь последний месяц дом английского посла наполнен родственниками князя», — докладывал Герц Фридриху 21 сентября 1779 года.[384]
Этот спектакль закончился тем, что Харрис составил второй меморандум, передал его Потемкину, который сунул его то ли в карман халата, то ли под подушку, — а затем бумага пропала и оказалась у сначала Корберона, а потом у Панина. Какую-то роль в этом деле сыграл шевалье де Ла Тессоньер, один из обитателей «заднего двора», но украла документ француженка мадемуазель Гибаль, любовница Потемкина и гувернантка его младших племянниц. Позже рассказывали, что Панин сделал на меморандуме пометки, опровергавшие аргументы англичан, и оставил его на столе у Екатерины, чтобы она приняла пометки за мнение светлейшего.
Поскольку очевидный смысл этой истории — дискредитация Потемкина и его образа жизни, многие историки считают ее мифом, но какая-то доля правды в этом рассказе, вероятно, все же есть. Екатерина, конечно, не спутала бы почерк Потемкина с рукой Панина, однако Тессоньер действительно рыскал по дому князя, а письма Татьяны Энгельгардт подтверждают существование мадемуазель Гибаль.[385]
В самый разгар этой интриги в Петербург прибыла европейская знаменитость. Человек, называвший себя графом Алессандро ди Калиостро и выдававший себя за полковника испанской службы, открыл кабинет целителя, алхимика, мага, заклинателя духов и адепта египетского масонства. Его сопровождала прекрасная дама. Маленький, смуглый, лысеющий сицилиец с черными глазами и высоким лбом на самом деле звался, вероятно, Джузеппе Бальзамо и являл собой редкий образец харизматической личности.
Век Разума принизил значение религии, и желание заполнить образовавшуюся пустоту стало одной из причин моды на масонство, как в рационалистской, так и в оккультной версии. Последняя быстро распространилась в форме гипнотизма, некромантии, алхимии, каббалистики, которыми занялись мартинисты, иллюминаты, розенкрейцеры и сведенборгианцы. Глубокое знание человеческой натуры, если не реальные целительские способности Сведенборга, Месмера и Лафатера помогали людям в эпоху, когда врачи и ученые могли объяснить очень немного. Некоторые, как Казанова или Жорж Псальманазар, были просто шарлатаны, разъезжавшие по Европе и дурачившие легковерных аристократов сказками о философском камне и эликсире жизни. Они представлялись носителями экзотических титулов, обладателями богатств, ценителями искусств и предлагали вниманию аудитории некую смесь из практических врачебных советов, обещаний вечной молодости и рассказов о загробной жизни, — а также о своей способности превращать металлы в золото. Их патриарх, граф де Сен-Жермен, уверявший, что прожил две тысячи лет и в молодости видел распятие Христа, произвел неотразимое впечатление на Людовика XV, «сотворив» из эфира бриллиант стоимостью 10 тысяч ливров.
Калиостро стяжал огромный успех в Митаве, столице Курляндии. Теперь он надеялся повторить свой опыт в Петербурге. Медиум «прибыл в благоприятный для него момент, — сообщала Екатерина Гримму, — когда несколько масонских лож желали видеть духов». «Мастер чародейства» демонстрировал столько духов, сколько желали видеть зрители, и успешно распродавал таинственные снадобья. Особенно смешило императрицу его заявление об умении превращать мочу в золото и даровать вечную жизнь.[386]
Тем не менее Калиостро пользовался популярностью как целитель и пропагандист ритуалов египетского масонства. Корберон и некоторые придворные, такие, как Иван Елагин и граф Александр Строганов, сделались истыми последователями заклинателя духов.
Потемкин, хотя присутствовал на некоторых сеансах Калиостро, но никогда в них не верил. Они с Екатериной постоянно шутили по поводу трюков сицилийца. Гораздо больше привлекла Потемкина «графиня Калиостро». Говорили, что светлейший имел роман с женой чародея Лоренцой, иначе Серафиной, иначе принцессой ди Санта Кроче. Екатерина поддразнивала Потемкина, проводившего много времени в их доме.
По одной из легенд, какая-то из влюбленных в князя знатных дам встретилась с Серафиной и заплатила ей 30 тысяч рублей, чтобы та уехала. Потемкин был польщен. Он сказал подруге Калиостро, что она может остаться, сохранив деньги, и компенсировал расстроенной даме потраченную сумму. Самая неправдоподобная версия гласит, что этой знатной дамой была сама императрица.[387]
Впрочем, бесконечно дурачить публику и кредиторов искателям приключений не удавалось даже в тот лукавый век. Через некоторое время испанский посол объявил, что Калиостро никакой не гранд и не полковник, и Екатерина весело сообщала Гримму, что чародей и его спутница выдворены из России.{58}
Когда в начале февраля 1780 года Панин вызвал Харриса и зачитал ему высочайший отказ на предложение о союзе с Англией, сэр Джеймс бросился к Потемкину за разъяснениями. На этот раз светлейший объяснил ему, что опасение «новой войны пересилило стремление к славе». Харрис был поражен. Потемкин добавил, что новый фаворит, Ланской, опасно болен и государыня страдает «расстройством нервов». Сэр Джеймс поверил Потемкину только когда тот заявил, что даже его влияние «временно потеряло силу». Харрис упрекнул его в робости, в ответ на что тот вспылил и объявил, что «докажет, что никто в этом государстве не пользуется большим влиянием, чем он». Это обнадежило Харриса, но затем Потемкин сказался больным. Он не принимал несколько недель, а потом снова стал говорить о том, что императрица — чрезвычайно мнительная женщина, дрожащая над своими любимчиками. Потемкин все так же переходил от заявлений о своем бессилии к взрывам хвастовства и проклинал «сонного и неповоротливого» Панина — он, который сам мог пролеживать на диване целыми днями.
В феврале 1780 года светлейший вызвал английского посланника и «с характерным для него воодушевлением» объявил об открытии экспедиции из 15 кораблей и 15 фрегатов «для поддержания российской торговли». Но это решение — продолжение успешного посредничества России в войне за Баварское наследство — нанесло сильный удар по миссии Харриса.[388] Англия заявила, что будет захватывать нейтральные суда и конфисковывать их грузы, причем это решение касалось и русских судов. Правительства нейтральных держав, включая Россию, пришли в раздражение, и в марте 1780 года Екатерина подписала декларацию о «вооруженном нейтралитете», чтобы поставить на место зарвавшихся англичан, укрепить русскую морскую торговлю и еще более поднять свой престиж. Теперь завоевывать благосклонность России Харрису стало еще сложнее.
Сэр Джеймс раздумывал, кто заплатил Панину, Франция или Пруссия, в то самое время, как французы и пруссаки полагали, что ему платят англичане. Из тучи, нагнетенной этой дипломатической истерией, посыпался настоящий золотой дождь.
Харрис не сомневался, что Корберон, «как истинный француз», «платит жалованье лакеям в каждом русском доме». Версаль действительно решил любой ценой удержать Россию от вступления в войну; Корберон хвастался даже, что может купить самого Потемкина.[389] «Я подозреваю, что честность моего друга поколеблена», — поверял Харрис свои опасения виконту Стормонту, а Корберон в то же самое время доносил в Версаль, что Харрису выделен кредит в 36 тысяч фунтов, и 100 тысяч рублей уже уплачены Потемкину. Орлов-Чесменский обвинял князя в получении 150 тысяч английских гиней. Харрис полагал, что Франция преподнесла родственникам Потемкина 4 или 5 тысяч фунтов.
В конце марта 1780 года терпение Харриса кончилось. Если Франция дает взятки «его другу», Англия должна перегнать ее. На петербургском рынке взяток начался бум. Напоминая Стормонту, что он имеет дело с «необычайно богатым человеком», Харрис требовал ту же сумму, какую «Торси, хоть и безуспешно, предлагал Мальборо». Такой запрос мог озадачить даже самого щедрого казначея Европы{59}. Не обходили своим вниманием Потемкина ни пруссаки, ни австрийцы. Харрис заметил, что прусский посланник ежедневно беседует о чем-то со светлейшим, и узнал, что тот снова предлагает ему Курляндию или «иной способ обеспечить его безопасность на случай, если императрица оставит его» — то есть на случай восшествия на престол Павла. В то же самое время говорили, что австрийцы предлагают ему некое княжество.[390]
Брал Потемкин взятки или нет? В конце 1779 года упоминались суммы в 100 тысяч рублей и 150 тысяч гиней, но исследование архивных фондов секретных служб показывает, что в ноябре Харрис израсходовал только 1450 фунтов, а позже получил выговор за трату 3000 фунтов. Сложенные вместе, эти суммы могли бы, конечно, порадовать Александру Энгельгардт, но не достигали даже столовых расходов князя. Богатство, даже самое внушительное, вовсе не означает неподкупности, но, вероятно, Харрис был прав, говоря, что повлиять на Потемкина «можно только попав ему в тон и оценив его неповторимый юмор и непредсказуемый характер». Екатерина, чтобы отблагодарить своего помощника за проект вооруженного нейтралитета, выдала ему сумму, по словам Харриса, эквивалентную 40 тысячам фунтов, но «этот удивительный человек так избалован, что почти не считает нужным за это благодарить». Прусский посланник Герц также подтверждал, что взятками на Потемкина не подействовать: «Богатства не помогут: его собственные средства неисчислимы».[391]
То же мнение подтверждал и презрительный вопрос Панина: «Неужели вы полагаете, что князя Потемкина можно купить за 50 тысяч фунтов?» Когда слухи о том, что Харрис заплатил ему 2 миллиона рублей, дошли до самого князя, он пришел в возмущение. Светлейший был слишком горд и слишком состоятелен, чтобы брать деньги. При этом, однако, Панин и Потемкин обвиняли друг друга в лихоимстве. На одном из заседаний Совета Потемкин заявил, что портретами Людовика XVI можно делать отличные «ставки при игре в вист». Панин парировал, что если князь нуждается в деньгах, то английские гинеи всегда к его услугам. Потушить ссору удалось только императрице.[392]
Для того чтобы все-таки выяснить, поддерживает ли светлейший российско-английский альянс, Харрис дал взятку одному из секретарей Потемкина. Возможно, это был Александр Безбородко, все больше вытеснявший Панина во внешнеполитических вопросах. Стормонт санкционировал выдачу 500 фунтов, заметив, впрочем, что это очень много. Когда дошло до дела, у Харриса выманили около 3 тысяч. Секретарь сообщил, что все европейские монархи, от Фридриха до Иосифа, бомбардируют Потемкина предложениями денег и княжеских престолов, но безуспешно, а об английском деле Потемкин особенно не радеет, за исключением моментов, когда его охватывает дух соперничества с Паниным. «Агент» добавлял, что князь действует по внушению внезапных, «непредсказуемых побуждений» и в принципе может «поддержать линию любого правительства», но в данный момент особенно склоняется к Австрии. Последнее было правдой.[393]
Дипломаты уже знали, что Потемкин строит обширные планы касательно южных областей. Даже обсуждая с ним морские проблемы Великобритании, Харрис заметил, что голова светлейшего «неотступно занята мыслью о создании империи на востоке» и что он «один поддерживает в императрице интерес к этому проекту». Дерзкие мечты Потемкина действительно заразили Екатерину. Пересказав свою беседу с ней, Харрис сообщал, что она «долго говорила [...] о древних греках, об их предприимчивости и быстроте ума [...] сохранившихся в их далеких потомках». Корберон не преувеличивал, отмечая, что эти «романтические идеи принимаются здесь с энтузиазмом».[394] Светлейшего не занимали ни Лондон, ни Париж, ни Берлин, ни Филадельфия. Он мечтал о городе императоров — Царьграде. Чтобы овладеть им, нужно было победить Османскую империю.
Часть пятая: КОЛОСС (1777-1783)
14. ВИЗАНТИЯ
Меня пригласили на праздник, который князь Потемкин
давал в своей оранжерее [...] Против входной двери
был устроен маленький храм, посвященный Дружбе,
со статуей богини, держащей бюст Государыни [...]
Кабинет, где она ужинала, весь затянут прекрасной
китайскою тафтою в виде палатки [...]
В другом маленьком кабинете стоит диван, обитый
богатой материей, которую вышивала сама Государыня.
Шевалье де Корберон. 20 марта 1779 г.
Когда турецкий султан Мехмед II в 1453 году занял Константинополь, он направился к знаменитому храму Святой Софии. Перед воротами великого христианского святилища он посыпал голову землей в знак благоговения перед Всевышним и вошел. В храме он увидел турецкого солдата, тащившего мраморную плиту. «Это ради веры», — объяснил солдат. Мехмед поразил его мечом. «Для вас — пленники и их добро, — объявил он. — Здания города принадлежат мне». Завоевав Византию, Османы не собирались отказываться от великолепия Царьграда.
К титулам турецкого хана, арабского султана и персидского падишаха Мехмед мог добавить теперь «Caiser-i-Rum»: «Цезарь Римский». Для европейцев он стал не только Великим Турком: отныне его часто будут называть императором. Оттоманский дом унаследовал престиж Византии. «Никто не сомневается, что вы — император римлян, — говорил Мехмеду Завоевателю в 1466 году критский историк Георгий Трапезунтиос. — Хозяин столицы империи — император, Константинополь — столица Римской империи. А тот, кто есть и пребудет императором Рима, тот император всей земли».[395]
Османская империя простиралась от Багдада до Белграда и от Крыма до Каира; в Восточной Европе в ее состав входила территория, занимаемая в наши дни Болгарией, Румынией, Албанией, Грецией и Югославией. Под ее владычеством находились главные святыни ислама, от Мекки и Медины до Дамаска и Иерусалима. Черное море оставалось «чистой и непорочной девой» султана,
а на Средиземноморье, от Кипра до Алжира и Туниса, господствовали его порты. Эту интернациональную империю называли турецкой, однако обычно единственным турком в административной иерархии являлся сам султан, а различными областями многонационального государства управляли перешедшие в мусульманство славяне, составлявшие верхний эшелон двора, чиновники и янычары.
Понятие классов практически отсутствовало: Османская империя представляла собой меритократию, которой от имени султана управляли дети албанских крестьян. Значение имело только одно — каждый подданный, даже главный министр, великий визирь, являлся рабом султана. До середины XVI века султаны были сильными, жестокими лидерами. Но постепенно грязное дело управления перешло к великим визирям.
Поначалу за отсутствием закона о престолонаследии смена султана чаще всего не обходилась без кровопролития. Новый император избавлялся от своих братьев — число которых иногда достигало нескольких десятков, — удушая их тетивой от лука: деликатная форма казни, не проливавшая царской крови. В конце концов чувство монаршего самосохранения прекратило этот варварский обычай, и принцев стали держать во дворцах как почетных пленников, полуусыпленных удовольствиями, полуживых от страха.
Государственным управлением ведал великий визирь, часто славянского происхождения, с двумя тысячами придворных и слуг и гвардией из 500 албанцев. Ранг каждого сановника, паши (буквально — «ноги султана») обозначался конскими хвостами: пережиток кочевого прошлого тюрков. Визири носили зеленые туфли и тюрбаны, придворные чины — красные, муллы — голубые. Дворец султана, сераль, стоял на византийском акрополе и представлял собой длинную цепь замкнутых дворов, соединенных воротами. Эти ворота, за которыми вершилось правосудие, стали символом оттоманской власти: на западе империю называли Высокой Портой.{60}
Сластолюбие императоров поощрялось как источник обильного резервуара наследников. Если школа, где воспитывали императорских пажей, будущих чиновников, была полна албанцами и сербами, то гарем, производивший наследников султанского престола, изобиловал белокурыми и голубоглазыми славянками с крымских невольничьих рынков. До конца XVII века, как это ни удивительно, господствующим языком двора был сербскохорватский.
Султану по-прежнему принадлежало неограниченное право карать и миловать, и он широко им пользовался. Мгновенная смерть составляла элемент придворного этикета. Многие великие визири больше прославились своей смертью, чем делами. Их истребляли так безжалостно, что приходится только удивляться, почему этот пост оставался вожделенным для оттоманских чиновников. Смертные приговоры, которые султан выносил, притопнув ногой или отворив особое решетчатое окошко, приводились в исполнение немыми палачами, орудовавшими удавкой или секирой. Выставление головы казненного также являлось обязательным ритуалом. Головы высших сановников помещались на мраморных столбах во дворце, набитые хлопком, если принадлежали важным персонам, и соломой, если преступник занимал средний ранг. Головы чиновных подданных, а также отрубленные уши и носы «украшали» ниши внешних стен дворца. Провинившихся женщин — иногда прекрасных обитательниц гарема — завязывали в мешок и сбрасывали в Босфор.
Но более серьезную угрозу для султана представляли его собственная гвардия, янычары — и толпа. Население Константинополя всегда отличалось своенравием. Теперь стамбульская чернь, которой манипулировали янычары или улемы, влияла на политику все сильнее. Агент Потемкина Николай Пизани сообщал в 1780-е годы, что визири и другие интриганы «мутят городской сброд», чтобы «напугать правителя [...] всякого рода дерзкими выходками».[396]
В 1774 году Мустафу III сменил робкий и мягкосердечный Абдул-Хамид I. Контроль администрации над народом и дисциплина в армии падали, коррупция процветала. Не в силах больше рассчитывать на свое военное могущество, Османы решили сделаться такой же европейской державой, как прочие, — или почти: если для большинства европейских стран война была «дипломатией другими средствами», то турки сделали дипломатию средством войны. Усиление России поменяло приоритеты их политики. Потенциальные враги России — Франция, Пруссия, Швеция и Польша — стали потенциальными союзниками Высокой Порты. Ни одна из этих стран не собиралась спокойно наблюдать, как Россия громит турок; каждая была готова поддержать Порту, по крайней мере деньгами.
Один из потемкинских агентов писал, что империя, «как стареющая красавица, не понимает, что ее время прошло».[397] Тем не менее у нее оставались огромные ресурсы живой силы плюс мусульманский фанатизм. Управляемая удавкой, зеленой туфлей и константинопольской чернью, империя напоминала пораженного проказой сказочного великана, члены которого отваливались от огромного тела, но все еще внушали ужас врагам.
27 января 1779 года великая княгиня Мария Федоровна родила второго сына, которого Екатерина назвала Константином и которого они с Потемкиным прочили на роль константинопольского правителя после разгрома Высокой Порты. Двумя годами раньше великая княгиня уже подарила Екатерине первого внука, Александра, наследника Российской империи. Теперь она преподнесла грекам наследника византийского престола.
Опираясь на классическую историю, восточное православие и собственное воображение, Потемкин создал культурную программу, геополитическую систему и пропагандистскую кампанию, которые историки обозначают единым названием: греческий проект. Суть его состояла в том, чтобы завоевать Константинополь и посадить на трон великого князя Константина. Екатерина наняла будущему императору в кормилицы гречанку по имени Елена и настояла на том, чтобы его учили греческому языку. Когда Екатерина ознакомила Потемкина с составленной ею программой обучения внуков, он предложил изменение: «Я [...] желал бы напомнить, чтоб в учении языков греческий поставлен был главнейшим, ибо он основанием других. Невероятно, сколь много в оном приобретут знаний и нежного вкуса сверх множества писателей, которые в переводах искажены не столько переводчиками, как слабостью других языков. Язык сей имеет армонию приятнейшую и в составлении слов множество игры мыслей; слова технические наук и художеств означают существо самой вещи, которые приняты во все языки. Где Вы поставили чтение Евангелия, соображая с латынским, язык тут греческий пристойнее, ибо на нем оригинально сие писано». Екатерина ответила: «Переправь по сему».[398]
Мы не знаем, когда именно они начали обсуждать проект реставрации Византии, но скорее всего очень скоро после их сближения (вспомним одно из любимых прозвищ, которым императрица наградила своего возлюбленного: «гяур», по-турецки «неверный»). Мы сказали бы, что Потемкин и греческий проект были созданы друг для друга. Он прекрасно знал историю Византии и восточное богословие; как все образованные люди своего времени, Екатерина II Потемкин были воспитаны на классиках (хотя он читал по-гречески, а она нет). Он часто приказывал своим секретарям читать ему из древних историков и имел под рукой почти все их труды. В XVIII веке энтузиасты классики хотели не только читать о древних временах — они хотели состязаться с ними.
Идея была не нова: Московия называла себя Третьим Римом со времен падения Константинополя, который русские по-прежнему именовали Царьградом. В 1472 году великий князь Московский, Иван III, женился на Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора. Ивана III величали царем (цесарем) и «новым императором нового Константинополя — Москвы». В следующем веке монах Филофей сформулировал знаменитое «два Рима пали, третий стоит, а четвертому не быть». Внук Ивана III — Иван IV (Грозный) — венчался на царство. Но мысль о возрождении классического величия, опиравшаяся на религиозную и культурную преемственность, принадлежала Потемкину. Несмотря на свою импульсивность в порождении идей, он обладал терпением и интуицией, необходимыми для их осуществления: он преследовал свою византийскую мечту с того момента, как оказался у власти, и шесть лет боролся с пропрусской политикой Никиты Панина.
Уже в 1775 году, когда Екатерина II Потемкин праздновали победу над Турцией в Москве, князь подружился с греческим монахом Евгением Булгарисом, которому предстояло обеспечить «богословскую поддержку» греческого проекта. 9 сентября 1775 года Екатерина, по внушению Потемкина, назначила Булгариса архиепископом Херсона и Славянска, когда этих городов еще не существовало. Херсон, названный в честь греческого Херсонеса, родины русского православия, виделся еще только бурному воображению Потемкина.
Декрет Екатерины о назначении Булгариса архиепископом подчеркивал греческое происхождение православия и, возможно, был составлен Потемкиным, одним из первых действий которого по занятии должности фаворита стало основание греческой гимназии. Теперь он поручил управление ею Булгарису. Потемкин хотел, чтобы архиепископ написал историю отношений древних скифов, греков и славян. Булгарис не выполнил этого пожелания, но зато перевел «Георгики» Вергилия и посвятил их «величайшему филэллинисту», сопроводив одой на строительство Херсона — новых Афин на Днепре.[399]
Прослеживая зарождение греческого проекта, можно понять, как происходило сотрудничество императрицы и князя. «Мемориал по делам политическим», описывающий проект, составил в 1780 году секретарь Екатерины Александр Безбородко, однако считать его автором идеи означает не понимать взаимоотношений внутри триумвирата, который отныне станет определять внешнюю политику России.[400]
Потемкин замыслил греческий проект еще до того, как Безбородко стал играть политическую роль: об этом свидетельствуют его письма, разговоры, покровительство Булгарису, наречение второго внука Екатерины Константином и основание Херсона в 1778 году. Записка Безбородко, несомненно, заказанная Екатериной и Потемкиным, представляла собой «техническое обоснование» идеи и описывала византийско-турецко-русские отношения с середины X века. Проект трактата с Австрией 1781 года, составленный Безбородко, показывает последовательность их работы: секретарь составлял текст на правой половине листа, а на левой Потемкин делал карандашом заметки, адресованные Екатерине. Потемкин формулировал общий смысл идеи, а Безбородко прописывал детали — что и дало последнему основание заявить после смерти светлейшего, что тот «был редкий человек, особливо на выдумки, лишь бы только они не на его исполнение оставлялися».[401]
Первым шагом к исполнению греческого проекта должно было стать налаживание отношений с Австрией. Император Священной Римской империи и соправитель Габсбургской монархии, Иосиф II не отказался от плана овладеть Богемией — плана, породившего «картофельную войну». Он понимал, что для овладения этой областью, которая сделает габсбургские земли более цельными, ему необходима помощь Екатерины и Потемкина. Для этого Иосифу надо было отвлечь Россию от ориентации на Пруссию. Если по ходу дела Австрии удалось бы расширить свои границы за счет Османской империи — он был не против.
В течение долгих лет Иосиф и его мать Мария Терезия избегали контактов с Россией, считая Екатерину цареубийцей и нимфоманкой. Теперь Иосиф решил пойти против матери, в чем его поддержал канцлер, князь Венцель фон Кауниц, автор «дипломатической революции» 1756 года, помирившей Австрию с ее старым врагом, Францией. Кауниц инструктировал своего австрийского посланника в Петербурге: «Поставьте отношения с господином Потемкиным на дружескую ногу [...] Сообщите мне, каков он к вам сейчас».[402]
22 января 1780 года Иосиф передал Екатерине через ее посла в Вене князя Дмитрия Голицына, что желал бы с ней встретиться. Предложение поступило как нельзя кстати. 4 февраля она дала свое согласие, сообщив об этом только Потемкину, Безбородко и Панину, к неудовольствию последнего. Встречу наметили на 27 мая, в Могилеве.
Императрица и Потемкин ждали Иосифа с нетерпением и непрерывно обсуждали встречу. В конце апреля светлейший уехал в Могилев готовить свидание глав двух империй. 9 мая 1780 года Екатерина выехала из Царского Села со свитой, куда входили Александра и Екатерина Энгельгардт и Безбородко. Никиту Панина оставили в Петербурге. Император Иосиф прибыл в Могилев первым. Екатерина продолжала обсуждать с Потемкиным детали встречи: «...буде луче найдешь способ, то уведоми меня», — пишет она, предложив, «как выгоднее будет условиться о свидании без людей», и заканчивает: «Прощай, друг мой, мы очень тоскуем без тебя».[403]
15. ИМПЕРАТОР СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Не ты ль, который взвесить смел Мощь Росса, дух Екатерины, И опершись на них, хотел Вознесть твой гром на те стремнины, На коих древний Рим стоял И всей вселенной колебал ? Г.Р. Державин. Водопад21 мая 1780 года князь Потемкин приветствовал императора Иосифа II, прибывшего в Россию инкогнито, под именем графа Фалькенштейна. Иосиф хотел немедленно приступить к обсуждению политических дел, но князь предложил ему сначала отправиться в церковь. «До сих пор мы виделись с Потемкиным только в публичных местах и он не проронил о политике ни слова», — жаловался император своей матери, императрице-королеве Марии Терезии.[404] На нетерпение императора Потемкин отвечал только уклончивой любезностью: опоздание Екатерины на один день было рассчитанным политическим маневром. Никто не знал, что они с Потемкиным задумали. Фридрих II, турецкий султан и английский посланник в Петербурге одинаково напряженно ждали результата встречи.
Князь вручил императору письмо от Екатерины, где она прямо высказывала свои надежды: «Клянусь, что сегодня для меня нет ничего труднее, чем скрыть мою радость. Само имя графа Фалькенштейна внушает полное доверие...» Потемкин, также в письме, пересказал свои первые впечатления Екатерине. «О Фальк[енштейне] стараться будем разобрать вместе», — отвечала она, выезжая из Шклова в Могилев.[405]
Последнее легче было сказать, чем сделать: загадочный характер императора озадачивал современников так же, как он озадачивает историков. В его правлении, как ни в чьем другом, сказались противоречия просвещенного деспотизма: одержимый экспансионистским духом, Иосиф жаждал освободить свой народ от предрассудков прошлого. Себя он считал военным гением и монархом-философом, подобным Фридриху Великому, вражда с которым чуй* не лишила его Престола. Восторженный идеалист, он презирал людей и не понимал, что политика — это искусство возможного.' Его напряженные реформаторские усилия основывались на безграничном честолюбии. Он почти всерьез полагал, что государство — это он.
О своем инкогнито он заботился так же, как о своем быте и своих реформах. «Вам известно [...] что во всех моих путешествиях я строго соблюдаю и ревностно охраняю права и преимущества, какие дает мне имя графа Фалькенштейна, — инструктировал Иосиф австрийского посланника в Петербурге Кобенцля. — Поэтому я буду в мундире и без орденов [...] Позаботьтесь подобрать для меня в Могилеве небольшую и скромную квартиру».[406]
Объявивший себя «первым чиновником государства», Иосиф появлялся на людях в простом сером мундире в обществе одного или двух сопровождающих, желал есть только самую простую пищу и спать не во дворцах, а в трактирах, на походной кровати. Это был вызов импрессарио встречи — Потемкину. Потемкин принял вызов: в России было мало трактиров, и князь оборудовал под них дворцы.
«Он слишком много правил и недостаточно царствовал», — говорил об Иосифе принц де Линь. После смерти своего отца в 1765 году Иосиф стал императором Священной Римской империи германской нации, — «кайзером» по-немецки, «цесарем» по-русски. Но власть над габсбургской монархией, включавшей Австрию, Венгрию, Галицию, австрийские Нидерланды, Тоскану, Словению и Хорватию, он делил ро своей матерью, величественной Марией Терезией. Несмотря на свою католическую набожность, именно она заложила основание для преобразований Иосифа, к которым он приступил с таким рвением, что они превратились сначала в анекдот, а затем в проклятие. Его реформы сыпались на подвластные ему народы как палочные удары. Он не понимал неблагодарности подданных. Когда он запретил использование гробов на похоронах (для экономии времени и древесины), ему ответили такой яростью, что распоряжение пришлось отменить. «Он даже души хочет облачить в мундиры! — восклицал Мирабо. — Это верх деспотизма».
Личная жизнь Иосифа была трагична: первая его жена, Изабелла Пармская, одаренная натура, предпочитала своему мужу его сестру. Когда через три года брака она умерла, 22-летний император был безутешен. Через семь лет от плеврита умерла и его обожаемая дочь. Потом, чтобы получить право на владение Богемией, он женился на наследнице Виттельбахской и обращался с ней очень жестоко.
Де Линь вспоминал, что Иосиф «не имел ни капли чувства юмора и не читал ничего, кроме официальных бумаг». На себя он смотрел как на совершенство рационального достоинства, а на других — с сарказмом и пренебрежением. «Самым большим врагом этого государя, — говорила Екатерина, — был он сам».
И в этом-то человеке нуждался теперь Потемкин, чтобы осуществить свои главные свершения.[407]
24 мая 1780 года императрица въехала в Могилев через триумфальную арку; ей предшествовал эскадрон кирасир — зрелище кортежа произвело впечатление даже на саркастического Иосифа: «Это было великолепно —- польская шляхта верхами, гусары, кирасиры, генералы... наконец, она сама в двухместной карете, с фрейлиной девицей Энгельгардт». Под пушечный салют и колокольный звон Екатерина, вместе с Потемкиным и фельдмаршалом Румянцевым-Задунайским, отстояла молебен и направилась в дом наместника. Последовали четыре дня театральных представлений и фейерверков. Заштатный Могилев, отобранный у Польши только в 1772 году, полный поляков и евреев, превратился в город, достойный императоров. Итальянский архитектор Бригонци построил театр, где для высоких гостей пела его соотечественница Бонафина.[408]
Светлейший познакомил императора и императрицу. После обеда они стали обсуждать дела в присутствии только Потемкина и Александры Энгельгардт. Екатерина нашла, что Иосиф «очень умен, любит говорить и говорит хорошо». Она не объявляла прямо о своих видах на Константинополь и планах раздела Османской империи, но оба знали, зачем встретились. Иосиф писал матери, что «проект учреждения империи на востоке кипит у нее в голове и волнует ее душу». Иосиф поделился с Екатериной своими планами, о которых она писала Гримму, что «не осмеливается их разгласить».[409] Они должны были нравиться друг другу — и делали для этого все, что могли.
Фельдмаршал Румянцев поинтересовался, предвещают ли эти торжества союз с Австрией. Императрица ответила, что «союз сей касательно турецкой войны выгоден, и князь Потемкин то советует». Румянцев сказал, что ей стоило бы самой решать такие вопросы. «Один ум хорош, — парировала Екатерина, — а два лучше».[410]
Иосиф, подобно другим бездарным военачальникам (как тут не вспомнить Петра III и цесаревича Павла) любил военные смотры и парады и хотел в полной мере насладиться ими во время визита в Россию. Потемкин вежливо сопровождал его, показывая русские полки, но находил его непоседливость утомительной. Однажды ему самому пришлось командовать маневрами кавалерии. Для наблюдения за этими маневрами Иосиф и Екатерина заняли места в специальном шатре, а прочие зрители смотрели, сидя верхами. Послышался далекий гул и появились несколько тысяч всадников во главе с князем Потемкиным. Он поднял саблю, чтобы скомандовать «в атаку», но его конь, не выдержав тяжелой ноши, вдруг присел на задние ноги и взвился на дыбы. Потемкин едва удержался в седле. Находясь на расстоянии лье от зрителей, полк перешел в галоп и остановился у самого императорского шатра в строгом порядке. «Я никогда не видел ничего подобного», — восхищался Иосиф.[411]
30 мая Екатерина II Иосиф оставили Могилев и в одной карете выехали в Смоленск, где на время расстались. Иосиф со свитой всего из пяти человек в сопровождении Потемкина отправился осматривать Москву, а Екатерина вернулась в Петербург. Легенда гласит, что Потемкин пригласил Екатерину посетить Чижево, где принял ее вместе со своим племянником Василием Энгельгардтом, теперь владельцем имения.
Иосиф не понимал Потемкина. «Князь Потемкин желает ехать в Москву, чтобы все мне показать, — сообщал он матери. — Его кредит неизменно высок. Ее величество даже раз назвала его за столом своим верным учеником [...] Но пока он не сказал ничего примечательного. Надеюсь, он покажет себя во время поездки». Однако императора снова ждало разочарование. Князь ничем себя не показал и вообще провел с Иосифом слишком мало времени. К моменту отъезда из Москвы император негодовал: Потемкин «позволил себе отдыхать. В Москве я виделся с ним всего трижды и он ни разу не поговорил со мной о делах». Этот человек, заключал он, «слишком ленив и беззаботен, чтобы приводить что-нибудь в движение».[412]
18 июня Иосиф и Потемкин прибыли в Петербург. В Царском Селе Потемкин приготовил для графа Фалькенштейна сюрприз. Он приказал английскому садовнику Екатерины, с символичной фамилией Буш{61} соорудить для императора, любителя постоялых дворов, таверну. Впоследствии садовник с гордостью рассказывал, как он вешал над входом в павильон вывеску с надписью «Доспехи графа Фалькенштейна». На груди у садовника красовалась табличка «Хозяин таверны». Иосиф отужинал в «Доспехах графа Фалькенштейна» вареной говядиной, супом, ветчиной и «вкусными, но простыми русскими блюдами».[413]
Тем временем и русские министры и иностранные дипломаты были как на иголках, чувствуя приближение глобальных перемен. Хотя, несмотря на взаимные комплименты, Екатерина II Иосиф ни о чем конкретном пока не договорились, сам факт визита императора в Россию произвел сильное впечатление и в Европе и при петербургском дворе. Граф Никита Иванович Панин и его воспитанник великий князь Павел Петрович, сторонники союза с Пруссией, пришли в отчаяние. Сам же Фридрих, чтобы уравновесить успех Иосифа, решил отправить в Петербург с визитом своего племянника и наследника, Фридриха Вильгельма.
26 августа Потемкин и Панин вместе приветствовали прусского принца, однако от его приезда в Петербург Пруссия не выиграла ничего. Екатерина отнеслась к нему равнодушно, назвав «неповоротливым, неразговорчивым и неуклюжим толстяком Гу». Фридрих Вильгельм скоро надоел всей столице, за исключением великого князя Павла, который был рад любому представителю обожаемой им державы.
Французский поверенный в делах Корберон и прусский посланник Герц, принимая желаемое за действительное, убеждали себя и своих королей в том, что визит Иосифа ничем не грозит. Корберон, однако, посетил обед, на котором присутствовали супруги Кобенцли и только что прибывший граф де Линь с сыном. Корберон нашел, что «гранд-сеньор Фландрский» всего лишь «старая развалина» — и сильно его недооценил.[414]
Принц Шарль-Жозеф де Линь приехал в Петербург специально по поручению Иосифа — это было тайное орудие Австрии против прусского визитера.
Пятидесятилетний принц де Линь был по-мальчишески живой, умный и острый на язык аристократ века Просвещения. Наследник княжества, полученного его предком в 1602 году, он женился на наследнице Лихтенштейна, но в первые же недели после женитьбы назвал свой брак абсурдным, а потом вовсе перестал его замечать. В Семилетнюю войну он командовал собственным полком и даже отличился в сражении при Колине. «Я желал бы быть хорошенькой девушкой до 30 лет, генералом [...] до 60-ти, — говорил он после войны Фридриху Великому, — а потом, до 80-ти, кардиналом». Одно обстоятельство, однако, жестоко его угнетало: он хотел, чтобы его всерьез считали генералом, но никто, от Иосифа до Потемкина, никогда не поручал ему военного командования.
Главным талантом де Линя было умение дружить. «Очарователь Европы» проживал каждый день как комедию, которая готова вылиться в эпиграмму, на каждую девушку смотрел как на возможное приключение, из которого родится поэма, и ожидал, что каждый монарх жаждет быть покоренным блеском его острот. Польстить он действительно умел. «Какой бесстыдный лицемер этот де Линь!» — возмущался один из очевидцев его светской игры. И тем не менее он был другом Иосифа II и Фридриха Великого, Руссо и Вольтера, Казановы и королевы Марии Антуанетты. Ни в ком, как в де Лине, не отразился в такой степени дух космополитизма XVIII века: «Мне нравится всюду быть иностранцем... — говорил он. — Французом в Австрии, австрийцем во Франции, французом и австрийцем в России».
Письма де Линя переписывали, а его остроты повторяли во всех гостиных Европы — впрочем, для того они и сочинялись. Прекрасный писатель, он оставил непревзойденные портреты великих людей своего времени, в том числе и Потемкина. Его «Пестрые заметки» вместе с «Историей моей жизни» Казановы — два лучших описания эпохи: де Линь находился на верхней, Казанова на нижней ступени этого общества. На балах и за карточными столами, в театрах и борделях, придорожных трактирах и королевских дворцах они встречали одних и тех же шарлатанов, герцогов, куртизанок и графинь.
Потемкина принц привел в восторг. Их дружбе предстояло то разгораться, то затухать и остаться запечатленной в многочисленных письмах де Линя, хранящихся ныне в архивах Потемкина. «Дипломатического жокея», как он сам называл себя, приглашали на все приватные собрания, где императрица играла в карты, на прогулочные поездки и обеды в Царском Селе.
Неповоротливый Фридрих Вильгельм не имел в светском общении никаких шансов против де Линя, которого Екатерина объявила «самым приятным и легким в обхождении человеком, какого она когда-либо встречала, соединяющим глубокий оригинальный ум с детской проказливостью». Как-то раз, устроив в Эрмитажном театре спектакль, бал и ужин в честь прусского принца, Екатерина исчезла с глаз публики. Присутствовавшие на приеме недоумевали, куда она могла удалиться. Оказалось, она играла в бильярд с Потемкиным и де Линем.[415] Когда Фридрих Вильгельм уехал, ничего не добившись, Екатерина II Потемкин с облегчением вздохнули. Зато де Линя русские не хотели отпускать ни за что. Как истинный джентльмен, «дипломатический жокей» немного продлил время своего визита. В октябре Потемкин показал ему один из своих полков и наконец позволил отбыть, осыпав подарками. Потемкин не переставал спрашивать у Кобенцля, когда де Линь вернется.
Именно этого и хотели австрийцы. Они расточали Потемкину комплименты; Кобенцль просил своего императора упоминать имя светлейшего в каждой «открытой» депеше.
17/28 ноября 1780 года Мария Терезия наконец освободила Иосифа от своей суровой опеки. В скорбных письмах, которыми обменивались Вена и Петербург, сквозила радость. «Император, — писал де Линь в письме к Потемкину 25 ноября, через неделю после смерти императрицы, — исполнен дружеских чувств к вам [...] Я имел истинное удовольствие убедиться, что они полностью совпадают с моими [...] Давайте мне знать время от времени, что вы меня не забыли».[416]
После того, как тело императрицы-королевы было погребено в Кайзергруфте — императорской усыпальнице в венской капуцинской церкви, — Иосиф мог начинать сближение с Россией. Потемкин подтвердил Кобенцлю серьезность своих намерений. Екатерина распорядилась, чтобы все предложения австрийцев поступали непосредственно к ней, а не в Коллегию иностранных дел — к «старому мошеннику» Панину.[417]
В это же время случилась и другая смерть — в разгар борьбы за союз с Россией между Австрией, Пруссией и Англией — в Москве умерла мать Потемкина, Дарья Васильевна. Екатерина узнала об этом по дороге из Петербурга в Царское Село; Потемкин находился в своей летней резиденции, Озерках. Екатерина настояла на том, что сообщит ему печальную новость сама, и изменила маршрут. Потемкин безутешно рыдал.[418]
Сэр Джеймс Харрис, считавший, что союз России с Австрией поможет ему добиться своих целей, не понимал, почему в Петербурге отказываются заключать союз с Англией. Когда он спрашивал об этом Потемкина, тот отшучивался, ссылаясь на «дурака и вруна фаворита» — Ланского, на слабости самой государыни и «ловкую лесть» Иосифа II, внушившего ей, что она — «величайшая из царствующих особ Европы». Эти инвективы, может быть, и отражали искреннее раздражение Потемкина, так и не нашедшего способа управлять Екатериной, но в гораздо большей степени являлись тактической уловкой. Потемкин, разумеется, дурачил Харриса.[419] Тот наконец понял, что напрасно поддерживал Потемкина в его противостоянии Панину: если последний выказывал откровенную враждебность, то первый, несмотря на свою дружелюбность, Англией как политической союзницей просто не интересовался.
Харрис просил отозвать его из Петербурга, но Лондон по-прежнему требовал от него добиться альянса. Опору для своего нового плана английский посланник нашел во время ночных разговоров с Потемкиным. Для того чтобы Россия поддержала Англию в ее войне, говорил Потемкин, та должна предложить «нечто заслуживающее внимания». В ноябре 1780 года в шифрованной депеше к виконту Стормонту Харрис пояснял: «Князь Потемкин, хотя прямо не говорит этого, ясно дал мне понять: единственное, что может убедить императрицу стать нашей союзницей, — это уступка Минорки».
Это предложение кажется странным только на первый взгляд. В 1780 году Потемкин строил Черноморский флот и планировал распространить русскую торговлю через проливы в средиземноморские порты, и порт Магон на Минорке мог бы стать для его кораблей очень выгодной базой. Планируя раздел Османской империи, Потемкин был предельно осторожен и никогда не высказывал своего предложения напрямую — шла все та же игра, которую так любил Потемкин: строить воображаемые империи, ничем не рискуя.
Мысль о создании русской военно-морской базы на Минорке не оставляла Потемкина, тем более что Англия должна была оставить там запасов снаряжения и продовольствия на 2 миллиона фунтов стерлингов. Он ежедневно переговаривался с Харрисом и договорился о его аудиенции у императрицы 19 декабря 1780 года. Перед назначенным визитом он сам беседовал с государыней два часа и вышел «с самым удовлетворенным видом». Это был апогей их дружбы с Харрисом. «Однажды, поздно вечером, когда мы сидели с ним вдвоем, он вдруг принялся описывать, какие преимущества вынесла бы Россия из этого проекта [...] Он уже представлял себе, как русский флот стоит в Минорке, греки заселяют остров и он сам становится столпом славы императрицы посреди моря».[420]
Екатерина оценила выгоды возможного приобретения, но сказала Потемкину: «невеста слишком хороша, тут не без подвоха». Похоже, разговаривая с ним, она не умела сопротивляться силе его обаяния и убеждения, но, как только оставалась одна, трезвость мысли тут же к ней возвращалась: российский черноморский флот еще не был построен. Она отказала Харрису и скоро убедилась в своей правоте — через некоторое время Англия потеряла Минорку.
Потемкин ворчал, что Екатерина «подозрительна, нерешительна и недальновидна», но снова наполовину лукавил. Харрис все еще хотел верить, что светлейший благоволит Англии: «Обедал в среду в Царском Селе с князем Потемкиным [...] Он так рассудительно и благосклонно говорил об интересах двух наших дворов, что я более чем когда-либо сожалел о его частых приступах лени и рассеянности». Он все еще не понимал, что главный интерес Потемкина лежит не на западе, а на юге.
Тем временем Иосиф и Екатерина договорились об условиях оборонительного трактата, включавшего секретную статью о Высокой Порте, но тут великое предприятие Потемкина натолкнулось на препятствие, которое сегодня кажется смешным. Речь шла о так называемом «альтернативе» — дипломатической традиции, согласно которой монарх, поставивший свою подпись первой на одном экземпляре договора, ставил ее второй на другом. Император Священной Римской империи, по титулу старший из европейских монархов, всегда подписывался первым на обоих экземплярах. Покорение Востока наткнулось на протокольную неувязку: Екатерина отказывалась признать, что Россия ниже Рима, а Иосиф не желал принизить достоинство цесаря.
Это был один из тех кризисов, когда особенно ярко становилась видна разница в характерах Екатерины и Потемкина: она упрямилась, он умолял ее проявить гибкость и подписать договор. Потемкин носился между императрицей и Кобенцлем. В конце концов она приказала передать австрийскому послу, «чтобы он отстал от подобной пустоши, которая неминуемо дело остановит». Выход из дипломатического тупика нашла сама Екатерина, предложив через Потемкина Иосифу обменяться, вместо договора письмами, оговаривавшими все пункты соглашения.[421]
Едва не пережив крах главного проекта своей жизни, Потемкин заболел. Екатерина отправилась к нему и провела в его апартаментах весь вечер, «с 8 часов до полуночи». Мир был восстановлен.
10 мая 1781 года, в самый разгар споров по поводу австрийского трактата, Потемкин отправил графа Марка Войновича, выходца из Далмации, на персидский берег Каспийского моря.
Этот план он вынашивал целый год, параллельно ведя переговоры с Австрией. 11 января 1780 года, за десять дней до того, как Иосиф предложил встретиться с Екатериной в Могилеве, светлейший приказал генералу Суворову, самому способному из своих военачальников, собрать в Астрахани боеспособный корпус. Кораблям, строившимся с 1778 года на Волге, в Казани, он приказал двигаться на юг. Заключение союза с Австрией могло потребовать еще несколько лет, а тем временем Россия, оставив в покое Османов, прозондировала бы почву в Персии.
Персидская империя в те годы охватывала южный берег Каспийского моря, включая Баку и Дербент, всю территорию сегодняшнего Азербайджана, большую часть Армении и половину Грузии. Потемкин мыслил освободить православных армян и грузин, так же как греков, валахов и молдаван, и присоединить их земли к Российской империи. Потемкин был одним из немногих русских политиков своего времени, понимавших значение торговли: он знал, что факторию на восточном берегу Каспия будут отделять всего «30 дней перехода от Персидского залива и 5 недель — от Индии, через Кандагар». О том, что параллельно с греческим проектом Потемкин обдумывал персидский, мы знаем из его разговоров с его английскими друзьями. Французы и англичане следили за персидскими планами светлейшего с напряженным вниманием; даже спустя шесть лет французский посол будет стараться раскрыть их содержание.
В феврале 1780 года заболел Александр Ланской, и Потемкин приказал отложить выступление. После визита Иосифа и подтверждения проекта раздела Османской империи было бы глупо распылять силы. Потемкин изменил план. В начале 1781 года он отменил вторжение в Персию, а вместо этого убедил Екатерину послать ограниченную экспедицию под командованием 30-летнего Войновича, которого одни называли далматинским «пиратом», а другие «итальянским шпионом венских министров». В Первой русско-турецкой войне Войнович служил Екатерине и однажды даже занял со своим корпусом Бейрут, сегодняшнюю столицу Ливана.
29 июня 1781 года экспедиция, состоявшая всего из трех фрегатов и нескольких транспортных судов, вышла в воды Каспийского моря, чтобы устроить торговый пост в Персии и заложить основы центральноазиатской политики Екатерины. В персидской администрации царил беспорядок. Владетель Ашхабадской провинции Ага-Мохаммед-хан заигрывал со всеми потенциальными союзниками. Этот правитель, кастрированный в детстве врагами своего отца, надеялся сам стать шахом. Он приветствовал идею создания русской фактории на восточном берегу Каспия, которая, возможно, помогла бы его войску.
В состав экспедиции, насчитывавшей всего 600 человек, входили только 50 солдат-пехотинцев и уважаемый Потемкиным ботаник, немецкий еврей Карл-Людвиг Таблиц, которому, по всей видимости, принадлежит хранящийся в архиве французского Министерства иностранных дел отчет об этом предприятии. Войнович был самый неподходящий кандидат на такую сложную роль, но и без того экспедиция была слишком мала и не могла рассчитывать ни на чью помощь: возможно, результат одного из многочисленных компромиссов между пылкими фантазиями Потемкина и осторожностью Екатерины.
Князь приказывал Войновичу действовать «только убеждением», но по прибытии тот «стал делать прямо противоположное». Обнаружив на восточном берегу Каспия Ага-Мохаммеда и его армию, Войнович доказал, что он «такой же плохой царедворец, как политик». Персидский князь желал образования русской фактории и даже предлагал послать в Петербург своего племянника, но вместо этого Войнович учредил форт, как будто 600 человек с 20 пушками могли противостоять персидской армии. Салютуя персам пушечным огнем, он переполошил и без того подозрительных местных воевод, до которых дошел слух, что по Дагестану идет Суворов с 60 тысячами человек. Эту дезинформацию, возможно, забросили в Персию англичане. Ага-Мохаммед решил, что надо избавиться от сомнительных гостей.
Правитель местечка, где высадилась экспедиция, пригласил Войновича и Таблица на обед. Как только они переступили порог, ДОМ окружили 600 персидских солдат. Эмиссарам предложили либо сложить головы, либо немедленно убираться восвояси. У них хватало благоразумия выбрать последнее: позднее Ага-Мохаммед прославился своей жестокостью, ослепив все мужское население 20-Тысячного города, оказавшего ему сопротивление.
Флотилия бесславно вернулась домой. Только на Потемкине лежит вина за это опрометчивое предприятие, которое могло кончиться катастрофой, но таков был византийский стиль его правления: на случай провала венского плана требовалась альтернатива. До завоевания Россией Центральной Азии оставалось еще сто лет.[422]
Иосиф согласился на обмен письмами. 18 мая 1781 года Екатерина подписала секретное письмо «своему дорогому брату», и Иосиф ответил ей тем же. Она обещала Австрии поддержку против Пруссии; но, что было важнее всего для Потемкина, Иосиф обещал помогать России в случае нападения турок. Таким образом, Австрия брала на себя функции гаранта русско-турецких мирных трактатов. Эта переориентация русского внешнеполитического курса была личным триумфом Потемкина. «Система с Венским двором, — писала ему Екатерина, — есть Ваша работа».[423]
Екатерина II Потемкин снова принялись дурачить международное сообщество. Французы, пруссаки и англичане опять разбрасывали взятки, выясняя, что происходит. Харрис подозрительно отмечал, что его «друг» пребывает «в приподнятом состоянии духа», но «избегает политических тем». Кобенцль, конечно, все знавший, с удовольствием доносил своему императору: «Дело по-прежнему остается тайной для всех, кроме князя Потемкина и Безбородко».[424] Очень скоро Иосифу предстояло убедиться, что Екатерина всегда добивается того, чего хочет. Несмотря на приоритет греческого проекта, она не оставила трактата о вооруженном нейтралитете и убедила подписать его и Австрию, и Пруссию. «Чего хочет женщина, того хочет Бог, — размышлял Иосиф, — и, оказавшись в их руках, всегда заходишь дальше, чем предполагал». Екатерина II Потемкин торжествовали.
Только через месяц, 26 июня, Харрис впервые получил смутные сведения о трактате, заплатив 1600 фунтов секретарю Безбородко, но, несмотря на это, удивительным образом, тайна сохранялась еще почти два года.[425]
Главными противниками союза с Австрией оставались великий князь Павел и граф Никита Панин. Последний удалился в свое смоленское имение, но в июле 1781 года, когда Екатерина пригласила английского врача барона Димсдейла, чтобы привить оспу великим князьям Александру и Константину, он вернулся в Петербург, чтобы проследить за этой процедурой. «Если он думает, что вернется на пост первого министра, — заявила Екатерина, — он ошибается. При моем дворе он может отныне быть только сиделкой».[426] Но как защитить новый политический курс от наследника престола — великого князя? Екатерина II Потемкин не могли не обсуждать между собой этого вопроса. Почему бы не отправить его путешествовать по Европе, сделав главным пунктом европейского вояжа Вену?
16. ДВЕ СВАДЬБЫ И КОРОНА ДАКИИ
Или средь рощицы прекрасной В беседке, где фонтан шумит, При звоне арфы сладкогласной, Где ветерок едва дышит ......................................... На бархатном диване лежа Младой девицы чувства нежа Вливаю в сердце ей любовь. Г.Р. Державин. К ФелицеЧтобы не вызвать у Павла Петровича подозрений о том, что идея заграничного вояжа исходит от ненавистного ему Потемкина, Екатерина убедила князя Репнина, племянника Никиты Панина, предложить великому князю эту идею от своего лица. Хитрость удалась, и Павел попросил императрицу отпустить его в путешествие вместе с женой. Екатерина согласилась, сделав вид, что отпускает его неохотно, — впрочем, она действительно волновалась, не зная, как поведет себя за границей ее неуравновешенный сын. «Я осмеливаюсь просить ваше императорское величество о снисхождении [...] к неопытной молодости», — писала она Иосифу.[427] Император выслал приглашение. Павел и Мария Федоровна были в восторге. Они стали приветливы даже с Потемкиным, который, в свою очередь, принялся расхваливать цесаревича всем и каждому.
Однако из маршрута путешествия был исключен Берлин — столица Пруссии. Когда об этом стало известно Панину, тот подтвердил Павлу его опасения о том, что путешествие замыслено ему во вред, и стал намекать, что Павла во время его отсутствия могут отстранить от престолонаследия, что могут отобрать у него детей, могут даже убить. Все помнили, чем кончилась поездка в Вену для сына Петра I — царевича Алексея. Павел впал в истерику.
13 сентября 1781 года великие князь и княгиня объявили, что в путешествие не поедут, мотивируя это тем, что боятся оставить детей, которым недавно сделали прививку оспы. Чтобы успокоить их, Екатерина пригласила докторов Роджерсона и Димсдейла. Двор бурлил три дня. Дипломаты прикидывали, насколько отказ наследника подчиниться императрице вредит сближению с Австрией. Потемкин был так «озадачен и даже подавлен», что почти решился отпустить Павла к хитрому берлинскому лису — Фридриху. Но, по словам вездесущего Харриса, именно благодаря его усилиям вопрос о поездке был решен: Харрис, все еще веривший, что союз России с Австрией даст Англии новую надежду, посетил Потемкина и напомнил ему, как опасно впадать в уныние. Светлейший, по своему обыкновению, ходил взад-вперед по комнате, а потом внезапно кинулся к императрице. Екатерина была, конечно, не Петр Великий, но отказ Павла повиноваться ее повелениям мог повлечь за собой самые серьезные последствия: Павел должен был ехать во что бы то ни стало. Через час все было решено.
Отъезд представлял собой маленькую трагедию. 19 сентября наследник и его жена, отправлявшиеся инкогнито под именем графа и графини Северных, поцеловали своих сыновей. Великая княгиня упала в обморок, и в карету ее отнесли без чувств. Великий князь последовал за женой с выражением ужаса на лице. Императрица, Потемкин, Орлов и Панин попрощались с ним. Садясь в карету, он что-то шепнул Панину.
Наследник опустил шторы на окнах и велел трогать. На следующее утро Панин получил отставку.[428]
Одерживая свои дипломатические победы, светлейший готовил между тем свадьбы своих племянниц — Александры и Екатерины Энгельгардт. 10 ноября 1781 года Катенька — «Венера», в которую в разное время была влюблена половина двора, включая сына Екатерины Бобринского, — обвенчалась в придворной церкви с графом Павлом Мартыновичем Скавронским. Слабый здоровьем, но богатый потомок ливонца, шурина Петра I, Скавронский был большой оригинал. Воспитанный в Италии, которую считал своей родиной, он устраивал Потемкина своим мягким характером. Страстный меломан, он прославился тем, что запрещал слугам обращаться к себе иначе как речитативом, а гости его общались с ним и друг с другом вокальными импровизациями. Императрица сомневалась в его способности понравиться женщине, находя его «глуповатым и неловким». Потемкин не соглашался; и слабость, и богатство Скавронского вполне ему подходили.[429]
Через два дня состоялась свадьба Александры Энгельгардт — она вышла замуж за польского союзника своего дяди, великого коронного гетмана, 49-летнего Ксаверия Браницкого. Добродушный, но амбициозный, Браницкий сделал карьеру благодаря дружбе с королем Станиславом Августом Понятовским. Казанова, оскорбивший в Варшаве его любовницу, итальянскую актрису Би-негги, дрался с ним на дуэли. Оба были ранены, но стали друзьями. Фигуру Браницкого хорошо обрисовал французский посланник в Петербурге граф Сегюр — когда он проезжал через Варшаву, Браницкий встретил его в традиционном польском костюме — в красных сапогах, коричневой блузе, меховой шапке и с саблей на боку — и со словами: «Вот вам двое хороших спутников», — вручил два украшенных драгоценными камнями пистолета.
Поссорившись с королем, Браницкий начал искать поддержки в России. В 1775 году он познакомился в Петербурге с Потемкиным и скоро стал его опорой в Польше. 27 марта этого года он писал «своему дорогому генералу», что «Польша выбрала его», чтобы сообщить о получении князем польского дворянства. Женитьба Браницкого на племяннице светлейшего еще более упрочивала союз последнего с Польшей.[430]
Утром невесту отвели в покои императрицы, где та «собственноручно украсила ее своими драгоценностями». У нас есть описание похожей свадьбы — одной из фрейлин императрицы, дочери Льва Нарышкина: «Платье невесты было наподобие итальянского пеньюара из серебряной парчи, с длинными рукавами [...] и широким кринолином». Невеста обедала с императрицей. В церкви она стояла на «полотнище из зеленого шелка, вышитом золотом и серебром». Когда жених и невеста обменялись кольцами, священник «взял шелковую ленту длиной два или три ярда и обвязал их руки». После венчания был праздничный обед, а затем невеста вернула драгоценности императрице и получила 5 тысяч рублей{62}.[431]
Екатерина Скавронская, как мы будем теперь ее называть, вероятно, еще долго оставалась любовницей Потемкина, несмотря на замужество. «Между нею и ее дядей все по-старому, — доносил Кобенцль Иосифу II. — Муж очень ревнует, но не имеет смелости этому воспрепятствовать». И через несколько лет после свадьбы Скавронская была «хороша, как никогда», и по-прежнему оставалась «любимой султаншей своего дяди».
В 1784 году Потемкин устроил назначение Скавронского на место посла в Неаполь, в страну обожаемых им маэстро. Екатерина, однако, не сразу отправилась в Италию вместе с супругом, и тому приходилось наслаждаться итальянской оперой одному, а Потемкин тем временем мог наслаждаться обществом своей смиренной родственницы в Петербурге. В конце концов Екатерине все же пришлось уехать, впрочем, не надолго.
Письма ее мужа светлейшему — шедевры подобострастия. Выражая свою благодарность и вечную преданность, Скавронский умолял князя помочь ему избежать дипломатических ошибок. Должно быть, Потемкин усмехался, читая эти эпистолы, хотя ему нравились статуи, которые Скавронский присылал ему из Италии. Павел Мартынович никогда не забывал сообщить князю, что его жена жаждет вернуться в Россию и увидеться с ним. Возможно, это было правдой: «ангел» скучала по родине, но не флиртовать она не могла. Она сделалась первой кокеткой Неаполя — немало для города, в котором вскоре заблистала Эмма, леди Гамильтон. Но когда успехи Потемкина обратили на него внимание всей Европы, Катенька поспешила вернуться, чтобы разделить его славу.[432]
Графиня Александра Браницкая тем временем отправилась с мужем в Польшу, но по-прежнему оставалась конфиденткой Потемкина и императрицы. В то время как ее муж делал все, чтобы промотать их состояние, она многократно его увеличивала. Она жила в своих польских и белорусских поместьях, но часто приезжала в Петербург. Ее письма к дяде дышат искренним чувством. «Батюшка, жизнь моя, мне так грустно, что я далеко от вас [..,] Прошу об одной милости — не забывайте меня, любите меня всегда, никто не любит вас как я. Господи, как я буду счастлива вас увидеть». Ее уважали и считали «примером верности супругу», что немало для той эпохи и для женщины, состоящей замужем за старым ловеласом. У них была большая семья. Возможно, она действительно полюбила грубоватого Браницкого.[433]
Великий князь выехал из Царского Села, смертельно ненавидя Потемкина. Последний же стремился сохранять баланс соперничающих придворных партий и иностранных дипломатов. По словам английского посланника, в ноябре 1781 года он собирался вернуть часть полномочий Панину. Может быть, он хотел тем самым уравновесить возвышающегося Безбородко. Но стоит заметить, что одним из его лучших качеств, редких даже в политиках-демократах, было отсутствие мстительности, и, возможно, он просто хотел смягчить опалу Панина. Как бы то ни было, триумф Потемкина сломил бывшего министра: в октябре Панин серьезно заболел.
Цесаревич, прибыв в Вену, жестоко разочаровал пригласившую его сторону, особенно после того, как Иосиф открыл ему союз с Россией. Как писал Иосиф своему брату, «слабость и малодушие великого князя» не позволят ему стать хорошим правителем. Павел провел в австрийской столице полтора месяца, рассказывая Иосифу о своей ненависти к Потемкину. Прибыв в итальянские владения Габсбургов, он донимал брата Иосифа, герцога Тосканского, гневными тирадами против двора своей матери, и рассказывал ему о греческом проекте и альянсе России с Австрией, о «бессмысленных» планах Екатерины «возвыситься за счет турок и возродить Константинопольскую империю». По словам Павла, Австрия подкупила ренегата Потемкина, и когда он, Павел, взойдет на трон, то немедленно посадит его за решетку.[434]
За перепиской Павла и всех членов его свиты следили. Потемкин попросил через Кобенцля сообщать ему осуществляемые австрийским «черным кабинетом» перлюстрации почты Павла. Но не дремала и русская тайная полиция: в апреле 1782 года было перехвачено и перлюстрировано письмо флигель-адъютанта императрицы бригадира Павла Бибикова к Александру Куракину из Петербурга в Париж. Бибиков писал о том, что «кругом нас совершаются дурные дела [...] отечество страдает», «кривой» (Потемкин) делает ему «каверзы и неприятности» по службе, и изъявлял надежду на то, что сможет послужить когда-нибудь великому князю Павлу Петровичу не только словом, но и делом.
Бибикова немедленно арестовали. Императрица собственноручно составила вопросы, по которым его допрашивали. Бибиков оправдывался своей обидой на то, что его полк расквартировали на далеком юге. Екатерина послала протокол допроса Потемкину и распорядилась передать следствие в Тайную экспедицию Сената, где Бибикова нашли достойным казни за поношение властей и чести генерала князя Потемкина.
Потемкин просил Екатерину помиловать несчастного: «Естьли добродетель и производит завистников, то что сие в сравнении тех благ, которыми она услаждает своих исполнителей [...] Вы уже помиловали, верно. Он потщится, исправя развращенные свои склонности, учинить себя достойным Вашего Величества подданным, а я и сию милость причту ко многим на меня излияниям». Бибиков плакал перед следователями, говорил, что боится мести Потемкина, и предлагал принести светлейшему публичные извинения.
«Моего мщения напрасно он страшится, — писал Потемкин Екатерине, — ибо между способностьми, которые мне Бог дал, сей склонности меня вовсе лишил.»[435]
Бибикова отправили служить в Астрахань, Куракин по возвращении из путешествия вынужден был жить в собственном имении, а Павел Петрович после этой истории оказался в еще большей изоляции, чем до путешествия.
Союз с Австрией скоро пришлось проверить на деле — в Крыму, последнем оплоте татар и ключевой точке потемкинской экспансионистской политики. В мае 1782 года князь отправился в Москву, чтобы осмотреть свои поместья. Когда он находился в пути, турки инспирировали в Крыму восстание против хана Шагин-Гирея, который снова бежал с полуострова. В ханстве опять воцарилась анархия.
Императрица послала к Потемкину курьера. «Мой дорогой друг, возвращайтесь как можно скорее», — писала она 3 июня 1782 года. Она сообщала также новость о победе английского флота под командованием адмирала Родни над французским в битве при острове Святых в Карибском море 1(12) апреля, которая несколько улучшила положение Англии, потерявшей свои американские колонии. Екатерина понимала, что ее крымская политика поддержки Шагин-Гирея устарела, но деликатный вопрос «что делать?» зависел от позиции европейских держав — и от Потемкина. «Все сие мы б с тобою в полчаса положили на меры, — писала она своему супругу, — а теперь не знаю, где тебя найти. Всячески тебя прошу поспешить своим приездом, ибо ничего так не опасаюсь, как что-нибудь проронить или оплошать».[436]
В крымском мятеже князь увидел исторический момент: Англия и Франция были заняты войной, им было не до Крыма. Он немедленно прискакал в Петербург. Решено было снова восстановить Шагин-Гирея во главе Крымского ханства, а в случае, если это повлечет за собой войну с Портой, прибегнуть к обещанной помощи Австрии. Иосиф с такой готовностью откликнулся на призыв «его императрицы, его друга, его союзника, его героини», что, пока Потемкин организовывал военную кампанию для преодоления крымского кризиса, Екатерина превратила греческий проект из потемкинской химеры в факт реальной политики. 10 сентября 1782 года она предложила Иосифу проект: в первую очередь она желала восстановить «древнюю греческую монархию на руинах [...] теперешнего варварского правительства», для своего младшего внука, великого князя Константина. Затем она хотела образовать королевство Дакию — так называлась некогда римская провинция, занимавшая территорию сегодняшней Румынии. Это должно было быть «государство, независимое от трех монархий [...] под властью христианского государя [...] которому смогут доверять оба императорских двора.» Дакия предназначалась Потемкину.
Ответ Иосифа был не менее решителен: он в принципе одобрял проект, а взамен хотел получить крепость Хотин, часть Валахии и Белград Днестровский. Венеция должна была уступить ему Истрию и Далмацию в обмен на Морею, Кипр и Крит. Все это, добавлял он, невозможно без французской помощи, и спрашивал, может ли Франция рассчитывать на Египет.[437]
Верил ли сам Потемкин, что Византийская империя возродится под скипетром Константина, а сам он станет королем Дакии? Повторим, что он всегда был гением возможного: в середине XIX века действительно было создано румынское государство, так что эти планы вовсе нельзя считать беспочвенными.
В 1785 году, обсуждая турецкую проблему с французским послом Сегюром, он утверждал, что мог бы занять Стамбул, но новая Византия — «химера», «бессмыслица». Однако затем лукаво заявлял, что три из четырех великих держав могли бы отодвинуть турок в Азию и освободить Египет, Архипелаг, Грецию и Балканы от оттоманского ига. Однажды светлейший спросил у своего секретаря, читавшего ему Плутарха, может ли он, Потемкин, занять Константинополь. Секретарь тактично ответил, что это вполне вероятно. «Этого довольно! — воскликнул Потемкин. — Если бы кто-нибудь мог сказать мне, что это не для меня, мне следовало бы застрелиться».[438]
Потемкин приказал своему племяннику, генерал-майору Самойлову, начать подготовку к восстановлению порядка в Крыму, но главную операцию решил возглавить лично. Отъезд светлейшего на юг стал финалом петербургского периода его партнерства с Екатериной. Императрица поняла, что отныне они будут так же много времени проводить в разлуке, как раньше проводили вместе.
1 сентября 1782 года князь оставил столицу и отправился усмирять крымских татар.
17. ПОТЕМКИНСКИЙ РАЙ
То плен от персов похищаю, То стрелы к туркам обращаю... Г.Р. Державин. ФелицаКрым был не только ослепительно красив; он представлял собой скрещение торговых путей, сменявшиеся хозяева которого держали под контролем Черное море. Древние греки, готы, гунны, византийцы, хазары, евреи-караимы, грузины, армяне, генуэзцы и явившиеся позднее татары были здесь только торговыми гостями на земле, не принадлежавшей в конце концов ни одной нации.
Крымская династия Гиреев вела свою родословную от Чингисхана, превосходя знатностью род Османов. Если бы род Османов вдруг пресекся, подразумевалось, что им наследуют чингизиды Гиреи, всегда считавшиеся скорее их союзниками, чем подданными.
Ханство было основано в 1441 году, когда Газы-Гйрей отложился от Золотой орды и провозгласил себя ханом Крыма и черноморского побережья. Его преемник Менгли-Шрей признал верховную власть турецкого султана, и с этого времени государства поддерживали напряженные, но уважительные союзнические отношения. Татары охраняли Черное море, защищали северные границы Турции и поставляли славянских рабов на константинопольские невольничьи рынки и галеры. Их армии числом от 50 до 100 тысяч всадников держали под контролем восточные степи и вторгались в Московию каждый раз, когда требовались новые рабы. Вооружение татар составляли мушкеты, пистолеты, луки со стрелами и круглые щиты. Гиреи считали, что выше их нет никого. «Крымский трон озарил своим сиянием весь мир», — велел написать один из них на стене Бахчисарайского дворца, где татарские правители восседали в своем серале под охраной 2100 секванов, константинопольских янычар.
Триста лет ханство являлось одним из сильнейших государств в Восточной Европе, а татарская конница — лучшей. В XVI веке, в период своего расцвета, татары владели территорией от Трансильвании и Польши до Астрахани и Казани: их границы с русскими землями проходили на полпути от Крыма к Москве.[439] Ханы получали престол не по наследству, а выбирались. Ниже ханов стояли мурзы — главы династий, также происходящих от монголов, которые и выбирали одного из Гиреев ханом, а другого, не обязательно его сына — наследником, калгай-ханом. Значительную часть подданных Бахчисарая составляли кочевники-ногайцы.
В 1768 году, когда Порта объявила войну России, хан Кирим-Гирей выступил из Крыма во главе 100-тысячной армии, чтобы атаковать русских на бессарабско-польской границе, где служил тогда Потемкин. Там Кирим-Гирей умер (возможно, был отравлен), и татары задержались в Бессарабии, чтобы провозгласить нового хана, Девлет-Гирея. Сопровождавший татарское войско французский советник Османов барон де Тотт стал одним из последних свидетелей первобытного величия монархии чингизидов: «Одетый в плащ с брильянтами и плюмажем, с луком и колчаном, предшествуемый стражей, ведшей под уздцы лошадей с султанами на головах, и сопровождаемый знаменем Пророка и всем своим двором, он вошел во дворец, где воссел на трон в зале Дивана и стал принимать почести от своих вельмож». Выступая на войну, хан, как и его потомки, останавливался в шатре, «обитом изнутри пурпурным сукном».[440]
Русско-турецкая война 1768-1774 годов стала катастрофой для ханства. Девлет-Гирей погиб, и его место занял менее талантливый воин. Татарская армия осталась вместе с турками на Дунае, и в 1771 году русская армия под командованием Василия Долгорукова без труда заняла Крым. Пугачевский бунт и дипломатические интриги не позволили России сохранить все, что она завоевала в ходе этой войны, но Екатерина II Потемкин настояли, чтобы Кючук-Кайнарджийский трактат 1774 года включал пункт о независимости татар от султана, за которым оставалась только роль калифа, духовного лидера. «Независимость» стала шагом к падению.
У трагедии Крыма было имя и лицо. Шагин-Гирей, калгай-хан, или, как называла его Екатерина, татарский дофин, получил образование в Венеции. В 1771 году он приезжал в Петербург во главе крымской делегации. «Нежная натура, — писала она Вольтеру, — он пишет арабские стихи [...] Когда ему разрешат смотреть на танцующих дев, он присоединится к моим воскресным собраниям».[441] Русский двор произвел на Шагин-Гирея огромное впечатление.
В апреле 1777 года он был избран на ханский трон. Знакомство с западной культурой не долго скрывало его неспособность к политике, некомпетентность в военных делах и природную жестокость. Просвещенный деспот-мусульманин, он опирался на наемную армию во главе с польским шляхтичем.
Русские тем временем поселили в Еникале на Азовском море 1200 греков, примкнувших в Архипелаге к армии Алексея Орлова. Эти, как их называли, «албанцы» скоро поссорились с татарами. Османы выслали флотилию с одним из бывших татарских ханов, чтобы сместить русского ставленника с бахчисарайского престола. В Крыму начался мятеж, и Шагин-Гирей бежал. В феврале 1778 года Потемкин приказал готовить военную операцию, а турки объявили Шагина неверным за то, что он «спит на кровати, сидит на стульях и не молится, как подобает мусульманину».[442] Восстановленный на престоле Шагин-Гирей, вообразивший себя, по словам Потемкина, крымским Петром Великим, зверски расправился со своими врагами.
Торговля Крыма держалась на православных — греческих, грузинских и армянских купцах. Татары, раздраженные «албанцами», подстрекаемые муллами и провоцируемые польскими сторонниками хана, стали преследовать православных. В 1779 году Россия организовала выход с полуострова 31 098 человек. Православные были рады найти прибежище в единоверном государстве, тем более что им обещали экономические привилегии. Однако жилье для них не подготовили, и многие умерли в пути, но все же Потемкину удалось поселить большую их часть в Таганроге и недавно основанном Мариуполе.
Шагин-Гирею, оставшемуся без торговли и сельского хозяйства, оставалось уповать на милость России. Летом 1782 года в Крыму начался новый бунт. Шагин-Гйрей снова бежал, умоляя русских о помощи, а ханом избрали одного из его братьев, Батыр-Гирея.
Потемкин прискакал на Черное море с Балтийского всего за шестнадцать дней — скорость, с какой обычно ездили только курьеры. 16 сентября 1782 года он въехал в свой новый город, Херсон, 22 сентября в Петровске (теперешнем Бердянске) встретился с Шагин-Гиреем, чтобы обсудить план русской интервенции, а затем отдал приказ генералу де Бальмену о вступлении в Крым. Русский корпус подавил мятеж, убив около 400 человек, занял Бахчисарай, и Шагин-Гирей снова воцарился в своей столице под охраной русских солдат. К 30 сентября, дню именин Потемкина, которые он обыкновенно отмечал с Екатериной в ее апартаментах, заботливая императрица послала ему подарок — несессер и дорожный столовый прибор: «Заехал ты, мой друг, в глушь для своих имянин».[443]
В середине октября спокойствие в Крыму было частично восстановлено, и Потемкин вернулся в Херсон. Отныне и до конца жизни он будет проводить очень много времени в этих краях. Екатерина тосковала по нему, но, как она писала, «хотя не люблю, когда ты не у меня возле бока, барин мой дорогой, но признаться я должна, что четырехнедельное пребывание твое в Херсоне, конечно, важную пользу в себе заключает». Он торопил строительство Херсона и ездил осматривать работы в Кинбурнской крепости напротив Очакова. «Как сему городишке нос подымать противу молодого Херсонского Колосса!» — восклицала Екатерина.[444] Они гадали, объявит ли Порта войну. К счастью, оказалось, что объединенные силы России и Австрии нагоняют на турок должный страх. Колосс поспешил обратно в Петербург, чтобы убедить Екатерину присоединить Крымское ханство к России.
Когда в конце октября 1782 года Потемкин вернулся в Петербург, все заметили в нем решительную перемену. «Теперь он рано встает, занят делами, любезен со всеми», — докладывал Харрис новому британскому министру иностранных дел Грэнтаму.[445]
Он начал продавать свои дома и поместья, собрал «тьму наличных денег» и даже уплатил свои многочисленные долги. Казалось, и Господь Бог решил вернуть долги Потемкину: 31 марта 1783 года умер граф Никита Панин, а еще через две недели — князь Григорий Орлов. «Как же они удивятся, встретившись на том свете», — сказала Екатерина.[446] Никита Панин скончался от удара, Григорий Орлов — в мрачном умопомешательстве, приключившемся с ним после того, как в 1781 году умерла его молодая жена. Оба, хотя и признавали таланты Потемкина, всегда противостояли ему и люто соперничали друг с другом.
А Потемкин готовился к делу всей своей жизни. Идеи сыпались из него, как искры из вензеля императрицы во время фейерверка. Он решил добиться от нее окончательного решения крымской проблемы. Историки описывают Екатерину как упрямого стратега, а Потемкина — как осторожного тактика, но в разных ситуациях они вели себя по-разному. В данном случае он несомненно занял более жесткую линию и добился своего.
В конце ноября князь наконец убедил Екатерину, что Крым, который «положением своим разрывает наши границы», должен быть присоединен к России, иначе Османы смогут беспрепятственно войти через полуостров «к нам, так сказать, в сердце». И присоединять Крым надо именно сейчас, пока еще есть время, пока Англия отвлечена войной с американцами и французами, Австрия не остыла к потемкинским проектам, а Стамбул не оправился от внутренних бунтов и чумы.
Дополняя имперскую риторику исторической эрудицией, он восклицал: «Положите ж теперь, что Крым Ваш и что нету уже сей бородавки на носу [...] Всемилостивейшая Государыня! [...] Вы обязаны возвысить славу России. Посмотрите, кому оспорили, кто что приобрел: Франция взяла Корсику, Цесарцы без войны у турков в Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки, Америки [...] Поверьте, что Вы сим приобретением бессмертную славу получите и такую, какой ни один Государь в России еще не имел. Сия слава проложит дорогу еще к другой и большей славе: с Крымом достанется и господство в Черном море». И заканчивал: «Нужен в России рай».[447]
Екатерина колебалась: не поведет ли такое решение к новой войне? Может быть, достаточно занять только Ахгиарскую гавань? Потемкин жаловался Харрису на ее нерешительность: «Никогда не глядят вперед либо назад, но руководствуются только сиюминутным побуждением [...] Если бы я был уверен, что за доброе дело меня одобрят, а за ошибочное осудят, я бы знал, на что опереться».[448] Харрису удалось принести реальную пользу: Потемкин получил от него заверение, что Англия не станет препятствовать расширению России за счет Порты.
Наконец, 14 декабря 1782 Тода, Екатерина выдала ему «секретнейший» рескрипт о присоединении Крыма — но только в том случае, если Шагин-Шрей умрет или будет свергнут, или откажется отдавать Ахтиарскую гавань, или если турки объявят войну... Условий было столько, что это означало: Потемкин может действовать, если уверен в успехе. Все-таки Османы могли начать войну, а великие державы— вмешаться.[449]
Не удивительно, что Потемкину приходилось столько работать, Он должен был подготовиться к войне с Турцией, хотя и надеялся ее избежать. Екатерина держала Иосифа в курсе, тонко рассчитав, что, чем менее неожиданной станет для него запланированная акция, тем меньше вероятность его протеста. Европа же, если все пройдет быстро и бескровно, просто не успеет ничего понять. Надо было торопиться — Франция и Англия уже начали переговоры об Америке и 9/20 января подписали в Париже предварительное соглашение о мире. Время до ратификации давало России еще полгода. Дипломаты гадали, как далеко зайдут ее правители: «Виды князя Потемкина простираются все дальше с каждым днем, — сообщал Харрис в Лондон, — и, кажется, уже превосходят амбции самой императрицы, [...] хотя он старается это скрыть. Он [...] сожалеет, что наша война заканчивается».[450]
Миссия Джеймса Харриса в Петербурге также заканчивалась. Когда его друг Чарльз Джеймс Фокс, сторонник пророссийской политики, вернулся в министерство, Харрис попросил отозвать его, пока отношения с Россией не испортились. Сэр Джеймс виделся с Потемкиным в последний раз весной 1783 года. Через несколько месяцев, 20 августа, английский посланник получил прощальную аудиенцию императрицы и отбыл на родину.
Харрис ошибся, возложив надежды на человека, который с удовольствием разыгрывал роль друга Британии, но на самом деле придерживался совершенно иной стратегии. Когда австрийский альянс вступил в силу, стало ясно, что Потемкин обманул чаяния англичанина.
Сэр Джеймс уехал из Петербурга, составив себе прекрасную репутацию на родине, поскольку, сделавшись другом Потемкина и преподав ему основы английской цивилизации, он подошел ближе к вершине российской власти, чем все британские послы и до, и после него. Но сам он не мог не испытывать смешанных чувств к тому, кто обвел его вокруг пальца. «Князь Потемкин нам более не друг», — с грустью констатировал он. Архивы Потемкина тем, не менее показывают, что они долго еще поддерживали вполне дружескую переписку. Харрис снабжал путешественников — например, автора знаменитых мемуаров, архидиакона Кокса — рекомендательными письмами к князю. «Я знаю, что должен принести вам свои извинения, — писал Харрис Потемкину, — но знаю и то, как вы любите сочинителей...» Екатерина в конце концов стала считать Харриса «смутьяном и интриганом», а Потемкин говорил следующему послу, что много сделал для Харриса, но тот «сам все испортил». Позже их дружба вовсе угасла из-за возросшей враждебности Англии и России (еще один пример печальной судьбы дружбы дипломатов).[451]
Февраль и март 1783 года князь провел, выстраивая военные планы в отношении Швеции и Пруссии, потенциальных союзников Турции, и одновременно усиливая южную границу. Главным пунктом ожидавшейся войны была турецкая крепость Очаков, возвышавшаяся над Днепровским лиманом и контролировавшая выход к Черному морю. Тогда же Потемкин начал реформу обмундирования и вооружения русских солдат. Неожиданно для русского генерала и военачальника XVIII века он проявил заботу о нуждах «пушечного мяса» и предложил отказаться от прусских порядков.
Русские пехотинцы должны были пудрить волосы и заплетать их в косу, на что иногда уходило до 12 часов. На ногах они носили высокие узкие сапоги, чулки, штаны из лосиной кожи, а на головах жесткие треугольные шляпы, не защищавшие ни от ветра, ни от холода. «Одежда войск и амуниция таковы, что придумать почти нельзя лучше к угнетению солдата», — писал Потемкин и предлагал «всякое щегольство [...] уничтожить». Протест против прусских кос — одно из самых известных высказываний Потемкина: «Завиваться, пудриться, плесть косы, солдатское ли это дело? У них камердинеров нет. На что же пукли? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдатский должен быть таков, что встал, то готов».[452] Уже через несколько месяцев своего пребывания на посту фаворита он распорядился, чтобы офицеры учили солдат, не прибегая к «бесчеловечному битью», а заменяли его «отеческим и терпеливым разъяснением». С 1774 года он работал над облегчением вооружения конницы, создавая новые драгунские полки и совершенствуя снаряжение кирасир.
Не подверженный пруссомании большинства западных и русских генералов и опережая время, Потемкин взял за образец легкое снаряжение казаков и создал новую военную форму: теплые удобные шапки, позволявшие закрывать уши, коротко стриженные волосы, портянки вместо чулок, свободные сапоги, штыки вместо церемониальных шпаг. Потемкинская форма установила стандарт «красоты, простоты и удобства [...] обмундировки, приспособленной к климату и духу страны».[453]Настало время уезжать. Если крымская кампания удастся, говорил он, «меня скоро увидят в новом свете, а если мои действия не встретят одобрения, я удалюсь в деревню и никогда больше не появлюсь при дворе».[454] Но князь опять лукавил: он был уверен, что может делать все, что пожелает.
Перед отъездом он постриг волосы. «Великая княгиня изволила говорить, — сообщал светлейшему Михаил Потемкин, — как вы остриглись, то ваша фигура переменилась в дезавантаже».[455] Оплатив все счета и обрезав вместе с волосами все старые связи — моральные, политические и финансовые, — 6 апреля 1783 года Потемкин в сопровождении свиты, включавшей его младшую племянницу, Татьяну Энгельгардт, отправился завоевывать рай.
По дороге на войну Потемкин заехал в Белую Церковь, имение другой племянницы — Сашеньки Браницкой, — на крестины ее ребенка, и пробыл там несколько дней. В этот раз князь ехал на удивление неспешно. Его догоняли все более тревожные письма императрицы: «Пожалуй, не оставь меня без уведомления о себе и о делах».
Они радовались своему дипломатическому замыслу как двое разбойников, задумавших ограбить проезжего купца. Предполагая, что император Иосиф завидует русским приобретениям 1774 года, Екатерина говорила Потемкину, что «твердо решилась ни на кого, кроме себя, не рассчитывать. Когда пирог будет испечен, у каждого появится аппетит». Что касается союзницы Турции — Франции, то «французский гром или, луче сказать, зарницы» беспокоили ее так же мало, как нерешительность Иосифа. Потемкин прекрасно понимал важность союза с австрийцами, но не отказывал себе в удовольствии пошутить по поводу колебаний императора и его канцлера: «Кауниц ужом и жабою хочет вывертить систему политическую новую, — писал он Екатерине 22 апреля и убеждал ее держаться принятой линии: — Облекись, матушка, твердостию на все попытки, а паче против внутренних и внешних бурбонцев [...] На Императора не надейтесь много, но продолжать дружеское с ним обхождение нужно».[456]
Агенты Потемкина занимались «приуготовлением умов» крымских и кубанских татар, а армия готовилась воевать с турками. Генералу де Бальмену поручили самую легкую часть: 19 апреля он добился от Шагин-Гирея акта об отречении, подписанного в Карасубазаре взамен на щедрую денежную помощь и, возможно, обещание другого престола. Добравшись в начале мая до Херсона, Потемкин снова убедился, что русская бюрократия, не подталкиваемая его кипучей энергией, не способна произвести почти ничего. «Матушка Государыня, — докладывал он, — приехав в Херсон, измучился как собака и не могу добиться толку по Адмиралтейству. Все запущено, ничему нет порядочной записки».[457]
Архивы показывают, как работал этот феноменальный человек. Его рескрипты генералам — де Бальмену в Крыму, Суворову и Павлу Потемкину на Кубани — не упускают ни одной детали: с татарами обращаться мягко; полки размещать по квартирам; артиллерии быть наготове на случай осады Очакова; шпиона «арестовать и доставить ко мне». Он же в подробностях разрабатывает текст и церемонию присяги.[458]
В то же самое время он ведет переговоры с двумя грузинскими царями о российском протекторате, с персидским владетелем и армянскими повстанцами об образовании армянского государства. Ко всем этим хлопотам добавилась еще и чума, занесенная в Крым из Константинополя. «Ищу средств добраться до источника, откуда идет зараза, — писал Потемкин Безбородко. — Предписываю, как иметь осторожность, то есть, повторяю зады, принуждаю к чистоте, хожу по лазаретам чумным и тем подаю пример часто заглядывать в них остающимся здесь начальникам». И все это была только часть дел, которыми светлейший занимался одновременно. «Богу одному известно, что я из сил выбился». Понятно, что не забывал он и о Екатерине: «Вы мне все милости делали без моей прозьбы. Не откажите теперь той, которая мне всех нужнее, то есть — берегите здоровье».[459]
Между тем Фридрих Великий решил помешать планам Екатерины и Потемкина, настроив против России Францию: «Прусский Король точно как барышник все выпевает вероятности перед французами. Я бы желал, чтоб он успел [французского] Короля уговорить послать сюда войск французских, мы бы их по-русски отделали». Король шведский Густав III настоял на том, чтобы посетить Екатерину: он надеялся воспользоваться трудностями России на юге и вернуть себе потерянные владения на Балтике. Но, упав с лошади во время парада, он сломал руку, и свидание было отложено. «Александр Македонский пред войском от своей оплошности не падал с коня», — иронизировала Екатерина, намекая на стремление Густава III подражать великому полководцу древности.[460] К тому времени, когда Густав доберется до места встречи (Фридрихсгам в Финляндии), крымский пирог будет не только испечен, но и съеден.
Граф де Верженн, французский министр иностранных дел, обратился к австрийскому посланнику в Париже, чтобы скоординировать реакцию на действия России. Иосиф И, подталкиваемый Екатериной и опасавшийся упустить возможность расширить свои границы за счет Турции, объявил ошеломленному Верженну о русско-австрийском трактате. Без поддержки Австрии Франция действовать не могла. Англия радовалась прекращению американского конфликта, и лорд Грэнтам объяснял Харрису: «Если Франция не собирается беспокоиться о турках [...] зачем вмешиваться нам? Теперь не время затевать новую вражду».[461]
Расчет Потемкина на союз с Иосифом оправдался. «...Твое пророчество, друг мой сердечный и умный, сбылось, — писала ему Екатерина, — Pappetit leur vient en mangeant»{63}.[462]
Екатерина с нетерпением ждала от Потемкина новостей о выезде хана из Крыма, после чего татары смогли бы принести присягу, а она — опубликовать манифест о присоединении полуострова: «Пока ты жалуешься, что от меня нет известий, мне казалось, что от тебя давно нету писем...»[463]
Хан не спешил покинуть Крым, хотя и получил пенсию в 200 тысяч рублей, а пока он оставался на полуострове, крымские татары не решались демонстрировать свою лояльность к России. Шагин-Гирей послал свой обоз в Петровскую крепость, но его приближенные внушали муллам, чтобы те не доверяли русским. Наконец Павел Потемкин и Суворов сообщили с Кубани, что ногайские орды готовы присягнуть. Князь хотел, чтобы присоединение произошло без кровопролития и по крайней мере имело видимость добровольного выбора народа. В конце мая он сообщал: «Жду с часу на час выезда ханского».[464]
Он прискакал в Крым и остановился в Карасубазаре, чтобы принять присягу 28 июня, в день восшествия Екатерины на престол. Но дело затягивалось.
Екатерина переходила от забот о Потемкине к отчаянию. «Ни я, и никто не знает, где ты». В начале июня она скучает по нему: «...Жалею и часто тужу, что ты там, а не здесь, ибо без тебя я, как без рук». Через месяц начинает сердиться: «Ты можешь себе представить, в каком я должна быть безпокойстве, не имея от тебя ни строки более пяти недель [...] Я ждала занятия Крыма, по крайнем сроке, в половине мая, а теперь и половина июля, а я о том не более знаю, как и Папа Римский».[465] Потом появляется новый повод для беспокойства: она боится, что Потемкин заразится чумой. А он, вероятно, решил положить к ее ногам сразу и Крым, и Кубань.
И вот наконец мурзы и муллы со всего древнего Крымского ханства собрались, чтобы поклясться на Коране в верности далекой православной императрице. Потемкин лично принимай присягу, сначала у духовенства, потом у прочих. Но самое яркое зрелище разворачивалось на Кубани. В назначенный день в степи под Ейском встали шесть тысяч ногайских шатров. Вокруг лагеря паслись многотысячные стада низкорослых лошадей. Предводителям ногайцев зачитали отречение Шагин-Гирея, они присягнули Суворову и вернулись к своим ордам, повторившим присягу. После этого начался праздник: было зарезано 100 быков и 800 баранов. Ногайцы пили водку, поскольку вино запрещено Кораном, а потом состязались с казаками в скачках. Распрощавшись сб свободой через 600 лет после того, как Чингисхан привел их предков из Монголии, ногайцы снова разбрелись по степи.
10 июля Потемкин прервал свое молчание: «Матушка Государыня. Я чрез три дни поздравлю Вас с КрЫмом. Все знатные уже присягнули, теперь за ними последуют и все». 20 июля Екатерина получила это письмо. Устав от напряженного ожидания, она отвечает сначала холодно, но успокаивается, получив объяснения, и снова радуется его шуткам: «Я очень смёялась тому, что пишешь о слухах размножения заразы теми, у коих сборное место Спа и Париж. C’est un mot delicieux»{64}.[466]
Через несколько дней светлейший преподнес своей государыне еще один подарок: под протекторат России встала Грузия.
Кавказ был поделен на множество мелких царств и княжеств, подчиненных трем империям: России, Турции и Персии. На северо-западе только что присоединилась к России Кубань. Дальше в предгорьях русские генералы старались подчинить мусульманских горцев — Чечню и Дагестан. В южной части, которую делили между собой Турция и Персия, оставалось два островка христианства: царства Картли-Кахетинское и Имеретинское.
Вступив в войну с турками в 1768 году, Екатерина помогала Ираклию, царю Картли-Кахетинскому, но после 1774 года оставила его на произвол шаха и султана. Ободренный успехом австрийского союза, Потемкин решил усилить давление на Османов, вступив в переговоры с грузинами. Он хотел присоединить к России оба царства и отправил гонцов к Ираклию, чтобы выяснить, не враждует ли тот с Соломоном, владетелем Имеретинским.
31 декабря 1782 года царь Ираклий вверил «себя, своих детей и свой христианский народ» покровительству России. Светлейший поручил переговоры своему кузену, командующему Кавказским корпусом. 24 июля 1783 года Павел Сергеевич Потемкин подписал от его имени Георгиевский трактат с Ираклием.
Светлейший, все еще стоявший лагерем у Карасубазара, был в восторге:
«Матушка Государыня. Вот, моя кормилица, и грузинские дела приведены к концу. Какой Государь составил толь блестящую эпоху, как Вы. Не один тут блеск. Польза еще большая. Земли, на которые Александр и Помпей, так сказать, лишь поглядели, те Вы привязали к скипетру российскому, а таврический Херсон — источник нашего христианства, а потому и людскости, уже в объятиях своей дщери. Тут есть что-то мистическое.
Род татарский — тиран России некогда, а в недавних времянах стократный разоритель, коего силу подсек царь Иван Васильевич. Вы же истребили корень. Граница теперешняя обещает покой России, зависть Европе и страх Порте Оттоманской. Взойди на трофей, не обагренный кровйю, и прикажи историкам заготовить болыце чернил и бумаги».[467]
Императрица ратифицировала трактат, сохранив за грузинским царем титулование, коронование и чеканку собственной монеты. В сентябре Павел Потемкин проложил дорогу по горной тропе через перевал и проехал в Тифлис в карете, запряженной восьмеркой лошадей. В ноябре в грузинскую столицу вошли два русских батальона. Светлейший начал руководить строительством фортификаций на новой границе России, а двое сыновей Ираклия присоединились к его свите.
Но и это было еще не все. Неудача каспийской экспедиции Войновича не заставила Потемкина отказаться от планов антитурецкого союза с Персией. Безбородко, один из немногих, кто понимал геополитическую стратегию Потемкина, знал, что князь планирует продублировать австрийский альянс на востоке. Потемкин убедил Екатерину разрешить ему продвигаться дальше, чтобы создать в Закавказье два княжества: Армянское и еще одно, на Каспийском побережье (сегодняшний Азербайджан), управлять которым мог бы смещенный с крымского трона Шагин-Гирей.
В начале 1784 года Потемкин вел переговоры с персидским наместником Али Мурат-ханом о переходе Армении под протекторат России. Переговоры с ханами Шуши и Гойи и с карабахскими армянами продолжались несколько месяцев. Потемкин направил в Исфахань посланника, но Али Мурат-хан умер и посланник вернулся ни с чем. Персидско-армянский проект не дал результатов, но и без того завоевания Потемкина были огромны.
Екатерина восхищалась им как императрица, как возлюбленная и как друг: «За все приложенные тобою труды и неограниченные попечения по моим делам не могу тебе довольно изъяснить мое признание. Ты сам знаешь, колико я чувствительна к заслугам, а твои — отличные, так как и моя к тебе дружба и любовь. Дай Бог тебе здоровья и продолжение сил телесных и душевных».[468]
В конце августа 1783 года князь тяжело заболел. Две недели он лежал при смерти в татарском доме среди зеленых пастбищ Карасубазара и только в середине сентября ему стало лучше. Когда жар отступал, князь выезжал осматривать войска. Когда он наконец перебрался из Крыма в Кременчуг, Екатерина отчитывала его: «Ты не умеешь быть болен и [...] во время выздоровления никак не бережешься [...] зделай милость, вспомни в нынешнем случае, что здоровье твое в себе какую важность заключает: благо Империи и мою славу добрую. Поберегись, ради самого Бога, не пусти мою прозьбу мимо ушей. Важнейшее предприятие в свете без тебя оборотится ни во что».[469]
После присоединения Крыма, Кубани и Грузии Екатерина констатировала — с самоуверенностью, напоминающей сегодняшним читателям сталинскую: «На зависть Европы я весьма спокойно смотрю: пусть балагурят, а мы дело делаем», — и заверяла его в неизменности своих чувств: «Про меня знай, что я на век к тебе непременна». Чтобы доказать это, она приказала отпустить 100 тысяч рублей «на достройку петербургского твоего нового дома на Литейной улице»: будущего Таврического дворца.[470]
Потемкин знал, что ногайские орды всегда будут создавать нестабильность на Кубани, и, предвосхищая переселения, которые будут производить правители СССР через полтора века, решил перегнать кочевников в приволжские и приуральские степи. Возможно, подстрекаемые Шагин-Гиреем, который тайно перебрался на Тамань, всего через месяц после присяги ногайцы перерезали пророссийски настроенных мурз. Суворов не стал медлить, подготовил сложную операцию и 1 октября перебил цвет ногайской конницы в урочище Керменчик.
Русский посланник в Константинополе Яков Булгаков, ведя переговоры о торговом трактате и наблюдая за реакцией Османов на последние события, сообщал, что «о Крыме спорить не будут, ежели не воспоследует какого нового обстоятельства со стороны Европы».[471] Но Европа была занята другим: только что, 23 августа (3 сентября), в Версале был подписан мирный договор между Англией и Соединенными Штатами и их союзниками. Правда, Пруссия и Франция попытались организовать отпор российской экспансии на юге, и в конце сентября Екатерина ждала, что турки «с час на час» объявят войну, однако благодаря тому, что Иосиф твердо заявил о своей поддержке России, война за Крым не состоялась. Австрийский император очень высоко оценивал деяния Потемкина: «Я прекрасно знаю, как нелегко найти таких прекрасных и преданных слуг и как редко случается, чтобы они нас понимали», — писал Иосиф Екатерине 12 ноября.[472]
28 декабря 1783 года Булгаков подписал Айналикавакское соглашение, в котором турки признали окончательную потерю Крыма.
Екатерина ждала Потемкина в Петербург: «Дай Боже, чтоб ты скорее выздоровел и сюда возвратился. Ей, ей, я без тебя, как без рук весьма часто». Он отвечал: «Матушка Государыня! Я час от часу благодаря Бога лутче теперь [...] совсем оправясь, поеду к моей матушке родной на малое время».[473]
Но, вернувшись в Петербург в конце ноября 1783 года, Потемкин наткнулся на стену злобной ненависти. Его в очередной раз попытались дискредитировать: императрице донесли, что вспышка чумы вызвана небрежением Потемкина, а она после московского чумного бунта 1771 года относилась к подобным материям весьма щепетильно. Кроме того, говорили, что итальянские колонисты, прибывшие осваивать южные степи, погибли, потому что для них не подготовили жилье. Оба обвинения были ложью; особенно жестоко Потемкин сражался с эпидемией, и, более того, именно благодаря его усилиям чума была остановлена. По словам Безбородко, интригу направлял морской министр Иван Чернышев, имевший все причины быть недовольным светлейшим: тот строил на Черном море собственный флот, неподвластный Морской коллегии. К антипотемкинской партии подключились и вернувшаяся из дальних странствий княгиня Дашкова, и даже юный фаворит Ланской. В итоге Потемкин, добившийся феноменальных успехов, оказался вынужденным оправдываться.[474]
Он перестал бывать у Екатерины. Миллионная улица, по которой, в периоды пребывания светлейшего в столице, невозможно было проехать из-за карет гостей и толп просителей, теперь опустела. Враги князя торжествовали.
2 февраля 1784 года светлейший проснулся поздно, как обычно. Камердинер положил на стол у его кровати конверт с императорской печатью. Императрица, встававшая в 7 утра, распорядилась не будить князя. Потемкин прочел письмо и позвал своего секретаря, Василия Попова. «Читай!» — приказал он ему. Прочитав, Попов выбежал в комнату перед спальней и сказал дежурившему там адъютанту Льву Энгельгардту: «Идите поздравлять князя фельдмаршалом».
Его светлость встал с постели, надел мундирную шинель, повязал на шею розовый платок и пошел к императрице. Екатерина назначила его президентом Военной коллегии, наименовала Крым Таврической губернией и присоединила ее к подвластной Потемкину Новороссии. «Не прошло еще двух часов, как уже все комнаты его были наполнены, и Миллионная снова заперлась экипажами; те самые, которые более ему оказывали холодности, те самые более перед ним пресмыкались». 10 февраля Екатерина обедала в его покоях в Шепелевском дворце.[475]
Теперь Потемкин пожелал собственными глазами увидеть Константинополь. «Что если я из Крыма на судне приеду к Вам в гости? — писал он русскому послу в Турции Булгакову. — Я без шуток хочу знать, можно ли сие сделать?» Желание Потемкина было не только романтическим порывом. Конечно, он жаждал увидеть Царьград, но главной его заботой было обустройство южной России, а для этого он нуждался в мире с Портой. Возможно, он хотел лично договориться об этом с султаном. Булгаков, надо полагать, содрогнулся от мысли о таком вояже. 15 марта он ответил Потемкину, что, хотя того почитают в Турции русским великим визирем, организовать подобный визит чрезвычайно затруднительно.[476] Константинополя Потемкин так и не увидел, но судьба вела его на юг. Отныне он собирался «первые четыре или пять месяцев года всегда проживать в своих наместничествах».[477] В середине марта 1784 года князь снова уехал из Петербурга. Надо было спускать на воду корабли, строить города, основывать царства.
Часть шестая: СОПРАВИТЕЛЬ (1784-1786)
18. ИМПЕРАТОР ЮЖНОЙ РОССИИ
Не ты ль, который орды сильны Соседей хищных истребил, Пространны области пустынны Во грады, в нивы обратил, Покрыл понт черный кораблями, Потряс среду земли громами ? Г. Р. Державин. Водопад«Я ежечасно сталкиваюсь с новыми, фантастическими азиатскими причудами князя Потемкина, — писал граф де Дама, наблюдавший деятельность наместника юга в 1780-х годах. — За полчаса он перемещает целую губернию, разрушает город, чтобы заново отстроить его в другом месте, основывает новую колонию или фабрику, переменяет управление провинцией, а затем переключает все свое внимание на устройство праздника или бала...»[478] Так воспринимали князя европейцы, видевшие в нем восточного сатрапа, заказывающего новые города так же, как платья для своих любовниц. Они полагали, что русские варвары неспособны по-настоящему заниматься делами, как французы или немцы. Когда же оказывалось, что Потемкин действительно благоустраивает вверенный ему край, да еще с поражающим воображение размахом, его завистники, как иностранцы, так и соотечественники, придумывали сказки про «потемкинские деревни».
То, что он совершил за пятнадцать лет своей государственной деятельности — поразительно. «Основание первых городов и поселений пытались осмеять, — писал один из его первых биографов. — И тем не менее эти учреждения заслуживают нашего восхищения [...] Время подтвердило наши наблюдения [...] Послушайте тех, кто видел Херсон или Одессу».[479] Сегодня «потемкинские деревни» — города с многомиллионным населением.
Россия знала два периода мощной экспансии на юг: в царствование Ивана Грозного, присоединившего Астраханское и Казанское ханства, и в правление Екатерины Великой. Политическая идея была не нова: колонизация, писал В.О. Ключевский, являлась «основным фактом русской истории». Но Потемкин уникально сочетал творческие идеи предпринимателя с вооруженной силой военачальника и дальновидностью проницательного государственного деятеля. Если при Панине Россия следовала «северной системе», то Потемкин перенаправил внешнюю политику империи с севера на юг.
Наместником Новороссии, Азова, Саратова, Астрахани и Кавказа Потемкин стал вскоре после начала своего фавора, но с конца 1770-х годов, а особенно после присоединения Крыма, он сделался в полном смысле соправителем Российской империи. Как Диоклетиан некогда понял, что Римская империя расширилась настолько, что нуждается в двух императорах — Западном и Восточном, — так Екатерина отдала южную Россию в полную и безраздельную власть князя. Потемкин был рожден для огромных пространств. В Петербурге им двоим было тесно.
Власть Потемкина распространялась и в вертикальном, и в горизонтальном направлениях: он возглавлял Военную коллегию и являлся главнокомандующим иррегулярных войск, то есть в первую очередь казаков. Новорожденный Черноморский флот подчинялся не петербургскому адмиралтейству, а ему. Но самое главное — его власть зависела от него самого, его собственного престижа и успехов — таких, как присоединение Крыма, — а не от близости к Екатерине.
Светлейший демонстративно властвовал на юге как император. Названия и границы областей менялись, но это касалось только территорий, присоединенных между 1774 и 1783 годами, от Буга на западе до Каспия на востоке, от Кавказа и Волги почти до Киева. Ни один русский монарх, ни до, ни после Екатерины, не делегировал никому таких полномочий. Но и отношения ее с Потемкиным были уникальны.
Потемкин завел на юге собственный двор, дополнявший северный и соперничавший с ним. Как подобает царю, он заботился о простом народе, презирал дворянство и раздавал чины и имения. В путешествиях его сопровождала огромная свита; в городах его приветствовали вся провинциальная знать и весь народ; его приезд отмечали пушечным салютом и балами. Но дело не ограничивалось декорациями. Издавая указы от имени императрицы, он перечислял также и все свои титулы и ордена, как делают царствующие особы. Власть его была практически абсолютной: все его подчиненные, включая инженеров и садовников, имели военный чин, и он отдавал им военные команды.
Князь любил создавать видимость величественной праздности таким его и запечатлели многие мемуаристы, — но это была только поза. Он разрушал свое здоровье непосильной работой. Может быть, его поведение можно сравнить с притворством самолюбивого отличника, который делает вид, что никогда не делает уроков, а сам зубрит по ночам. В начале 1780-х годов он вел управление через свою собственную канцелярию, состоявшую не меньше чем из пятидесяти человек, включая ответственных за переписку на французском и греческом языках. У него был собственный премьер-министр — Василий Степанович Попов, которому он, как потом и императрица, безгранично доверял. Так же, как его начальник, Попов играл в карты всю ночь, спал до середины дня, но в любое время суток был готов откликнуться на призыв князя: «Только и слышно было «Василия Степановича», да «Попова», «Попова», да «Василия Степановича». Попов заведовал канцлярией светлейшего. Столь же неутомимый Михаил Леонтьевич Фалеев, молодой купец, с которым Потемкин познакомился во время Первой русско-турецкой войны, стал его квартирмейстером, подрядчиком и соратником в исполинских трудах. Потемкин сделал этого гениального предпринимателя дворянином, и его, что редко бывает с купцами-выскочками, почитали и любили в городе, который он построил вместе со светлейшим, — Николаеве.[480]
Потемкин пребывал в вечном движении, за исключением дней, когда его подкашивала депрессия или лихорадка. Сколько бы городов он ни основывал, где бы ни находился, один в кибитке, на сотню верст обогнав свою канцелярию, или в одном из своих дворцов, столицей юга оставалась вечно творящая— и всегда чем-то мучающаяся — персона самого князя.
Карьера Потемкина началась и окончилась рядом с казаками. Сначала он расформировал Запорожское войско, а потом восстановил его, уже в составе регулярной армии.
На острове в середине Днепра существовала уникальная республика из 20 тысяч воинов, контролировавших огромный треугольник незаселенных земель к северу от Черного моря. Запорожцы не сеяли и не пахали — то был удел рабов, а они пользовались свободой: само название «казак» происходит от тюркского слова «свободный». Запорожская Сечь, как большинство казачьих воинств, представляла собой грубую форму демократии; на время войны избирался гетман или атаман. Войско жило по своим законам: предателей завязывали в мешок и сбрасывали в пороги, убийц хоронили заживо, привязав к жертвам преступления. Женщины, для сохранения дисциплины, в Сечь не допускались.
Запорожцы многим отличались от других казаков. Например, они так же ловко, как лошадьми, управляли «чайками» — длинными многовесельными лодками. Они носили длинные усы и брили головы, оставляя одну прядь, «оселедец». Костюм их состоял из широких шаровар с шелковым поясом, наподобие турецких, сатинового кафтана и высокой меховой шапки или тюрбана, иногда со страусовыми перьями и знаками различия, украшенными драгоценными камнями. Нередко они поступали наемниками в чужие армии: так, в середине XVII века король польский предоставил казачье войско принцу Конде, чтобы сражаться с испанцами под Дункерком, а казачья флотилия из сотни «чаек» в том же веке дважды атаковала Константинополь.
Казачество сложилось как вольное полуразбойничье воинство, охранявшее южные рубежи России, но вместе с тем казаки представляли опасность для самой России. При Петре I украинские казаки под водительством Мазепы воевали на стороне шведского короля Карла XII. Казаки спровоцировали в 1768 году войну с Турцией, а затем несколько раз грабили русские войска, направлявшиеся на войну. Во время войны Потемкин завел с Сечью дружеские отношения и даже сам стал почетным запорожцем. Однако после подавления пугачевского бунта он предупредил их, чтобы они прекратили грабежи, и советовал реорганизовать как Сечь, так и другие воинства. Казаки начинали мешать империи — и планам Потемкина.
На рассвете 4 июня 1775 года русские войска под командованием генерала Текелли окружили Сечь и приказали сдаться под угрозой уничтожения. Запорожцы, которых Потемкин называл «неразумными детьми», подчинились. Екатерина поручила князю подготовить манифест о ликвидации Сечи: «...и в нем-то вносить нужно все их буйствы, почему вредное таковое общество уничтожается». Манифест вышел 3 августа 1775 года. Наказанию подверглись только трое предводителей запорожцев, сосланных на Соловецкие острова и в Сибирь. Войско переселили в Астрахань, но многие казаки бежали к туркам, и в 1780-е годы Потемкин будет переманивать их обратно.[481]
Переместили и переименовали также Яицкое казачье войско; реформированное Войско Донское встало под управление Потемкина, который назначил нового гетмана и комиссию для ведания гражданскими делами казаков.
Из лояльных к правительству запорожцев князь предложил сформировать особые полки. После пугачевского мятежа Екатерина относилась к казакам настороженно и не спешила финансировать их новые поселения, но на Каспии и на Азове Потемкин построил казачьи флотилии. Доброта, с какой он обращался с казаками, вызывала недовольство многих дворян. Он окружал себя преданными запорожцами и тех из них, которые оказывались беглыми крепостными, никогда не возвращал хозяевам. Благодарные воины прозвали его «защитником казаков».[482]
31 мая 1778 года Екатерина одобрила потемкинский план строительства черноморского порта, название которого, Херсон, должно было напоминать о древнем Херсонёсе. Строительство этого города стало возможным благодаря миру с Турцией и ликвидации Запорожской Сечи.[483] Со всей империи собирали плотников для новых верфей. 25 июля князь назначил губернатором города одного из офицеров Адмиралтейств-коллегии — Ивана Ганнибала{65}.
Первый город Потемкина должен был стать и базой для Черноморского флота, который еще только зарождался в маленьких азовских гаванях, и опорным пунктом для торговли со Средиземноморьем. Выбор места был непростой задачей, поскольку договор 1774 года давал России лишь узкий коридор, по которому можно было выйти к морю. Коридор проходил через устье Днепра, одной из главных водных магистралей Древней Руси, образовывавшей при впадении в море широкий и мелководный лиман. Здесь, на Кинбурнской косе, Потемкин построил крепость, но дельту Днепра по-прежнему контролировал турецкий Очаков, мощный город-крепость на противоположном берегу. Идеального места для защиты гавани не было. Морские инженеры предлагали закладывать город в Глубокой пристани, но ее невозможно было укрепить, и Потемкин выбрал крепость Александершанц, выше по Днепру. Напротив нее имелся остров, позволявший прикрыть порт и верфь. Однако днепровские пороги делали крайне трудным подход к будущему городу по реке, а гряда холмов с южной стороны осложняла выход к морю. Еще хуже было то, что Херсон оказывался на краю знойных степей, среди болотистых ручьев, за тысячи верст от леса, необходимого для строительства кораблей, не говоря уже об источниках продовольствия.[484]
Препятствия были почти непреодолимы, но Потемкин раз за разом одерживал над ними победу. В Петербурге никто не верил в успех этого предприятия. «Заложение Херсона весьма прославляется, — иронизировал Завадовский, — автор свое дело любит и возвышает». Но Екатерина верила в успех. «Без тебя Херсон не будет построен», — писала она Потемкину.[485]
И благодаря неукротимой воле Потемкина город был построен. В августе 1784 года Ганнибал собрал двенадцать бригад рабочих и закупил лесные угодья в верховьях Днепра в российской Белоруссии и Польше. Древесину предстояло сплавлять вниз по реке.
Потемкин нанял более пятисот плотников, тысячи рабочих, заложил верфи и спланировал город. Кили первых военных кораблей были заложены еще в мае 1779 года. Город строили солдаты; начали со строительства казарм, сначала не деревянных, а глинобитных. Затем для рытья карьеров доставили тысячу каторжников. И, наконец, Потемкин предложил купцу Михаилу Фалееву в обмен на долю в будущей торговле Херсона заняться взрывными работами налнепровских порогах, чтобы суда могли беспрепятственно проходить по реке прямо к херсонской гавани. В 1783 году предприятие Фалеева увенчалось успехом. Князь вознаградил купца майорским чином и дворянством.[486]
Когда европейские путешественники, посещая Россию, встречались с Потемкиным, тот непременно направлял их в Херсон. Одним из первых стал молодой английский инженер, Сэмюэл Бентам, брат философа Иеремии Бентама; ему предстояло проработать с Потемкиным пять лет. В 1780 году он увидел, что в городе уже 180 домов, строится 64-пушечный линейный корабль и пять фрегатов, при том, что «место выбрано не более двух лет назад, когда здесь не было ни одной хижины». Лес, отмечал Бентам, сплавляется из Польши — из города, называемого Чернобыль...
Годом позже друг Бентама Реджиналд Пол Кери, выпускник Оксфорда и корнуэльский землевладелец, стал свидетелем новой стадии потемкинского строительства. Светлейший принял Кери как родственника, показал ему свои петербургские имения и фабрики, а затем отправился вместе с ним на юг. Когда он приехал в Херсон, там стояло уже 300 домов. Кроме девяти полков солдат «город заселен в основном польскими евреями и греками. [...] Солдаты, моряки, крестьяне все заняты на строительных работах». Впрочем, замечал он про себя, фортификации возводятся слишком быстро, «из страха перед высшей властью». Таковы были подлинные впечатления Кери, но князю он тактично сказал: «То, что я здесь вижу, превосходит всякое воображение».[487]
Потемкин желал во что бы то ни стало привлечь в свой край торговлю. В 1781 году Кери обсуждал торговые перспективы с губернатором Ганнибалом и двумя херсонскими предпринимателями — уже известным нам Фалеевым и французом Антуаном. Фалеев основал «Черноморскую компанию» для торговли с Турцией и собирался спустить на воду собственный фрегат «Борисфен». Кроме того, он владел винными откупами в трех потемкинских губерниях и поставлял в армию мясо; по подсчетам Кери, его доход уже тогда составлял 500 тысяч рублей в год. Англичанин перечислял товары, которыми мог торговать Херсон: воск, пенька, лес, строительный камень... Его самого влекли заманчивые коммерческие перспективы. «Вам пишет херсонский буржуа», — начинал он одно из посланий князю.[488]
Марсельский негоциант Антуан, позднее барон де Сен-Жозеф, стал корабельным магнатом города. Отправляясь в Петербург, он предложил князю создать в Херсоне торговую факторию и свободный порт. Тот пришел в восторг и предложил Екатерине отменить внутренние таможенные пошлины и пересмотреть внешние. Он понимал, что в средиземноморской торговле господствует Франция и пересмотр таможенного порядка будет иметь серьезные политические последствия. В 1786 году Антуан сообщал Потемкину, что за последний год из Марселя пришло одиннадцать его кораблей.[489]
Потемкин старался контролировать каждую деталь, но строительство Херсона давалось тяжело: «Я удивляюсь, что вместо окончания гошпиталя, о коем вы меня уверили, выходит, что он и не зачат [...] Мне и то странно, что после донесения мне о строениях оные иногда отменяются без моего ведения». Неделю спустя он приказывал полковнику Таксу построить две бани для предупреждения чумы — одну «для совершенно здоровых», другую «для слабых [...] строение пивоварен не должно также быть упущено». Но Ганнибал и Гаке не справлялись. Потемкин был в отчаянии. В феврале следующего года он отставил Такса от руководства строительством и назначил на его место полковника Николая Корсакова, талантливого инженера, учившегося в Англии. Потемкин подтвердил годовой бюджет города в размере 233 740 рублей, но желал, чтобы постройки были окончены как можно скорее, требуя одновременно и прочности и «наружного благолепия». Князь лично одобрял каждый план, каждый фасад — от школы до архиерейского дома и собственной резиденции, — и мало-помалу город начал принимать форму.[490]
Тяжелее всего было бороться с климатом. Потемкин лучше всех понимал, что Херсон строится в месте очень нездоровом, едва ли не гибельном. По словам Пола Кери, все корабельные мастера, выписанные из Кронштадта и Петербурга, перемерли. Когда Потемкин стал готовить присоединение Крыма и в окрестности Херсона стали подходить, с одной стороны, корабли из Стамбула, а с другой — солдаты со всех концов империи, возникла новая серьезная угроза — эпидемии. В 1786 году Херсон «походил на огромный госпиталь: кругом были только мертвецы и умирающие». Князь старался не давать эпидемии распространиться. Особенно он заботился о госпиталях и пивоварнях (как источнике питьевой воды), приказывая жителям употреблять в пищу зелень и лично назначая докторов.[491]
Разумеется, все эти проблемы Потемкин совсем не собирался предавать широкой огласке. Характерно, например, как в одном из писем к Харрису он расхваливал «климат, почву и местоположение Херcона».
Много говорилось о том, что Потемкин скрывал ошибки, допущенные при строительстве Херсона. Если помнить, какие слухи распускали о нем после покорения Крыма, нет ничего удивительного в том, что он не рассказывал публично о херсонских проблемах. Но перед Екатериной он был чистосердечен и даже сообщил ей обширный список неудач. Он отставил Ганнибала — вероятно, за упущения в строительстве фортификаций; тратилось слишком много средств; не хватало леса, а присылаемая древесина оказывалась низкого качества. «Ох, матушка, как адмиралтейство здесь запутано и растащено», — жаловался он Екатерине. Жара летом стояла невыносимая. Здания возводились в голой степи. «Не было ума дерев насажать. Я приказал садить». Он просил квалифицированных работников: «Зделайте милость, прикажите командировать сюда потребное число чинов, о чем прилагаю ведомость. Кузнецов здесь недоставало. Послал по коих в Тулу».[492]
И город продолжал расти. Кирилл Разумовский, посетивший его в 1782 году, не мог надивиться каменным зданиям, крепости, боевым кораблям, «обширному пригороду», казармам и греческим торговым судам. Франсиско де Миранда, венесуэльский революционер, также тепло принятый Потемкиным, осматривал Херсон в декабре 1786 года. Он утверждал , что в городе 40 тысяч жителей — 30 тысяч военных и 10 тысяч обывателей. «На сегодняшний день насчитывается свыше 1200 достаточно добротных каменных домов, помимо множества хибар, где ютятся самые бедные, и воинских бараков». После смерти Потемкина английская путешественница Мария Гатри и писатель П.И. Сумароков хвалили «прекрасный город» с собором св. Екатерины, четырнадцатью церквами, синагогой, населенный 22 тысячами православных жителей и 2,5 тысячами евреев.[493]
Ошибки, допущенные в Херсоне, многому научили Потемкина. Он хвастался, что использование солдат в качестве рабочей силы бережет казенные деньги, — но у него были царские представления об экономии. От строителей требовалась скорость, но, если что-то делалось не так, например, крепость, он приказывал начинать сь!з-нова. Результаты впечатляли, а расходы не слишком заботили того, кому позволялось рассматривать государственную казну как свою собственную.
Если ликвидация Запорожской Сечи сделала возможным основание торгового города Херсона, то уничтожение Крымского ханства дало Потемкину возможность по-настоящему приступить к освоению южной России в целом. Крым, изобиловавший естественными гаванями и бывший доселе черноморским рынком, садом и огородом Константинополя, должен был принести великую пользу и славу России.
Потемкин и Екатерина жаждали сравняться масштабом свершений с Петром Великим. Петр отобрал у шведов балтийский берег, основал там город и построил флот. Теперь Потемкин забрал у турок и татар северный берег Черного моря, построил здесь русский флот — дело стало за вторым Петербургом: «Петербург, поставленный у Балтики, — северная столица России, средняя — Москва, а Херсон Ахтиярский да будет столица полуденная моей государыни. Пусть посмотрят, который государь сделал лутчий выбор». Херсон Ахтиярский — это будущий Севастополь — порт, строительство которого началось в Ахтиярской бухте в Крыму.[494]
Ахтияр, сообщал Потемкин императрице в июне 1783 года, — «лутчая гавань в свете». Он начал строительство доков еще до полной аннексии полуострова. «На естественном амфитеатре на склоне холма» он заложил город и приказал Корсакову строить «сильную фортификацию. Адмиралтейство должно так быть поставлено, чтобы удобно для разгрузки судов», а соединять его с остальными частями полуострова должна дорога «не хуже римской». «Я назову ее: Екатерининский путь». Инженер согласился с выбором Потемкина: «Самое подходящее место — то, которое Ваша Светлость указали». Спустя всего четыре года, когда Потемкин объезжал край с Франсиско де Мирандой, венесуэлец увидел «14 фрегатов, три 66-пушечных судна и одну бомбарду». Миранда высоко оценил значение нового города: гавань может вместить «эскадру, насчитывающую свыше ста линейных кораблей, причем в случае какого-либо повреждения ремонт займет не более недели». Вскоре после смерти Потемкина Мария Гатри назвала севастопольский порт «одним из лучших в мире».[495]
Потемкин был в восторге от Крыма и, объезжая полуостров, приказал натуралисту Таблицу составить описание населения и фауны.
«Не описываю о красоте Крыма, сие бы заняло много время», — докладывал князь императрице в июне 1783 года, вдохновленный великолепием природы полуострова, его стратегическим потенциалом и классическим прошлым. Нетрудно представить себе творческую лихорадку, внушенную Потемкину этим краем. И сегодня, проехав Перекоп, мимо соляных озер, служивших главным источником ханских доходов, видишь сначала плоскую, однообразную степь, но уже через час пути на юг она превращается в Эдемский сад, больше всего напоминающий виноградники южной Италии или Испании.
Потемкин приказал насадить оливковые рощи и аллеи лавровых деревьев. Он предвкушал, как этот рай посетит императрица. Романовы в XIX веке и члены Политбюро в XX сделают Крым своим любимым курортом, но Потемкин, надо отдать ему должное, всегда хотел для полуострова большего.[496]
Важным делом Потемкина была защита татар-мусульман от мародерства его собственных солдат. Он не переставал повторять генералам: «Воля ее императорского величества есть, чтоб все войска, пребывающие в Крымском полуострове, обращались с жителями дружелюбно, не чиня отнюдь обид, чему подавать пример имеют начальники и полковые командиры». В состав администрации крымских городов он включил местных священников и сообщал Екатерине, что выделил деньги на поддержку мечетей. Путешествуя по Крыму, светлейший встречался с каждым местным муфтием и делал пожертвования на мечети. Татарским мурзам Потемкин обеспечил русское дворянство и право владеть землей. Было сформировано небольшое татарское войско.[497]
При этом, однако, Потемкин находил, что татары, никогда не обрабатывавшие землю, — не тот народ, который должен населять завоеванный им рай: «Сей полуостров еще будет лутче во всем, ежели мы избавимся татар на выход их вон, — советовал он Екатерине. — [...] Ей Богу, они не стоят земли, а Кубань для них жилище пристойное». Подобно всем русским властителям, светлейший был готов перемещать народы как шахматные фигуры, но в конце концов трогать татар не стал. Напротив, он часто шел им навстречу и даже прилагал специальные усилия, чтобы они остались в родных местах, но тысячи жителей ушли сами. Их чувства выразил один из муфтиев, сказавший, что крымская земля всегда будет помнить день, когда Потемкин овладел ею, «как женщина помнит того, кто лишил ее невинности».[498]
Потемкин решил, что столицей Крыма должно стать татарское селение Ак-Мечеть, расположенное в сердце полуострова, в сухой степи. Город был назван Симферополем.
Строительные планы светлейшего простирались от Херсона до Севастополя, от Балаклавы до Феодосии, Керчи и Ёникале. Расширялись существующие крепости или форты, закладывались новые города. Полковнику Корсакову все это было по плечу. «Корсаков, матушка, такой инженер, что у нас не бывало [...], — сообщал князь императрице. — Сего человека нужно беречь» (Н.И. Корсаков погиб во время осады Очакова — упав в ров, он накололся на собственную шпагу. Как и Потемкин, он похоронен в херсонском соборе св. Екатерины). Через пять лет Севастополь и его флот были готовы к приему самодержицы всероссийской и императора Священной Римской империи.[499]
В 1784 году Потемкин решил построить на месте маленькой запорожской деревни Палавицы роскошную столицу своей южной империи — новые Афины — и назвать ее Екатеринослав (это же имя он дал и своему наместничеству). «Всемилостивейшая государыня, где же инде как в стране, посвященной славе Вашей, быть городу из великолепных зданий? А потому я и предпринял проекты составить, достойные высокому сего града названию». Потемкин планировал неоклассическую метрополию: судебные палаты «наподобие древних базилик», рынок — «полукружием наподобие Пропилей или преддверия Афинского», дом генерал-губернатора «во вкусе греческих и римских зданий».[500]
Екатерина, разделявшая классические вкусы светлейшего, одобрила план. Больше года Потемкин рассматривал различные проекты. В 1786 году французский архитектор Клод Жируар представил проект центральной площади и сети улиц, соединяющих ее с набережной Днепра, но окончательная доработка плана принадлежит И.Е. Старову. В 1787 году проект был готов. По замыслу Потемкийа, 16 тысяч работников могли бы построить город за девять-десять лет.[501]
Ни один другой эпизод биографии Потемкина не вызывал столько насмешек, как строительство Екатеринослава. Для освоения пустынных запорожских степей город был необходим, но творец задумал его слишком величественным. Впрочем, ложь, вымышленная, чтобы очернить имя светлейшего, интересна, поскольку показывает, как далеко готовы были идти его завистники.
Большая часть историй о Екатеринославе утверждает, что по своей некомпетентности Потемкин выбрал нездоровое место для города и потом вынужден был переносить его. Действительно, шестью годами раньше, в 1778 году, он разрешил одному из губернаторов основать на реке Килчень поселение для вышедших из Крыма греков и армян и назвать его «Екатеринослав». Теперь он использовал имя этого городка, где имелись уже греческий, армянский и католический кварталы, три церкви и три тысячи жителей, но вовсе не перемещал его, а просто переименовал в Новомосковск.
Враги князя утверждали также, что он намеревался возвести в степной глуши собор выше ватиканского собора св. Петра. Возможно, Потемкин упоминал знаменитый собор, но никогда не собирался строить нечто подобное: «...представляется тут храм великолепный в подражание Святаго Павла, что вне Рима, посвященный Преображению Господню, в знак, что страна сия из степей безплодных преображена попечениями Вашими в обильный вертоград, и обиталище зверей — в благоприятное пристанище людям, из всех стран текущим», — писал Потемкин Екатерине в октябре 1786 года. Сегюр утверждает, что Потемкин обсуждал проекты строительства собора св. Петра во время южного путешествия Екатерины в 1787 году, но эта версия, несомненно, исходит от недоброжелателей князя. Ни в бумагах, ни в переписке этого времени подобный проект не отразился. Римский собор Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура, по образцу которого предполагалось построить храм в Екатеринославе — конечно, довольно амбициозное сооружение, но не сравнимое с собором св. Петра: едва ли Екатерина одобрила бы проект копии последнего или выделила бы Потемкину такие огромные средства на освоение южных земель, если бы он вынашивал столь расточительные идеи.[502]
С самого начала в городе был заложен университет и музыкальная академия. В «новые Афины» Потемкин перевел греческую гимназию, основанную в его имении Озерки: «Наблюдая економию в Гимназии, сберег я достаточную сумму для сооружения потребных зданий». «Невиданное дело, — восклицал граф Кобенцль, — чтобы кто-то решал учредить консерваторию в еще не построенном городе!» Первым директором музыкальной академии Потемкин назначил Джузеппе Сарти — и действительно начал приглашать других итальянских музыкантов еще до того, как был построен город. «Приложенным к этому письму Ваша Светлость найдете счет на 2800 рублей, — писал некто Кастелли из Милана 21 марта 1787 года, — переданные для выполнения Вашего поручения г-ну Джузеппе Канта, который заплатил эти деньги четырем профессорам музыки [...] Они выезжают в Россию 26-го сего месяца».[503] Судьба четырех миланских профессоров неизвестна.
В 1786 году Потемкин приказал губернатору Ивану Синельникову нанять в университет профессорами живописи двух художников, Неретина и Бухарова, с жалованьем 150 рублей, а в январе 1791 года, в разгар войны, приказывал взять на должность «историка в Академии» француза де Гиенна, на 500 рублей. Потемкин говорил Синельникову, что для подготовки поступающих в университет необходимо поднять уровень преподавания в школах.[504] На образовательные цели было выделено 300 тысяч рублей.
Все это, конечно, выглядело весьма эксцентрично, но главной чертой потемкинского гения было умение воплощать идеи в реальность. Многое из того, что стало казаться несбыточным после его смерти, было возможно, пока он жил. Будь ему отпущена более долгая жизнь, появился бы и город, и университет. Он планировал не только музыкальную, но и духовную академию, в которой «по соседству Польши, Греции, земель волошской и молдавской и народов иллерических множество притечет юношества обучаться».[505] Для государственных и для своих собственных целей он желал отобрать лучших студентов и моряков. В 1787 году, после посещения Крыма Екатериной, он объединил морские учебные заведения юга и Петербурга и переместил их в Екатеринослав. Здесь должна была возникнуть академия «греческого проекта», школа для царства Потемкина.
Работы по строительству Екатеринослава начались в середине 1787 года, и через три года административные здания университета и дома для профессоров были уже закончены. 15 февраля 1790 Года Потемкин одобрил новые планы города и собственного дворца. В 1792 году город насчитывал 546 казенных зданий и 2500 жителей. После смерти князя губернатор Екатеринослава Василий Каховский докладывал императрице, что строительство города продолжается, однако, конечно, уже не было ни той скорости, ни того размаха строительства, что при Потемкине. В 1815 году, по словам одного европейского путешественника, этот «губернский город больше напоминал голландскую колонию».[506]
Екатеринослав не стал южным Петербургом, а его университет — степным Оксфордом. Потемкин не успел достроить город. Мечты не воплотились в реальность при его жизни. И современники, и историки ставили ему это в вину. Между тем никто из историков двух прошедших столетий не посетил Екатеринослав (в советские времена он, как и Севастополь, был закрытым городом). Глядя на сегодняшний Днепропетровск, можно убедиться, что для города было выбрано прекрасное место на высоком берегу, у излучины Днепра, где река разливается почти на милю шириной. Екатерининскую улицу — проспект Карла Маркса — жители называют «самым длинным, широким и красивым проспектом во всей России» (шотландский архитектор Уильям Хэйсти расширил планировку улиц в 1816 году).[507]
В центре города стоит вновь действующий собор XVIII века, носящий предложенное Потемкиным в 1784 году название — храм Преображения. Размеры величественного здания соответствуют масштабу города. Высокий шпиль, классические колонны и золотой купол — дело рук Старова. Начатый в 1788 году во время войны с Турцией и законченный через много лет после смерти Потемкина, в 1837 году, благородный собор возвышается в центре города, про который говорили, что он никогда не будет построен. Недалеко от собора уродливая советская триумфальная арка ведет в потемкинский парк, где сохранился его дворец... {66}
Города Потемкина множились по мере того, как он завоевывал новые территории. Закладка еще двух новых городов стала возможной благодаря победам, одержанным во Второй русско-турецкой войне: Николаев был основан после падения Очакова, Одесса — благодаря дальнейшему продвижению России по берегам Черного моря.
Приказ об основании Николаева Потемкин подписал 27 августа 1789 года. Город был назван в честь святого покровителя мореплавателей и в память Очаковской победы (штурм Очакова произошел 6 декабря — в день св. Николая Мирликийского, особо почитаемого в России святого). Построенный на высоком, обдуваемом ветрами месте, у стечения Ингула и Буга, Николаев стал самым удачным по расположению и планировке городом, уступая только Одессе.
Город был построен Фалеевым, в соответствии с точными и исчерпывающими указаниями Потемкина. В меморандуме, содержавшем 21 пункт, князь повелевал перевести в Николаев из Херсона штаб флота, построить военную школу на 300 человек, заложить церковь на доходы от местных питейных заведений, заново отлить треснувший колокол Межигорского монастыря, добавив в него меди, построить новый монастырь, возделывать землю «по английской методе, какой обучены в Англии помощники профессора Ливанова», поставить больницы и богадельни для инвалидов, построить порт, отделать фонтаны мрамором, устроить турецкую баню и адмиралтейство — и учредить городской совет и полицию.
Удивительно, что на эти вспышки творческой активности Потемкина Фалеев отвечал столь же энергичными действиями и скоро рапортовал об исполнении. Первым делом, разумеется, сооружались верфи. Город строили крестьяне, солдаты и пленные турки: в 1789 году работали 2500 человек. Светлейший требовал от него беречь силы работников и ежедневно выдавать им горячее вино.
К октябрю Фалеев докладывал, что на земляные работы потребуется не больше месяца, а девять каменных и пять деревянных казарм уже готовы. В 1791 году из Херсона в Николаев были переведены главные судостроительные верфи.[508] Первый фрегат сошел с николаевских доков при жизни Потемкина; дворец его был почти окончен.
Посетившая Николаев четыре года спустя Мария Гатри записала, что город имеет 100 тысяч жителей, «замечательно длинные, широкие, прямые улицы» и «красивые общественные здания».[509] Планировка идеально расположенного города сохранилась до наших дней, хотя немногие из построек потемкинского времени уцелели. Верфи, заложенные 200 лет назад, работают на том же месте.
В 1789 году был взят турецкий форт Хаджибей — будущая Одесса. Мгновенно оценив стратегическое значение крепости, Потемкин приказал взорвать старые стены, сам выбрал место для порта и жилых построек и велел немедленно начать строительство.
Когда Потемкин умер, работы уже велись, хотя формально город основан тремя годами позже его протеже, испанцем Хосе де Рибасом. Умный, энергичный и деловой, Рибас всегда находился вблизи Потемкина — строил его корабли, командовал его флотом или добывал ему любовниц, — вместе с Поповым и Фалеевым он был одним из главных помощников светлейшего. Порт, который Екатерина назвала в честь Одессоса — древнегреческого города, находившегося, как считалось, неподалеку, — стал одной из жемчужин потемкинского наследия.[510]
«Доношу, что первый корабль спустится «Слава Екатерины», — восторженно сообщал Потемкин императрице 1 июня 1783 года из Херсона, — позвольте мне дать сие наименование, которое я берусь оправдать и в случае действительном». Во славу Екатерины назывались города, корабли и полки. Императрица просила быть осторожнее и не давать кораблям слишком громких названий, «чтобы слишком громкое не сделалось тяжким и чтобы не было слишком трудно соответствовать этому назначению [...] лучше быть, чем казаться и вовсе не быть». Но Потемкин игнорировал ее предостережения и в сентябре рапортовал, что шестидесятишестипушечный корабль, названный в честь государыни, спущен на воду.[511]
Князь имел все основания для гордости — корабли с несколькими рядами пушек, целые плавучие крепости, были самым мощным морским оружием XVIII века, эквивалентом сегодняшних авианосцев. 26 июня 1786 года Екатерина выдала Потемкину на начало строительства военных кораблей 2,4 миллиона. Создание целого флота таких судов современные историки справедливо сравнивают с сегодняшними космическими программами. Враги Потемкина, однако, утверждали, что корабли то ли не существуют вовсе, то ли были построены из гнилого леса. Это чистая ложь. Например, Пол Кери, внимательно наблюдавший заходом строительства, видел спущенными на воду тридцати- и сорокапушечные фрегаты, три шестидесятишестипушечных корабля были «изрядно продвинуты», да еще заложено четыре новых киля. С херсонских стапелей сходили не только казенные суда; Фалеев строил свои, торговые. В Глубокой пристани, в 35 верстах в сторону моря, уже стояло семь готовых фрегатов, от двадцати четырех до тридцати двух пушек. Миранда, опытный воин и непредвзятый наблюдатель, отмечал, что корабли сделаны из великолепной древесины. «Конструкция показалась мне точной копией английской, а корабли гораздо лучше наших и французских».[512]
Миранда видел собственными глазами то, о чем говорил, тогда как европейские и русские хулители Потемкина охотно верили любым слухам. На постройку флота шел тот же самый лес, из которого делались военные суда англичан. Более того, работами руководили талантливые моряки и инженеры — Николай Мордвинов и Николай Корсаков, обучавшиеся морскому делу в Англии. «Я никогда не встречала иностранцев, так похожих на англичан, как Мордвинов и Корсаков», — восхищалась одна из путешественниц.[513]
К 1787 году Потемкин создал огромный флот: английский посол насчитал двадцать семь боевых кораблей. Если считать линейными суда, имеющие свыше сорока пушек, то за девять лет, когда первый корабль сошел с херсонской верфи, их было построено двадцать четыре. Позднее главной базой потемкинского флота стал Севастополь с его великолепной гаванью, а главной верфью — Николаев. Добавив к упомянутому числу тридцать семь линейных кораблей Балтийского флота, мы увидим, что Россия в короткий срок стала мошной морской державой, способной воевать не только в северных, но и в южных морях Европы. По количеству военных судов Россия лишь ненамного отставала от Франции, хотя, конечно, не могла сравняться с Англией, самой крупной морской державой, имевшей тогда на вооружении сто семьдесят четыре боевых корабля.[514]
Потемкин — отец Черноморского флота, так же, как Петр I — отец Балтийского. Флот был самой большой гордостью светлейшего, его «любимым детищем». «Это покажется преувеличением, — записал его слова, сказанные незадолго до смерти, английский посланник, — но он может смело утверждать, что почти каждую доску для строительства кораблей он пронес на своих плечах».[515]
Другим важным делом Потемкина стало заселение огромных пустынных территорий. Практика привлечения поселенцев и отставных солдат на пограничные земли была не нова для России, но потемкинская кампания, в течение которой Екатерина издавала один за другим манифесты, предоставляющие льготы колонистам — освобождение от податей на десять лет, бесплатная раздача скота и землепашеских орудий, разрешение заниматься винокурением, — поражает своим размахом и эффективностью. На новые земли перебрались сотни тысяч семей.
Фридрих Великий, восстанавливая растерзанную войнами Пруссию, объявил свободу вероисповедания, и ко времени его смерти 20 процентов населения Пруссии составляли иммигранты. Потемкин пошел еще дальше: он стал помещать объявления в иностранных газетах и создал сеть вербовщиков по всей Европе. «Европейские газеты, — объяснял он Екатерине, — не нахвалятся новыми поселениями в Новороссии и на Азове». Узнав о привилегиях, жалованных греческим и армянским поселенцам, «их оценят по достоинству».
Еще одна его идея, опередившая время, — использование для набора колонистов русских посольств за границей. Впрочем, этой деятельностью он с увлечением занимался с первых дней своего возвышения еще в середине 1770-х годов, когда обустраивал Моздокскую линию на Северном Кавказе. Идеальные поселенцы, по мысли Потемкина, должны были в мирное время пахать, сеять, торговать и работать на мануфактурах, в военное — бить турок.
Первыми потемкинскими поселенцами стали греки, нанятые Алексеем Орловым моряками в его эскадру в 1769 году, и крымские христиане. Греки обосновались сначала в Еникале, крымские жители —в Мариуполе. Потемкин строил для них школы и больницы; после присоединения Крыма он сформировал из греков несколько полков и переместил их в Балаклаву, но продолжал развивать Мариуполь именно как греческий город. В 1781 году азовский губернатор докладывал ему, что уже имеется четыре церкви, у греков есть собственный суд, а торговля процветает. Для армян Потемкин позднее основал Нахичевань, в нижнем течении Дона, и Григорио-поль на Днестре.[516]
Не менее усердно Потемкин искал поселенцев внутри империи, привлекая помещиков с крестьянами, отставных солдат, бедных сельских священников. Бежавшим за пределы империи крепостным, раскольникам и казакам, укрывшимся в Польше или Турции, он обещал прощение и свободу. Семьи и целые деревни переезжали на новые места — или возвращались на родину. Считается; Что к 1782 году Потемкин удвоил население Новороссии и Приазовья.[517]
После присоединения Крыма кампания пошла еще интенсивнее; За годы крымских волнений 1770-х — начала 1780-х годов мужское население полуострова сократилось до 50 тысяч человек. Потемкин утверждал, что это — одна десятая необходимого. Приглашая поселенцев, сведущих в разных областях хозяйства, он сам решал, кому платить какие налоги и сколько, какие земельные наделы должны получать вновь прибывшие. Обычно они освобождались от уплаты податей — в начале кампании на полтора года, потом на шесть лет.[518]
Особенно охотно отзывались крестьяне южной Европы. В 1782 году под Херсон прибыли корсиканцы — 61 семья. В начале 1783 года Потемкин договаривался об отправке корсиканцев и евреев с герцогом де Крийоном. Но потом он решил, что «нет нужды увеличивать число поселян» и можно ограничиться теми, которых «уже прислал граф Мочениго» (русский посол во Флоренции). Некоторые желающие перебраться в Россию сами писали князю. Например, двое греков, Панаио и Алексиано, просили разрешить приехать со своими семьями «с Архипелага [...] и основать колонию, которая будет больше, чем корсиканская». Агенты по найму получали по 5 рублей с колониста. Некоторые из агентов, разумеется, были мошенниками, а многие помещики воспользовались кампанией как прекрасной возможностью избавиться от всякого сброда. Потемкин понимал это.[519]
Наряду со случайными людьми ему удалось привлечь и таких добросовестных и работящих поселенцев, о каких только мог мечтать устроитель нового края, — например, членов секты меннонитов из Данцига. Меннониты ставили условием своего переселения право строить собственные церкви и не платить налоги в течение десяти лет. Агент Потемкина Георг Траппе гарантировал им, что их условия будут соблюдены и по прибытии на место они получат дома и подъемные средства. Письмо Потемкина к его банкиру Ричарду Сутерланду показывает, что первый министр Российской империи лично устраивал путешествие меннонитов по Европе: «Поскольку Ее Императорское Величество соизволила жаловать известные привилегии меннонитам, желающим поселиться в Екатеринославской губернии {...] прошу Вас предоставить им необходимые суммы в Данциге, Риге и Херсоне».[520] В начале 1790 года в путь отправились 228 семей.
В то же самое время в Херсоне он приказывал полковнику Таксу принять партию шведов для шведской колонии, где их уже ждали построенные для них дома. Еще 880 шведов обосновались в только что основанном Екатеринославе. Через турецкую границу текли молдаване, валахи, румыны; к 1782 году их пришло 23 тысячи. В Елисаветграде их насчитывалось больше, чем русских.[521]
Уникально для Европы XVIII века отношение Потемкина к евреям. В 1742 году императрица Елизавета Петровна изгнала из России этих «врагов Христа». А австрийская императрица Мария Терезия, когда в 1777 году Потемкин предоставил привилегии еврейским колонистам, отозвалась: «Я не знаю худшей заразы, чем это племя». Не в силах выносить вида еврея, она беседовала со своим банкиром Диего д’Агиларом через ширму.
Екатерина, когда пришла к власти, разыгрывала православную карту и не могла открыто покровительствовать евреям. Ее указ от октября 1762 года приглашал всех желающих переселиться в империю, «исключая евреев», но она специально приказала графу Брауну, генерал-губернатору Ливонии, не спрашивать вероисповедания переселенцев.
Первая большая волна еврейских иммигрантов — около 45 тысяч — появилась в России в 1772 году, после раздела Польши. Потемкин впервые встретился с ними в своем польском поместье Кричеве. И скоро, в 1775 году, приглашая поселенцев на юг России, он сделал уточнение: «даже евреев». 30 сентября 1777 года он определил условия их переселения: евреи могли обустраиваться на российских землях, например, «в домах, брошенных запорожскими казаками», при условии, что каждый приведет с собой пятерых поляков и будет располагать определенной суммой на обзаведение хозяйством. Позднее условия стали гораздо привлекательнее: евреи освобождались от уплаты податей на семь лет и получили право вести винную торговлю; им обещалась защита от мародерства солдат; споры между ними решал раввин; разрешались синагоги, еврейские кладбища и ввоз невест из еврейских общин в Польше. Эти поселения были очень выгодны: помимо ремесел, например, изготовления кирпича, в котором Потемкин нуждался для своих городов, евреи несли с собой торговлю. Скоро Херсон и Екатеринослав, где смешались казаки, греки и русские старообрядцы, стали еще и частично еврейскими городами.[522]
Особенно подружился светлейший с Джошуа Цейтлином, выдающейся личностью, купцом и знатоком Талмуда. Цейтлин путешествовал вместе с князем, управлял его имениями, строил города, организовывал снабжение армий и возглавил монетный двор в Кафе (Феодосии). Цейтлин «беседовал и гулял с Потемкиным, как друг или брат», — что было совершенно беспрецедентно: не отказываясь от своей веры, иудей вошел в ближайшее окружение князя. Более того, Потемкин добился для него чина надворного советника, то есть дворянства и права владеть душами и имениями. Осматривая новые города и дороги, он «восседал на великолепном коне рядом с Потемкиным».
Во время южного путешествия Екатерины в 1787 году Потемкин позволил Цейтлину организовать делегацию, обратившуюся к Екатерине с просьбой запретить именовать евреев «жидами». Екатерина приняла их и повелела, чтобы отныне их называли «евреи». Когда же Цейтлин рассорился с Сутерландом, Потемкин, при всей своей любви к представителям Британских островов, поддержал первого. Скоро к православным священникам и муллам в свите Потемкина присоединились несколько раввинов.[523]
Следующая идея Потемкина была еще более оригинальной — импортировать в Россию английских каторжников.
19. АНГЛИЙСКИЕ АРАПЫ И ЧЕЧЕНСКИЕ БОЕВИКИ
А я, проспавши до полудня, Курю табак и кофе пью; Преображая в праздник будни, Кружу в химерах мысль мою. Г.Р. Державин. ФелицаУзнав, что война с Северо-Американскими Штатами не позволяет Англии вывозить туда преступников, Потемкин решил образовать в Крыму колонию англичан. Он воспользовался услугами принца де Линя, который через третьих лиц передал русскому послу в Лондоне Семену Воронцову, чтобы тот предложил британскому правительству составить партию «преступников и арапов» для доставки их в Россию. О каких «арапах» шла речь, не очень понятно. В самом ли деле Потемкин собирался завезти в Крым африканских рабов или имелись в виду бродяги разного сорта — те, кого сейчас мы назвали бы людьми без определенного места жительства и без определенных занятий?
Как бы то ни было, Воронцов, и без того не любивший Потемкина, «устыдился за свою государыню и отечество»: преступников наказывают отправкой в Россию, под скипетр Екатерины Великой! Они отпугнут мирных и трудолюбивых колонистов, которых уже приглашают через все европейские газеты, и, непривычные к работе, вернутся «к грабежам и разбою».[524]
Однако в октябре 1785 года Воронцов, к своему изумлению, получил высочайший приказ провести переговоры о высылке английских преступников в Ригу, для дальнейшего перевода их в Крым. Заплатить за перевоз преступников должно было британское правительство. Воронцов написал государыне, что ее европейская репутация сильно пострадает. «Несмотря на необычайное влияние и власть князя Потемкина», — хвастался Воронцов, императрица согласилась. «Князь Потемкин никогда не простил мне этого», — повторял он несколько лет спустя.[525]
Воронцов желал продемонстрировать некомпетентность и самодурство Потемкина, и ему поверили. На самом же деле идея была далеко не вздорной. Например, незадолго до того, как Потемкин решил использовать английских каторжников и бродяг в Крыму, нечто подобное собирался сделать Иосиф II (он предполагал разместить английских преступников в Галиции). Кроме того, многие осужденные не совершали тяжких злодейств: в те времена в Англии заковывали в цепи и вывозили на галерах за кражу кролика или носового платка. Австралия, куда потом стали отправлять этих преступников, сделалась процветающей страной.
Некоторые из крымских поселенцев и без того были полупреступниками. В 1784 году из Ливорно прибыл корабль с «итальянскими оборванцами», как назвал их Самюэль Бентам, преимущественно корсиканцами. Во время плавания они подняли мятеж, убили капитана, но были взяты в плен и доставлены в Херсон, где использовались на строительных работах. Среди этих головорезов был один англичанин. Бентам нашел его «почти голого, умирающего от голода», и рассказал о несчастье своего соотечественника Потемкину. Тот, когда увидел его лохмотья, велел выдать 300 рублей на одежду. «Это как нельзя больше доказывает его великодушие и благорасположение к нам, англичанам», — заключал рассказ об этом эпизоде Бентам.[526]
История переселенцев имеет и красноречивый американский эпизод. В 1784 году американцы, сохранившие верность английской короне, вынуждены были оставить Соединенные Штаты и обратились к Потемкину с прошением поселиться в России. Но князь счел, что «они могут быть потомками тех, кто выехал из Англии во время революционных войн прошлого века и придерживаться взглядов, никоим образом не приемлемых» в России. Вместо добропорядочных американцев стали искать английских уголовников — Потемкин, для которого Кромвель, Дантон и Пугачев были людьми одного сорта, проявлял последовательность: политическая неблагонадежность, с его точки зрения, была гораздо опаснее бытовой преступности.
Светлейший подробно продумал, как принять поселенцев, и писал правителю Таврической области В.В. Каховскому, что новые подданные, не знающие русского языка и обычаев, требуют защиты и покровительства. «Переведенных из Украйны [...] в наместничество Екатеринославское волохов и прочих иностранцев предлагал я поселить по левую сторону Днепра [...], но, считая, что легче переместить их в пустых греческих деревнях в самой Тавриде, где по крайней мере каково ни есть находится строение, представляю вашему рассмотрению, в полуострове ли или на степи Перекопской их поселить..;» Он постоянно думал о том, как улучшить жизнь новоприбывших, и приказывал Каховскому раздавать волов, коров и лошадей, оставленных ушедшими татарами, причем в первую очередь бедным семействам. Синельникову, правителю Екатеринославского наместничества, он приказал, чтобы каждая семья получила скот и по восемь десятин земли на душу, и требовал, чтобы губернатор встретил их лично.[527]
Потемкин;) часто обвиняли в том, что он бросил этих людей на произвол судьбы. Но он не мог лично следить за выполнением всех своих распоряжений, а подчиненные часто лгали ему. Стремясь убедиться, что от него ничего не скрывают, он пребывал в постоянных разъездах. Некоторые поселенцы действительно терпели лишения, но многие семьи были довольны своим обустройством. Архивы доказывают, что, обнаружив какую-либо оплошность, Потемкин реагировал мгновенно. Так, в одной из записок Каховскому он предлагает пять способов преодолеть «великие лишения» колонистов, связанные с недостатком выданного им скота.[528] Совершенно поразительно, как соправитель огромной империи, причем не в порядке исключения, а постоянно вникал в такие подробности и лично приказывал своим генералам исправлять подобные ошибки.
Крым и южные области князь желал превратить в сад империи. «Это чудесное и невероятно плодородное место», — писал он Екатерине. 5 августа 1785 года он опубликовал обращение к крымским землевладельцам, в котором требовал сажать сады: «Возделывание земли я считаю первым источником богатства». Незасеянная же земля — «позор для хозяина, свидетельство его нерадивости»[529].
Для того чтобы «ускорить заселение Перекопской степи и подать пример», Потемкин сам взял леса и 6000 десятин земли «для посадок сахарного тростнику». Ведавших сельским хозяйством Крыма профессоров Ливанова и Прокоповича и ботаника Таблица он отправлял осматривать все новые земли. Он приказал Корсакову построить мосты, чтобы упростить добычу соли; послал инженеров разведывать залежи каменного угля на Донце и под Луганском; в Тавриде постоянно находился специалист по горному делу.[530]
Стремление использовать свои имения в качестве торговых факторий между севером и югом было почти навязчивой идеей Потемкина. «Барки, привозящие продовольствие и припасы для херсонского флота из [белорусских] имений и факторий князя Потемкина, возвращаются груженные солью», — сообщал в Париж французский дипломат.
Чтобы освоить пустынные крымские и запорожские степи, поощряя торговлю и строительство мануфактур, Потемкин стремился раздавать земли, особенно иностранцам. В этом он тоже отдавал предпочтение англичанам. Английскому посланнику он говорил, что «русские мало способны к коммерции и он всегда придерживался мнения, что внешнюю торговлю империи должны обеспечивать исключительно англичане».[531]
Потемкин добился того, чтобы земли никому не раздавались без его одобрения. Освоить огромные территории можно было множеством способов: в первую очередь он жаловал обширные имения чиновникам (например, своему секретарю Попову и своему союзнику Безбородко, который пришел в восторг, получив «почти царское» имение), друзьям-иностранцам, казакам или перешедшим к нему на службу татарам — он лично раздал 73 тысячи десятин на материке и 13 тысяч на полуострове.[532] Если хозяева хорошо справлялись с поставленной перед ними задачей, светлейший освобождал их от податей, как, например, троих студентов, изучавших сельское хозяйство в Англии: «за большие успехи».[533] Многие иностранцы, от генуэзских дворян до английских леди, забрасывали Потемкина проектами и просили земли, но получали ее только если их планы казались князю разумными.
«Я имею, князь, большое желание приобрести здесь имение», писала ему из Крыма графиня Крейвен.[534] Дочь графа Беркли, она, подобно герцогиням Кингстонской и Девонширской, была героиней лондонских скандальных газет, но эта талантливая и независимая женщина была еще и отважной путешественницей и одним из первых авторов путевых записок-бестселлеров. Недолгое время она была замужем за пэром Англии, затем вступила в связь с французским посланником в Лондоне, а позже отправилась путешествовать в обществе молодого друга, посылая красочные описания поездки своему поклоннику, маркграфу Анспаху, зятю Фридриха Великого. Эти письма составили опубликованное ею «Путешествие через Крым в Константинополь». Свое географическое, любовное и литературное путешествие она закончила в 1791 году, выйдя замуж за Анспаха (с которым переписывался и Потемкин) и породнившись таким образом с королевским домом.
Элизабет Крейвен встречалась с князем в Петербурге и отправилась в Крым по его совету. Увидев, какие возможности дает приобретенный Россией край, она предложила: «Я создам здесь колонию из моих добропорядочных и предприимчивых соотечественников [...] Я была бы счастлива иметь собственный участок процветающей земли: Признаюсь, князь, я мечтала бы иметь два поместья в разных местах Тавриды». Апеллируя к его романтизму, она называла свое желание «прекрасной мечтой». При этом графиня умоляла князя «не сообщать о ее пожелании г-ну Фицгерберту» (преемнику Харриса на посту английского посланника в Петербурге), равно как и «никому из соотечественников», вероятно, не желая увидеть эту новость в лондонских листках. Чтобы напомнить Потемкину, с кем он имеет дело, она подписывала каждое письмо «Элизабет Крейвен, супруга пэра Англии, урожденная леди Элизабет Беркли». Ответ Потемкина неизвестен, но Крейвен так и не обосновалась в Крыму. Возможно, князь нашел ее красноречие чрезмерным, а планы — несерьезными.[535]
Князь мечтал сделать свои губернии краем цветущих полей и садов и наполнить его промышленностью: теперь ему требовались не солдаты, а агрономы. В письме к доктору Циммерману Екатерина цитировала его слова: «В Тавриде должно без сомнения, во-первых, завести хлебопашество и шелковых червей, следовательно и насадить шелковичных деревьев. Можно бы делать в Тавриде сукно [...], так же и сыры, коих не делают по всей России. И разведение садов, а особливо ботанических [...] Для всего оного люди знающие необходимы».[536]
Когда испанский офицер Антонио д’Эстандас попросил выделить ему имение, чтобы устроить под Симферополем фарфоровую и фаянсовую фабрику, князь тут же приказал губернатору «отвесть ему земли сколько потребно, но с обязательством [...], что точно и без промедления сии фабрики учреждены будут». Считая Крым идеальным местом для производства шерсти, он уверял Екатерину, что здесь можно будет перегнать европейских скотоводов.[537]
Самодержец и предприниматель в одном лице, князь сам управлял различными производствами, в том числе шелка и вина. Решив организовать шелковую мануфактуру (в Астрахани у него уже работало хорошо отлаженное предприятие), он заключил соглашение с итальянским графом Пармой об устройстве фабрики на большой территории. Князь перевез двадцать крестьянских семей из своих российских поместий, обещав через пять лет доставить еще двадцать, и ссудил графу 4 тысячи рублей. Чтобы под держать производство, он скупал по повышенной цене весь шелк, производившийся в области. Что же касается до успеха этого предприятия, то в начале XIX века Мария Гатри констатировала, что шелк, который производит усердный граф Парма — отличного качества.[538]
Рынком крымского шелка князь хотел сделать Екатеринослав. 340 тысяч рублей было потрачено на заведение чулочной фабрики, и скоро он послал императрице пару чулок — таких тонких, что они умещались в скорлупе грецкого ореха. «Ты, милосердная мать, посещая страны, мне подчиненные, увидишь шелками устлан путь», — писал он.[539]
Что касается вина, то в четырех местах полуострова Потемкин посадил 30 тысяч лоз токайского винограда, вывезенного из Венгрии с разрешения Иосифа II. В Астрахани он уже несколько лет разводил виноградники. Теперь светлейший выписал оттуда в Судак француза Жозефа Банка, своего виноградаря, чтобы устроить под стенами Генуэзской крепости центр виноделия.
Задача Банка состояла в том, чтобы сажать фруктовые сады и виноградники, а также, в качестве полезного дополнения, «устроить производство водки на французский манер». В течение пятилетней службы его жалованье составляло 2 тысячи рублей в год (гораздо больше офицерского), плюс квартира, дрова, пара лошадей и сорок бочонков вина. По приезде француз ворчал, что купленные для него сады «запущены [...] за ними не ходили три года [...] и в этом году вина ждать не приходится».[540]
Когда первый урожай был готов, он с гордостью послал светлейшему 150 бутылок красного судакского вина.
Письма Банка, рассеянные по потемкинским архивам, полны жалоб и часто покрыты пятнами, как будто автор писал их, одновременно поливая виноградники. Бедный Банк скучал по жене: «Без семьи я не могу оставаться в Судаке, даже если Ваша Светлость подарит мне весь мир». Работа невозможна без двадцати помощников — причем не солдат! Но работники грубили Банку, и он снова жаловался князю.[541]
В конце концов Потемкин уволил Банка, возможно, за воровство. Дальнейшая судьба Банка неизвестна; его место занял другой француз.
«Судакские виноградники, — сообщал в Версаль граф Сегюр, — очень недурны».[542]
Даже в разгар Второй русско-турецкой войны, в 1789 году, продвигаясь в глубь турецкой территория, князь находил время давать Фалееву распоряжения вроде следующего: «Удобной земли вспахать прикажите [...] и заготовить достаточное число для посева будущим летом фасоли. Лучших семян я из Ясс пришлю, так как и чечевицы. Я намерен тут устроить школу хлебопашества...»[543]
Потемкинская «империя в империи» не ограничивалась Новороссией: ему были вверены и военные границы с Кавказом и Кубанью — здесь на протяжении 1780-х годов шли военные действия: продвижению русских сопротивлялись чеченцы и другие горские племена. На Кавказе русские установили линию укрепленных фортов, где держали оборону поселенцы-казаки. В середине 1770-х годов, получив доступ к власти, Потемкин сразу пересмотрел устройство обороны на Кавказе и решил передвинуть пограничные заставы со старой Царицынской линии на новую, Азово-Моздокскую.
Линия давала возможность сажать виноградники, шелковичные деревья и хлопок, умножать разведение овец, лошадей, сажать сады и увеличивать производство зерна. Начало новой линии было положено летом 1777 года строительством фортов в Екатеринограде, Георгиевске и Ставрополе. В 1780 году Потемкин привез в будущие губернские центры первых гражданских поселенцев (это были государственные крестьяне из внутренних губерний).{67} В конце 1782 года, когда фортификации были почти готовы, императрица предоставила Потемкину право единоличного надзора за раздачей земель в этом краю. Князь перевез на Линию казаков из волжских станиц. Название, данное им в 1784 году новой крепости на Кавказе, бросало вызов вождям горских племен: Владикавказ.
По Георгиевскому трактату, подписанному в 1783 году с царем Ираклием, российская граница передвинулась с севера Кавказа в Тифлис. К этому времени владения и проекты Потемкина стали уже так обширны, что он советовал императрице создать отдельное Кавказское наместничество, которое состояло бы из Кавказской, Астраханской и Саратовской губерний, — разумеется, под его управлением. Наместником был назначен энергичный кузен князя Павел Потемкин: построив Военно-Грузинскую дорогу через горы в Тифлис, он стал населять новые города государственными и монастырскими крестьянами. Только в 1786 году в распоряжение светлейшего поступили 30 307 человек из внутренних губерний для заселения Кавказа (и Екатеринослава).[544] Павел Сергеевич, подобно своему могущественному родственнику, превратил Екатериноград в подлинную столицу наместничества и завел там двор в роскошном дворце.
В 1785 году на Кавказе появился вождь в зеленом плаще, называвший себя Шейхом Мансуром (Победителем). Он проповедовал идеалы суфийского братства Нашбанди и объявил газават — священную войну против русских. Никто никогда не узнает, кем он был на самом деле: возможно, пастухом-чеченцем по имени Ушурма, родившимся в 174$ году. Однако, согласно одной из версий, он был сыном итальянского нотариуса из Монтеферрата, его настоящее имя было Джо-ванНо Баттиста Боэтти, он сбежал из дома, стал доминиканским миссионером, принял ислам, изучал коран в бухарском медресе и сделался воином{68}. Со своими горцами, предшественниками шамилевских мюридов, Мансур сумел истребить колонну русских войск из 600 человек. Впрочем, он чаще проигрывал, чем побеждал, и все же продолжал возглавлять коалицию горцев, и имя его стало легендой.
Войной против Шейха Мансура руководил из Екатеринограда Павел Потемкин. Но архивы светлейшего показывают, что верховное командование кавказскими и кубанскими корпусами принадлежало ему. В 1787 году, перед тем, как разразилась вторая война с Турцией, побежденный Мансур бежал на турецкую территорию. Когда началась война, он был готов сражаться снова.[545] Русским так и не удалось полностью подавить горское сопротивление, и так называемые войны с мюридами продолжались почти весь следующий век. Не прекратились они и до сих пор.
Князь строил на юге дворцы, достойные наместника, если не царя. У него был большой дом в Кременчуге, а обширный дворец в Херсоне{69}, с двумя двухэтажными флигелями и центральным четырехэтажным корпусом, был главным зданием нового Города. Славу потемкинских «Афин» составлял монументальный Екатеринославский дворец, построенный по проекту Ивана Старова, с двумя крыльями, простирающимися на 120 метров от портика с шестью колоннами{70}. Садовник Потемкина Уильям Гульд приехал на юг вслед за Старовым с сотнями рабочих. В Екатеринославе он разбил английский парк и создал возле дворца две оранжереи, подчеркивая сочетание «изящества и практичности», как сам он писал князю.[546]
Удивительно, но в Крыму Потемкин не построил для себя ни одного крупного дворца, хотя в Карасубазаре Старов возвел для него особняк из розового мрамора.[547] Последний его дворец, в Николаеве, высится на утесе у слияния двух рек. Он декорирован местными архитекторами в молдавско-турецком стиле и имеет купол с четырьмя башнями, напоминающими минареты. В последние месяцы жизни князь приказал Старову добавить к дворцу баню и фонтан («как у меня в Царском Селе»).[548] Это был последний заказ, который Старов выполнил для своего покровителя.
Сам князь считал юг делом своей жизни. В последний приезд в Петербург в 1791 году он произнес перед английским посланником Уильямом Фокнером пламенную речь, которая показывала, что его энтузиазм ничуть не угас. Его энергия и воображение, сделавшие его государственным деятелем первого ранга, по-прежнему били через край. Он говорил, что должен возвращаться на юг, чтобы осуществить свои великие планы, успех которых, сказал он, «зависит от него одного». Там стоял флот, построенный почти его собственными руками,, а население со времени назначения его губернатором «увеличилось с 80 тысяч до 400 тысяч солдат, а в целом составляет почти миллион...»[549]
Перепись населения в Новороссии и Крыму не проводилась, поэтому по разным оценкам число жителей получается разным. Французский посланник Сегюр, описывая своему правительству деяния Потемкина, восклицал: «Когда он взял в свои руки бразды правления этим краем, здесь насчитывалось всего 204 тысячи жителей, а под его управлением население всего за три года достигло 800 тысяч! Это греческие колонисты, немцы, поляки, отставные солдаты и матросы». Потемкин увеличил мужское население Крыма, предположительно с 52 тысяч человек в 1782 году до 130 тысяч в 1795-м. В остальной части Новороссии мужское население выросло за тот же период с 339 тысяч до 554 тысяч. Другой авторитетный историк указывает, что мужское население увеличилось с 724 678 человек в 1787 году до 819 731 в 1793-м. Какова бы ни была истина, очевидно, что свершения князя были огромны. «До того, как в девятнадцатом веке изобретение парохода и паровоза позволило начать коммерческое освоение... таких отдаленных районов, как центральная часть американского запада, — пишет современный исследователь, — эта российская экспансия была непревзойденной по масштабу и скорости».[550]
Он в буквальном смысле основал сотни мелких поселений («Один француз, — писал Сегюр, — каждый год сообщал мне, что обнаруживает новые процветающие деревни там, где прежде была пустыня») — и несколько крупных.[551] Большинство последних сегодня — крупные города: Херсон, 355 тысяч жителей, Николаев, 1,2 миллиона, Екатеринослав (ныне Днепропетровск), 600 тысяч, Севастополь, 375 тысяч, Симферополь, 358 тысяч, Ставрополь, 350 тысяч, Владикавказ (столица Северной Осетии), 300 тысяч, и Одесса, 1,1 миллиона. Почти во всех —судостроительные верфи и военно-морские базы.
Еще одним свершением, имевшим значение для Российской империи вплоть до Крымской войны, да и позднее, стало строительство меньше чем за десять лет черноморского флота. «Поистине гигантское свершение, — пишет современный историк, — сделало Россию арбитром Восточной Европы и дало ей шанс затмить Австрию и Османскую империю».[552]
20. АНГЛОМАНИЯ
Мой роман кончен...
Я должен оставить Петербург...
Как я счастлив, что князь
Потемкин предложил мне место...
Сэмюэл Бентам брату, Иеремии Бентаму
11 декабря 1783 года Потемкин вызвал в свои петербургские апартаменты молодого англичанина Сэмюэла Бентама и обрисовал ему перспективу блестящей карьеры под своим начальством.
Братья Бентамы — старший, Иеремия, и младший, Сэмюэл, — были сыновьями адвоката Джеремайи Бентама, которому покровительствовал будущий премьер-министр граф Шелбурн. Оба брата обладали блестящим умом, кипучей энергией и изобретательностью, но характеры их были совершенно противоположны: Иеремия, которому к моменту нашего рассказа исполнилось почти сорок лет, был робкий человек и кабинетный ученый; Сэмюэл — красноречивый, любящий общество, вспыльчивый и влюбчивый. Инженер по образованию, талантливый математик, он не находил применения своим способностям на родине, хотя не оставлял работы над механическими изобретениями и попыток предпринимательской деятельности. Своей непоседливостью он напоминал Потемкина, «постоянно переходя от одного плана к другому, еще лучшему».[553]
В 1780 году, когда Иеремия работал в Лондоне над проектом законодательной реформы, Сэмюэл, которому исполнилось 23 года, отправился в путешествие, заведшее его на берег Черного моря (здесь он наблюдал рождение Херсона), а затем в Петербург, где он представился Потемкину. Сэмюэл сразу понял, что князь — тот самый человек, который может способствовать его карьере. И действительно, вскоре, в 1781 году, Потемкин отправил его в поездку по Сибири, для осмотра промышленности края. Когда Бентам вернулся, князь представил императрице его отчеты о сибирских рудниках, заводах и соляной добыче.[554]
Потемкину нужны были способные инженеры, корабельные мастера, предприниматели и англичане: Бентам соединял все это в одном лице. В письме к брату из Иркутска он хвастался, что нашел покровителя, «облеченного властью». Юный путешественник волновался, понимая, что он и его покровитель буквально созданы друг для друга: «Размах дел, которые ведет этот человек, превышает все, о чем мне доводилось слышать в этой империи. Положение его при дворе также самое благоприятное — еще одна причина, по которой ему низко кланяются все губернаторы. Главный предмет его забот — Причерноморье. Он развивает там мануфактуры, строит корабли для казны, снабжает армию и казну всем необходимым и очищает Днепр от порогов за собственный счет. Перед моим отъездом из Петербурга он выразил желание, чтобы я оказал ему помощь в его предприятиях».[555]
Однако по возвращении Бентам занялся совсем другим предметом.
В Петербурге он влюбился в графиню Софью Матюшкину, племянницу и воспитанницу фельдмаршала князя Александра Михайловича Голицына, губернатора столицы, неудачно командовавшего армией в русско-турецкой войне, но пользовавшегося уважением за преклонные лета. Сэмюэл и графиня, почти ровесники, познакомились в салоне сына фельдмаршала, влюбились друг в друга и стали часто встречаться. Их страсть еще больше разгоралась от того, что приходилось прибегать к уловкам, ибо старый Голицын был очень недоволен ухаживанием английского золотоискателя за его воспитанницей, тем более был против ее брака с ним. Весь двор следил за развитием их романа. Императрица, любившая амурное озорство, дала понять, что этот скандал ей по душе.
Воображение Сэмюэла разыгралось не на шутку. «Если вы имеете что сказать мне за или против брака, — просил он брата, — прошу вас, сделайте это». Ему полюбились и девушкам и то положение, которое она занимала: «Она наследница двух очень богатых людей». Сэмюэл решил, что интерес к его особе, вызванный скандалом, поможет ему получить место на службе императрицы: «Я не сомневаюсь, что желание Ее Величества помочь моему союзу обеспечено ее благосклонностью ко мне [...] Она уверена, что я предложил свою службу империи, потому что влюблен». Он писал и Голицыну: «Я люблю вашу племянницу уже больше пяти месяцев».[556] Это еще больше разозлило старика, и он запретил молодым людям встречаться.
Придворные получали удовольствие от наблюдения за несчастной любовью не меньше, чем Екатерина; новости об этом романе сообщали даже Потемкину, занятому присоединением Крыма. Англия и англичане были в большой моде, и Бентам не только страдал от любви, но и вел рассеянную светскую жизнь, наслаждаясь вниманием высшего общества. В Петербурге жило много его соотечественников; ему покровительствовали сэр Джеймс Харрис, а затем его преемник Ален Фицгерберт. Его единственным постоянным врагом из числа британцев был шотландец доктор Роджер-сон, придворный медик. Возможно, подозревая истинные интересы, двигавшие любовью Бентама, он советовал Екатерине не принимать Сэмюэла при дворе, потому что у того сильный дефект речи. Однако двое русских друзей Бентама князь Павел Дашков, сын княгини Дашковой, и инженер полковник Корсаков, оба учившиеся в Англии и теперь служившие при Потемкине, ввели Бентама в гостиные всех столичных вельмож, принимавших иностранцев. Вот характерное письмо Бентама: «Завтракал у Фицгерберта, обедал у герцогини Кингстон, потом поехал к князю Дашкову, от него к Потемкину, но, так как последнего не оказалось дома, отправился к баронессе Строгановой, а оттуда на ужин к Дашкову».[557]
Возможно, по желанию Екатерины ее фаворит Ланской вмешался в отношения Бентама с Матюшкиной и сказал тетке и матери Софьи, что «императрица полагает, что они неправы, противореча сердечной склонности молодой графини». Это раздражило тетку еще сильнее. В ту эпоху в Европе, даже в Италии, было немного городов, так приспособленных к интригам, как Петербург, где тон задавал двор и где целая армия слуг передавала записки, выведывала секреты и ждала под окнами тайных знаков. Так при помощи друзей Сэмюэл и Софья разыгрывали сцены из «Ромео и Джульетты».
Сэмюэл, опьяненный высоким положением своих союзников, разделял свойственное многим влюбленным заблуждение, что он является центром вселенной, и полагал, что европейские кабинеты забывают о войнах и трактатах, обсуждая подробности его свиданий. Поэтому, когда, покорив Крым и Грузию, Потемкин с триумфом вернулся в Петербург, Сэмюэл ожидал, что тот первым делом спросит о его романе. Однако князя больше интересовали познания англичанина в корабельном деле. Екатерина, хотя ей и нравилось дразнить Голицыных, никогда не встала бы на сторону англичанина против потомков Гедиминаса. Ланской вмешался снова и заявил, что скандальный роман нужно прекратить.
6 декабря удрученный Бентам явился к Потемкину, который предложил ему место в Херсоне. Сэмюэл не хотел соглашаться, все еще надеясь на брак с Матюшкиной. Но скоро он понял, что в Петербурге ему больше нечего делать, и, решив удалиться «из деликатности», принял предложение. Потемкин произвел его в чин подполковника, назначив жалованье 1200 рублей в год и «гораздо большую сумму на столовые средства». Князь имел большие виды на Сэмюэла — тому предстояло переместить верфи вверх по Днепру и возглавить внедрение ряда механических изобретений.
Новоиспеченный подполковник был в восторге от Потемкина. «Южная часть империи находится под его прямым управлением, — восторженно писал он, — а вся остальная — под косвенным. При той благосклонности и доверии, каких удостаивает меня князь, я никак не могу назвать свое положение неприятным. Он соглашается со всеми моими предложениями. Я могу входить к нему в любое время. Он приветствует меня, когда бы я ни вошел к нему в комнату, и усаживает, тогда как обладатели звезд и лент могут являться по десять раз, а он на них даже не взглянет».
Необычный стиль управления Потемкина забавлял Бентама: он так и не знал, что именно будет ему поручено в Херсоне или где бы то ни было. В разговоре с Сэмюэлом светлейший упомянул также «какое-то поместье на границе с Польшей [...] Сегодня он говорит о новом порте и о верфи ниже порогов, завтра о том, что поручит мне строить в Крыму ветряные мельницы, через месяц мне могут поручить полк гусар и отправить воевать с китайцами, а потом — командовать стопушечным кораблем».[558] Под конец карьеры Бентама в России за его плечами окажется почти все вышеперечисленное.
10 марта 1784 года князь внезапно уехал из Петербурга на юг, оставив Бентама в распоряжении Попова, начальника своей канцелярии. В среду, 13 марта, в полночь Бентам выехал в обозе из семи кибиток. Из дневника, который Сэмюэл вел в эти дни, мы знаем, что 16 марта он прибыл в Москву, чтобы встретиться с Потемкиным. Когда утром следующего дня он явился к князю, тот позвал Попова, велел ему записать молодого человека в армию, в кавалерию или в инфантерию, как тот пожелает (Бентам выбрал пехоту) и выдать ему мундир подполковника.
Три с лишним месяца путешествовать вместе с князем по империи — такой привилегией могли похвастаться лишь немногие иностранцы; Потемкин терпел только тех, кто мог составить ему лучшее общество. «Путешествие, которое я совершал этой весной с князем, было во всех отношениях приятно для меня, не привыкшего много думать об усталости [...] Я давно не проводил время так весело». Из Москвы они направились на юг через Бородино, Вязьму и Смоленск, проехали
через потемкинские имения в Орше в верховьях Днепра, а оттуда направились в южную штаб-квартиру светлейшего, в Кременчуг. Бентам наверняка был при князе в то время, когда тот открывал свое наместничество в Екатеринославе. В Крым они добрались в начале июня должно быть, они вместе посетили Севастополь.
Наконец князь решил, что подполковник Бентам не должен оставаться в Херсоне, и в июле англичанин прибыл к новому месту службы — в имение Потемкина Кричев.[559]
Бентам стал единоличным управляющим имения, «территория которого превышала площадь любого английского графства» — а также многих немецких курфюршеств: Кричев, по словам Бентама, простирался больше чем на 100 квадратных миль, соседствуя при этом с другим, еще большим имением Потемкина — Дубровной. В Кричеве имелось пять городков и 145 деревень, всего 14 тысяч душ мужеского пола. Население обоих имений превышало «40 тысяч мужчин-вассалов», как выразился Бентам, то есть полное число жителей должно было превышать эту цифру по меньшей мере в два раза.[560] Поместья Кричев и Дубровна были не только обширны, но и стратегически важны: когда в 1772 году Россия присоединила эти земли по первому разделу Польши, Екатерина получила контроль над верховьями двух важнейших торговых рек Европы: над правым (северным) берегом Западной Двины, ведущей на Балтику, в Ригу, и над левым (восточным) берегом Днепра, где Потемкину предстояло построить несколько городов. Когда в 1776 году Екатерина решила подарить Потемкину земли, он, возможно, попросил те, что имели выход к обеим рекам и являлись потенциальными торговыми форпостами как для Балтийского, так и для Черного моря: потемкинские владения, идеальная площадка для строительства небольших кораблей, тянулись вдоль левого берега Днепра ни много ни мало на пятьдесят миль.
Имения Потемкина уже славились заводами, производящими лучшие в России зеркала.{71} В Кричеве же Бентам увидел коньячный, кожевенный и медеплавильный заводы, парусинную мануфактуру на 172 станка, канатную фабрику, поставляющую канаты на херсонские верфи, комплекс оранжерей, гончарную мастерскую, судостроительную верфь и еще одно зеркальное производство. Кричев являлся как бы продолжением Херсона. «Это поместье в изобилии снабжает главные морские склады по реке, [...] самому удобному транспортному пути к Черному морю». Торговля шла в обоих направлениях: уже появившийся избыток канатов и парусины отправлялся в Константинополь, одновременно велась оживленная двусторонняя торговля с Ригой. Это был царский арсенал Потемкина, его промышленная и торговая штаб-квартира, его судоверфь и источник поставок в строящиеся города и на черноморский флот.[561]
В Кричеве ничто не напоминало Бентаму о петербургских гостиных. Дом Потемкина, в котором он поселился, оказался «шатким сараем». Энергичный и амбициозный англичанин попал на перекресток европейских дорог: здесь пересекались не только речные транспортные пути, но встречались и далекие друг от друга культуры. «Местоположение живописно и приятно, люди [...] тихие и невероятно терпеливые [...] хотя одни работящие, а другие лентяи и пьяницы». Здесь же, «почти как рабы», работали сорок обедневших польских дворян.
Население Кричева составляли русские, немцы, донские казаки, польские евреи — и англичане. «Поначалу мои английские уши никак не могли привыкнуть к этой какофонии». Евреи, у которых «нам приходилось покупать все необходимое для жизни», вспоминал потом Бентам, говорили на немецком или на идише. «По рыночным дням, оказываясь в самой середине этой сумятицы причудливых лиц и платьев, я часто спрашивал себя, каким ветром меня сюда занесло».
Не менее разнородны были и обязанности Сэмюэла. Он стал «законодателем, судьей и шерифом» здешних крепостных и, разумеется, управляющим фабрик. Через два года Бентам достиг таких успехов, что предложил князю сделку: он возьмет на десять лет самые запущенные заводы, а Потемкину оставит самые процветающие. На строительство и материалы ему потребуется кредит в 20 тысяч рублей (около 5 тысяч фунтов).[562] Сделка была подписана в январе 1786 года, причем князь ссудил деньги на десять лет беспроцентно: ему было достаточно получить в конце этого периода заводы, способные приносить доход. Его заботила не прибыль, а интересы империи.
Помимо других нововведений Бентам предложил ввезти в Кричев картофель. Первый урожай собрали в 1787 году, и Потемкин приказал сажать картофель и в других своих поместьях. Картофель пытались сажать и раньше — но Потемкин первый стал систематически распространять посадки в своих многочисленных имениях, и, возможно, благодаря его распоряжениям этот корнеплод стал основой рациона россиян.
Но главной обязанностью Бентама было строительство кораблей, причем любого рода. «Мне предложено самому выбирать [...] строить ли военные суда, торговые или прогулочные». Князю нужны были пушечные фрегаты для флота, прогулочные для императрицы, баржи для днепровской торговли и, наконец, галеры для долгожданного путешествия императрицы на юг. Такой заказ мог обескуражить кого угодно — но мог ли Бентам недооценить момент, когда Потемкин никак не мог решить, какие же суда ему нужны в первую очередь. Сколько мачт, одну или две? Сколько орудий? «Чтобы закончить разговор, он объявил, что, если мне угодно, пусть будет двадцать мачт и одна пушка. Я не знал, что отвечать...» Какому еще изобретателю случалось иметь дело с таким снисходительным — и безумным заказчиком?[563]
Вскоре Сэмюэл понял, что нуждается в помощи. На корабли требовались гребцы, будь то крестьяне или солдаты. С этим проблем не возникало: князь, как по волшебству, доставил батальон мушкетеров. «Поручаю вам командование», —. писал светлейший из Петербурга в сентябре 1785 года. Мысль о флоте не оставляла Потемкина: «Мое намерение, сэр, — иметь корабли, годные к плаванию по морю, так что прошу вас... оборудовать их соответственно». Естественно, Бентам не умел ни говорить по-русски, ни командовать солдатами, так что когда один майор спросил его распоряжений на параде, он отвечал: «Как вчера». А какой проводить маневр? «Какой всегда».[564]
Писать, а тем более чертить, умели только двое или трое поручиков, двое кожевенников из Ньюкасла, юный математик из Страсбурга, датчанин-медеплавильщик и шотландский часовщик. Сэмюэл забрасывал Потемкина требованиями прислать мастеров. Князь отвечал, что работников можно нанимать на любых условиях.[565]
Если в политическом отношении Англия не интересовала Потемкина, то к самим англичанам он относился с живым вниманием. Впрочем, в ту эпоху англомания правила Европой. В Париже носили «виндзорские воротнички» и английские сюртуки, дамы пили шотландский виски и чай, делали ставки на ипподромах и играли в вист. Потемкин желал видеть у себя только английских специалистов — не только у кричевских ткацких станков, но и в ботанических садах, на молочных фермах, ветряных мельницах и верфях. Объявления, которые Бентамы давали в английские газеты, отражали потемкинские капризы. «Князь желает завести пивное производство», — говорилось в одном. Или «хочет устроить красивую молочную ферму для производства масла и возможно большего числа сортов сыра». Наконец, требовались англичане вообще: «Любой талантливый человек, способный усовершенствовать предприятия князя, будет принят наилучшим образом». В конце концов Потемкин объявил Бентаму, что желает создать «целую английскую колонию», которая будет иметь привилегии и собственную церковь.[566] Англомания Потемкина, естественно, была заразительна. Соседи-помещики желали теперь обучать своих мастеровых у английских кузнецов, а Дашков отправил своих крепостных в Англию учиться ковроткачеству. Потом выяснилось, что садовников, матросов и ремесленников не достаточно: русские захотели и английских жен. Когда будущий адмирал Мордвинов женился на Генриетте Кобли, Николай Корсаков признавался Сэмюэлю, что и он «страстно желает жениться на англичанке».[567]
Бюджет Бентама был неограничен. Когда он попросил светлейшего определить условия кредита, тот отвечал лишь: «Какие вам будет угодно», — и банкир Сутерланд устроил для него кредит в Лондоне. Бентам понял, какие возможности открывают перед ним торговля между Англией и Россией и пост посредника в потемкинской кампании по вербовке английских мастеров. Через несколько недель после публикации первого объявления Сэмюэл стал посылать своему брату Иеремии списки следующего рода: «...одного слесаря, одного мастера по ветряным мельницам, одного ткача, строителей барж или барок, сапожников, укладчиков кирпича, матросов, домоправителей и двоих горничных, одна чтобы умела делать сыр, а другая прясть и вязать».[568]
Отец и старший сын Бентамы взялись за дело с энтузиазмом. Старый Бентам пригласил к себе, чтобы обсудить проект, помощника министра иностранных дел Фрейзера и двух российских «ветеранов» — Харриса, вернувшегося в Англию в 1783 году, и Реджиналда Пола Кери. Бывшего премьер-министра Шелбурна, теперь маркиза Лэнсдоуна, он уговорил набрать корабельных плотников для помощи своему младшему сыну. Шелбурн нашел, что замыслы Потемкина любопытны, но едва ли следует ему доверять: «Оба ваши сына слишком либеральны по складу ума, чтобы заниматься коммерцией, а Сэму наверняка интереснее изобретать, чем подсчитывать проценты. Это может сделать за него самый заурядный русский... — писал Лэнсдоун 21 августа 1786 года. — Он тратит свои лучшие годы в стране, где все меняется, и опирается на сомнительных людей».[569]
Скоро проект принял тот гротескный масштаб, какого достигали многие предприятия XVIII века.
Иеремия Бентам посылал брату длинные списки кандидатов на самые разные должности, от молочницы до смотрителя ботанического сада. Разумеется, приезжали прежде всего те, кто умел хорошо себя представить. Так, шотландец Логан Хендерсон, принятый на должность смотрителя ботанического сада, утверждал, что является «экспертом» не только по садоводству, но еще и по паровым двигателям, сахарной свекле и фейерверкам. Подписав контракт, он обязался привезти с собой двоих племянниц для работы на молочной ферме. Доктор Джон Деброу, бывший кембриджский аптекарь и автор только что вышедшего «Определения пола у пчел», подписался в качестве химика вместе с ремесленниками из Ньюкасла и Шотландии. Первая партия «экспертов» прибыла в Ригу в июне 1785 года. Пестрая компания философов, моряков, мошенников, женщин легкого поведения и рабочих, не знающих ни одного иностранного языка, оказалась заброшена в белорусскую деревню. При этом намерения каждого поселенца, как выяснилось, сильно расходились с планами Сэмюэла Бентама.
Иеремия Бентам жаждал присоединиться к брату. Он предвидел не только коммерческие возможности, но и перспективу работать в тишине над своими трактатами, которые Потемкин потом воплотит в реальность. Поместья Потемкина казались настоящей мечтой философа-практика (утилитарная теория Иеремии Бентама измеряла историческое значение правителя его способностью сделать счастливыми максимальное количество подданных), и он решил, что приедет в Россию со следующей партией англичан. Хуже всего было то, что Иеремия пустился писать князю напрямую, предлагая свои безумные идеи и навязывая очередных химиков и садовников.
Чтобы привезти ремесленников, Иеремия собирался приобрести корабль и назвать его «Князь Потемкин». Мадемуазель Кертленд, «молочница и одновременно отличный химик», подвигла Иеремию Бентама на такую феминистскую тираду: «Приобретая достоинства нашего пола, женщины обычно теряют преимущество собственного [...] Но не таков случай мадемуазель Кертленд». Еще философ намеревался продать Потемкину «огненную машину», а лучше — паровой двигатель Уатта и Болтона. Если двигатель не нужен, то не учредить ли в Крыму типографию? Печатать можно хотя бы «Проект Свода Законов» некоего И. Бентама, предлагал он — и подписывался: «В четвертый раз, Ваш Вечный Корреспондент».
Светлейший терпеть не мог длинных эпистол и хотел практических результатов. Подполковник Сэмюэл Бентам испугался, что «вечный корреспондент» разрушит его карьеру, и велел брату прекратить поток писем. Подробности покажутся князю «утомительными», он «ничего не желает слышать, пока не прибудут люди». Потемкин не отвечал на письма Иеремии. «Я боюсь самого худшего, — волновался Сэмюэл. — Наверное, все дело в твоем излишнем рвении». Однако в конце концов философ получил через русское посольство в Лондоне самое любезное письмо от светлейшего. «Должен поблагодарить вас за ваши труды по выполнению моих просьб, — писал Потемкин. — Занятость не позволила мне написать вам раньше [...] но теперь прошу вас получить согласие мистера Хендерсона сопровождать упомянутых вами особ». В самом деле, длинные, но блестящие письма Иеремии с его пышными фантазиями искренне понравились князю. Он сообщал, что очарован ими и приказал перевести их на русский язык.[570]
Больше всего Иеремия Бентам гордился приглашенным им садовником. «Джон Эйтон, — сообщал он отцу, — племянник королевского садовника в Кью».[571] В те времена среди садовников имелась своя аристократия, но все же Эйтон не получил должности первого садовника князя. Ее уже занимал Уильям ГУльд, протеже знаменитого мастера английских садов Ланслота Брауна, прибывший в Россию в 1780 году, почти одновременном с Сэмюэлом Бентамом.
Пожалуй, именно в создании английских парков всюду, где он оказывался, ярче всего сказалась его англомания. Живописные, тщательно спланированные и при этом создававшие иллюзию естественности, английские парки с их прудами, гротами и руинами постепенно вытесняли регулярные французские. «Я обожаю английские парки, — писала Екатерина Вольтеру, — с их изогнутыми линиями, пологими склонами, прудами, похожими на озера, и ненавижу прямые линии и однообразные аллеи [...] Словом, англомания вытеснила у меня плантоманию».[572]
Императрица подходила к своему новому увлечению со свойственной ей практичностью, а князь, как всегда, влюблялся в новую идею без удержу. В 1779 году императрица наняла садовника Джона Буша и его сына Джозефа для создания ландшафтных парков в Царском Селе. В другие свои имения она также выписала англичан, Спарроу и Хэкетта. Потемкин, как истинный англоман, считал английского садовника почти равным русскому аристократу: однажды он обедал у семейства Бушей вместе с двумя своими племянницами, графом Скавронским и тремя послами, чем весьма озадачил баронессу Димсдейл. Она записала, что Потемкин пришел в восторг от «прекрасного английского обеда Буша» и отдал должное каждому блюду. Вскоре нужда Потемкина в садовых мастерах выросла так, что он выписал из Англии Эйтона и позаимствовал у Екатерины Спарроу.[573]
Самым знаменитым из садовников, однако, остался Гульд, и автору этих строк в 1998 году довелось слышать его имя и в Петербурге, и в Днепропетровске. Гульду посчастливилось: его нанял человек, описанный в английской «Энциклопедии садоводства» 1822 года как «один из самых оригинальных покровителей нашего искусства в новые времена». В нем Потемкин нашел своего alter ego, художника, создавшего в разных местах империи парки, поражающие своим размахом.
У Гульда имелся штат из нескольких сотен помощников, которые путешествовали вместе с Потемкиным. Он спланировал и разбил парки в Астрахани, Екатеринославе, Николаеве и Крыму (Артек, Массандра, сад Воронцовского дворца в Алупке). Местные краеведы до сих пор произносят его имя с почтением.
Самым необыкновенным умением Гульда было создавать английские парки за одну ночь. «Энциклопедия садоводства», опираясь на свидетельство помощника Гульда, Колла, утверждала, что на каждой остановке Потемкин приказывал строить путевой дворец, а Гульд разбивал парк из «кустов и деревьев, с гравиевыми дорожками, скамьями и статуями, которые возил за ними особый поезд». Большинство историков считают эти рассказы легендами, но петебургские архивы свидетельствуют, что Гульд действительно сопровождал Потемкина в те места, где, как известно по другим источникам, английские парки возникали за несколько дней. Не зря Виже Лебрен называла Потемкина волшебником из «Тысячи и одной ночи».[574]
Естественно, англомания Потемкина распространялась и на его живописные вкусы. В его собрании картин и гравюр, как говорили, имелись Тициан, Ван Дейк, Пуссен, Рафаэль и Леонардо. Русским купцам и послам он давал соответствующие поручения: «Я пока не нашел того пейзажа, который ваша светлость заказали, но надеюсь, что поиски увенчаются успехом», — писал ему русский посол в Дрездене.[575]
Вернувшись в Лондон в 1783 году, Джеймс Харрис дал рекомендательное письмо к Потемкину Джону Джошуа Проби, лорду Кэрисфорту: «Податель сего — высокородный дворянин, пэр Ирландии». Кэрисфорт прибыл в Петербург и сообщил императрице и князю, что в их коллекциях недостает английских шедевров, в частности, полотен его знаменитого друга, сэра Джошуа Рейнольдса. Екатерина II Потемкин согласились восполнить пробел. Художник мог сам выбирать сюжеты, но светлейший желал исторических картин. Через четыре года, после многих отсрочек, Кэрисфорт и Рейнольдс послали князю письмо; картины отправлялись на корабле «Дружба». Благодаря за гостеприимство, Кэрисфорт объяснял, что картина, предназначенная для Екатерины, — «Юный Геркулес, удушающий змею», и добавлял: «Конечно, нет надобности сообщать вашей светлости, знатоку древней литературы, что сюжет взят из од Пиндара».{72} Рейнольдс сообщал Потемкину, что намеревался повторить для него это полотно, но потом переменил решение и написал «Целомудрие Сципиона». Кэрисфорт послал ему также картину Рейнольдса «Купидон, развязывающий пояс нимфы». «Знатоки, — сообщал он, — находят ее прелестной».[576]
Картины и вправду были хороши и прекрасно подходили адресату. «Нимфа», или, как называют ее сегодня, «Купидон, развязывающий пояс Венеры», представляет амура, развязывающего пояс очаровательной богини с обнаженной грудью. Сципион же, разбивший карфагенян так же, как князь побеждал турок, борется с соблазняющими его женщинами и деньгами, то есть делает то, что так плохо удавалось Потемкину.[577] Позднее Потемкин добавил к своей английской коллекции еще одного Неллера и одного Томаса Джонса.
Светлейший покровительствовал и лучшим английским художникам, работавшим в Петербурге, — в частности, Ричарду Бромп-тону, спасенному Екатериной от долговой тюрьмы. Потемкин почти стал агентом Бромптона, советуя ему даже, какую цену назначать за полотна. Ему же он заказал портрет Браницкой: этот прелестный портрет хранится теперь в Алупкинском дворце. Бромтон написал и портрет императрицы, но тут Потемкин лично велел изменить прическу. Картину купил Иосиф II, который, впрочем, жаловался, что эта «мазня» так ужасна, что он «желает возвратить ее». Когда художник умер, оставив 5 тысяч рублей долгов, Потемкин подарил его вдове тысячу.[578]
Энтузиазм, с которым Потемкин и Екатерина разделяли художественные вкусы друг друга, — еще одна трогательная сторона их отношений. Однажды в 1785 году, когда они уединились на два часа, дипломаты решили, что будет объявлена война, но выяснилось, что правители империи любовались восточными рисунками, привезенными английским путешественником Ричардом Уорсли. Неудивительно, что после кончины князя его коллекция пополнила собрание Эрмитажа.[579]
28 июля 1785 года Иеремия Бентам отплыл из Брайтона, напутствуемый мудрым советом своего покровителя графа Шелбурна: «Не связывайтесь ни с интригами, будь то в пользу Англии или России, ни с хорошенькими женщинами».[580] В Париже он встретился с Логаном Хендерсоном, будущим смотрителем ботанического сада, и сестрами Кертленд и поехал с ними через Ниццу, Флоренцию и Ливорно в Константинополь. Из турецкой столицы Иеремия отправил Хендерсона и его спутниц морем в Крым, а сам двинулся сушей и, после полного приключений путешествия в сопровождении отряда из двадцати всадников, к февралю 1786 года добрался до Кричева. Братья Бентамы обнялись после почти шестилетней разлуки.
Скоро выяснилось, что сестры Кертленд вовсе не родственницы Хендерсона; вероятно, они сожительствовали втроем. Потемкин поселил садовника с «племянницами» в татарском доме под Карасубазаром, но оказалось, что Хендерсон «не посадил в своей жизни ни одного цветочка, а мадемуазель [одна из сестер] не изготовила ни одной головы сыра».[581]
Еще один из приехавших, Робук, путешествовал с «так называемой женой», которая оказалась профессиональной проституткой и предлагала свои услуги каждому из ньюкаелцев, желая освободиться от «грубияна-мужа». Сэмюэл сбыл ее князю Дашкову: содержанка садовника происходила из страны Шекспира! Бентам подозревал, что в Риге Робук украл у кого-то брильянты... Когда Потемкин вызвал Самюэла к себе, Иеремия остался управлять имением, что еще больше усугубило неразбериху. Пчеловод доктор Деброу осаждал кабинет Иеремии и требовал паспорта, чтобы вернуться на родину. Мошенники даже выкрали у Самюэла деньги...[582]
Несмотря на все эти безобразия, братья получали огромную выгоду, как материальную, так и творческую: «Здесь, в Кричеве, точнее, в нашем коттедже в трех милях от городка, где я теперь живу, в сутках не 24 часа, а гораздо больше», — писал Иеремия.[583] Он работал над своим «Кодексом», сводом гражданского права, трактатом «О вреде ростовщичества» и французской версией сочинения «О судебных доказательствах». Одной идеей он был обязан брату: Сэмюэл предложил построить новую фабрику так, чтобы управляющий мог видеть всех работников с центрального наблюдательного пункта. Иеремия тотчас решил применить эту идею для устройства тюрем, и теперь с утра до ночи работал над «Паноптиконом».
Братья преследовали и еще одну цель: обзавестись землей в Крыму. «Из нас получатся отличные фермеры, — утверждал Иеремия. — Не сомневаюсь, что князь даст по большому участку земли каждому из нас, если мы того пожелаем...» Потемкин сам предлагал братьям: «Скажите только, какой участок вас привлекает», — но Бентамы так и не стали крымскими магнатами, хотя получили часть одного из имений Корсакова.[584]
Сэмюэл тем временем управлял заводами, торговал с Ригой и Херсоном английским сукном, иностранной валютой (обменяв 20 тысяч рублей Потемкина на дукаты) и строил байдаки (речные лодки) на Днепре. За первые два года он построил два больших судна и восемь байдаков, в 1786 году — двадцать байдаков. Вдохновленный свершениями сына, старик Бентам стал подумывать, не приехать ли ему тоже в Россию.
В 1786 году светлейший дал Сэмюэлу новое задание. Уже три года он обсуждал с Екатериной ее поездку в южные губернии. Сэмюэл к этому времени стал настоящим экспертом по строительству барж и байдаков, а теперь Потемкин приказал ему приготовить тринадцать яхт и двенадцать особых галер для поездки государыни по Днепру до Херсона. Бентам экспериментировал с новым изобретением, которое называл «вермикулар» — «червячное судно» — и описывал его как «гребной плавучий поезд, состоящий из нескольких отсеков, сложно соединенных друг с другом». Сэмюэл выполнил заказ Потемкина, добавив к нему императорскую галеру, которая состояла из шести отсеков, имела длину 252 фута и приводилась в движение 120 веслами.
Иеремия Бентам, жаждавший познакомиться со знаменитым Потемкиным, все ждал, что светлейший посетит имение в отсутствие Сэмюэла.
«Очень долго мы ожидали прибытия князя с часу на час», — писал Иеремия Бентам, но Потемкин, как обычно, задерживался. Через несколько дней племянница светлейшего графиня Скавронская остановилась в Кричеве по пути из Неаполя в Петербург и сообщила, что «князь князей передумал приезжать». Некоторые историки утверждают, что Потемкин и Иеремия Бентам вели долгие философские споры, но ничто не подтверждает факта их встречи, тогда как, если бы она состоялась, Иеремия не преминул бы подробное ее описать.[585]
Тем временем колония разношерстных британцев под управлением философа вела себя все хуже и хуже. Потемкин до сих пор им не заплатил. Многие из англичан утешались традиционным для экспатриантов способом — пьянством и развратом. Доктор Деброу, садовник Робук и дворецкий Бенсон подняли открытый мятеж.
Проведя больше года в имении Потемкина, Иеремия Бентам уехал. В скором времени после его отъезда английская колония в Кричеве перестала существовать.
Несмотря на развал английской колонии, кричевское имение процветало: в Кричеве Потемкину удалось понизить здесь смертность, воспользовавшись советом его швейцарского врача доктора Бера (возможно, это было оспопрививание). Мужское население за несколько лет увеличилось с 14 тысяч до 21 тысячи. Отчеты об управлении имением демонстрируют его важность для херсонского флота, а письма Бентама в потемкинских архивах показывают, что причерноморские города использовали Кричев как базу продовольствия и боеприпасов. За два года и восемь месяцев, до августа 1785 года, предприятие Бентама отправило в Херсон такелажа, парусины и гребных судов на 120 тысяч рублей, канатов и полотна на 90 тысяч. В 1786 году Бентам поставил байдаков на 11 тысяч рублей. К тому времени, Сэмюэл уехал, выход полотняной мануфактуры утроился, производство корабельных снастей удвоилось.
К 1786 году фабрики приносили высокий доход: коньячный завод — 25 тысяч рублей в год; столько же — 172 ткацких станка; канатная фабрика производила тысячу пудов (16 тонн) в неделю, принося около 12 тысяч рублей.[586] Впрочем, для Потемкина доходы и расходы значили мало: его единственной целью была слава и мощь империи, то есть армия, флот и города.
В 1787 году Потемкин внезапно продал все это имущество за 900 тысяч рублей, чтобы приобрести более обширное имение в Польше. Как и во всех его предприятиях, внезапная продажа того, что он так долго лелеял, должна была иметь серьезные политические причины. Некоторые из фабрик он перевел в свои кременчугские земли, другие оставил новым управляющим. После продажи имения кричевские евреи попытались собрать деньги, «чтобы Сэм Бентам смог купить этот город», но ничего не получилось.
Сэмюэлу Бентаму и Уильяму Гульду предстояли новые значительные роли. Князь уже использовал Сэма Бентама как консультанта по сибирским рудникам, управляющего заводами, кораблестроителя, командира мушкетеров, агронома и изобретателя. Теперь Бентаму предстояло поднять свои баржи вверх по реке с особым поручением, а потом стать квартирмейстером, знатоком артиллерийского дела, боевым морским офицером, сибирским проводником и торговцем между Китаем и Аляской — именно в таком порядке.
Гульд со своим штатом, который все продолжал пополняться мастерами из Англии, прочно вошел в потемкинское окружение: он предвещал приезд светлейшего, появляясь на новом месте за несколько недель до князя со своим инвентарем, работниками и саженцами. В начавшейся вскоре новой русско-турецкой войне ни одна из временных квартир Потемкина не считалась законченной без гульдовского сада.
21. БЕЛЫЙ НЕГР, ИЛИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Похоронила только что она Любимца своего очередного, Хорошенького мальчика Ланского. Байрон. Дон Жуан. IX: 47. Пер. Т. Гнедич25 июня 1784 года в Царском Селе на руках императрицы умер ее двадцатишестилетний фаворит генерал-поручик Александр Ланской. Болезнь Ланского случилась внезапно: неделю назад у него просто заболело горло. Казалось, он знал, что умирает — хотя Екатерина пыталась его разуверить, — и до последних минут сохранил то же достоинство, с каким умел нести свое двусмысленное положение. О его кончине скоро поползли злые слухи: якобы он надорвал хрупкое здоровье сильным возбуждающим средством, стремясь удовлетворить страсть царственной нимфоманки. Рассказывали, что «живот его лопнул», а вскоре после смерти «отвалились ноги. Запах стоял невыносимый. Те, которые полагали его в гроб, также умерли». Пошли слухи и об отравлении: не убил ли очередного соперника злодей Потемкин, уже доведший медленным ядом до сумасшествия Григория Орлова? Судя по скорбным письмам Екатерины Гримму и другим свидетельствам, можно предположить, что Ланской умер от дифтерии. Летняя жара и отказ Екатерины сразу предать тело земле объясняют и запах, и распухание.[587]
Императрица была безутешна. Никогда еще ее не видели в таком отчаянии. Двор притих. Доктор Роджерсон и канцлер Безбородко обменивались тревожными новостями. Роджерсон щедро предписывал кровопускания и слабительное, но оба чувствовали, что «нужнее всего — стараться об истреблении печали и всякого душевного беспокойства [...] К сему одно нам известное есть средство, — писал Безбородко Потемкину, — скорейший приезд Вашей Светлости». Конечно, императрица вспомнила о своем «супруге», «дорогом друге». Она беспрестанно спрашивала, сообщили ли о случившемся Потемкину.
Сразу же после смерти Ланского Безбородко отправил к Потемкину курьера. Екатерина, словно ребенок, спрашивала, скоро ли приедет князь. «Он уже в пути», — отвечали ей.[588]
Курьер нашел светлейшего вместе с Сэмюэлом Бентамом в Кременчуге в разгар работ по закладке Севастополя и обустройству Кричева. Князь немедленно пустился в дорогу и 10 июля был уже в Царском Селе. (Потемкин любил говорить, что путешествует по России быстрее всех: тогда как курьеры проделывали дорогу с юга за десять дней, на этот раз он домчался за неделю.)
Пока Потемкин пересекал степи, Екатерина пыталась справиться с трагедией: она потеряла человека, которого считала спутником на всю жизнь, с которым была счастлива как ни с кем другим. «Он был красив, полон обаяния и изящества, человечный, благодетельный, он любил искусства, покровительствовал талантам: все, по-видимому, соглашались с предпочтением, которое оказывала ему государыня», — писал Массон. Ланской был ее любимым учеником, на него обращала она свою нерастраченную материнскую ласку; он стал настоящим членом семьи Екатерины-Потемкина. Портреты донесли до нас его тонкие, почти юношеские черты. «Я надеюсь, — писала она Гримму за десять дней до болезни Ланского, — что он станет опорой моей старости».[589] В Царском Селе Потемкин застал замерший двор, впавшую в оцепенение императрицу, непогребенное тело Ланского и грязные слухи. Екатерина оставалась безутешна. «Я погрузилась в самую жестокую скорбь; счастья моего больше нет [...] — писала она Гримму. Он разделял мои горести и радовался моему веселью».[590] И в столице, и в загородной резиденции всерьез беспокоились о душевном здоровье императрицы. Через несколько недель после несчастья придворные сообщали, что «государыня все в такой же горести, как в день кончины Ланского». В самом деле, Екатерина едва не теряла рассудок от горя, непрерывно справлялась о теле своего возлюбленного, словно надеясь, что тот оживет. Три недели она не вставала с постели, а потом долго не выходила из своих покоев. Двор погрузился в крайнюю печаль, все развлечения были запрещены. Доктор Роджерсон предписывал императрице свои всегдашние средства, которыми, возможно, и объяснялась ее непроходящая слабость. Поначалу она допускала к себе только Потемкина и Безбородко, затем постепенно стала принимать и других. Потемкин утешал Екатерину, разделяя ее скорбь: говорили, что придворные слышат, как он рыдает вместе с ней.
Екатерина понимала, что ее не привыкли видеть слабой и страдающей. Поначалу ее уязвило даже сочувствие Потемкина, но в конце концов его заботливость сделала свое дело: «Он пробудил нас от мертвого сна».[591]
Потемкин был при ней каждое утро и каждый вечер: вероятно, он почти неотлучно провел с ней все эти недели. Возможно, это был один из тех кризисов, во время которых, как писал граф Кобенцль Иосифу И, Потемкин возвращался к своей роли мужа и любовника. Их отношения шли вразрез с моралью эпохи и напоминали французскую «любовную дружбу». В такие моменты Потемкин достигал «безграничной власти», как однажды он сказал Харрису: «Когда все идет гладко, мое влияние невелико, но когда она встречает препятствия, то всегда призывает меня и мое влияние делается как прежде».[592]
Постепенно государыня стала приходить в себя. Ланского похоронили в Царском Селе, больше чем через месяц после смерти. Екатерина на похоронах не присутствовала, а 5 сентября оставила летнюю резиденцию, и обещала никогда сюда не возвращаться. Через три дня после приезда она посетила церковь — двор увидел ее в первый раз за два с половиной месяца. Оказавшись в столице, она не могла оставаться в своих прежних апартаментах, где все напоминало о покойном, и перебралась в Эрмитаж. Почти целый год после смерти Ланского его место при государыне было вакантным. Потемкин не оставлял ее.
Но Потемкину нужно было возвращаться на юг, чтобы завершить свои проекты. Он уехал в январе 1785 года, однако и на расстоянии продолжал утешать императрицу. Отдельные страницы их переписки той поры если не по страстности, то по веселому, игривому тону приближаются к письмам времени их романа десятилетней давности. В этих запоздалых романтических посланиях слышатся осенние нотки — вероятно, оба чувствуют, что постарели. Он присылает ей табакерку, затем — платье с южных шелкопрядильных фабрик и обещает «шелками устлать путь», когда она посетит его в Крыму. Она благодарит его «от сердца».[593]
Светлейший снова приехал в столицу в начале лета 1785 года, когда Екатерина уже вернулась к нормальной жизни. Старые любовники снова начали свою игру. «Я на пути теперь к исповеди. Простите меня, матушка Государыня, в чем согрешил перед Вами ведением и неведением», — пишет Потемкин в приписке к мудреному старославянскому посланию, прося прощения за какую-то оплошность. Она отвечает: «Прошу равномерное прощение и с Вами Бог. Прочее же вышеописанное разбираю хорошо, но ничего не понимаю или весьма мало; читаючи, много смеялась».[594]
Обычай Екатерины иметь при себе официального фаворита привел к тому, что придворные уже ждали, когда вакантное место будет снова занято — и сама она чувствовала, что должна кого-то подобрать. Через год после смерти Ланского Потемкин понял, что она нуждается в любви более постоянной, чем мог ей дать он. Ему нужен был человек, который постоянно заботился бы о Екатерине.
Теперь, когда отправлялась в церковь, на ее пути выстраивались молодые красавцы в парадных мундирах.[595] Этот парад мужчин несомненно доказывает, что кандидаты в фавориты предлагались отнюдь не только Потемкиным, как утверждали злые языки, а выдвигались из среды придворных и ставились своими покровителями на пути императрицы. Охота началась. Уход Ланского обозначил апогей царствования Екатерины, но вместе с тем — начало периода ее неразборчивости. Отныне в числе ее избранников уже не будет выдающихся личностей.
К тому времени, когда светлейший вернулся в столицу, Екатерина действительно уже обратила внимание на нескольких дежуривших во дворце офицеров. В их числе были князь Павел Михайлович Дашков, сын княгини Дашковой, окончивший Эдинбургский университет, друг Сэмюэла Бентама, и двое гвардейцев — Александр Петрович Ермолов и дальний родственник Потемкина Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов. Все трое состояли при особе князя.
Какое-то время Екатерину привлекал Дашков. Она регулярно справлялась о нем и говорила, что находит в нем «благородное сердце».[596] За пять лет до описываемых событий князь Григорий Орлов встретил княгиню Дашкову, путешествующую вместе с сыном, в Брюсселе. Чтобы поддразнить высокомерную княгиню, он сказал, что из мальчика вполне мог бы получиться фаворит. Когда молодой человек вышел из комнаты, Дашкова обрушилась на Орлова: как смеет он говорить такие пошлости семнадцатилетнему юноше?[597]
Теперь Орлов уже отошел в мир иной, а Дашкова после долгих лет странствий возвратилась на родину; ее сыну было двадцать три года.
Трудно отделаться от впечатления, что Дашкова, хотя и относилась к фаворитам с плохо скрываемым презрением, не без труда поборола честолюбивое стремление сделать любимцем императрицы своего сына.
Княгиня посетила Потемкина и была с ним необычайно любезна. Тот, вероятно, обнадежил ее и лукаво подал ей основания верить, что ее семье будет оказана великая честь. Потемкин по-прежнему умел смешить Екатерину, изображая манеры разных придворных, но передразнивание Дашковой было его коронным номером, и Екатерина часто просила его повторить. Любопытно представить себе, как после этой встречи князь отправился в покои императрицы и в лицах воспроизвел разговор с Дашковой, а Екатерина смеялась до слез. Дашкова не знала, что Екатерина оказывает знаки внимания Ермолову и Мамонову, которые также были хороши собой — но не имели настырных мамаш. Покровители каждого из кандидатов надеялись на успех; Потемкин не выказывал предпочтения никому из троих.
Дашкова, уже праздновавшая возвращение благорасположения царицы, писала в «Записках», что Потемкин однажды прислал своего племянника Самойлова «спросить, дома ли князь Дашков». Молодого человека дома не случилось, и Самойлов оставил записку, что Потемкин желает видеть его у себя как можно скорее. Княгиня, писавшая свои мемуары много лет спустя, утверждала, что на предложенное ее сыну Потемкиным презренное место фаворита ответила Самойлову: «Я слишком люблю императрицу, чтобы препятствовать тому, что может доставить ей удовольствие, но из уважения к себе самой не стану принимать участие в подобных переговорах». Если ее сын действительно сделается фаворитом, заключила она, она воспользуется его влиянием «только один раз, а именно, чтобы добиться отпуска на несколько лет и разрешения уехать за границу».[598]
Этот сомнительный анекдот породил миф о том, что Потемкин присылал Екатерине молодых людей в послеобеденный «час любви». Поскольку Дашков состоял адъютантом Потемкина, в срочных вызовах к князю не было ничего подозрительного. Гораздо более правдоподобно, что Потемкин просто подшутил над княгиней и ее ответ соответствующим образом был преподнесен Екатерине.
Вскоре светлейший князь устроил большой праздник в Аничковом дворце. В этой огромной резиденции на углу Невского проспекта и Фонтанки он никогда не жил, но держал в нем свою библиотеку и давал балы. {73}
Гости, в масках и домино, прибывали весь вечер. В огромной овальной галерее на богато украшенной пирамиде разместился оркестр; на самом верху пирамиды стоял «литаврщик-арап в богатой одежде». Более 100 музыкантов под управлением Россети исполняли Инструментальную и роговую музыку и сопровождали хор. Часть залы отгораживал занавес. В кадрили князь Дашков танцевал с молоденькой княжной Екатериной Барятинской — красавицей, впервые выехавшей в свет (позднее Барятинская станет одной из любовниц Потемкина).
Когда вместе с великим князем Павлом Петровичем прибыла императрица, все старались понять, обратит ли она свое внимание на кого-нибудь из трех молодых людей. Лев Энгельгардт, оставивший описание этого вечера, заметил в толпе Ермолова. Потемкин приказал своей свите явиться в мундирах легкой конницы — а Ермолов приехал в драгунском. Энгельгардт бросился к нему, советуя немедленно ехать домой и переодеться. «Не беспокойтесь, — спокойно ответил ему Ермолов. — Однако ж не менее я вам благодарен за ваше ко мне доброе расположение». Энгельгардта поразила такая самоуверенность.[599]
Дашкова тем временем не отходила от светлейшего, они вместе любовались атлетической фигурой ее сына — но затем княгиня разрушила свои шансы, то ли высказав предположение, что ее сын уже избран, то ли попросив князя обратить внимание на какого-то ее родственника. Потемкин громко отверг ее притязания. «Место занято, — сказал он. — На него только что заступил поручик Ермолов».
Потемкин отошел от опешившей Дашковой, взял Ермолова под руку, прошелся с ним по зале, «чего он и самых знатных бояр не удостаивал», а затем подвел молодого человека к столу, где императрица играла в вист, и оставил его там, в четырех шагах за ее креслом, впереди высших сановников. В эту минуту все, и даже Дашкова, поняли, что императрица выбрала нового фаворита. Поднялся занавес, открылось великолепное угощение. Императрица, великий князь и придворные сели за отдельный круглый стол; для публики были накрыты сорок других. Бал продолжался до трех часов ночи.
На следующее утро, через одиннадцать месяцев после смерти Ланского, Ермолов вселился в апартаменты фаворита в Зимнем дворце и был назначен генерал-адъютантом императрицы. Высокий, светловолосый, с красивыми миндалевидными глазами и чуть приплюснутым носом — Потемкин прозвал его «белым негром», — 23-летний Ермолов не обладал, однако, ни манерами, ни тонкой красотой Ланского. «Он славный парень, — писал Кобенцль, — хотя несколько простоват». Вскоре он получил чин генерал-майора и орден Белого орла. Вероятно, Потемкин почувствовал облегчение, когда после года траура Екатерина наконец назначила себе избранника. Хотя некоторые историки настаивали на том, что Потемкин ревновал императрицу к каждому фавориту, более проницательные наблюдатели понимали, что на самом деле князь доволен, что Ермолов не даст императрице «впасть в меланхолию» и будет поддерживать ее «природную веселость».[600]
Восхождение Ермолова упрочило положение Потемкина. Когда через несколько дней князь заболел, Екатерина «навестила его, заставила принимать лекарство и бесконечно хлопотала о его здоровье».[601]
Волнения при дворе улеглись. Положение Потемкина осталось прежним. Он мог возвращаться к управлению своими губерниями и армиями.
В середине 1780-х годов двор Екатерины достиг расцвета своего великолепия. «Величественность сочеталась здесь с большим вкусом и очарованием двора французского, — писал граф де Дама, — а азиатская роскошь еще более подчеркивала пышность церемоний». Екатерина, как и Потемкин, любила устраивать маскарады, праздники и балы: императрице нравились переодевания. «Мне только что пришла в голову прекрасна мысль, — писала она еще в начале царствования. — Мы должны устроить в Эрмитаже бал [...] чтобы дамы явились в легких платьях, без фижм и высоких причесок [...] Французские актеры поставят лотки и станут продавать в кредит женские наряды мужчинам, а мужские дамам...» Екатерина знала, как идет ей мужской костюм.[602]
В 1780-е годы на придворных балах самодержица всея Руси являлась «одетой в платье с юбкой из ярко-красной парчи, с длинными белыми рукавами [...] и восседала в большом кресле, покрытом пурпурным бархатом», в окружении стоящих придворных. Платья на древнерусский манер скрывали ее полноту и одновременно были гораздо удобнее, чем корсеты и фижмы. Ей подражали княгиня Дашкова и графиня Браницкая, однако баронесса Димсдейл отмечала, что другие дамы «носят платья по французской моде», хотя, по мнению леди Крейвен, «французский газ и цветы нимало не шли русским красавицам».[603]
Зимой двор размещался в Петербурге, в Зимнем и Летнем дворцах. Еженедельная программа повторялась — по воскресеньям большие собрания в Эрмитаже, с присутствием дипломатического корпуса; по понедельникам — балы у великого князя и так далее. Когда Потемкин жил в столице, по четвергам он обычно проводил вечер у императрицы в Малом Эрмитаже, где она отдыхала с Ермоловым и близкими друзьями — Нарышкиным и Браницкой. Для того чтобы можно было непринужденно беседовать, слуг удаляли; за обедом гости заказывали блюда посредством записок, которые через специальное устройство опускались вниз к глухому лакею, и через некоторое время тарелки поднимались наверх.
В летние месяцы весь двор переезжал на ближние императорские дачи. Екатерина любила Петергоф на берегу Финского залива, но главной летней резиденцией в те годы являлось Царское Село. Здесь она обычно останавливалась в построенном Елизаветой и напоминающем свадебный торт Екатерининском дворце, названном в честь матери Елизаветы, жены Петра I. «Оштукатуренное кирпичное здание дворца [...] с позолоченной наружной лепниной великолепно, — писала баронесса Димсдейл, — а внутреннее убранство поразительно».[604] Особое впечатление на нее произвела зала в китайском вкусе, а еще больше — ряд комнат с ярким красно-зеленым орнаментом на стенах, как в «волшебном замке». Шпалеры в Львиной комнате оценивались в 201 250 рублей. Шотландскому архитектору Чарльзу Камерону Екатерина поручила переустройство дворца, а садовник Буш разбил парки в английском вкусе, с лужайками, гравиевыми дорожками, павильонами, рощицами и огромным прудом в центре. Галерея, построенная Камероном, имитировала античный храм, словно повисший в воздухе. Здесь Екатерина разместила коллекцию бюстов древних мыслителей и политических деятелей. В парке все напоминало о победах русского оружия: Чесменская колонна Антонио Ринальди, поставленная на острове в середине Большого пруда, Румянцевская колонна, посвященная Кагульскому сражению. Кроме того, имелись Китайская деревня, башня-руина, а также пирамида — усыпальница трех любимых собачек императрицы, английских левреток, с французской стихотворной эпитафией. Неподалеку от этого места находилась и усыпальница Ланского. Здесь же устраивались и большие качели «летающая гора».
Императрица вставала рано утром и гуляла со своими собаками, одетая в длинный плащ, кожаные туфли и чепец: так изобразил ее на известном портрете Боровиковский, а затем и Пушкин в «Капитанской дочке». Днем иногда проводились военные парады. Баронесса Димсдейл описала, как, стоя на балконе, Екатерина делала смотр отряду гвардейцев во главе с Потемкиным.
У князя были свои дома в окрестностях Царского Села, и императрица часто останавливалась в них. Иногда они строили свои дворцы рядом — например, она построила имение Пелла рядом с его Островками, чтобы чаще с ним видеться. Поскольку в основном он жил в императорских дворцах, его многочисленные резиденции составляли подобие караван-сарая бродячего султана — но он приобретал все новые и новые, перестраивая их по английской моде или по собственному капризу. Первым стал небольшой дворец в Осиновой роще, имении на побережье Финского залива, подаренном ему Екатериной в 1777 году, где она останавливалась, когда начинался ее роман с Корсаковым. «Какой чудесный вид из каждого окна! — восклицала она в письме к Гримму. — Из моей комнаты я вижу два озера, поле и лес».[605]
Другую резиденцию, на Петергофской дороге, он приобрел в 1779 году: Старов снес стоявший там барочный дворец и построил новый, в неоклассическом стиле.
В середине 1780-х годов Потемкин увлекся неоготикой — в Англии самым ярким образцом этого стиля является замок Горация Уолпола «Стробери-хилл». В духе подобных замков Старов перестроил два его дворца — Озерки и Островки{74}. Замок в Островках был украшен башнями, шпилями и зубчатыми стенами. До наших дней сохранился только один из готических замков Потемкина: он владел большим имением в Баболовском лесу, примыкающем к Царскому Селу. В 1782-1785 годах он поручил архитектору Илье Неелову, только что вернувшемуся из Англии, построить ему собственный «Стробери-хилл». Два крыла живописного асимметричного Баболовского дворца с готическими арками и стрельчатыми окнами отходят от круглой башни на средневековый манер. Из-за деревьев дворец напоминает не то разрушенную церковь, не то заколдованный замок.
Когда наступало время возвращаться в Петербург, лакей в ливрее с красными отворотами и золотым галуном подставлял к подножке кареты бархатную скамеечку; императрица поднималась; за ее каретой следовали пятнадцать экипажей. Вся кавалькада состояла более чем из 800 лошадей. Салютовали пушки, играли трубы, веселился народ. На дороге к Петербургу имелось несколько путевых дворцов, где императрица могла отдохнуть.
С тех пор как Екатерина и Потемкин полюбили друг друга, прошло уже больше десяти лет: Екатерине было пятьдесят семь. Всех, кому довелось встретиться с ней, писал де Дама, поражали «величественность ее осанки и мягкость выражения лица». Бентам находил, что ее глаза — «самые восхитительные, какие только можно вообразить, а вся фигура весьма изящна». Голубые глаза и высокий лоб царицы оставались так же хороши — но она неудержимо полнела и часто страдала несварениями желудка.[606]
Ее отношение к власти было все тем же — сочетанием неукротимой любви к славе с неподдельной скромностью. Когда де Линь и Гримм стали распространять по европейским салонам прозвище «Екатерина Великая», она писала, преуменьшая, как всегда, свои заслуги: «Пожалуйста, избавьте меня от прозвища Екатерины Великой, потому что 1) я не люблю прозвищ; 2) меня зовут Екатерина II, и я не хочу, чтобы обо мне, как о Людовике XV, говорили, что ошиблись именем» (Людовик XV, прозванный «Возлюбленным», был отнюдь не любим народом).[607] Ее единственной слабостью оставалась вечная потребность в любви. «Насколько лучше было бы, — писал французский дипломат, — если бы ее привлекала в любви только физическая сторона. Но среди пожилых людей это встречается нечасто, и, пока живо их воображение, они выставляют себя на посмешище стократ больше, чем иные молодые». Отныне ей действительно часто случалось выставлять себя в смешном виде — настолько, насколько это возможно для самодержавной государыни.
Потемкин прекрасно знал, как обращаться с Екатериной, а она — с ним. К середине 1780-х годов для поддержания добрых отношений они так же нуждались в разлуке, как раньше в свиданиях. Князь знал, «что вблизи императрицы его власть уменьшается, ибо он должен делить ее с ней, — объяснял де Дама. — Именно поэтому в последние годы он предпочитал жить вдали от государыни. На расстоянии все нити управления и военные дела находились безраздельно в его руках». Потемкин уважал «необыкновенную проницательность» императрицы, однако исповедовал принцип, ставший потом одной из любимых поговорок Дизраэли: для обхождения с царствующими особами необходима лесть и еще раз лесть. «Льстите как можно больше, — советовал он английскому посланнику, — переборщить здесь невозможно. Хвалите ее не за то, что она есть, а за то, чем она должна быть». Выдавая слабости своей покровительницы, он критиковал ее робость и женскую податливость: «Обращайтесь к ее страстям, к ее чувствам [...] все, что ей нужно, — это похвала и комплименты. Дайте их ей — и она даст вам всю силу своей державы». Однако, беседуя с Харрисом, Потемкин также играл определенную роль — возможно даже, по договоренности с Екатериной. Если бы на самом деле лестью можно было добиться всего, Харрис преуспел бы больше, а Потемкин меньше, потому что они с императрицей непрестанно спорили и ссорились.[608]
В письмах он называет ее «кормилицей»; она его — «батюшкой». По отношению к Потемкину она вела себя как императрица и как жена: когда он уезжал, она чинила его одежду, словно служанка, посылала ему теплые вещи и напоминала, чтобы он вовремя принимал лекарства. Как политик она считала его одним из столпов своего правления, своим другом и соправителем. Она не уставала повторять ему: «Я без тебя как без рук», жаловалась, что, если бы он был рядом, а не на далеком юге, они решали бы сложнейшие дела «в полчаса». По письмам видно, как она восхищалась его изобретательностью, умом и энергией; иногда беспокоилась, что без него может допустить ошибку: «...сама затруднения нахожу тут, где с тобою не нахаживала. Все опасаюсь, чтоб чего не проронили». Она полагала что он умнее ее, «что каждое его действие тщательно обдумано». Он не мог заставить ее сделать то, чего она не хотела, однако они всегда находили путь к компромиссу. «Он единственный человек, которого императрица боится; она и любит, и опасается его».[609]
Екатерина терпела беспорядочный образ жизни князя, его причуды. «Князь Потемкин удалился к себе в одиннадцать часов вечера и якобы отправился спать, — пишет она Гримму 30 июня 1785 года, — хотя прекрасно известно, что вечером у него собрание» по государственным делам. «Кто-то назвал его даже более, чем государем».[610]
Екатерина не строила иллюзий относительно популярности Потемкина среди аристократии и прекрасно понимала, что по большей части его не любят, но ей, скорее всего, было приятно услышать от своего камердинера, что его ненавидят все, кроме нее. Его презрение к чужим мнениям привлекало императрицу, а зависимость от нее самой смягчала боязнь его влияния. Она любила повторять: «Даже если вся Россия восстанет на князя, я не оставлю его».[611]
Часто, возвращаясь в Петербург, он помогал Екатерине вести дела. Так, в 1783 году императрица решила назначить свою бывшую подругу Екатерину Дашкову президентом Академии наук. Та, полагая, что не справится со столь ответственным назначением, отправила государыне письмо с отказом, а затем приехала к Потемкину, чтобы объяснить мотивы своего решения. Тот ответил, что императрица уже сообщила ему об этом. Прочтя письмо Дашковой, он «разорвал его начетверо». Негодующая княгиня спросила, как он смеет уничтожать письма, адресованные государыне.
«Прежде чем сердиться, — ответил князь, — выслушайте меня. Никто не сомневается в вашей любви к императрице; почему же вы хотите ее рассердить и огорчить? Я вам сказал, что она целых два дня только и мечтает об этом. Впрочем, если вы не дадите себя убедить, вам придется только принять на себя маленький труд заново написать это письмо; вот вам и перо. Я говорю с вами как преданный вам человек». Затем он применил один из своих излюбленных приемов: у Екатерины, добавил он, есть и другая причина желать присутствия Дашковой в Петербурге: она нуждается в собеседнике, «ей надоели дураки, окружающие ее». Дашкова поддалась на уловку. «Мой гнев, — пишет она, — прошел». Светлейший, когда он того хотел, был неотразим. Разумеется, княгиня приняла должность.[612]
Сразу после того, как Ермолов поселился в своих новых апартаментах, императрица в сопровождении двора, нового фаворита, светлейшего князя и послов Великобритании, Франции и Австрии отправились в путешествие от Ладоги до верхней Волги. Екатерина и Потемкин любили осматривать свою империю собственными глазами. «От хозяйского глаза и конь здоровее», — говорила императрица.
Трое послов являли собой блестящих представителей века Просвещения. Австриец — коварный соблазнитель женщин Людвиг Кобенцль — страстно увлекался театром и сам пел (так, однажды прибывшие из Вены императорские курьеры застали его перед зеркалом поющим женскую партию, в соответствующем костюме). «Истинного британца» Алена Фицгерберта приводили в замешательство манеры Потемкина, однако в лице французского посла Сегюра, выгодно отличавшегося от своих предшественников, светлейший нашел настоящего друга. Граф Луи Филипп де Сегюр составлял настоящее украшение эпохи, которую впоследствии сам блестяще описал в мемуарах. Сын французского военного министра, друг Марии Антуанетты, Дидро и д’Аламбера, ветеран Американской войны, он стал участником интимного кружка Екатерины и Потемкина.
В течение путешествия придворные развлекались карточными играми, музицированием, шарадами и буриме. Сегодня игры в слова могут показаться надуманными, но тогда с их помощью послам удавалось влиять на отношения между державами. Некоторые из «бон-мо» действительно сочинялись экспромтом, но чаще — как современные телешоу, создающие видимость прямого эфира, — тщательно продумывались заранее. Фицгерберт был не мастер на стихотворные шутки, и его неизменно обходил остроумный Сегюр. Екатерина объявила француза гением этого жанра: «Он забавлял нас стихами и песенками [...] князь Потемкин всю дорогу помирал со смеху».[613]
Во время того же путешествия Сегюр имел возможность наблюдать, как причуды и спонтанные решения Потемкина делают большую политику.
Екатерина обещала австрийскому императору Иосифу И, поддержавшему Потемкина в присоединении Крыма, помочь осуществить его давнишнюю мечту — обменять Австрийские Нидерланды на Баварию. Иосиф уже предпринимал такую попытку в 1778 году, но она завершилась «картофельной войной» с Пруссией. Теперь Фридрих Великий, сходя со сцены, на которой царствовал почти полвека, снова разрушил план императора аннексировать Баварию, вступив в переговоры с лигой немецких князей. В то же время подошел срок возобновления англо-российского торгового договора; Екатерина требовала более благоприятных условий для русских купцов. И тут Ганновер, курфюрстом которого являлся английский король Георг III, присоединился к антиавстрийскому союзу Фридриха. Для Екатерины, а тем более для Потемкина, это был настоящий удар.
Когда новость достигла императорской галеры, настроение Екатерины и Потемкина упало. После обеда Сегюр последовал за князем на его судно, где светлейший разразился гневным монологом, обличая британцев в вероломстве. «Я уже давно говорил императрице, что Питт ее не любит, да она мне не верила». Новый премьер-министр Великобритании Уильям Питт непременно начнет чинить препятствия российской политике в Германии, Польше и Турции, предсказывал Потемкин и объявлял, что сделает все, чтобы отомстить «коварному Альбиону». «Может быть, стоит вспомнить о франко-российском торговом договоре?» — предложил Сегюр. Князь расхохотался: «Куйте железо, пока горячо!» Иностранцы любили представлять его капризным ребенком, но на самом деле этот ход имел свою предысторию: Потемкин уже предпринимал шаги, чтобы наладить торговлю Херсона с Францией, уверенный, что именно Марсель, а не Лондон, может стать главным торговым партнером России на Черном море. Он посоветовал Сегюру немедленно набросать проект договора: «Можете даже не подписывать своего имени. Таким образом, вы ничем не рискуете [...] Прочие министры узнают об этом уже тогда, когда вы получите удовлетворительный ответ [...] Принимайтесь за дело скорее!»[614]
По иронии судьбы сундук, где хранились письменные принадлежности Сегюра, оказался заперт, и для того, чтобы написать проект этого антибританского документа, он позаимствовал перо и чернильницу Фицгерберта.
На следующий день Потемкин явился в каюту Сегюра и сообщил ему, что сразу по возвращении в Петербург императрица распорядится, чтобы договор был подготовлен и подписан. И действительно, 28 июня на придворном маскараде Безбородко шепнул на ухо Сегюру, что получил приказ обсудить договор: через полгода, в январе 1787 года, договор был успешно подписан.
«Казалось, Ермолов все более успевал снискать доверие императрицы, — записал Сегюр по возвращении в Петербург. — Двор, удивленный этой переменой, как всегда, преклонился пред восходящим светилом». Но весной 1786 года, почти через год своего фавора, молодой человек вступил в опасную игру: он решил добиться опалы Потемкина. Наверное, Ермолова не устраивала роль младшего члена семьи Екатерины и Потемкина, и, завидуя власти князя, он стал орудием в руках его врагов.
За Ермоловым, вероятно, стояли Александр Воронцов, председатель Коммерц-коллегии и брат российского посла в Лондоне Семена Воронцова, и бывший фаворит Завадовский — оба они ненавидели Потемкина. Используя расстроенное состояние финансов князя, они решили обвинить его в растрате трех миллионов рублей, выделенных на обустройство южных областей. В качестве улики они использовали письмо от низложенного крымского хана Ша-гин-Гйрея, который заявлял, что Потемкин крадет его пенсию. Они и сами понимали, что обвинение это сомнительно, поскольку все казенные выплаты, даже причитающиеся самому Потемкину, часто задерживались на несколько лет. Это была одна из причин, по которой не имело смысла устраивать проверку финансов князя, который часто в ожидании казенных денег тратил на государственные нужды собственные средства. Кроме того, никакой необходимости красть у него не было: Екатерина давала ему столько, сколько он просил. Тем не менее Ермолова убедили представить императрице письмо Шагин-Гирея. Он сделал это, когда двор находился в Царском Селе — и сумел заронить в ее душу сомнение.[615]
Екатерина стала выказывать к Потемкину холодность. Князь, столько сделавший для обустройства южной России, обиженно замкнулся. По слухам, они почти перестали разговаривать. Приемные Потемкина опустели. Однако молва явно преувеличивала степень их взаимного охлаждения: в конце мая, в самый пик кризиса, Екатерина сказала своему новому секретарю Александру Храповицкому: «Князь Потемкин гладит волком, и за то не очень любим, но имеет хорошую душу [...] сам первый станет просить за своего недруга».[616]
«Падение его, казалось, было неизбежно; все стали от него удаляться, даже иностранные министры [...] — вспоминал Сегюр. — Что же касается меня, то я нарочно стал чаще навещать его и оказывать ему свое внимание». Французским послом, однако, двигала не только бескорыстная дружба; он догадывался, что князя связывают с царицей какие-то тайные узы. Петля тем временем, казалось, затягивалась. Сегюр умолял князя быть осторожнее, но тот воспринимал его предостережения весьма хладнокровно. «Как! И вы тоже хотите, — говорил Потемкин, — чтобы я склонился на постыдную уступку и стерпел обидную несправедливость после всех моих заслуг? Говорят, что я себе врежу; я это знаю, но это ложно. Будьте покойны, не мальчишке свергнуть меня: не знаю, кто бы посмел это сделать». «Берегитесь!» — снова предупредил Сегюр. «Мне приятна ваша приязнь, — отвечал князь. — Но я слишком презираю врагов своих, чтобы их бояться».[617]
17 июня 1786 года императрица, великий князь, Потемкин, Ермолов и Сегюр вместе совершили поездку из Царского Села в имение Пелла. На следующий день Екатерина посетила соседнее имение Потемкина Островки — еще одно доказательство того, что положение светлейшего было далеко не катастрофическим. По возвращении в Царское Село Потемкин присутствовал на всех обедах государыни в течение трех следующих дней. Все же заговорщики, вероятно, пытались внушить Екатерине обратить внимание на доставленный ими документ. В залитом солнцем Екатерининском дворце Потемкину было холодно. Он покинул двор и направился в Нарву, а вернувшись в столицу, остановился у шталмейстера Нарышкина, развлекаясь «балами и любовью». Враги Потемкина «трубили победу». Екатерина, вероятно, привыкла к перепадам его настроения и ничего не предпринимала. Когда же он не явился на празднование годовщины ее восшествия на престол 28 июня, она поняла, что он ждет от нее конкретных шагов.
«Я крайне беспокойна, здоровы ли Вы? — с тревогой написала она, отвечая на его вызов. — Столько дней от тебя ни духа, ни слуха нету». Потемкин выждал еще несколько дней — и появился при дворе, как призрак Банко. По свидетельству одного из мемуаристов, он бросился в покои государыни «в ярости» и прокричал что-то вроде: «Я пришел объявить, что ваше величество должны сию секунду сделать выбор между Ермоловым и мной! Один из нас должен сегодня же оставить ваш двор. Покуда при вас остается этот белый негр, ноги моей здесь не будет!» С этими словами он выбежал из дворца и умчался из Царского.[618]
15 июля императрица отставила Ермолова, объявив ему свою волю через одного из авторов неудавшейся интриги, Завадовского. «Белый негр» покинул двор на следующий день, получив в качестве компенсации 4 тысячи душ, 130 тысяч рублей и приказ отправляться в путешествие. В тот же вечер молодой офицер, к которому Екатерина присматривалась год назад, Александр Дмитриев-Мамонов, прибыл ко двору вместе с Потемкиным, при котором он состоял адъютантом (доводясь ему еще и дальним родственником). Рассказывают, что Потемкин послал Мамонова поднести государыне некую акварель, приложив записочку с вопросом: что она думает о картинке? Оглядев посланца, государыня якобы отписала: «Картинка недурна, но не имеет экспрессии». Это всего лишь легенда, но она звучит вполне правдоподобно — разумеется, только Потемкин мог так шутить с императрицей. На следующий день она написала Мамонову письмо...
В ту же ночь, провождаемый в спальню государыни, Мамонов встретился со своим приятелем Храповицким. Секретарь императрицы скрупулезно записывал каждую подробность жизни этого тесного мирка. На следующее утро он лукаво констатировал: «Почивали до девяти часов», — что означало, что государыня оставалась в постели на три часа дольше обычного. На следующий день — «Притворили дверь. Мамонов был после обеда и по обыкновению — пудра».[619]
Переход от Ермолова к Мамонову произошел так гладко, что можно предположить: «ярость» Потемкина нашла себе выход гораздо раньше, а причиной кризиса послужила не предполагаемая растрата, а сама фигура Ермолова. Возможно, в те самые дни, когда Ермолов и его партия праздновали победу, Екатерина уже обратила свой благосклонный взор на Мамонова. Если дело обстояло так, тогда понятно спокойствие Потемкина относительно известной ему интриги — еще одно свидетельство его актерского мастерства. Начиная с Завадовского, Потемкин каждый раз, раньше или позже, угрожал сбросить фаворита. Обычно Екатерине удавалось заверить его, что его власть вне опасности, и убедить заняться делами. Фаворитов она заставляла льстить ему, а сам он был достаточно гибок, чтобы становиться им другом и сотрудничать с ними. Ермолова же ему удалось сместить потому, что этот любимчик царицы отказался существовать в рамках заведенного Потемкиным порядка, — и, конечно, потому, что Ермолова Екатерина по-настоящему не любила.
«Матушка, обошед Петербург, Петергоф, Ораниенбум, возвратись сюда, лобызаю твои ножки. Параклит привез цел, здоров, весел и любезен», — пишет Потемкин императрице 20 июля 1786 года. Параклит — святой дух-утешитель «матушки», Мамонов — уже вместе с ней. Императрица отвечает: «Батинька, великий труд, барин, каков ты в своем здравьи и не спавши? Приездом весьма радуюсь».[620]
«Возвратился князь Григорий Александрович Потемкин», — записывает Храповицкий. А Мамонов, намекая на свое с ним дальнее родство, преподносит ему золотой чайник с надписью: «Ближе по сердцу, чем по крови».[621] 26-летний Мамонов был гораздо умнее, образованнее Ермолова и всеми любим за мягкий характер, обходительность и приятную наружность. Екатерина осыпала его милостями: генерал-адъютанту был жалован титул графа Священной Римской империи, затем 27 тысяч крестьян; ежегодно он получал 180 тысяч рублей. Считала ли императрица, что, старея, должна более щедро награждать своих любовников? Екатерина искренне влюбилась в Мамонова. Она называла его «красный кафтан» — он носил именно этот цвет, прекрасно оттенявший его черные глаза. «Под красным кафтаном, — хвасталась она Гримму 17 декабря 1786 года, — скрывается редкое сердце [...] ум четырех человек [...] и неистощимая веселость».
Мамонов стал таким же членом их семьи, каким был Ланской. Он помогал племянницам Потемкина Браницкой и Скавронской, писал теплые письма самому князю, которые Екатерина посылала вместе со своими. Иногда она и вовсе ограничивалась приписками к посланиям Мамонова, которые тот обычно заканчивал словами «с нижайшим почтением».
Вскоре после падения «Белого негра» и воцарения «красного кафтана» Потемкин пригласил Сегюра на обед. «Когда я явился к Потемкину, — вспоминал Сегюр, — он поцеловал меня и сказал: «Ну что, не правду ли я говорил, батюшка? Что, уронил меня мальчишка? Сгубила меня моя смелость?»[622]
Смелость светлейшего в самом деле принесла ему политическую победу. Он надолго уехал на юг; ведавший его делами в Петербурге Михаил Гарновский посылал ему секретные отчеты о придворных делах. Особенно тщательно Гарновский следил за поведением фаворита и отмечал, что, когда пьют здоровье различных особ, тот ограничивается лишь тостом за князя.
Екатерина надеялась привлечь Мамонова к государственным делам, но он не был политиком. Его стали обхаживать Воронцов и Завадовский, надеясь сделать из него второго Ермолова. Он остался верным императрице, но очень страдал, ревнуя ее ко всякому, кому удавалось привлечь ее внимание. Жизнь при дворе казалась ему тяжкой и жестокой.
Итак, Потемкин снова продемонстрировал всем, что ему нет соперников. Он оставался на вершине, которую не собирался оставлять. Он обладал «властью большей, нежели герцог Оливарес или кардиналы Уолси и Ришелье», — как заметил один иностранный наблюдатель.[623] В течение долгих лет дипломаты называли его «великим визирем», «премьер-министром» — но ни одно из этих определений не описывало его настоящего, уникального положения. Может быть, ближе всех к истине подошел Сен-Жан: «Все понимали, что свалить Потемкина невозможно... Он был некоронованный царь».[624] Но был ли он счастлив? Как он жил? И что за человек был Григорий Потемкин?
22.ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ КНЯЗЯ ГРИГОРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
Се ты, отважнейший из смертных! Парящий замыслами ум! Не шел ты средь путей известных, Но проложил их сам, — и шум Оставил по себе в потомки; -Се ты, о чудный вождь Потемкин! Г. Р. Державин. ВодопадУТРО
В Петербурге Потемкин жил в Шепелевском дворце, соединенном с апартаментами императрицы в Зимнем. Вставал он поздно. Передняя была уже полна посетителей. Приближенных он принимал, лежа в халате на постели. Встав, любил окунуться в холодную ванну, потом молился. На завтрак выпивал горячего шоколада и рюмку ликера.
Если он решал устроить прием посетителей, то выходил в приемную, демонстративно игнорируя самых льстивых, — но не дай бог кому-нибудь не выказать ему должного почтения! Один юный секретарь, учившийся в Кембридже и в Оксфорде, ждал как-то выхода князя вместе с генералами и послами, держа в руках портфель с бумагами. Они сидели в гробовом молчании: все знали, что светлейший еще спит. «Вдруг из опочивальни, находившейся рядом с приемной комнатою, дверь быстро и с шумом растворяется и в дверях показывается сам величественный Потемкин в шлафроке и туфлях, надетых на босые ноги, и громким голосом зовет своего камердинера. Не успел раздаться этот голос, как вдруг в одно мгновение все, что было в зале, — генералы и все другие знатные особы, опрометью бросились из залы наперерыв один перед другим, чтобы не медля отыскать княжеского камердинера». Секретарь остался один, с портфелем под мышкой, «боясь не только шевельнуться, но даже моргнуть глазами». Бросив грозный взгляд на молодого человека, князь молча удалился. После того как был отыскан камердинер и светлейший, уже одетый в полную форму, окончил прием посетителей, он подозвал к себе секретаря: «Скажи мне, Алексеев, знаешь ли ты, сколько в моем Таврическом саду находится ореховых деревьев?» Алексеев не знал. «Пойди в сад, немедля сосчитай их и доложи потом о сем мне». К вечеру молодой чиновник назвал заветное число, замирая от страха — не упустил ли одного-двух деревьев. «А знаешь ли ты, зачем я дал тебе это поручение? — спросил его светлейший. — Затем, чтобы научить тебя быть проворнее, ибо я заметил, что ты сегодня утром, когда я крикнул, чтобы позвать моего камердинера и когда все присутствовавшие тогда в зале генералы и прочие знатные особы бросились отыскивать его для меня, ты же, молокосос, даже не двинулся с места, чтобы исполнить свой долг. [...] С докладом же своим и бумагами зайди завтра утром, ибо сегодня я не расположен заниматься ими. Прощай!»[625]
Вид и манеры князя наводили страх на подателей прошений — он был непредсказуем. От него исходила и угроза, и приветливость: он мог быть то «страшен», то невероятно высокомерен, то остроумен и шутлив, то добросердечен и бодр, то мрачен и угрюм. Когда Александру Рибопьеру было восемь лет, родители взяли его поглядеть на Потемкина, и он навсегда запомнил исходившее от него ощущение могущества и одновременно мягкости: «Я очень испугался, когда он вдруг поднял меня могучими своими руками. Он был огромного роста. Как теперь его вижу, одетого в широкий шлафрок, с голою грудью, поросшею волосами». Принц де Линь описывал его как «высокого, прямого, с гордой осанкой, красивого, благородного, то величественного, то чарующего», а другие — как уродливого циклопа. Но Екатерина не переставала говорить о красоте своего любимца, а о его привлекательности для женщин свидетельствуют переполняющие его архивы письма. Несомненно, он был чувствителен к молве, но стеснялся своей внешности, особенного незрячего глаза. Когда кто-нибудь посылал к нему одноглазого курьера, он был уверен, что над ним смеются, и злился на «глупую шутку». Именно потому с него написано так мало портретов.[626]
«Князь Потемкин никогда не соглашается позировать художникам, — объясняла Екатерина Гримму, — а те портреты и силуэты, что существуют, сделаны против его воли».[627] Около 1784 года и потом, в 1791-м, она уговорила его позировать Джамбаттиста Лампи, единственному художнику, которому он доверял. При этом, хотя невидящий глаз портил его совсем не сильно, он садился только в три четверти. Иностранцы говорили, что его глаза символизируют Россию: «открытый напоминает нам незамерзающий Понт Эвксинский [Черное море], а закрытый — покрытый льдом Северный океан».[628] Портрет Лампи, где Потемкин изображен в мундире адмирала, на берегу Черного моря, представляет того Потемкина, которого история забыла — бодрого, энергичного, целеустремленного. Более поздние портреты кисти того же художника показывают более округлое, уже постаревшее лицо. Но лучший портрет — изображение князя в возрасте около сорока пяти лет: удлинненное артистичное лицо, полные губы, ямочка на подбородке, густые золотистые волосы. К концу 80-х годов он стал великаном и вширь.
Князь становился центром внимания всюду, где появлялся. «Он создавал, или разрушал, или все баламутил, но при этом все животворил [...] — писал Массон. — Ненавидевшие его вельможи при виде его, казалось, уходили под землю и совершенно перед ним уничтожались». Почти все, кому довелось встречаться с ним, говорили о «необычайном», «удивительном», «колоссальном», «оригинальном» и «гениальном» человеке, а те, кто знал его близко, затруднялись описать его. «Один из самых необычайных людей, так же трудно поддающихся описанию, как и редко встречающихся», — говорил герцог Ришелье.[629]
Он весь состоял из контрастов — «поразительное соединение величественности и мягкости, лени и деятельности, смелости и робости, амбициозности и беззаботности», — говорил Сегюр. Он был «необъятен, как Россия». В голове и в душе его «культура соседствовала с дикой пустыней, грубость одиннадцатого века с развратностью восемнадцатого, изящный вкус с монастырским невежеством».[630] Ему «наскучивало то, чем он обладал», а недостижимое «вызывало зависть». Потемкин «хотел всего и ко всему питал отвращение». Его жажда власти, фривольная экстравагантность и безграничное высокомерие смягчались неотразимым юмором, ласковой мягкостью, благородной человечностью и отсутствием злопамятности. Ришелье говорил, что «его натура всегда склоняла его больше к Добру, чем ко Злу».[631] Его завоевания умножали славу империи — но он знал, как говорил Сегюр, что «восхищение, которое они вызывали», изливалось на Екатерину, а «на него — зависть и ненависть».[632]
Выходки Потемкина часто раздражали Екатерину — и они же привлекали ее к нему. Ришелье говорил о присущем характеру князя «поразительном соединении [...] гениального и смешного». Иногда, замечал Литтлпейдж, «казалось, что он в состоянии править империей, а иногда — что не справился бы и с самой ничтожной должностью в царстве лилипутов».[633] Но главной его чертой — той, которую нам никогда не следует упускать из виду, — было умение находить время и энергию, чтобы совершать титаническую работу и добиваться почти невозможного.
Посетители, ждавшие в приемной князя, привыкли слышать его оркестр. Он любил начинать день с музыки; оркестр и один из многочисленных хоров всегда были наготове. Играли и во время обеда, в час пополудни, и в 6 часов, где бы князь ни появился. Музыканты сопровождали его и в Крым, и на войну. Музыка была ему необходима, он сочинял сам и в гармонии находил утешение.
Светлейший управлял музыкальными развлечениями при дворе, поскольку императрица музыку не любила и не понимала. Он выкупил оркестр Разумовских за 40 тысяч рублей, но по-настоящему его страсть к музыке расцвела в 1784 году, когда он пригласил знаменитого итальянского композитора и дирижера Джузеппе Сарти. «Шестьдесят пять мужчин и юношей, каждый из которых играет на своем рожке, размером соответствующем росту музыканта, производят поразительный звук, напоминающий огромный орган», — записала леди Крейвен.[634] Потемкин назначил Сарти первым музыкальным директором еще не построенного Екатерино-славского университета. Расходные книги показывают, что он покупал рожки за границей и оплачивал кареты для путешествия итальянских музыкантов Конти и Дофина на юг. Там Потемкин пожаловал Сарти и троим его музыкантам 15 тысяч десятин земли.[635] Это была первая в истории музыкальная колония.
Потемкин и его приближенные постоянно обменивались партитурами новых опер. Музыка открывала один из путей к фавору. Князь Любомирский, польский магнат, поставлявший Потемкину лес из своих имений, посылал ему и ноты: «Если роговая музыка по вкусу вашей светлости, я осмелюсь прислать вам еще одно сочинение». Кобенцль, сам страстный меломан, писал Потемкину: «До нас дошли подробности прелестного нового представления» Сарти и Маркезини, и заверял, что венская опера, конечно, с ним не сравнится. Иосиф счел нужным послать Кобенцлю «два хоровых произведения для оркестра князя Потемкина». Русские послы за границей покупали для него не только картины и предметы искусства, но и разыскивали музыкальные новинки.[636]
Светлейший гордился достижениями Сарти как своими личными, тем более что отдельные фрагменты в его операх сочинял сам. Он писал любовные песни, подобные той, что посвятил Екатерине, и духовную музыку — например, «Канон ко Спасителю», отпечатанный в его собственной типографии. Нам трудно судить о качестве потемкинских сочинений, но, поскольку его критики никогда не смеялись над ними, вероятно, он был талантлив и в этом — как Фридрих Великий в игре на флейте. Гость светлейшего Франсиско де Миранда наблюдал, как Потемкин «поставил на нотной бумаге наугад несколько закорючек и, указав тональность и темп, предложил Сарти сочинить какую-нибудь музыку».[637] Вероятно, Сарти аранжировал наброски Потемкина для оркестра.
Екатерина, конечно, гордилась его музыкальными способностями. «Могу послать вам арию Сарти, — писала она Гримму, — сочиненную на ноты, набросанные князем Потемкиным».[638]
Около 11 часов утра наступал священный момент. Князь допускал «первых сановников к своему утреннему туалету, — вспоминал граф де Дама. — Они являлись в мундирах с орденами, а он сидел в середине комнаты с неубранными волосами и в халате, наброшенном на голое тело».[639] Посреди этой восточной сцены иногда появлялся лакей Екатерины, что-то шептал князю на ухо, и тогда тот «запахивал халат поплотнее, отпускал присутствующих кивком головы и исчезал за дверью, ведшей в приватные апартаменты императрицы».[640] Екатерина к этому времени бодрствовала уже несколько часов.
Потом он все же одевался — хотя не всегда. Потемкин обожал эпатировать публику, говорил де Линь, поэтому вел себя «то самым любезным, то самым грубым образом». В торжественных случаях он «одевался очень пышно и обвешивал себя орденами; речью, осанкою и движениями представлял из себя вельможу времен Людовика XIV».[641] Когда он умер, в его гардеробе остались эполеты с рубинами стоимостью 40 тысяч рублей и алмазными пуговицами за 62 тысячи; усыпанный брильянтами портрет императрицы, который он всегда носил на груди, стоил 31 тысячу рублей. Шляпа с драгоценными камнями, такая тяжелая, что ее носил особый адъютант, оценивалась в 40 тысяч рублей. Даже подвязки для чулок оценивались в 5 тысяч, а весь гардероб — в 276-283 тысячи рублей.[642] Но чаще всего он, как описывал Ришелье, «ходил в халате на меху, с открытой шеей, в широких туфлях, с распущенными и нечесаными волосами; обыкновенно он лежал, развалясь на широком диване, окруженный множеством офицеров и значительнейшими сановниками империи; редко приглашал он кого-нибудь садиться и почти всегда усердно играл в шахматы, а потому не считал себя обязанным обращать внимание на русских или иностранцев, которые посещали его».[643]
Когда Сегюр прибыл в Петербург, Потемкин пригласил его на обед. Французскому послу показалось оскорбительно, что «все гости были парадно одеты, а он явился попросту — в сюртуке на меху».[644] Через несколько дней француз отплатил Потемкину тем же; князь оценил его смелость — хотя, конечно, она могла сойти с рук только другу Марии Антуанетты. Впрочем, эти гардеробные шутки имели политический смысл: в то время, когда церемониал екатерининского двора становился все торжественнее и все сложнее отражал иерархию чинов и милостей, а придворные соревновались друг с другом в пышности одежд, и ярче всего одевались фавориты Екатерины, потемкинские халаты демонстрировали, что он не просто фаворит, но стоит выше двора, то есть — наравне с императрицей.
Итак, со времени пробуждения князя прошло несколько часов. Он принял посетителей, просмотрел бумаги вместе с Поповым и встретился с императрицей. Впрочем, в дни, когда он просыпался в дурном расположении духа, он не вставал вовсе. Однажды он вызвал Сегюра к себе в спальню, объяснив, что «тяжелая тоска не позволила ему ни встать, ни одеться...»[645] Жизнь тайного супруга императрицы была полна постоянного напряжения: его свержения и гибели жаждали слишком многие.{75} А работа первого министра в эпоху, когда бюрократический аппарат не поспевал за стремительным ростом государства, была работой на износ — не удивительно, что Питт умер в сорок шесть лет, а Потемкин в пятьдесят два года.
Его настроение и отношение к окружающим постоянно менялись — «от подозрительнсти к доверию, от ревности к благодарности, от мрачности к шутливости», — вспоминал де Линь.[646] Вспышки лихорадочной деятельности сменялись приступами лени и апатии. Отчасти эти приступы были последствиями малярийной лихорадки, которой он переболел в 1772 и 1783 годах. Быстрые переезды на огромные расстояния, постоянные военные смотры, напряжение политических интриг свалили бы кого угодно: так, Петр I, на которого во многом походил Потемкин, часто страдал лихорадкой во время своих многочисленных поездок. Потемкину слишком часто нужно было оказываться в разных местах России одновременно.
«Он был [...] иногда ленив до неподвижности, а иногда деятелен до невозможности». Впав в депрессию» он замолкал. Мог вызвать двадцать адъютантов — и не сказать им ни слова. Иногда он молчал часами. «За обедом я сидела рядом с князем Потемкиным, — писала леди Крейвен, — но, предложив мне есть и пить, он больше не раскрыл рта ни разу».[647]
Возможно, он страдал циклотимическим или даже маниакально-депрессивным синдромом, высшей фазе которого вполне соответствуют описания периодов его эйфории, красноречия, бессонницы, безудержной траты денег и гиперсексуальности. Именно такой склад личности позволял ему делать несколько дел одновременно и совершать то, на что неспособен средний человек. Отсюда же периоды необычайного оптимизма и обаяние. С такими людьми трудно жить — но часто они очень талантливы.{76} Именно маниакальная фаза делает их особенно способными к лидерству.
Знавшие Потемкина восхищались его «могучим воображением», но не одобряли его «легкомыслия». «Никто не соображал с такою быстротою какой-либо план, не исполнял его так медленно и так легко не забывал», — говорил Сегюр. Именно такое впечатление он производил, хотя результаты его деятельности вполне опровергают это утверждение. Ближе к правде был де Линь, утверждавший, что светлейший «всегда кажется праздным, но всегда занят делом».
Однажды Сегюр попросил назначить ему день, чтобы обсудить торговое предприятие, основанное по желанию князя под Херсоном марсельским предпринимателем Антуаном. «Князь принял меня и попросил прочесть толстую [...] тетрадь, представленную мне этим неоциантом [...] Но пока я читал записку [...] к князю входили один за другим священник, портной, секретарь, модистка, и всем им он давал приказания. Когда я хотел остановиться, он настоятельно просил меня продолжать... Я сказал ему, что не привык к такому невниманию и беспечности... Не прошло трех недель, как я получил от г. Антуана письмо, где он меня благодарил за исполнение его поручения. Он писал мне, что Потемкин ответил ему обстоятельно на все пункты его донесения [...] Я тотчас же поспешил к князю. Только что вошел я, как он встретил меня с распростертыми объятиями и сказал: «Ну что, батюшка, разве я вас не выслушал, разве я вас не понял? Поверите ли вы наконец, что я могу вдруг делать несколько дел?..» Но он работал только если хотел.[648]
Когда он пребывал в депрессии или просто желал отдохнуть, бумаги оставались неподписанными. Секретари его канцелярии приходили в уныние. Рассказывают, что как-то раз один из секретарей, некто Петушков, похвастался, что может добыть подпись князя, невзирая на его нежелание ничем заниматься. Он пошел к нему и объяснил срочность дела. Потемкин подписал бумаги одну за другой — однако, вернувшись в канцелярию, секретарь обнаружил, что под каждым документом значится: «Петушков, Петушков, Петушков».[649]
Он демонстративно игнорировал вельмож, генералов и послов, жаждавших его внимания. Иногда, лежа на диване, он мог поманить к себе кого-нибудь из них пальцем. Дипломаты так боялись оказаться в смешном положении, что иногда дожидались в каретах перед дворцом, посылая в приемную своих помощников.
О его бесцеремонности и умении глумиться над теми, кто чем-то ему не понравился, существуют многочисленные анекдоты.
«Известный по сочинениям своим Денис Иванович Фонвизин был облагодетельствован Иваном Ивановичем Шуваловым; но, увидя свои пользы быть в милости у светлейшего, невзирая на давнюю его большую неприязнь с Шуваловым, перекинулся к князю и в удовольствие его много острого и смешного говорил насчет бывшего своего благодетеля. В одно время князь был в досаде и сказал насчет некоторых лиц: «Как мне надоели эти подлые люди». — «Да на что же вы их к себе пускаете, — отвечал Фонвизин, — велите им отказывать». — «Правда, — сказал князь, — завтра же я это сделаю». На другой день Фонвизин приезжает к князю; швейцар ему докладывает, что князь не приказал его принимать. «Ты, верно, ошибся, — сказал Фонвизин, — ты меня принял за другого». — «Нет, — отвечал тот, — я вас знаю, и именно его светлость приказал одного вас только и не пускать, по вашему же вчера совету».[650]
Один генерал, прождав в приемной несколько дней, стал возмущаться: «Можно бы, кажется, и чин мой уважить! Ведь я не капрал!» Его ввели в кабинет. Потемкин стал подниматься с кресел... «Помилуйте, ваша светлость! — начал генерал. — Не беспокойтесь!» — «Ох, отвяжись, братец, — ответил князь, по обыкновению своему скобенясь и сморщив лице. — Меня на сторону понуждает».[651]
Старый обедневший полковник ворвался к нему, прося об определении в коменданты. «Гони его вон!» — крикнул Потемкин своему адъютанту. Когда адъютант приблизился к полковнику, тот пощечиной свалил его с ног и набросился на него с кулаками. Потемкин подошел и некоторое время с любопытством наблюдал за потасовкой. В конце концов ветеран получил новую должность, деньги на дорогу к месту службы и денежное вознаграждение.[652]
В Могилеве, поймав губернатора на шулерстве, он схватил его за ворот и надавал пощечин. Другого вельможу, Волконского, он ударил за то, что тот захлопал какой-то его шутке. Светлейший никого не боялся, ибо чувствовал себя самовластным монархом, не имеющим равных.[653]
ПОЛДЕНЬ
Когда заканчивались приемные часы, снова являлся Попов с бумагами. «На князя каждый день обрушивался поток корреспонденции, и я не понимал, где он берет столько терпения, чтобы уделять внимание всем этим идиотам», — замечал Миранда. Случались письма от немецких князей, русских вдов, греческих пиратов и итальянских кардиналов. Почти все извинялись за дерзость или докучливость; часто просили земли или места в армии. Похоже, что светлейший переписывался со всеми князьями Священной Римской империи, которую называл «архипелагом князей». За слишком длинные письма извинялись даже короли. «Я по собственному опыту знаю, — писал Станислав Август, — как неприятны занятому человеку пространные эпистолы...»[654]
Профессор Батай посылал оду Екатерине и уточнял: «Могу ли я оставить без упоминания Вашу Светлость? Соблаговолите бросить взгляд на мой труд».[655] Передвижная канцелярия Потемкина из пятидесяти человек отвечала на многие из этих писем — но он мог забыть ответить, например, королю шведскому.
Люди самых разных состояний взывали к нему о помощи. Один из потемкинских протеже, которому он помог жениться на дочери Нарышкина, сообщал об ужасном открытии: у жены 20 тысяч долга (вероятно, карточного). Княгиня Барятинская писала из Турина: «Я сражаюсь с ужасной нищетой [...] Только вы, князь, можете сделать счастливой женщину, которая страдала всю жизнь». Немецкий граф умолял: «У меня нет средств содержать больную жену, 14-летнюю дочь, сыновей...» Некий простолюдин просил: «Сжальтесь над нами...» Но, поскольку мы имеем дело с Потемкиным, не обходилось без экзотики: один из таинственных корреспондентов, Элиас Абез, «князь Палестинский», признавался: «Я доведен почти до отчаяния и умоляю Вашу Светлость о покровительстве [...] В довершение моих несчастий [...] грядет зима». Письмо подписано по-арабски. Кто это был и что делал в Петербурге в августе 1780 года? Во всяком случае, в следующем письме он уже благодарил его светлость «за великодушную помощь». Князь много писал сам, по-русски или по-французски, но Попову он доверял так, что чаще всего сообщал ему в двух словах смысл ответа, и секретарь составлял письмо.[656]
Перед обедом князь любился уединиться на час. Ни Попов, ни другие секретари обычно не беспокоили его в это время. Закрываясь у себя, Потемкин требовал принести его драгоценности.
Драгоценные камни успокаивали Потемкина так же, как музыка. Он садился к столу с ювелирной пилкой, прутком серебра и шкатулкой с камнями. Иногда посетителям случалось видеть, как великан-ребенок играет с камнями, пересыпает их из руки в руку, выкладывает из них узоры или что-то рисует, решая про себя некую задачу.
Он осыпал брильянтами своих племянниц. Виже-Лебрен говорила, что никогда не видела ничего подобного шкатулке с брильянтами в доме Екатерины Скавронской в Неаполе, а принц де Линь упоминает некое брильянтовое колье стоимостью 100 тысяч рублей. Разумеется, драгоценности были одним из путей к милости светлейшего. «Посылаю Вам маленький красный рубин и синий рубин побольше», — писал Ксаверий Браницкий в одном из своих подобострастных писем. Переписка Потемкина с ювелирами показывает его нетерпеливый интерес к драгоценным камням. «Посылаю Вашей Светлости рубин св. Екатерины, — писал Алексис Деуза, мастер, работавший на потемкинской камнерезной фабрике в Озерках. — Он не так хорош, как мне бы хотелось. Чтобы огранить его как следует, нужен цилиндр, а тот, что вы заказали, будет готов [...] лишь через десять дней [...] и я решил, что ждать не стоит. Мне показалось, что Вашей Светлости он нужен немедленно».[657] Расходные книги красноречиво иллюстрируют его охоту за брильянтами: множеству коммерсантов он был должен за алмазы, геммы, аметисты, топазы, аквамарины и жемчуг. Вот, например, счет от французского ювелира Дюваля, за февраль 1784 года:
Большой сапфир, 18,3/4 карата — 1500 рублей
Два брильянта по 5,3/8 карата — 600 рублей
10 брильянтов по 20 карат — 2200 рублей
15 брильянтов по 14,5 карата — 912 рублей
78 брильянтов по 14,5 карата — 725 рублей...[658]
В счете от Теппера, варшавского банкира светлейшего, упоминаются две золотые табакерки, инкрустированные брильянтами, золотые часы, часы с репетиром, украшенные брильянтами, «брильянтовый сувенир», а также ноты, восемнадцать перьев, принадлежности для живописи, выписанные из Вены, жалованье одному из русских агентов в Польше и 15 тысяч рублей «жиду Иосии» за некую услугу — итого 30 тысяч рублей.
Беспорядочность в оплате этих счетов также вошла в легенду. Среди просителей, часами дожидавшихся в приемной, были и ювелиры, тщетно пытавшиеся получить свои деньги. Говорят, при появлении кредитора Потемкин делал знак Попову: открытая рука означала «заплатить», кулак — выгнать вон. Придворный часовщик Фази будто бы ухитрился подсунуть счет под прибор Потемкину за столом императрицы. Князь, принявший бумагу за любовную записку, пришел в ярость, но Екатерина рассмеялась, и Потемкин, ценивший смелость, все же заплатил — однако доставил 14 тысяч рублей медью; мешки с монетами заняли две комнаты.[659]
ОБЕД
Около часа пополудни драгоценности уносили и для обеда, главной трапезы того времени, накрывался стол. Собирались те, кого князь в данный момент считал своими друзьями: Сегюр, де Линь, леди Крейвен, Сэмюэл Бентам... Дружеские увлечения Потемкина были такими же пылкими, как любовные, и часто заканчивались разочарованием. «Для того чтобы завоевать его дружбу, — утверждал Сегюр, — главное было — не бояться его». Самого Сегюра, явившегося к нему в первый раз, продержали в приемной зале так долго, что он, возмутившись, ушел. На другой день он получил письмо, в котором князь извинялся и назначал новое свидание. «На этот раз, только что я вошел, как был тотчас же встречен князем; он был напудрен, разодет в кафтане с галунами и принял меня в своем кабинете». В другой раз, не вставая с постели, он сказал Сегюру: «Дорогой граф, отложим церемонии [...] будем как добрые друзья». Сэмюэл Бентам убедился, что, подружившись с кем-нибудь, светлейший ставил своего нового приятеля выше первых сановников империи. В домашней обстановке он был ласков и мягок, но на публике держался высокомерно и надменно. Возможно, это объяснялось его природной робостью. Миранде случилось даже увидеть, как неумеренная лесть заставила Потемкина покраснеть.[660]
В эпоху, когда остроумие ценилось особенно высоко, князь был мастером беседы. «То серьезный, то склонный к балагурству, — вспоминал Сегюр, — всегда готовый вступить в богословский спор, он переходил от важных материй к смеху, словно не высоко ценил собственное мнение». Де Линь говорил, что, желая завоевать чье-нибудь сердце, светлейший мог сделать это без труда. Он был восхитительным — и одновременно ужасным собеседником, «то ругаясь, то смеясь, то передразнивая кого-нибудь, то отпуская соленые шутки, то молясь, то напевая, то впадая в задумчивость», он мог быть «или предельно любезным, или грубо злобным». Сэмюэл Бентам писал, что никогда не проводил такого веселого времени, как во время путешествия в карете князя. Поэт Державин вспоминал «доброе сердце и великодушие» Потемкина. При этом он был по-настоящему добр. «Чем больше я узнаю его характер, — писал Бентам Полу Кери, — тем больше уважаю его и восхищаюсь им».[661]
«Он был вовсе не мстителен, не злопамятен; а его все боялись», — вспоминал Ф.Ф. Вигель, видевший в этом факте причину двойственного отношения к Потемкину. Русских смущали сама его терпимость и его добродушие. «Бранных, ругательных слов, кои многие из начальников себе позволяли с подчиненными, от него никто не слыхивал; в нем совсем не было того, что привыкли мы называть спесью. Но в простом его обхождении было нечто особенно обидное; взор его, все телодвижения, казалось, говорили присутствующим: «Вы не стоите моего гнева». Его невзыскательность, снисходительность весьма очевидно проистекали от неистощимого его презрения к людям; а чем можно более оскорбить их самолюбие?»[662]
Обед подавали около половины второго, и, даже если присутствовали полтора десятка гостей, играл роговой оркестр из 60 музыкантов. Князь любил хорошо поесть — недаром Щербатов поминает его «обжорливость и следственно роскошь в столе».[663] Чем больше усиливалось политическое напряжение, тем больше он ел; так топка локомотива пожирает уголь. Он никогда не утрачивал вкуса к простой крестьянской пище, хотя не забывал и о гамбургском копченом гусе, о балтийских устрицах, об апельсинах из Китая или инжире из Прованса. На десерт он предпочитал савойские хлебцы, а свое любимое блюдо, уху из каспийских стерлядей, любил видеть на столе всегда, где бы ни находился, В 1780 году Пол Кери присутствовал на «обычном» обеде у Потемкина и записал его примерное меню: «Удивительной нежности телятина из Архангельска, баранина из Бухары, молочный поросенок из Польши, икра с Каспия», — все приготовленное французским поваром Балле.
Ценил светлейший и хорошее вино — не только свое из Судака, но, как отмечал тот же Кери, из всех «портов Европы, с островов Греции и с берегов Дона».[664] Ни один тост не обходился без шампанского.
Однажды — это было в те годы, когда он достиг зенита своего могущества — Потемкин, сидя за столом, шутил и смеялся, но под конец обеда сделался серьезным, начал грызть ногти. Гости и слуги ждали, что последует. В конце концов он спросил: «Может ли человек быть счастливее меня? Все, чего я ни желал, все прихоти мои исполнялись, как будто каким очарованием: хотел чинов — имею, орденов — имею; любил играть — проигрывал суммы несчетные; любил давать праздники — давал великолепные; любил покупать имения — имею; любил строить дома — построил дворцы; любил дорогие вещи — имею столько, что ни один частный человек не имеет так много и таких редких; словом, все страсти мои в полной мере выполнялись».[665] С этими словами он бросил об пол фарфоровую тарелку, ушел в спальню и заперся.
Тоскуя оттого, что он «баловень судьбы», Потемкин, наверное, был настоящим русским: он стыдился своей власти и гордился своей неуемностью; его отталкивала холодная бюрократия, он гордился своим безграничным терпением и умением переносить любые лишения, был способен на самоуничижение — то есть обладал всеми чертами, на которых зиждется величие истинно русского характера. Его жажда славы, богатства и удовольствий была ненасытна — но удовлетворение этих желаний не приносило счастья. Как-то он позвал своего адъютанта и велел подать кофе. Адъютант побежал выполнять приказ. Он позвал снова. Послали другого курьера. Он повторял требование еще и еще, войдя в какое-то исступление. Когда же кофе наконец принесли, он сказал: «Не надобно, я только хотел чего-нибудь ожидать, но и тут лишили меня сего удовольствия».[666]
«ЧАС ЛЮБВИ»
Послеобеденное время было в России традиционным временем любви, как французское «с пяти до семи» или испанская сиеста. Многие женщины писали ему, умоляя о свидании. Эти неопубликованные записки, написанные наполовину по-русски, наполовину по-французски, всегда без подписи и без числа, составляют особый раздел потемкинского архива. «Я не смогла подарить вам удовольствие, потому что не успела — вы умчались», — писала одна из корреспонденток крупным, почти детским почерком. В другом письме она же объявляет: «Я с нетерпением ждала мгновения, когда смогу поцеловать вас. Ожидая, я делала это мысленно, с той же нежностью, что наяву».
Потемкин мучил своих любовниц вечными капризами. «Я сойду с ума от любви к вам», — писала одна из них. Его постоянные перемещения и отъезды на юг делали его еще более привлехательным: «Я так сердита, что не смогла обнять вас», — писала одна. «Не забывайте, прошу, умоляю вас верить, что я принадлежу вам одному!» — И жаловалась в другом послании: «Все же вы меня забыли...» Другая мелодраматически объявляет, что если бы она «не жила надеждой быть любимой, то покончила бы с собой».[667]
Он привык лежать на диване в окружении женщин, СЛОВНО султан. Любивший общество женщин, он не видел необходимости ограничивать свои эпикурейские аппетиты. Ту из его любовниц, которая занимала главенствующее положение, дипломаты называли «старшей султаншей». Но он вел себя по отношению к женщинам благородно; об этом писал Самойлов, которому это могло быть доподлинно известно, ибо к числу любовниц князя принадлежала, возможно, и его жена: Потемкин поддавался только порыву души и никогда — тщеславию, «как делают многие люди, добившиеся славы». Но его подчиненные знали, что жен лучше держать от него подальше. Вигель вспоминал историю о том, как «в один вечер звездоносные шуты тешили светлейшего разговорами о женокой красоте. Один из них объявил, что он никогда не видал столь прелестной маленькой ножки, как у мой матери. «Неужели? — сказал Потемкин. — Я не приметил. Когда-нибудь приглашу се к себе и попрошу показать ее без чулка». Отец Вигеля немедленно отправил жену в деревню.[668]
Если Потемкину делалось скучно, он ездил во дворец обер-шталмейстера Екатерины Льва Нарышкина, где пир и танцы продолжались днем и ночью. Там он восседал в сооруженном специально для него алькове; это же место было лучшим для встречи с самыми знатными из его возлюбленных. «Это был приют веселья и, можно сказать, место свидания всех влюбленных. Здесь, среди веселой и шумной толпы, скорее можно было тайком пошептаться, чем на балах и в обществах, связанных этикетом». Здесь князь отдыхал, иногда в молчании, иногда «весело болтая с женщинами». Австрийский посол сообщал своему императору, что «в разлуке со своей племянницей он утешается обществом госпожи Сологуб, дочери госпожи Нарышкиной». Иван Сологуб был одним из его генералов.[669]
ВЕЧЕР
Начало вечера светлейший проводил обычно с императрицей, а когда, около половины одиннадцатого вечера, она удалялась со своим фаворитом, Потемкин начинал по-настоящему жить. Ночь была для него самым плодотворным временем суток. Потемкин не обращал внимания на часы, и его подчиненные должны были следовать его примеру. «Всегда лежит, но не предается сну ни днем, ни ночью», — писал де Линь.[670]
НОЧЬ
Ночные привычки князя довелось испытать на себе сэру Джеймсу Харрису: «У него нет установленного времени для еды или сна, а кататься мы часто отправлялись в дождь, среди ночи».[671]
Не знало границ и любопытство Потемкина. Обсуждая религию, политику, искусство или любовь, он без конца задавал вопросы, дразня и провоцируя собеседника. «Он обладает глубокими познаниями во всех сферах, — писал о нем герцог Ришелье. — Подобно пчеле, которая, вбирая нектар из цветов, создает изумительное вещество, он вбирает знания тех людей, с которыми встречается, а так как память служит ему великолепно, он без труда завладевает тем, что другие приобретают долгим и упорным трудом».[672]
Все, кто знал Потемкина, даже ненавидевшие его, признавали необычайность его ума: Семен Воронцов считал, что князь имеет «бездну ума, хитрости и влияния», хотя ему недостает «знаний, усердия и добродетели». А принц де Линь вспоминал: «Природный ум, превосходная память, возвышенность души, коварство без злобы, хитрость без лукавства, счастливая смесь причуд, великая щедрость в раздаянии наград, чрезвычайная тонкость, дар угадывать то, чего он сам не знает, и величайшее познание людей...»[673]
Сегюр часто удивлялся потемкинскому знанию «не только политики, но и путешественников, ученых, писателей, художников — и даже ремесленников». Все общавшиеся с князем признавали за ним «глубокое знание древности». Миранда, путешествовавший вместе с ним по югу, поражался его познаниям в области архитектуры, живописи и музыки. «Этот человек, наделенный сильным характером и исключительной памятью, стремится, как известно, всячески развивать науки и искусства и в значительной мере преуспел в этом», — писал венесуэлец, поговорив с Потемкиным о Гайдне и Боккерини, полотнах Мурильо и сочинениях француза Шапп д’Отроша. Неудивительно, что граф де Дама считал, что «странному» Потемкину он обязан «самыми приятными моментами в жизни».[674]
Поражало собеседников и его знание русской истории. «Благодаря Вашей хронологии, это лучшая часть моей истории России», — писала Екатерина о своих «Заметках о русской истории», в работе над которыми он ей помогал. Историю они любили оба. «Этот предмет я изучала много лет, — писала Екатерина французскому литератору Сенаку де Мейлану. — Я всегда любила читать книги, которые никто не читает, и нашла только одного, кто разделяет со мной эту склонность, — фельдмаршал князь Потемкин».[675] Это была еще одна черта, объединявшая их.
Иеремия Бентам предлагал Потемкину устроить типографию. Впрочем, с лета 1787 года светлейший возил с собой типографию, взятую в Военной коллегии во время путешествия Екатерины на юг; в ней были отпечатаны его «Канон вопиющия в грехах души ко Спасителю Господу Иисусу» и несколько книг, переведенных с французского и английского.[676]
И Сегюр, и де Линь утверждали, что Потемкин почерпнул «больше познаний от людей, чем из книг». Это, конечно, неправда; Потемкин очень много читал. Пол Кери, проведший с ним много времени в начале 1780-х годов, отмечал, что образованность его проистекает из «множества книг, прочитанных в молодые годы», и отсюда же — «знание греческого языка и любовь к нему». Библиотека князя, которую он пополнял, покупая книжные собрания у ученых и своих друзей, таких, как архиепископ Булгарис, отражает широту его интересов: тут были и классики от Сенеки, Горация и Плутарха до «Возлюбленных Сапфо» — книги, вышедшей в Париже в 1724 году; труды по богословию, военному делу, сельскому хозяйству и экономике: «Монастырские обычаи», учебники по артиллерии, «Военные мундиры» и «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адама Смита; много книг о Петре Великом, сочинения французских философов-просветителей. О его англофилии и любви к садам напоминают книги по истории Англии, «Карикатуры Хогарта» и, конечно, «Иллюстрированная Британия, или Виды лучших английских замков и садов». Ко времени его смерти библиотека насчитывала 1065 книг на иностранных языках и 106 на русском.[677]
Хотя он и усвоил многие идеи французских философов, все же его собственные политические взгляды оставались по преимуществу типично русскими. Для державы такого размера, как Россия, лучшей формой правления он считал самодержавие. Женщина-правительница и государство были едины; он служил и той, и другому. Три революции — американская, французская и польская — и пугали, и привлекали его. Он не уставал расспрашивать Сегюра об американцах, вместе с которыми тот сражался, но «не верил, что республиканские установления могут продержаться долго в такой большой стране. Его ум, привычный к деспотизму, не допускал сосуществования свободы и порядка». О Французской революции Потемкин сказал графу де Ланжерону просто: «Ваши соотечественники, полковник, сошли с ума». Политику Потемкин считал искусством гибкости и философского терпения. «Положитесь на свое терпение, — учил он английского посланника. — Непредвиденное стечение обстоятельств принесет вам гораздо больше пользы, чем вся ваша риторика».[678]
Князь любил беседовать «о богословии с генералами, а о военных делах с архиереями», говорил принц де Линь. Лев Энгельгардт вспоминал, что «он держал у себя ученых рабинов, раскольников и всякого звания ученых людей; любимое его было упражнение: когда все разъезжались, призывал их к себе и стравливал их, так сказать, а между тем сам изощрял себя в познаниях». Любимым предметом его было «разделение греческой и латинской церквей», а лучшим способом привлечь к себе его внимание — «заговорить с ним о Никейском, Халкедонском или Флорентийском соборе». Для того чтобы войти в доверие к князю, Фридрих Великий в 1770-х годах приказывал своему послу изучать догматы православной церкви.[679]
Он дразнил Суворова, строго соблюдавшего посты: «Видно, граф, хотите вы въехать в рай верхом на осетре», — но сам при этом оставался подлинным сыном православной церкви. Несмотря на все свое эпикурейство, он был глубоко верующим человеком и во время Второй русско-турецкой войны писал Екатерине: «Христос Вам поможет, Он пошлет конец напастям. Пройдите Вашу жизнь, увидите, сколько неожиданных от Него благ по не-счастию Вам приходило. Были обстоятельствы, где способы казались пресечены. Тут вдруг выходила удача. Положите на Него всю надежду и верьте, что Он непреложен. Пусть кто как хочет думает, а я считаю, что Апостол в Ваше возшествие пристал не на удачу» (то есть не случайно день восшествия Екатерины на престол пришелся на праздник апостолов Петра и Павла), — и дальше цитировал первые стихи 12-й главы послания Павла к римлянам. Он часто думал об уходе от мира («Будьте доброй матерью, приготовьте мне епископскую митру и тихую обитель...») — но при этом не позволял религии мешать его удовольствиям. Де Линь писал, что он «крестится одной рукой, а другой приветствует женщин, обнимает то статую Богородицы, то белоснежную шею своей любовницы».[680]
Часто князь проводил целые ночи за зеленым столом. Если языком, объединяющим Европу XVIII века, был французский, то игрой — конечно, фараон: эсквайр из Лестершира, шарлатан из Венеции, плантатор из Вирджинии и офицер из Севастополя играли в одну и ту же игру, понятную без слов. Игроки сидели за овальным столом, покрытым зеленым сукном, с невысокой деревянной перегородкой. Банкомет сидел напротив игроков; те делали ставки на карты, лежащие лицом вверх с той или с другой стороны от перегородки. Ставки можно было удваивать до «суасант-э-ле-ва», то есть до шестидесяти раз; удвоение ставок отмечалось загибанием карт. Возможность идти на большой риск, не произнося ни слова, не могла не импонировать светлейшему.
Одну из историй о карточной игре Потемкина рассказал Пушкин: «Молодой Ш. как-то напроказил. Князь Б. собирался пожаловаться на него самой государыне. Родня перепугалась. Кинулась к князю Потемкину, прося его заступиться за молодого человека. Потемкин велел Ш. быть на другой день у него, и прибавил: «да сказать ему, чтоб он со мною был посмелее». — Ш. явился в назначенное время. Потемкин вышел из кабинета в обыкновенном своем наряде, не сказал никому ни слова и сел играть в карты. В это время приезжает князь Б. Потемкин принимает его как нельзя хуже и продолжает играть. Вдруг он подзывает к себе Ш. «Скажи, брат, — говорит Потемкин, показывая ему свои карты, — как мне тут сыграть?» — «Да мне какое дело, ваша светлость, — отвечает ему Ш., — играйте, как умеете». — «Ах, мой батюшка, — возразил Потемкин, — и слова тебе нельзя сказать; уж и рассердился». Услыша таковой разговор, князь Б. раздумал жаловаться».[681]
Игроки ставили на кон целые пачки банкнот, но князя деньги не интересовали. Он требовал, чтобы ставки делали на камни, и клал рядом с собой брильянты пригоршнями. Его партнеры отваживались передергивать карты, потому что, если Потемкин играл для развлечения, пользуясь бездонным кошельком Екатерины, они ставили на карту состояния своих семей. Когда один из игроков заплатил проигрыш искусственными брильянтами, Потемкин ничего не сказал, но предложил ему прогулку в некое болотистое место. Карета князя ехала рядом с каретой обидчика. Когда въехали на поле, залитое водой, Потемкин подал вознице знак, и тот сделал так, что коляска сорвалась с передка, а сам умчался с лошадьми. Когда «обидчик» вернулся пешком, промокнув до нитки, Потемкин встретил его у окна, весело хохоча.[682]
Никто не мог прервать игру Потемкина. Однажды его вызвали в Совет, и он ответил, что не поедет. Когда же посланный отважился спросить о причине, то получил краткий ответ: «Псалом первый, стих первый» — то есть — «Блажен муж иже не иде на совет нечестивых».[683]
В это же время, от заката до рассвета, князь успевал просматривать и горы бумаг; вероятно, именно в это время суток он работал больше всего. Секретари всегда были под рукой, и Попов, стоя за его стулом с карандашом и бумагой, записывал между партиями его распоряжения.
Часть седьмая: АПОГЕЙ (1787-1790)
23.ВОЛШЕБНОЕ ЗРЕЛИЩЕ
Людовик XIV завидовал бы Екатерине II,
либо женился бы на ней...
Императрица приняла меня...
и напомнила мне тысячу вещей,
которые могут помнить только монархи,
всегда обладающие великолепной памятью.
Принц де Линь
7 декабря 1786 года Франсиско де Миранда, креол с сомнительной дворянской родословной, 37 лет от роду, уволенный из испанской армии и ехавший из Константинополя, собирая деньги на освобождение Венесуэлы, ждал появления Потемкина в Херсоне.
Весь город готовился к приезду князя, который осматривал свои владения в последний раз перед приездом Екатерины II и императора Священной Римской империи Иосифа II. Пушки были заряжены, войска готовы к параду. Говорили, что Потемкин появится со дня на день, но «загадочное божество», как называл его Миранда, не появлялось. «Никто не знал, где будет его следующая остановка». Потемкин умел и любил заставить себя ждать. Чем; больше власти сосредоточивалось в его руках, тем глуше замирало все в ожидании его прибытия. Потемкина приветствовали как императора. Капризы его были непредсказуемы, перемещения стремительны. Он мог остановиться в каком-нибудь городе, не предупредив городское начальство: все должно было быть готово к его приезду в любой момент. «Ты летаешь, а не ездишь», — говорила Екатерина.[684]
Наконец через три недели, 28 декабря, к вечеру «послышались орудийные залпы, возвестившие о прибытии столь долгожданного князя Потемкина». Военные и чиновники отправились «засвидетельствовать свое почтение кумиру-фавориту». Друзья ввели Миранду в экзотическое окружение Потемкина. «Боже мой! Ну что за орава льстецов и плутов! — восклицал венесуэлец. — Однако меня несколько развлекло разнообразие здешних костюмов: казаки, калмыки, греки, евреи» и посланцы народов Кавказа в мундирах на прусский манер.[685] Вдруг появился великан, который лишь иногда кивал головой, но ни с кем не разговаривал. Венесуэльца представили князю испанским графом (каковым он не являлся). Потемкин ничего не сказал — но его любопытство было затронуто.
31 декабря адъютант Потемкина принес Миранде приглашение. Венесуэлец застал его пьющим чай с Нассау-Зигеном. Миранда знал Нассау по Испании и Константинополю и презирал, как авантюрист презирает авантюриста. У обоих за плечами была бурная жизнь. Миранда воевал за Испанию в Алжире и на Ямайке, в Америке встречался с Вашингтоном и Джефферсоном. 42-летний Нассау-Зиген, обедневший наследник крохотного курфюршества, стал рыцарем удачи в пятнадцать лет, отправившись с экспедицией Бугенвилля в кругосветное плавание, во время которого убил тигра, попытался стать королем в Западной Африке и стал любовником королевы Таити. Вернувшись, в 1782 году он командовал неудачной франко-испанской осадой Гибралтара и совершил набег на Джерси. Потом, безжалостный и бесстрашный как на войне, так и в интригах, Нассау отправился на восток. В Польше он принялся ухаживать за прекрасной вдовой, княгиней Сангушко, считая ее богатой невестой. Она думала то же о женихе. После свадьбы выяснилось, что оба ошибались, но брак оказался удачным; в варшавских гостиных только ахали, слушая рассказы о пятидесяти медведях, которых чета держала в своем подольском поместье, чтобы не подпускать казаков. Когда король Станислав-Август послал принца к Потемкину, чтобы уговорить того призвать к порядку его польских агентов, Нассау стал компаньоном князя, и надеялся получить права на херсонскую торговлю.[686]
Князь расспрашивал Миранду о Южной Америке, когда появились неаполитанец Рибас и графиня Сивере. «Хотя она происходит из добропорядочной семьи, — записал Миранда, это — шлюха». Графиню сопровождала мадемуазель Гибаль, гувернантка племянниц светлейшего, а теперь правительница его южного сераля. Потемкин поцеловал свою любовницу и усадил рядом с собой («Он сожительствует с ней без всякого стеснения», — отметил Миранда). Через несколько дней Потемкин, собирая свой двор в апартаментах графини Сивере в своем дворце, уже не мог обойтись без двух своих новых знакомых. Нассау-Зиген считался «паладином» века, а Миранда был отцом освободительного движения Южной Америки, — и нам очень повезло, что последний записывал свои впечатления в откровенном дневнике. Беседуя с ними об алжирских пиратах и польских делах, Потемкин даже «собственноручно положил всем запеканку и фрикасе». Миранда с удовольствием отметил, что свита «лопалась от одолевающей ее зависти».[687]
Князь пригласил Нассау и Миранду сопровождать его в инспекции маршрута императрицы. Потемкин знал, что успех путешествия Екатерины навсегда сделает его неуязвимым, а неудача погубит. Правители Англии, Пруссии и Высокой Порты с беспокойством наблюдали, как Потемкин строит города и корабли, угрожающие Константинополю. Крымскую поездку императрицы отложили из-за чумы. Недоброжелатели Потемкина утверждали, что путешествие не состоится, ибо показывать на юге нечего. «Некоторые считают, — доносил Кобенцль Иосифу, — что выполнить все необходимое для поездки попросту невозможно».[688]
5 января 1787 года, в 10 часов вечера Потемкин, Миранда и Нассау отправились в путь в одной карете. Они скакали всю ночь, трижды переменяли лошадей, остановились у одного из потемкинских домов и достигли Перекопа в 8 часов утра, проделав 160 миль за двадцать часов. Короткие дистанции они проделывали в просторной карете, а по заснеженным степям перебирались в кибитках на полозьях. «Кибитка похожа на колыбель для младенца, — вспоминала леди Крейвен. — В ней можно сидеть или лежать и чувствовать себя ребенком, со всех сторон обложенным подушками и укутанным одеялом». Ухабы и огромная скорость делали путешествие весьма рискованным. Кибитки часто переворачивались, но русских ямщиков это не смущало. Они молча слезали с козел, ставили повозку на полозья и продолжали путь, «никогда не спрашивая, не переломал ли кто-нибудь кости».[689]
Князь осмотрел Крым, где Миранда увидел новый флот, войска, города и сады. Он пришел в восхищение от дворцов, приготовленных для императрицы в Симферополе, Бахчисарае, Севастополе и Карасубазаре, и от английских парков, создаваемых вокруг них Гульдом. В Севастополе, на балу в офицерском собрании, предложили тост за здоровье князя. «Он, к моему удивлению, покраснел и признался мне: «Меня застали врасплох». Насмешили Миранду «несколько офицериков, которые в прыжках и скачках ничем не уступали парижским щеголям».[690] Затем, осмотрев Инкерман, они вернулись в Симферополь, где путешественники два дня охотились, а князь занимался делами.
Потемкина сопровождали регулярные эскадроны татарских всадников. «Пятьдесят всадников сопровождают карету повсюду, — сообщал жене Нассау-Зиген, — и повсюду, где мы проезжали, татары сбегаются со всех сторон, так что кажется, что находишься на поле боя». Миранда обратил внимание, как почтительно Потемкин обращается с муфтиями в каждом селении. Светлейшего сопровождали художник М.Иванов, который делал зарисовки, и музыканты — струнный квартет и украинский хор. Однажды Миранда застал Потемкина, который любовался «отличнейшим жемчужным ожерельем (или браслетом), инкрустированным брильянтами». Оно стоило так дорого, что, особа, купившая его у придворного венского ювелира, хранила инкогнито. Даже Иосиф II не знал, кто это, — и желал узнать. В конце концов Кобенцль для него эту тайну: Потемкин собирался презентовать ожерелье императрице во время ее южной поездки.[691]
Попив чаю на английской молочной ферме, которой управлял мистер Хендерсон с «племянницами», путешественники направились в Судак, где осмотрели виноградники. Что касается солдат, то, по мнению Миранды, Киевский и Таврический полки «не могли быть лучше». В древней Кафе, где некогда находился невольничий рынок, а теперь рос новый город Феодосия, они посетили монетный двор, управляемый еврейским купцом Цейтлиным.
Каждую ночь и каждый переезд светлейший заполнял политическими и художественными дискуссиями, обсуждая достоинства Мурильо или преступления инквизиции. Его компаньоны чувствовали себя друг с другом вполне комфортно — может быть, слишком комфортно, и князь развлекался тем, что пытался стравить Нассау с Мирандой. Нассау, французского подданного немецкой крови, он подначивал, обвиняя французов в неблагодарности к России; Миранда присоединялся. Тогда Нассау объявлял, что все испанки шлюхи, почти поголовно больные сифилисом. Тут выходил из себя Миранда, и начинался спор, какая нация развратнее.
20 января они двинулись через степи обратно в Херсон: снова ехали всю ночь и завтракали в Перекопе. Мороз стоял такой, что «у некоторых из наших людей были отморожены лица и они оттирали их снегом, салом и т.д., — что помогает». Потемкина ждал его адъютант Боур. Прискакав за семь с половиной суток из Царского Села, он объявил, что императрица направляется на свидание с Потемкиным в Киев.[692]
Морозным днем 7 января 1787 года, в 11 часов, четырнадцать карет и 124 санные упряжки (плюс сорок запасных) выехали из Царского Села под артиллерийский салют. С обозом ехали сотни слуг; на каждой почтовой станции поезд ждали пятьсот шестьдесят лошадей. В свиту Екатерины из двадцати двух человек входили первые сановники двора, а также послы Франции, Австрии и Англии: Сегюр, Кобенцль и Фицгерберт.{77} Все были закутаны в медвежьи и собольи шубы.
Шестиместная императорская карета, запряженная десятью лошадьми и устланная коврами, была так высока, что в ней можно было стоять. В первый день в карете ехали государыня, Мамонов, статс-дама Протасова, обер-иггалмейстер Нарышкин, обер-камергер Шувалов и граф Кобенцль. Через день Шувалов и Нарышкин уступали свои места Сегюру и Фицгерберту, которых Екатерина называла своими «карманными министрами».[693]
В три часа темнело, и сани мчались по дорогам, освещаемым с двух сторон кострами. Императрица следовала тому же распорядку дня, что в Петербурге, вставая в 6 часов утра и занимаясь делами, потом завтракала в обществе «карманных министров», а в 9 часов снова пускалась в путь, останавливалась на обед в два часа и потом ехала до семи. Везде ее ждали дворцы; натоплено было так жарко, что Сегюра «больше беспокоила жара, чем мороз на улице». До 9 вечера играли в карты и беседовали, затем императрица удалялась и работала до отхода ко сну. Сегюр находил такое времяпрепровождение очаровательным; желчный Фицгерберт, оставивший в Петербурге любовницу, скучал. Он жаловался Иеремии Бентаму, что вокруг него «сидят на тех же стульях, едят те же блюда», что в столице, и вместо того, чтобы путешествовать по России, возят по ней Петербург. Императрица с Мамоновым останавливалась во дворцах, а свите выпадали то такие же роскошные палаты, то простые крестьянские избы.[694]
Направляясь на юго-запад, в сторону Киева, иностранцы наблюдали русские обычаи: «за четверть часа до появления ее величества» крестьяне «падали ниц и поднимались через четверть часа после того, как мы скрывались из виду». Поприветствовать императрицу стекались толпы, но она не придавала этому особого значения. «И медведя смотреть кучами собираются», — говорила она своему секретарю.[695] Императрица проехала по потемкинскому Кричеву, и Иеремия Бентам наблюдал шествие кортежа по главной улице, «украшенной ветками елей и других вечнозеленых деревьев и иллюминированной бочками смолы». Балы давались повсюду, каждый вечер. «Вот как мы путешествуем», — хвасталась Екатерина Гримму.[696]
29 января государыня прибыла в Киев, где всему двору предстояло дожидаться, пока сойдет лед на Днепре. Сюда собрались «толпы путешественников со всей Европы». Дороги к Киеву были запружены каретами вельмож. «Никогда в жизни я не встречала столько веселья, изящества и остроумия, — писала графиня Мнишек, племянница Станислава Августа, - Наши обеды в грязных еврейских корчмах так изысканны, что, закрыв глаза, можно вообразить, что мы — в Париже».[697]
Прибыв в Кременчуг, Потемкин стал проводить дни за слушанием концертов. «Была музыка и снова музыка», — не мог надивиться Миранда. Роговой оркестр сегодня, оратория Сарти завтра, украинский хор, квартеты Боккерини. Однако, прикрываясь маской беззаботности, Потемкин не мог не заниматься делами. Не все получалось так, как он хотел. Через два дня после прибытия Екатерины в Киев он делал смотр десяти эскадронам драгун. «Ни один ни к черту не годится, — записал Миранда. — Князь остался крайне недоволен».[698] Эскадрон кирасир под Полтавой даже не стали смотреть.
С прибытием Екатерины в Киев действия и перемещения Потемкина стали стремительны и непредсказуемы. Миранде и Нассау он приказал сопровождать его к императрице. 4 февраля, осмотрев войска и поприсутствовав на нескольких обедах, Потемкин встретился с бывшим молдавским господарем Александром Маврокордато. В нарушение духа Кучук-Кайнарджийского договора, турки изгнали Маврокордато из Молдавии: напряжение между Россией и Высокой Портой нарастало.
Киев, стоящий на правом берегу Днепра, представлял собой «греко-скифское» видение из «руин, монастырей, церквей, недостроенных дворцов» — древний русский город, переживающий тяжелые времена. «Для государыни построили дворец... Она принимала в нем духовенство, правительственных лиц, представителей дворянства, купцов и иностранцев, приехавших во множестве в Киев, куда привлекло их величие и новость зрелища, здесь их ожидавшего. В самом деле, им представлялся великолепный двор, победоносная императрица, богатая и воинственная аристократия, князья и вельможи, гордые и роскошные, купцы в длинных кафтанах, с огромными бородами, офицеры в различных мундирах, знаменитые донские казаки в богатом азиатском наряде и которых длинные пики, отвагу и удальство Европа узнала недавно, татары, некогда владыки России, теперь подданные, князь грузинский, повергший к трону Екатерины дань Фазиса и Колхиды, несколько послов от бесчисленных орд киркизов, народа кочевого, воинственного, наконец, дикие калмыки, настоящее подобие гуннов... Это было какое-то волшебное зрелище, где, казалось, сочеталась старина с новизною, просвещение с варварством, где бросалась в глаза противоположность нравов, лиц, одежд самых разнообразных».[699]
Дом Кобенцля стал своеобразным клубом для иностранцев, где собирались французы, немцы, множество поляков и даже несколько американцев, включая 25-летнего виргинского плантатора Литтлпейджа, камергера польского короля. Друг Джорджа Вашингтона, он сражался с англичанами у Гибралтара и Минорки и, страстный любитель театра, осуществил польскую премьеру «Севильского цирюльника» в доме у Нассау. Теперь он представлял Станислава Августа при дворе Потемкина. Главенствующее положение среди иностранцев занял, разумеется, де Линь — «приветливый с равными себе, уважаемый теми, кто стоял ниже него, фамильярный с вельможами и с даже монархами, он умел всем дать почувствовать себя легко». Впрочем, не все разделяли хорошее мнение о де Лине: Миранда нашел его «низким льстецом».[700]
Светлейший поселился в Киево-Печерской лавре, полумонастыре-полукрепости, древнем лабиринте из церквей с двумя десятками куполов и пещер, где покоились останки монахов. Семьдесят пять святых лежали в этих катакомбах, не тронутые тлением. Когда Потемкин принимал здесь посетителей, тем казалось, что они попали «к визирю в Константинополь, Багдад или Каир. Здесь царили тишина и какой-то страх». Перед посетителями Потемкин являлся в фельдмаршальском мундире, весь в орденах и брильянтах, завитой и напудренный, но в монастыре, по своему обыкновению, возлежал на диване, делая вид, что не замечает ни польских князей, ни грузинских царевичей. Сегюр не желал, чтобы иностранцы заметили «посла французского короля принужденным подчиняться вместе с прочими высокомерию и причудам Потемкина». Он вспоминал, как в один из вечеров, «видя, что князь сидит за шахматами, не удостаивая [его] взглядом», он «прямо подошел к нему, обеими руками взял и приподнял его голову, поцеловал его и попросту сел подле него на диван».[701] В интимном кругу светлейший отбрасывал свое высокомерие и снова становился весел и приветлив со всеми.
Российская столица переместилась в Киев. «Какая пышность! Какой шум! — восклицал де Линь. — Сколько алмазов, золотых звезд и орденов! Сколько золотых цепей, лент, тюрбанов и шапок, остроконечных и отороченных мехами!» В доме Браницкой Нассау познакомил Миранду «со знатными поляками: графом Вельгор-ским, графом [Игнацием] Потоцким, «воеводой Русским» [Стани-славом-Щенсны] Потоцким, князем Сапегой, графом Мнишком и другими [...] Боже мой, какую роскошь позволяют себе эти поляки, как по части одежды, так и в смысле подаваемых яств».[702]
14 февраля Потемкин представил Миранду Екатерине. На нее, несомненно, произвела впечатление его мужественная внешность, она расспрашивала его об инквизиции, жертвой которой он себя называл, и с этого дня включила его в кружок своих приближенных. «Играли в вист в обычной компании», записывал венесуэлец через несколько дней. Нассау жаловался жене, что ставки «высоковаты — по 200 рублей». Почти каждый вечер заканчивался непринужденным собранием у Нарышкина, как в Петербурге.[703]
Как обычно, всех горячо интересовала личная жизнь Екатерины и Потемкина. Послы строчили депеши, путешественники тщательно записывали то, что им удалось подметить. Екатерину повсюду сопровождал Мамонов, «обязанный своим случаем князю Потемкину и не забывающий этого», как утверждал Нассау, но это не мешало циркулировать слухам об особой благосклонности императрицы к Миранде. «Ничто не избежало его вторжения, вплоть до августейшей особы, — сетовал молодой американский дипломат Стивен Сэйр, — ужасное открытие для меня, который провел в столице почти два года, но познакомился далеко не со всеми сферами этого сложно устроенного мира».[704]
В должности «любимой султанши» графиню Сивере скоро сместила Нарышкина, которой в доме ее отца восхищался Миранда. Как-то вечером у обер-шталмейстера обедала императрица. «Шла карточная игра, звучала музыка, танцевали». Екатерина играла в вист с Потемкиным, Сегюром и Мамоновым, а затем подозвала к себе Миранду и беседовала с ним об архитектуре Гранады. Настоящее веселье началось в 10 часов, когда государыня удалилась. «Барышня Нарышкина безупречно сплясала казачка, и... русскую, которая даже сладострастнее нашего фанданго... О, как прекрасно танцует [Нарышкина], как плавны движения ее плеч и талии! Они способны воскресить умирающего!» Светлейший, несомненно, разделял восхищение Миранды талантами этой девицы, потому что через несколько дней «более часа беседовал тет-а-тет с юной Марией Нарышкиной, излагая ей какую-то политическую материю, коей весьма озабочен, а она все повторяла, вздыхая: «Если бы это было правдой!»[705]
Свита князя, включая Миранду и Нассау, проживала вместе с ним в Лавре, но вела себя далеко не по-монашески. Киев гудел весельем; на украинских жриц Венеры сыпался золотой дождь. В один из дней Миранда и Киселев, один из адъютантов Потемкина, прогулявшись по Подолу, «направились к некой польской еврейке, содержащей подходящих девиц, и она обещала предоставить их на ночь». Однако, когда венесуэлец пришел на «рандеву», «вместо обещанной утром красотки [ему] досталась только не ахти какая полька». Объезжая окрестности Киева, Миранда с сожалением отмечает, что женщины «достойного вида» так напудрены, накрашены и разодеты, что «напоминают французских модисток», и сокрушался, что «проклятая галльская фривольность заразила весь род людской, добравшись даже до глухих украинских сел!»[706]
Дипломаты пытались понять политический смысл происходящего, но «политические секреты остались между Екатериной, князем Потемкиным и графом Безбородко», — писал Сегюр. Когда французский посланник объявил Екатерине о намерении Людовика XVI созвать Генеральные штаты — событие, ставшее первым шагом к Французской революции, она «выразила [ему] свое удовольствие и с увлечением выхваляла эту меру; она видела в ней несомненный залог будущего восстановления наших финансов и учреждения общественного порядка». Конечно, Екатерина понимала, что означают парижские новости, но писала Гримму, что они не произвели на нее «особого впечатления».[707]
Императрица готовилась к свиданию со своим бывшим возлюбленным, королем Станиславом Августом. Потемкин решил встретиться с ним первым, чтобы обсудить ход его свидания с Екатериной. Светлейший продолжал считать Польшу своим тылом и усиливал русское присутствие в этой стране. Теперь двумя его главными задачами было завоевать себе положение польского магната и добиться, чтобы Польша поддержала Россию в грядущей войне с турками.
Польские дела были так запутанны и неустойчивы, что Потемкин не придерживался единой политики. Через Ксаверия Браниц-кого он продолжал управлять пророссийской партией, враждебной королю. В конце 1786 года он дополнил эту тактику другой, приобретая в Польше огромные имения, на что имел право как польский дворянин (в 1783 году он продал несколько своих русских поместий, а теперь собирался проститься и с Кричевом). Он сообщил Миранде, что только что приобрел за два миллиона рублей земли площадью более 300 тысяч акров в Польше. Говорили, что на этих землях расположено 300 деревень и проживают 60 тысяч человек мужского пола. Князь заключил сложную сделку с князем Ксаверием Любо-мирским о покупке имений Смила и Мещерич на правом берегу Днепра, в треугольнике принадлежавшего Польше Киевского воеводства, вдававшегося в территорию России. В одной только Смиле на момент смерти Потемкина насчитывалось 112 тысяч душ мужского пола — население целого города. Имение располагало собственной судебной системой и даже небольшой армией.
Имения светлейший покупал на свои деньги, но в конечном счете средства все же брались из казны; это предприятие он считал в такой же мере личным, как государственным. Любомирский был одним из главных поставщиков древесины для Черноморского флота — и именно эти леса покупал теперь Потемкин. Приобретение земель в Польше делало Потемкина польским магнатом, то есть, с одной стороны, закладывало основы его будущего княжества за пределами России, а, с другой, являлось формой аннексии территории, дававшей ему возможность вписаться в польскую государственную систему и подчинить ее России. Екатерина уже пыталась подарить Потемкину герцогство Курляндское и королевство Дакию, если не польскую корону, но пока это не получалось. «В перлюстрации письма Фиц-Герберта в Лондон [...] — записал секретарь Екатерины Храповицкий, — кн[язь] Потемкин из новокупленных в Польше земель, может быть, сделает Tertium quid, ни от России, ни от Польши независимое». Екатерина понимала, чем грозит ее супругу восшествие на престол Павла. В конце того же года Потемкин писал Екатерине: «Покупка имения Любомирского учинена, дабы, зделавшись владельцем, иметь право входить в их дела и в начальство военное». Как все, связанное с Польшей, приобретение Смилы принесло Потемкину массу хлопот, втянув его в переговоры и судебные тяжбы, продлившиеся четыре года.[708]
Важной опорой Потемкина в Польше был король Станислав Август. Умаляя его власть с помощью коронного гетмана Браницкого и покупки польских земель, Потемкин тем не менее всегда симпатизировал ему — тонкому эстету и покровителю просвещения: их переписка несомненно теплее, чем того требовали дипломатические каноны, во всяком случае, со стороны Потемкина. Князь верил, что союз со Станиславом Августом может обеспечить
России поддержку в войне с Турцией, сохранить русское влияние в Польше и удержать ее от подчинения Пруссии. В качестве польского магната Потемкин мог бы лично командовать польской армией. Всех этих целей легче всего можно было достигнуть через короля.
Но в Киеве поляки сами уронили престиж своего монарха еще до его встречи с Екатериной. «Какими покорными и льстивыми по отношению к князю Потемкину кажутся мне эти пресмыкающиеся перед ним высокопоставленные поляки!» — записал Миранда после ужина у Браницкого. Интриги и адюльтер шли рука об руку; поляки «обманывали друг друга, и сами были обмануты, и обманывали других, и все это с необычайной любезностью». Больше всего они старались возвысить свой престиж в глазах Потемкина, «но его взгляд поймать нелегко, — шутил де Линь, — поскольку у него один глаз, да и тот косой».[709]
Потемкин демонстрировал свою власть, возвышая одних поляков и унижая других. Все искали его внимания. Де Линь, Нассау и Литтлпейдж интриговали с поляками в интересах своих покровителей. Браницкий завидовал Нассау, который поселился в доме Потемкина, завладев таким образом «полем битвы». Браницкий и Феликс Потоцкий пытались убедить Потемкина, что Станислав Август противится продаже ему земель. Близость Александры Браницкой к императрице вызвала слухи о том, что она — внебрачная дочь Екатерины. Когда князю надоели козни Браницкого, он устроил ему такую «выволочку», что Александра слегла от расстройства. Тем не менее Браницкому и Феликсу Потоцкому он обеспечил теплый прием императрицы, тогда как на его врагов, Игнация Потоцкого и князя Сапегу, Екатерина «даже не соизволила взглянуть».[710]
В игры с Польшей оказался вовлечен даже Миранда. Один раз в присутствии знатных поляков он не встал при появлении князя; его примеру последовали и его собеседники, и на некоторое время Потемкин стал с ним холоден.[711]
В начале марта князь в сопровождении Нассау, Браницкого и русского посла в Варшаве Штакельберга отправился на встречу с польским королем. Потемкин был одет в мундир польского шляхтича, с польскими орденами. Короля, сопровождаемого Литглпейд-жем, он принял, как своего государя. Они договорились о русско-польском союзе против Порты. Штакельбергу светлейший поручил выяснить отношение Станислава Августа к его планам обосноваться в Смиле. Король отвечал, что хочет получить согласие России на реформирование польской конституции.[712]
Двумя днями позже Миранда с волнением ожидал возвращения князя в Киев. Потемкин, немилость которого никогда не продолжалась долго, приветствовал его как старого приятеля: «Мы, кажется, век не видались. Как дела?» Но близился приезд императрицы, и светлейшему становилось не до иностранцев. Через Мамонова Екатерина предложила Миранде вступить в русскую службу, но тот признался, что планирует возглавить освобождение Венесуэлы от испанского владычества. Екатерина II Потемкин не могли не принять этот антибурбонский план благосклонно. Князь шутил, «поминая инквизицию, и предлагал отправить ее в Америку и в Каракас [...] и заметил, что в качестве инквизитора можно послать меня». Екатерина предложила Миранде покровительство русских миссий за границей, а он попросил «для вящей безопасности и завершения предприятия кредитное письмо на сумму в 10 тысяч рублей». Мамонов объяснил венесуэльцу, что для этого нужно «замолвить вначале словечко князю Потемкину». 22 апреля 1787 года будущий диктатор Венесуэлы простился с князем и императрицей. Испанцы наконец выследили его. Через несколько месяцев оба посла Бурбонов в Петербурге, испанский и французский, грозили оставить русскую столицу, если псевдо-граф и лжеполковник не будет выдворен за пределы империи. 10 тысяч он сполна так и не получил, но продолжал переписываться с Потемкиным.[713]
Когда Киев всем уже наскучил, артиллерийский салют возвестил, что лед на реке тронулся.
В полдень 22 апреля 1787 года императрица взошла на роскошную галеру, и на юг отправилась флотилия, какой еще никогда не видели берега Днепра.
24. КЛЕОПАТРА
Ее корабль престолом лучезарным Блистал на водах Кидна. Пламенела Из кованого золота корма, А пурпурные были паруса Напоены таким благоуханьем, Что ветер, млея от любви, к ним льнул. В лад пенью флейт серебряные весла Врезались в воду, что струилась вслед, Влюбленная в прикосновенья эти. Царицу же изобразить нет слов. У. Шекспир. Антоний и Клеопатра. Пер. М. ДонскогоВ полдень 22 апреля 1787 года Екатерина, Потемкин и их свита взошли на галеру, где был накрыт стол на 50 человек. В 3 часа пополудни флотилия тронулась. За семью величественными и комфортабельными галерами, окрашенными снаружи в пурпур и золото, убранными золотом и шелком внутри, следовали восемьдесят судов с тремя тысячами матросов и солдат. На каждой галере имелись общая гостиная, библиотека, концертный зал, балдахин на палубе — и оркестр, сопровождавший каждую посадку и высадку почетных гостей (оркестром екатерининской галеры «Днепр» дирижировал маэстро Сарти). Спальни были отделаны тафтой и китайским шелком, в кабинетах стояли столы из красного дерева и удобные диваны, а уборные были снабжены водопроводом. Плавучая столовая вмещала семьдесят человек.
Воспоминание об этом фантастическом круизе навсегда запечатлелось в памяти его участников. «Множество лодок и шлюпок носилось впереди этой эскадры, которая, казалось, создана была волшебством», — вспоминал Сегюр. Народ «громкими кликами приветствовал императрицу, когда при громе пушек матросы мерно ударяли по волнам Борисфена своими блестящими, расписанными веслами». Это был «флот Клеопатры [...] невозможно представить себе более блистательного путешествия», — писал де Линь.[714]
На берегах Днепра Потемкин организовал непрекращающееся театральное представление. Иногда на отлогих склонах маневрировали отряды казаков. «Города, деревни, усадьбы, а иногда простые хижины так были изукрашены цветами, расписанными декорациями и триумфальными воротами, что вид их обманывал взор и они представлялись какими-то дивными городами, волшебно созданными замками, великолепными садами».[715]
Утром свита императрицы была предоставлена самой себе. В полдень на царской галере стреляла пушка и в столовой императрицы собирались гости, иногда всего десять человек. В 6 часов вечера начинался ужин у императрицы. В 9 часов Екатерина удалялась, и все отправлялись к князю Потемкину. Несмотря на беспрецедентную пышность, обстановка в плавучих апартаментах была вполне интимной. Однажды вечером Мамонов, которому наскучил его распорядок дня, попросил Нассау и нескольких других остаться на партию в вист. Как только они начали игру в гостиной Екатерины, она вышла из будуара, с распущенными волосами и с ночным чепчиком в руке, в пеньюаре персикового цвета с голубыми лентами. Императрица выразила надежду, что не помешает их игре, извинилась за «дезабилье» и непринужденно беседовала до 10 часов вечера. Игра продолжалась до половины второго.
Принц де Линь, удивлявший Сегюра живостью своего воображения и юношеским умом, рано утром будил его стуком в тонкую перегородку и «читал экспромты в стихах и песенки, только что им сочиненные. Немного погодя его лакей приносил [...] письмо в 4 и 6 страниц, где остроумие, шутка, политика, любовь, военные анекдоты и эпиграммы мешались самым оригинальным образом». Ничто не могло быть удивительнее этой переписки, «которую вели между собою австрийский генерал и французский посланник, лежа стена об стену в галере, недалеко от повелительницы Севера, на волнах Борисфена, в земле казаков и на пути в страны татарские!» — вспоминал Сегюр. Зрелище, разворачивавшееся перед именитыми путешественниками, отражало таланты его импресарио: «Стихии, весна, природа и искусство, казалось, соединились для торжества этого могучего любимца».[716]
Через три дня после выхода флотилии из Киева король Польши Станислав Август прибыл в Канев, чтобы приветствовать императрицу с польского берега. В последний раз они встречались, когда он был молодым мечтателем, а она — несчастной женой взбалмошного принца. Женщину, которую он никогда не переставал любить, Понятовский не видел двадцать восемь лет и, быть может, лелеял мечты о возобновлении союза. «Вам нетрудно вообразить, — писал он Потемкину в феврале 1787 года, — с каким волнением я ожидаю этого счастливого момента».[717]
Станислав Август оставался красивым, чувствительным и тонким человеком. Потемкин и Станислав Август имели общие вкусы в музыке, архитектуре и литературе, но король не мог позволить себе доверять князю. Жизнь Станислава Августа состояла из ряда унижений. В политическом смысле он занимал самую слабую позицию, какую можно вообразить; в личном — он был не соперник политику масштаба Потемкина. Политические устремления короля раздражали Екатерину, а его личная искренность была для нее почти невыносима.
Настоящим поводом для встречи была, конечно, не любовная ностальгия, а надежда Понятовского на возрождение Польши. Усугубляющийся хаос, упрямая гордость дворянства и сложный лабиринт проблем делали Речь Посполитую политической загадкой для любившей порядок Екатерины, но были очень на руку ловкому Потемкину. План антитурецкого союза, о котором он договорился с королем, мог предотвратить гибель Польши.
В Каневе флотилия встала на якорь. В 11 часов 25 апреля Безбородко и гофмаршал князь Барятинский отправились навстречу королю на шлюпке. «Господа, король польский поручил мне представить вам графа Понятовского», — сказал Станислав Август (польские монархи не имели права покидать территорию страны). Когда Станислав Август вступил на галеру императрицы, Сегюр и другие придворные окружили его, «желая заметить первые впечатления и слышать первые слова двух державных особ, которые находились в положении, далеко не сходном с тем, в каком встречались когда-то, соединенные любовью, разлученные ревностью и преследуемые ненавистью». Однако ожидания свиты не оправдались: после весьма холодного обмена приветствиями король и императрица удалились в кабинет. Когда они появились через полчаса, «черты императрицы выражали какое-то необыкновенное беспокойство и принужденность, а в глазах короля виднелся отпечатое грусти, которую не скрыла его принужденная улыбка». «Мы не виделись тридцать лет, — писала позднее Екатерина, — и вы можете вообразить, что нашли друг друга несколько переменившимися».[718]
После обеда произошла трогательная сцена. Взяв из рук пажа перчатки и веер императрицы, король протянул их ей, но никак не мог найти свою шляпу. Екатерина велела принести шляпу и подала ее королю. «Покрыть мою голову дважды, — сказал он, намекая на свою корону. — Вы слишком добры, мадам!» Отдохнув, Станислав Август перешел на плавучую резиденцию Потемкина. Светлейший попытался примирить его с Браницким, но тот держал себя так дерзко, что Станислав Август вышел из каюты. Потемкин бросился за ним с извинениями, императрица и князь сделали БраницкрмУ выговор — но он, разумеется, остался в их свите.
В 6 часов вечера король вернулся на царскую галеру для политических переговоров. Прогуливаясь с Екатериной по палубу, он предложил русско-польский союз. Она обещала дать ответ. Князь беззаботно играл в карты неподалеку. Екатерина была в гневе, дао он не пришел ей на помощь. «Почему князь Потемкин и вы постоянно бросаете нас?» — выговаривала она де Линю. Станислав Август умолял Екатерину отужинать в Каневе, где он потратил едва ли не все свои деньги, готовя двухдневный пир и фейерверк, но она не снизошла к его мольбам. Она объявила Потемкину, что не собирается решать дела впопыхах: «Всякая перемена намерения, ты сам знаешь, что мне неприятна». Потемкин, то ли из уважения к Станиславу Августу, толи осерчав на то, что Екатерина сломала его польский план, продолжал играть в карты и ничего не ответил. Екатерина разгневалась еще сильнее и стала еще спокойнее, а король еще мрачнее. Придворные смотрели во все глаза. «Князь Потемкин ни слова не говорил, — сказала Екатерина на следующий день своему секретарю, — принуждена была говорить беспрестанно; язык засох; почти осердили, прося остаться». В конце концов она согласилась посмотреть на фейерверк со своей галеры.[719]
Король, униженный в очередной раз, откланялся. «Не показывайте своей досады, — шепнул ему де Линь. — Вы только радуете двор, который вас ненавидит». Екатерина была сильно сердита на Потемкина. Тот угрюмо удалился на свой «Буг». Она посылала ему записки: «Я на тебя сержусь, ты ужасно как неловок». Флотилия простояла у причала до ночи, дождавшись великолепной имитации извержения вулкана. Острослов де Линь заметил, что король провел в Каневе «три месяца и истратил три миллиона, чтобы провести с императрицей три часа». Через несколько дней после отбытия флотилии Станислав Август написал Потемкину: «Я был рад встретиться с императрицей. Я не узнаю ее, но, хотя мне грустно, надеюсь, что князь Потемкин остается моим другом».[720]
Следующим государственным мужем, ожидавшим Екатерину на ее пути, был император Священной Римской империи. Иосиф II и Екатерина II двигались навстречу друг другу. 30 апреля флотилия достигла Кременчуга — из-за противного ветра позднее, чем ожидалось. Иосиф, снова инкогнито, под именем графа Фалькенштейна, ждал ниже по реке, в Кайдаке, нетерпеливый, как всегда.
Иосиф не хотел ехать в Россию, но его визит был необходим Екатерине и Потемкину, для которых союз с Австрией являлся главным оружием против Османов. «Может быть, удастся найти какой-нибудь Предлог и отказаться», — писал император своему канцлеру. Напыщенный Габсбург счел приглашение Екатерины «крайне бесцеремонным». Он велел Кауницу составить ответ «честный, короткий; но дающий княгине Цербстской понять, что ей следует распоряжаться моим временем с большей осторожностью», — но потом согласился на поездку: он жаждал осмотреть русские войска, в глубине души надеясь убедиться в превосходстве австрийских, и не без сарказма писал Потемкину, что с нетерпением ждет увидеть его «интересные предприятия и удивительные творения». Теперь, в ожидании Екатерины, он занимался самостоятельным осмотром Херсона, а Екатерина не понимала — куда он пропал?[721]
Императрица высадилась в Кременчуге и осмотрела элегантный дворец, разумеется, окруженный «волшебным английским парком» с тенистой зеленью, ручьями и грушевыми деревьями. Потемкин приказал привезти издалека огромные дубы — «такие же широкие, как он сам», шутил де Линь — и насадить из них целую рощу. Затем Екатерина осмотрела 15-тысячный корпус, включавший несколько полков потемкинской новой легкой кавалерии, о которой Кобенцль отозвался в превосходных тонах. Дав бал на 800 человек, Екатерина продолжила путь вниз по реке.
Как только царская галера скрылась из виду, у кременчугской пристани появился, опоздав всего на несколько часов, «вермикулар» Сэма Бентама: составная галера из шести барж, предназначенная для Екатерины.{78} Потемкин приказал Бентаму следовать за его судном, наследующее утро осмотрел плавучего «червя» и, по словам Бентама, остался «как нельзя более доволен». Тогда флотилия снова пустилась в путь, Бентам последовал за ней. Он утверждал, что императрица заметила его творение и восхитилась им, — хотя Потемкину, вероятно, пришлось утешать его за то, что эффект неожиданности не удался.[722]
Не дойдя двадцати пяти миль до Кайдака, где планировалась встреча с Иосифом, несколько галер село на мель. Флотилия остановилась. Потемкин понял, что по воде до места не добраться. Торжественная встреча грозила обернуться неразберихой: императрица села на мель; император потерялся; лошадей не хватало; баржи с провизией и кухней также застряли на мелководье. Положение спас «плавучий червяк» Бентама.
Оставив императрицу, Потемкин, к восторгу Бентама, поднялся к нему на борт и отправился навстречу Иосифу. Подойдя к Кайдаку» неподалеку от того места, где не так давно бурлила Запорожская Сечь, он предпочел заночевать на судне, а не в одном из дворцов на берегу. На следующее утро, сойдя на берег, он отыскал императора, который также поднялся на «вермикулар». Бентам сиял от гордости, выслушивая комплименты от великих мира сего, но те все же больше интересовались друг другом, чем английскими изобретениями.
Потемкин и Иосиф договорились сделать императрице «сюрприз». Чтобы «сюрприз» получился, светлейший послал курьера предупредить о нем Екатерину, а затем Кобенцль — курьера к Иосифу, чтобы сообщить, что она предупреждена. 7 мая Екатерина села в карету и устремилась навстречу «сюрпризу».
В сопровождении Мамонова, Александры Браницкой и де Линя государыня прошла через поле и, по ее собственному выражению, «столкнулась нос к носу» с Иосифом, который прогуливался в обществе Кобенцля. Сев в одну карету, их величества проделали тридцать верст до Кайдака, где выяснилось, что кухни и повара остались далеко позади. Потемкин мчался вперед, чтобы давать распоряжения, и о еде не думал. «Не было ни поваров, - возмущался Иосиф, — не прислуги». Хотя императору, путешествующему без церемоний, и не подобает заботиться о таких мелочах, императорское турне грозило обернуться фарсом.[723]
Мастер импровизации Потемкин «взял на себя обязанности шеф-повара, — весело сообщала Екатерина Гримму, — принц Нассау — поваренка, а генерал Браницкий — пекаря». После обеда Потемкин продемонстрировал «жирандоль» — фейерверк, представлявший собой вензель Екатерины, озаренный 4 тысячами ракет, и еще одно «извержение вулкана». В XVIII веке фейерверки, вероятно, были для глав государств такой же рутиной, как для сегодняшних — посещения заводов и молодежных центров. Интересно лишь, удалось ли этому зрелищу заставить монархов забыть о потемкинской стряпне. Екатерина говорила, что «их величествам никогда не прислуживали такие высокопоставленные и такие неумелые слуги», но обед был «так же хорош, как и плох». Австрийский император высказался более определенно: «Обед состоял из абсолютно несъедобных блюд».
Сбывались и тайные надежды императора. «Неразбериха здесь царит невероятная, — сообщал он своему фельдмаршалу Ласси. — На судах больше людей и вещей, чем могут увезти приготовленные экипажи, а лошадей мало». Потирая руки с истинно германским чувством превосходства над русскими, он «искренне хотел знать, чем же все это кончится», и мученически вздыхал: «За что такое наказание?»[724]
Улучив момент, Иосиф отвел в сторону де Линя: «Мне кажется, эти люди хотят войны. Готовы ли они к ней? По-моему, нет; я, во всяком случае, не готов». Херсонские корабли и укрепления он уже осмотрел. Русские развернули настоящую гонку вооружений, но император полагал, что шоу устроено, «чтобы пустить пыль нам в глаза. Все непрочно, все сколочено наспех, потрачена куча денег». Иосиф упорно отказывался признать, что увиденное произвело на него впечатление. Но в чем он не ошибался, так это в том, что великолепная поездка и достижения Потемкина толкали Екатерину к войне.
Светлейший хотел лично обсудить с Иосифом возможность войны и, явившись к нему однажды утром, изложил политические и территориальные претензии России к Османам. «Я не знал, что он хочет так много, — подумал Иосиф. — Я полагал, что им вполне достаточно Крыма. Но что они сделают для меня, если я вступлю в войну с Пруссией?»[725]
Два дня спустя Екатерина II Иосиф в большой черной карете с екатерининским шифром на дверях прибыли к первым постройкам Екатеринослава. Когда их величества заложили первые камни будущего собора, Иосиф шепнул Сегюру: «Императрица положила первый камень, а я — последний».[726] На следующий день они двинулись к Херсону через степи, где паслись стада овец и лошадей.
12 мая они въехали в первый город Потемкина через триумфальную арку, надпись на которой бросала недвусмысленный вызов Высокой Порте: «Путь в Византию». Иосиф, уже осмотревший город, имел теперь возможность познакомиться с окружением императрицы. «Один только князь Потемкин, сумасшедший меломан, возит с собой 120 человек музыкантов, — отмечал император, — а артиллерийскому офицеру, получившему ужасный ожог рук, пришлось ждать помощи четыре дня». О екатерининском фаворите Иосиф записал, что тот «совершенное дитя». Сегюр ему понравился, а Фиц-герберт показался умным, но скучным. Разумеется, похвалы заслужил «дипломатический жокей», которому, вероятно, достались все остроумие и жизнерадостность, недоданные природой императору: «Де Линь великолепен и прекрасно отстаивает мои интересы». Но страсть императора к инспекциям и тайная зависть не ускользали от внимания русских. Екатерина иронизировала: «[Я] все вижу и слышу, хотя не бегаю, как император». Не удивительно, думала она, что он довел жителей Брабанта и Фландрии до мятежа.[727]
Сегюра и де Линя поразили свершения Потемкина. «Мы не могли скрыть своих чувств при виде таких поразительных подвигов», — признавался французский посланник. Крепость была почти окончена; готовые дома могли вместить 24 тысячи человек; «несколько церквей благородной архитектуры»; в арсенале 600 пушек; в порту 200 торговых судов, фрегат и два линейных корабля, готовые к плаванию. Удивление екатерининской свиты было тем больше, что в Петербурге привыкли не верить в строительство Потемкина. Сама Екатерина, которой, несомненно, продолжали нашептывать наветы на светлейшего, сообщала Гримму: «В Петербурге могут говорить что угодно — усердие князя Потемкина преобразило это место, где при заключении мира [в 1774 году] стояла одна хижина, в процветающий город».[728]
15 мая состоялся спуск на воду трех военных кораблей. Екатерина II Иосиф восседали под балдахинами, украшенными «газом, кружевами, гирляндами, жемчугом и цветами». Один восьмидесятипушечный корабль именовался «Святой Иосиф», но тот, в честь которого судно получило имя, брюзгливо заметил, что «дерево сыро, мачты ужасны» и скоро все развалится. И снова, как на закладке собора, ошибся.[729]
Перед отъездом Екатерина пожелала посетить крепость Кинбурн в устье Днепра, но по Лиману курсировала турецкая эскадра и ехать было опасно. Не показывая вида иностранцам, русские прекрасно понимали, как пристально наблюдают за ними турки. Русский посол в Порте Яков Булгаков прибыл из Константинополя, чтобы обсудить политику по отношению к Османам.
Из Херсона монархи поехали в Крым. Когда Сегюр пошутил по поводу пустынности края, Екатерина парировала: «Если вам скучно в степи, то кто же вам мешает отправиться в Париж?..»[730]
В степи императорский экипаж окружили 3 тысячи донских казаков в парадной форме, во главе с атаманом. Среди них находился и эскадрон калмыков — наездников, не менее любимых Потемкиным. Казаки продемонстрировали «сильный удар на неприятеля», перепугав своим гиканьем потемкинских гостей, а затем, разделившись на две части, показали сражение. Выносливость их лошадей поразила даже Иосифа: казаки могли проскакать шестьдесят верст за один день. «Никакой другой кавалерии в Европе это не под силу», — констатировал Нассау.[731]
В Кизыкермене, в семидесяти пяти верстах к северо-востоку от Херсона, царский поезд остановился у небольшого каменного дома и нескольких палаток, украшенных серебром, коврами и драгоценными камнями. Когда на следующее утро Александра Браницкая представила императрице казацких офицеров, самое сильное впечатление на дипломатов произвела жена атамана: на ней было длинное платье, сотканное из золотой парчи, а на голове соболья шапка, шитая жемчугом.
На рассвете Иосиф и Сегюр вышли в плоскую, голую степь. Трава простиралась до горизонта.
« — Какое странное путешествие! — воскликнул император Священной Римской империи. — Кто бы мог подумать, что я вместе с Екатериной II, французским и английским посланниками буду бродить по татарским степям! Это совершенно новая страница в истории!..
— Мне, скорее, кажется, что это страница из «Тысячи и одной ночи», — отвечал Сегюр.
Затем император вдруг остановился и, потирая глаза, произнес:
— Право, я не знаю, наяву ли это или ваши слова подействовали на мое воображение... Посмотрите в ту сторону!»
К ним двигалась огромная палатка, словно перемещаясь сама собой: калмыки переносили свое жилище.[732]
Едва императорская карета пересекла Перекоп, как в грохоте копыт и облаке пыли их окружили 1200 татарских всадников с кривыми саблями, копьями, луками и стрелами, словно путешественники переместились в темное прошлое Европы. «Что скажут в Европе, мой дорогой Сегюр, — спросил де Линь, — если 1200 татар отконвоируют нас в ближайший порт, посадят благородную Екатерину и Римского императора на корабль и доставят в Константинополь?» К счастью для Линя, его предположения не достигли ушей Екатерины. Отряд татарских мурз, одетых в зеленые с золотом мундиры, составлял теперь ее личный эскорт, а двенадцать татарских мальчиков прислуживали ей в качестве пажей.[733]
Кареты и всадники, неслись все быстрей и быстрей и обогнули отлогий холм, за которым скрывалась древняя столица татарского ханства. Когда дорога пошла вниз, восьмерка лошадей вдруг понесла, но Екатерина не выказала ни малейшего волнения. Татарам удалось успокоить лошадей, и поезд остановился у ворот Бахчисарая.
Ханский дворец — резиденцию хана, гарем и мечеть — строили невольники-украинцы по планам персидских и итальянских архитекторов, в мавританском, арабском, китайском и турецком стилях с неожиданными чертами европейской готики. Планировка повторяла расположение константинопольских дворцов с их многочисленными воротами и внутренними дворами. Высокие стены скрывали потайные сады с причудливыми фонтанами. Западные детали убранства и толщина стен напомнили Иосифу кармелитский монастырь. Рядом с мечетью располагалось кладбище династии Гиреев: две восьмиугольные ротонды окружали ханский мавзолей, окруженный резными плитами надгробий. Вокруг дворца между двумя рядами белых скал лежал татарский город с его банями и минаретами. На холмах Потемкин расставил фонари, чтобы путешественники чувствовали себя как в волшебном арабском дворце.
Екатерина расположилась в бывших покоях самого хана, куда входил «великолепный и причудливый зал для аудиенций» — богато украшенный, с дерзким девизом: «Признают и завистники, что ни в Исфахани, ни в Дамаске, ни в Стамбуле не видели подобного». Иосифу отвели комнаты брата Шагин-Гирея. Потемкин, разумеется, поселился в помещении бывшего гарема. Сладкий запах садов — апельсиновые деревья, розы, жасмин, гранаты — наполнял каждую комнату, где диваны тянулись вдоль всех четырех стен, а в середине бил фонтан. За обедом Екатерина принимала муфтиев, с которыми обходилась весьма почтительно. В адресованном Потемкину шуточном стихотворении императрица восклицала: «Не здесь ли место рая? Хвала тебе, мой друг!»[734]
Иосиф со свитой отправился осматривать Чуфут-Кале, город, вырубленный в скале в восьмом веке евреями-караимами. Вернувшись в Бахчисарай, Нассау, Сегюр и де Линь отправились исследовать татарскую столицу. Самый озорной из них, хотя и двадцатью годами старший Сегюра, де Линь хотел непременно увидеть лицо хотя бы одной татарской девушки. Через двое суток, в 9 часов утра 22 мая, монархи, окруженные татарскими пажами и всадниками и донскими казаками, выехали, чтобы увидеть главный акт потемкинского спектакля.
В Инкермане император и императрица обедали во дворце, построенном на скале, нависающей над морем. Играл потемкинский оркестр. На склоне холма гарцевали татарские всадники. Вдруг светлейший подал знак, открылся занавес и двери на балкон распахнулись. Когда монархи встали из-за стола, эскадрон умчался прочь и перед ними открылось невероятное зрелище.
Спускающиеся к морю горы образовывали глубокую бухту, а в середине ее красовался целый флот — не меньше двадцати линейных кораблей и фрегатов стояли на якоре, в боевом порядке, носами ко дворцу. По следующему знаку князя флот салютовал всеми пушками. Этот грохот, вспоминал позже Сегюр, словно объявлял, что Российская империя достигла юга и что екатерининские армии «через 30 часов могут водрузить свои флаги на стенах Константинополя». Перед путешественниками лежал основанный тремя годами раньше Севастополь.
Как только пушки умолкли, Екатерина подняла тост за своего лучшего друга, глядя на Иосифа, но не называя его. Можно представить себе чувства, обуревавшие императора Священной Римской империи германской нации. Свою обычную невозмутимость сохранил только Фицгерберт. Все взоры обратились на Потемкина. Присутствующие при этой сцене русские не могли не думать о петровском завоевании Балтики. Кто же из придворных произнесет это первым? «Ваше величество, — сказал наконец Сегюр, — создав Севастополь, вы завершили на юге то, что Петр Великий начал на севере». Нассау обнял Потемкина и попросил дозволения поцеловать руку императрицы. «Я всем обязана князю Потемкину, — сказала Екатерина, — так что целуйте его. — И, смеясь, обернулась к светлейшему. — Надеюсь, теперь никто не назовет его ленивым». Потемкин облобызал ее руки и прослезился.[735]
Светлейший провел царицу и императора к шлюпке, которая повезла их в Севастополь, остальные последовали за ними на другой лодке. Они прошли прямо под носами трех шестидесятишестипушечных кораблей, трех пятидесятипушечных и десяти сорокапушечных фрегатов, которые приветствовали императрицу еще тремя залпами. Матросы кричали «ура». Гости высадились у подножия каменной лестницы, ведшей прямо к адмиралтейству, где Екатерину ждали апартаменты. Вокруг лежал новый город Севастополь, «самый прекрасный порт, какой мне доводилось видеть», — записал Иосиф. Его восхищению не было предела: — В бухте стояли 150 судов, готовых к плаванию и сражениям». Порт охраняли три артиллерийские батареи. На склонах стояли дома, лавки, два госпиталя и казармы. Сегюру казалось невозможным, что Потемкин смог сделать все это в месте, где три года назад не было ничего. «Императрица, — отмечал Иосиф, — в совершенном экстазе [...] Князь Потемкин на вершине могущества, ему воздают невообразимые почести».[736]
И монархи, и князь думали об одном: о предстоящей войне. Екатерина II Потемкин чувствовали, что у них хватит сил разбить турок. Императрица спросила Нассау, так же ли хороши ее корабли, как турецкие в Очакове. Он отвечал, что российские суда могут положить турецкий флот к себе в карман. «Как вы думаете, осмелюсь я это сделать?» — улыбнулась она де Линю. Потемкин повторял, что Россия готова к войне и, если бы не Франция, «мы начали бы прямо сейчас».[737]
Екатерину, однако, здравомыслие не покидало, и она приказала Булгакову направить султану ноту, удостоверяющую, что она не имеет тех намерений, какие можно было бы предположить. Тем не менее и европейские дипломаты, и Высокая Порта имели все основания полагать, что владычица Севера готова перейти в наступление.
Екатерина уединилась с потрясенным императором, чтобы обсудить сроки предполагаемой кампании. Потемкин, подчеркивая свой высокий статус, присоединился к ним. Иосиф призывал к осторожности, напоминая о Франции и Пруссии. Но в Пруссии теперь был новый король — в 1786 году, после смерти Фридриха Великого, престол занял его племянник Фридрих-Вильгельм. Екатерина не считала его серьезным соперником и сказала Иосифу, что он «слишком посредствен». Франция, вторил ей Потемкин, конечно, «поднимет шум», но в конце концов удовольствуется своим куском пирога, и предлагал отдать ей Египет и Кандию (Крит). Кроме того, угрожающе добавляла императрица, «я достаточно сильна; будет достаточно, если вы не станете препятствовать».[738] Иосиф, испуганный перспективой оказаться в изоляции, заверил, что Россия может рассчитывать на помощь его державы. Едва ли высокие совещающиеся стороны знали, что спор о том же самом идет и на другом берегу моря, в Диване Высокой Порты. Константинопольская чернь требовала войны, и по улицам маршировали тысячи солдат, готовых к отправке в черноморские и балканские порты.
25.АМАЗОНКИ. «ПОТЕМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ». НОВАЯ ВОЙНА
Скажи, Потемкин, как соединились вместе
В тебе и тонкий вкус, и чуткий к гласу чести
Свободный, гордый дух, и юношеский пыл,
И мудрость старика ? Друзьям сердечно мил,
Любезен и остер, то скор и бодр в делах,
То, в думу погружен, философ и монах...
Принц де Линь. Послание Потемкину, написанное во время крымского путешествия
Когда австрийский император отправился осматривать Балаклаву, навстречу ему выехала рота всадниц. Двести гречанок, все, по описанию де Линя, «писаные красавицы» — с длинными косами, в нагрудных латах, в юбках из малинового бархата с золотыми галунами, в зеленых бархатных куртках и белых кисейных тюрбанах с белыми страусовыми перьями, вооруженные мушкетами, штыками и копьями.
Обитатели греческой, или «албанской», как ее называли, колонии носили неоклассические костюмы — нагрудные латы и плащи, вместе с современными пистолетами. Этот каприз, Потемкин замыслил, обсуждая с Екатериной еще в Петербурге сходство между древними и современными эллинами и расхваливая мужество греков и их жен. Екатерина сомневалась в последнем, и князь решил убедить ее.{79}
Иосиф пришел в такой восторг, что наградил девятнадцатилетнюю предводительницу отряда Елену Сарданову поцелуем в уста. Императрица встретила амазонок на своей следующей остановке в селении Кадыковка, проезжая по улице, уставленной лавровыми, апельсиновыми и лимонными деревьями. Потемкин предлагал, чтобы амазонки продемонстрировали ей свое искусство стрельбы, но Екатерина, которой, вероятно, наскучили военные смотры, отказалась — она также облобызала Сарданову и подарила ей кольцо с бриллиантом стоимостью 1800 рублей и 10 тысяч рублей на содержание отряда.
Наездницы присоединились к эскорту императрицы и сопровождали ее до конца путешествия. Мало-помалу Иосиф убеждался, что «путь в Византию» проложен и остается только выступить в дорогу. Один раз он даже позволил Потемкину заставить себя ждать в приемной, объяснив, что не может не простить причуд такому необыкновенному человеку.
В Кафе, переименованной Потемкиным в Феодосию, светлейший сыграл шутку с Сегюром. Утром, усевшись в карету, французский посланник обнаружил перед собой восхитительную девушку в черкесском платье — и оцепенел: на него смотрела его жена! «Я решил, что мадам Сегюр в самом деле приехала из Франции. В стране чудес воображение летает, как птица». Но черкешенка исчезла и ее место занял Потемкин. «Как похожа, а?» — прогромыхал он, добавив, что видел у Сегюра в палатке портрет его жены.
— Совершенно невероятно, — пробормотал озадаченный супруг.
— Так вот, батюшка, — продолжил Потемкин, — она принадлежит человеку, который охотно уступит ее мне, и, как только мы вернемся в Петербург, я вам ее подарю.[739]
Сегюр, чья жена могла бы не оценить такого проявления привязанности, попытался протестовать, но Потемкин обиделся и обвинил его в ложной деликатности. Тогда француз пообещал принять любой другой подарок{80}.
Путешественники поднялись на холмы и осмотрели потемкинские парки, молочные фермы, стада овец и коз и дворец в Карасубазаре.{81} По словам английской путешественницы, посетившей эти края через десять лет, это был «один из тех дворцов, которые появлялись как по мановению волшебной палочки Потемкина, поражая и очаровывая гостей».[740]
Перед гостями предстал словно маленький кусочек Англии. «Купы величественных деревьев, огромная лужайка, а за ней — лес, и все это — творение рук англичанина Гульда». Здесь же располагалась ферма Хендерсона. Разумеется, потемкинская идиллия была бы неполной без английского чая. Де Линь не мог не обратить внимания на «племянниц» Хендерсона: «два небесных создания в белых платьях» усадили посетителей за покрытый цветами стол и «принесли масло и сливки. Мне казалось, я попал в английский роман». Иосифа, однако, все это мало впечатляло. «Пришлось карабкаться по горным дорогам, — жаловался он в письме к фельдмаршалу Ласси, — и только для того, чтобы увидеть какого-то козла, ангорскую овцу и подобие английского парка».[741]
После этого Потемкин устроил фейерверк, поразивший даже пресыщенных подобными зрелищами особ. В разгар банкета в темное небо взвилось 20 тысяч ракет, над горами дважды загорелся вензель императрицы, а в парке от иллюминации сделалось светло как днем. Иосиф не мог надивиться Российской империи, где властитель может делать все, что пожелает, сколько бы ни стоил его каприз: «Мы, в Германии или во Франции, никогда не осмелились бы предпринять то, что с легкостью делают здесь [...] Человеческая жизнь и труд здесь ничего не стоят [...] Владыка повелевает, раб подчиняется».[742]
По возвращении в Бахчисарай де Линь сказал: «Что толку от прогулки по роскошному саду, если нельзя полюбоваться цветами? Я не уеду из Крыма, пока не увижу хотя бы одной татарки без паранджи. Вы пойдете со мной?» — спросил он Сегюра, и двое смельчаков отправились в лес. Там они нашли трех женщин, которые стирали, сложив покрывала на землю. «Увы», — вздыхал Сегюр, ни одна из них не была хороша собой. А де Линь восклицал: «Бог ты мой! Магомет правильно сделал, приказав им прятать физиономии!» Женщины с визгом разбежались, а за непрошеными гостями погнались татары, выкрикивая проклятия и швыряя камни. На следующий день за обедом Екатерина была молчалива, Потемкин мрачен — возможно, оба просто устали. Де Линь решил, что рассказ о поисках восточных красавиц развеселит их, но царица осталась недовольна: «Это дурной тон, господа».[743]
И все же атмосфера восточной неги действовала на всех, даже на брюзгливого Иосифа. Екатерина позволила ему вместе с де Линем и Сегюром присутствовать на аудиенции, которую она собиралась дать принцессе из дома Гиреев. Но зрители и тут остались разочарованы. «Ее накрашенные щеки и нарисованные брови делали ее похожей на рисунок на китайской чашке; не спасали даже ее прекрасные глаза», — записал Сегюр, да и Иосиф писал Ласси, что «предпочел бы одну из ее служанок». Однако кайзер решил сделать небольшое отступление от принципов Просвещения. «Его сиятельство граф Фалькен-штейн дал подпоручику Цирули 300 червонных, — сообщал генерал М.В. Каховский Василию Попову для доклада светлейшему, — чтоб он купил за Кубанью одну черкесскую красавицу. Если повелено будет купить, то куда и каким образом оную доставить?» Результат похода в горы по поручению высокого путешественника нам неизвестен, но в Вену Иосиф привез с собой шестилетнюю девочку, купленную у работорговца{82}.[744]
2 июня их императорские величества наконец расстались. Иосиф поехал на запад, Екатерина на север. 8 июня она достигла Полтавы, где Петр Великий разбил Карла XII. Потемкин воспроизвел историческую битву, задействовав 50 тысяч солдат. Глаза преемницы Петра сияли гордостью. Затем светлейший преподнес ей то самое жемчужное ожерелье, которое показывал Миранде, а Екатерина жаловала ему 100 тысяч рублей и новый титул, прибавив к его фамилии «Таврический».
«Папа, — написала она ему 9 июня, — [...] надеюсь, что ты меня отпустишь завтра без больших обрядов».[745] На следующий день на подъезде к Харькову они простились друг с другом. Екатерина в сопровождении Браницкой, Скавронской и своих «карманных министров» отправилась в Москву, а к 22 июля вернулась в Царское Село.
Петербургские враги Потемкина буквально набросились на спутников императрицы, расспрашивая, существуют ли на самом деле Херсон, Севастополь, флотилии кораблей и стада скота.
Уже в 1770-е годы ходили слухи, что деятельность Потемкина на юге — чистая фикция. Когда стало очевидно, что это не так, его недруги стали шептать, что императрицу ввели в жестокое заблуждение. Саксонский посланник Георг фон Гельбиг, не участвовавший в поездке, придумал выражение «Potemkinische Dorf» — «потемкинские деревни» — формулу, которая вошла в повседневный язык со значением «ложная видимость». Гельбиг не только повторял это выражение в своих дипломатических депешах, но и опубликовал в 1790-е годы в гамбургском журнале «Минерва» книгу «Потемкин Таврический» («Potemkin der Taurier»), которую с радостью восприняли враги империи. Более полная версия этой биографии Потемкина вышла в 1809 году и была переведена на французский и английский языки. Так возникла версия личности Потемкина, такая же несправедливая и ложная, как знаменитое выражение, — и удержалась в истории.[746]
В основу легенды о «потемкинских деревнях» легла история круиза по Днепру. Гельбиг утверждал, что поселения, которые видели путешественники, представляли собой специально построенные фасады — раскрашенные картонные щиты, каждый из которых показывали императрице по пять или шесть раз. Тысячи крестьян якобы были оторваны от дома, привезены из внутренних губерний, и вместе со стадами скота по ночам их перевозили вдоль реки; тысяча деревень осталась заброшена, и множество народа вымерло от последовавшего за этим голода.
Идея, которой дал название Гельбиг, возникла еще за несколько лет до путешествия Екатерины. Когда в 1782 году Херсон посетил Кирилл Разумовский, город показался ему «приятным сюрпризом» — несомненно, потому, что его уверяли, что весь проект — не более чем мираж.[747] Всех иностранцев, отправлявшихся на юг, предупреждали в Петербурге, что их вводят в заблуждение: за год до выезда Екатерины на юг леди Крейвен писала, что «петербуржцы, завидующие Потемкину», заверили ее, что в Крыму вообще нет воды. «Тот факт, что он стал губернатором Тавриды и командующим стоящих там войск, вероятно, породил тысячу ложных слухов об этом крае, чтобы приуменьшить его достижения».[748] Несколько лет подряд императрице внушали, что все свои достижения Потемкин придумал сам. Гарновский сообщал князю: ее предупреждают, что она увидит только раскрашенные ширмы, а не настоящие строения. В Киеве слухи усилились. Одна из причин, по которой Екатерине так не терпелось отправиться дальше, заключалась именно в горячем желании увидеть все своими глазами: когда Потемкин попытался ненадолго отложить ее отъезд из Киева, она сказала, что желает увидеть все поскорее, «не взирая на неготовность».[749]
Ни в приказах Потемкина, ни в рассказах очевидцев нет ничего, что подтверждало бы историю о «потемкинских деревнях». Готовиться к приезду Екатерины он начал еще в 1784 году: тогда правитель Таврической области Василий Каховский сообщал, что для будущего визита государыни строятся новые и ремонтируются старые дома. Сам Потемкин пользовался временными резиденциями, но большая часть тех, в которых потом останавливалась Екатерина, были постоянными: херсонский дворец простоял больше столетия. Ханский дворец в Бахчисарае чинили, деревянные части перекрашивали, поправляли сад, ремонтировали фонтаны. На следующий год Потемкин приказал строить новые соляные склады в Перекопе, сажать каштановые деревья, а в Бахчисарае «большую улицу, где имеет быть въезд ее императорского величества, застроить хорошими домами и лавками».[750] Распоряжения о ремонте уже существующих строений — вот самое близкое к идее «косметической фикции». Миранда, совершенно непредвзятый свидетель, сопровождал Потемкина в поездке, предшествовавшей приему императрицы, и не увидел ничего, напоминающего «показуху», а только дивился масштабу сделанного.
Что же касается веселящихся поселян и их стад на берегах Днепра, то такие массы народа и животных никто не смог бы перемещать со скоростью движения флотилии, тем более по ночам. Неспособность Потемкина замаскировать свое фиаско с отставшей кухней в Кайдаке, когда ему самому пришлось стряпать обед для двух монархов, только подтверждает, что он не мог перевозить тысячи людей и животных на огромные расстояния, чтобы обманывать своих гостей.
Для того чтобы посмотреть на императрицу, народ не нуждался в принуждении. С тех пор как в начале столетия в этих краях побывал Петр I, ни один царь не удостаивал южную Россию своим посещением — так кто же не поспешил бы увидеть императрицу? Даже в Смоленск толпы крестьян стекались за сотни верст, чтобы поглядеть на царский поезд. Конечно, все это не означает, что берегов Днепра не коснулась рука постановщика: Потемкин украшал все, что мог. Он был политическим импресарио, знавшим толк в политической игре, и он вел эту игру целенаправленно и совершенно сознательно.
В наши дни визит главы государства тщательно готовится и расписывается по минутам. Перекрашиваются фасады, улицы очищаются от грязи, беспризорников и проституток. На домах вывешиваются флаги, играют духовые оркестры, танцуют нарядные дети, в магазины для «случайных посещений» завозятся разнообразные товары. Крымское путешествие Екатерины было первой из таких поездок. Все прекрасно понимали, что английские парки выросли из земли не случайно, что амазонки и казаки специально собрались приветствовать императрицу, как королева Елизавета II понимает, что зулусы в боевых одеяниях, приветствующие ее на улицах Йоханнесбурга, — не типичные обитатели города.{83} Именно это имел в виду Сегюр, говоря, что Потемкин «обладал удивительным даром преодолевать препятствия, покорять Природу [...] и обманывать взор зрителей, который без того потерялся бы в бескрайное™ однообразных степей».[751]
Разумеется, в городах на пути следования императрицы губернаторы приказывали приубрать улицы, покрасить дома и скрыть все неприглядное. В Харькове и в Туле, двух городах, не входивших в маршрут, намеченный Потемкиным, губернаторы действительно скрыли от Екатерины некоторые факты и построили фальшивые здания: парадоксальным образом, сама история о «потемкинских деревнях» сообщает, что в действительности творцами этой легенды были другие. Пожалуй, Потемкина можно назвать отцом современных политических шоу — но никак не плоским обманщиком.
Екатерине внушали, что потемкинская реформа конных войск разрушила армию, но, увидев великолепные полки легкой кавалерии в Кременчуге, она в гневе воскликнула: «Как же меня обманывали!»[752] Вот почему она чувствовала удвоенную радость и спешила по возвращении в Петербург поделиться своими открытиями с внуками и приближенными: «Какое удовольствие увидеть эти места своими глазами. Меня отговаривали от путешествия в Крым, но, приехав сюда, я не могу понять, как возможно такое злое предубеждение». Она не скрывала своего удивления по поводу благоустройства Херсона. Но даже это не останавливало потока клеветы на Потемкина.[753]
Бывало и так, что сами похвалы светлейшему могли казаться свидетельствами против него. Вот, например, слова Евграфа Черткова (адъютанта Потемкина и свидетеля его венчания с Екатериной): «Я был с его светлостию в Тавриде, в Херсоне и в Кременчуге месяца за два до приезда туда ее императорского величества. [...] Нигде там ничего не видно было отменного, словом, я сожалел, что его светлость позвал туда ее императорское величество по-пустому. Приехав с государынею, Бог знает, что там за чудеса явилися. Черт знает, откудова взялись строения, войски, людство, татарва, одетая прекрасно, казаки, корабли... Ну, ну, Бог знает что [...] Я тогда ходил как во сне, право, как сонный. Сам себе ни в чем не верил, щупал себя, я ли? где я? не мечту ли или не привидение ли вижу? Ну-у! надобно правду сказать, ему — ему только одному можно такие дела делать...»[754]
«Мы слышали смешнейшие истории о том, что на пути нашего следования стояли картонные деревни [...] что корабли и пушки были нарисованными, а кавалерия — без лошадей, — писал де Линь в Париж. — Даже многие русские, завидовавшие нам, участникам путешествия, будут упрямо повторять, что нас обманули».[755]
Потемкин прекрасно знал об этих разговорах. «Всего больше, — писал он Екатерине позднее, — что никогда злоба и зависть не могли мне причинить у тебя зла». Она соглашалась: «Врагам своим ты ударил по пальцам».[756]
Великий князь Павел Петрович вызвал к себе де Линя и Сегюра и подробно расспросил их об увиденном, но расставаться со своими предубеждениями так и не захотел. «Несмотря на все, что они рассказали ему, он не желает верить, что состояние дел действительно таково, как ему описывают». Когда де Линь заметил, что Екатерина не смогла осмотреть все, Павел взорвался: «О! Это мне прекрасно известно. Именно потому этот несчастный народ и не хочет, чтобы им правили одни только женщины!»[757] Убеждение в нереальности потемкинских свершений было так прочно, что свидетельства очевидцев не помогали. Умножали ложь и противники российской Экспансии на юг. После смерти Потемкина и Екатерины эта намеренная дезинформация заместила настоящую историю. Английская версия труда Гельбига, появившаяся в 1813 году, заканчивалась словами: «Зависть, бич великих людей, возвеличивает то, что было одной лишь видимостью, и преуменьшает действительное».[758] Потёмкин стал жертвой собственного триумфа, а «потемкинские деревни» одной из величайших мистификаций в истории.
Вернувшись в Кременчуг, князь Таврический погрузился в депрессию, вызванную перенапряжением, — такова была для него оборотная сторона блистательного успеха. В середине июля 1787 года он перебрался в Херсон, где заболел и слег. Политические дела тем временем требовали его непрестанного участия. С октября 1786 года светлейший отвечал за турецкую политику, а Османы со времени потери Крыма и Грузии и перехода под российское влияние при-дунайских княжеств искали повод вернуть себе потерянное и сами готовы были начать войну.
С марта по май в Стамбуле продолжались волнения. «В народе только и толков, что о войне», — сообщал Потемкину его агент Николай Пизани. Султан Абдул-Хамид, подталкиваемый великим визирем Юсуфом-пашой и муфтиями, испытывал терпение русских: в 1786 году был смещен молдавский господарь Маврокордато; против грузинского царя Ираклия восставали кавказские паши; турки поддерживали Шейха Мансура, вынуждая Потемкина укреплять Моздокскую линию. Порта укрепляла свои базы от Кубани до Дуная, от Анапы и Батуми до Бендер и Измаила, отстраивала флот, а во время поездки Екатерины устроила показательные маневры под Очаковом. «Войско, — добавлял Пизани, — ведет себе все более вызывающе».[759]
Потемкин, построивший целый флот, несомненно, сыграл свою роль в нагнетании напряженности. В декабре 1786 года он приказал Булгакову потребовать от турок прекращения провокаций в дунайских княжествах и на Кавказе. Он предлагал либо войну, либо гарантию необратимости русских приобретений в Причерноморье в обмен на безопасность Турции. Потемкин говорил с позиции силы, но старался не раздражать противника — иначе турки начали бы войну во время поездки Екатерины. Приехав в Херсон на встречу с Потемкиным в июне 1787 года, Булгаков говорил с ним о том, как избегать войны, а не как вызвать ее. В августе светлейший просил посла «выиграть еще пару лет».[760]
Потемкин покорил Сечь, Крым и Грузию, не потеряв ни одного солдата. Он знал, что в конце концов драться с турками придется, прскольку успехи России неуклонно усиливали их недовольство. Он часто говорил о войне, но стремился предотвратить ее, а его в конце концов обвинили в том, что своей агрессивной дипломатией он войну спровоцировал. Считается, что Россия пользовалась ослаблением Османов. Однако на самом деле со времени предыдущей войны Порта значительно усилилась в военном отношении. Если князь в чем и повинен, то лишь в том, что создал Черноморский флот и организовал поездку императрицы в Крым: два этих факта означали, что Россия вышла к Черному морю навсегда.
.Представление о том, что войны искали Османы и что именно они провоцировали Россию, также не вполне соответствует действительности. Разумеется, турки жаждали реванша и мечтали вернуть потерянные земли, но в конечном счете гонка вооружений была двусторонней, а провокации — взаимными. Обе стороны «закручивали гайки», и в конце концов обе оказались перед лицом войны, как следует к ней не подготовившись.
По возвращении в Константинополь русский посланник застал там настоящую военную лихорадку. 1 июня 1787 года Пизани сообщал, что великий визирь Юсуф-паша, поддерживаемый имамами и янычарами, «подстрекает чернь, чтобы запугать султана и внушить, что народ хочет войны, а в противном случае взбунтуется».[761] Армия насчитывала 300 тысяч человек. Ее удерживала только воля самого султана, долгое время склонявшегося к миру. Но Турцию подстрекали Пруссия, Швеция, Англия и Франция — Пизани сообщал, что ему в руки попал план Крыма, отпечатанный для французских офицеров.
Наконец дрогнул и султан. Порта выдвинула Булгакову заведомо невыполнимые требования — возврат Грузии и открытие турецких консульств в российских городах. Русский посол их отверг и 5 августа был арестован и заточен в Семибашенный замок. 20 августа турецкие суда атаковали два русских фрегата под Очаковом. После шестичасовой битвы русские корабли отошли. Началась новая русско-турецкая война.
«Я думаю, у тебя на пальцах нохгей не осталось, — писала Екатерина Потемкину 24 августа 1787 года, обсуждая военную стратегию и состав Военного совета, — всех сгрыз». В этот месяц их отношения вступили в новую фазу: с расширением театра военных действий и дипломатических сражений их письма стали длиннее. Они стали близки друг другу как никогда. Они переписывались как прожившие много лет вместе супруги, которым выпало на долю управлять огромной страной. Любящие и часто раздражающие друг друга, они поверяли друг другу потаенные мысли, обменивались политическими идеями и сплетнями. Но князь, сидя в Кременчуге, мучился лйхорадкой и все больше погружался в ипохондрию. Что бы о нем ни рассказывали, он не пренебрегал своими обязанностями, но чувствовал, что почти не в силах справиться с той властью, которую сосредоточил в своих руках. Это беспокоило Екатерину: «Как ты все сам делаешь, то и тебе покоя нет».[762]
После Петра Великого Потемкин стал первым главнокомандующим одновременно и сухопутными и морскими силами на нескольких фронтах. Как военный министр, он отвечал за все границы, от шведской до китайской. Туркам противостояли две армии. Князь командовал главной, фельдмаршал Румянцев — второй, Украинской, на молдавской границе. Кроме того, Потемкин являлся адмиралом Черноморского флота. На Кавказе и на Кубани ему подчинялись корпуса, сражавшиеся и с турками, и с чеченцами, и с черкесами под водительством Мансура. Ни одна из этих армий не могла похвастаться полной готовностью — утешало лишь то, что дела противника обстояли не лучше. Потемкин собирал силы и ждал 60 тысяч новых рекрутов. Ко всему этому, он должен был согласовывать действия с австрийцами и не забывать о русской политике в Польше.
Первой целью Османов было вернуть себе Крым, опираясь на крепость Очаков. Для этого требовалось сначала занять Херсон, а ключом к Херсону служил Кинбурн, маленькая крепость на косе, вдающейся в Лиман — широкое устье Днепра. Потемкин энергично командовал укрепительными мероприятиями. В Кинбурн он послал корпус под командованием своего лучшего генерала, Суворова. 14 сентября турки попытались высадиться под Кинбурном и были отброшены. Князь приказал флоту выйти из Севастополя и искать турецкие корабли, которые, как сообщали, встали в Варне. Лихорадка и депрессия подрывали силы Потемкина. «Болезнь день ото дня приводит меня в слабость». Он просил Екатерину передать командование обеими армиями Румянцеву: «естли б я занемог, то будет к кому относиться генералам».[763]
«Не дай Боже слышать, чтоб ты дошел до такой телесной болезни [...] чтоб ты принужден был сдавать команду графу Петру Александровичу Румянцеву, — отвечала Екатерина 6 сентября. — День и ночь не выходишь из мысли моей [...] Бога прошу и молю, да сохранит тебя живо и невредимо, и колико ты мне и Империи нужен, ты сам знаешь».[764] Она соглашалась, что до лета нельзя вести наступательных действий, но волновалась, не нападут ли турки слишком рано и сдержит ли Иосиф договорные условия.
Потемкин докладывал, что Суворов «служит и потом, и кровью», а «Каховский в Крыму полезет на пушку с равною холодностию, как на диван», советовал «ласкать англичан и пруссаков», предлагал послать в Средиземное море Балтийский флот, как в прошлую кампанию, и заканчивал: «...я в слабости большой, забот миллионы, ипохондрия пресильная [...] Право, не уверен, надолго ли меня станет».[765]
И тут пришла страшная новость. Князь узнал, что Черноморский флот, его любимое детище, залог российского могущества на юге, погиб во время шторма 9 сентября. Он чуть не сошел с ума от горя. «Я ни на что не годен [...] естли не умру с печали, то, наверно, все свои достоинства я повергну стопам твоим и скроюсь в неизвестности. Будьте милостивы, дайте мне хотя мало отдохнуть. Ей, He-могу».[766] В то же самое время, однако, армии формировались, маневрировали и снабжались продовольствием, а Кинбурн был уже готов к боям. Потемкин сделал все что мог, хотя физическое и душевное здоровье его сильно пошатнулось.
«Матушка государыня, я стал несчастлив, — написал он 24 сентября. — При всех мерах возможных, мною предприемлемых, все вдет навыворот. Флот севастопольский разбит бурею [...] Бог бьет, а не Турки».[767] В критический момент, подготовкой к которому служила вся его карьера, он впал в глубокое отчаяние. Впрочем, история поместила его в неплохое общество: известно, что Петр I после поражения под Нарвой в 1700 году едва не покончил с собой, как и Фридрих Великий при Молвице в 1740-м и Хонкирхе в 1758-м.
Своему учителю Румянцеву Потемкин написал, что его карьера кончена, и в тот же день послал Екатерине еще одно письмо, объясняя, что без флота в Севастополе войскам нельзя стоять в Крыму:
«Я просил о поручении начальства другому [...] Ей, я почти мертв».[768]
26. КАЗАКИ-ЕВРЕИ И АДМИРАЛ-АМЕРИКАНЕЦ. БИТВА В ЛИМАНЕ
Князь Потемкин замыслил странный проект —
создать полк из евреев [...] он намеревается
сделать из них казаков.
Ничто не забавляло меня так, как эта идея.
Принц де Линь
Вы были бы очарованы князем Потемкиным,
обладающим самым благородным умом в мире.
Джон Пол Джонс — маркизу де Лафайетту
В тот самый день, когда князь Таврический писал эти отчаянные строки, Екатерина отвечала ему, одновременно тепло и сурово: «В эти минуты, мой дорогой друг, вы не частное лицо, которое живет и делает, что хочет. Вы принадлежите государству, принадлежите мне».[769] Но все же она послала Потемкину рескрипт, разрешающий ему в случае необходимости препоручить командование Румянцеву-Задунайскому.
Когда до нее дошли его самые отчаянные послания, она продолжала хранить спокойствие. «Ничто не пропало, — внушала она ему, как строгая немецкая учительница. — Сколько буря была вредна нам, авось-либо столько же была вредна и неприятелю». Что же до вывода войск из Крыма, то «начать [...] войну эвакуацией такой провинции, которая доднесь не в опасности, кажется спешить не для чего». Депрессию Потемкина она приписывала «чрезмерной [...] чувствительности и горячему усердию» ее «лутчего друга, воспитанника [...] и ученика»: «На сей случай я бодрее тебя, понеже ты болен, а я здорова».[770] Как всегда, тот из них, кто чувствовал себя сильнее, поддерживал падающего духом. Обсуждение военных тем все чаще стало перемежаться горячими признаниями в любви и дружеских чувствах.
Неделю спустя Потемкин пришел в себя — флот, как выяснилось, всего лишь поврежден: погиб только один корабль. «Уничтожение флота Севастопольского такой мне нанесло удар, что я и не знаю, как я оный перенес», — признавался он. Другое облегчение — разрешение Екатерины передать общее командование в крайнем случае Румянцеву. Решено было поручить армию талантливому генералу князю Репнину под верховным руководством Потемкина.
Светлейший извинялся, что так взволновал императрицу: «Я не виноват, что чувствителен».[771]
В ночь на 1 октября 1787 года после бомбардировки и нескольких неудачных атак турки наконец высадили 5000 янычар на узкую Кинбурнскую косу и попытались взять крепость штурмом. Русские под командованием Суворова выступали трижды и, хотя немалой ценой, перебили почти все силы неприятеля. Сам Суворов получил два ранения, но Кинбурнская победа означала, что Херсон и Крым в безопасности до весны.
«Я не нахожу слов изъяснить, сколь я чувствую и почитаю Вашу важную службу, Александр Васильевич», — восхищался Потемкин Суворовым после Кинбурнского сражения.[772] «Суворова не пересуворишь», — шутил светлейший.
«То бог, то арлекин, то Марс, то Мом», — писал о Суворове Байрон.[773] В самом деле, Суворов был знаменит своими чудачествами: катался голым по траве, в великосветском обществе мог вспрыгнуть на стол и запеть, перед войском сделать сальто, а во время парада встать на одну ногу и отдать команду «Марш!» петушиным криком. При этом, однако, он владел шестью иностранными языками и глубоко знал древнюю историю и литературу.
Как и Потемкин, сторонник простоты в солдатской одежде, Суворов отличался от князя весьма русской чертой: он крайне низко ценил солдатскую жизнь. Любимым его видом оружия был штык. Он всегда хотел атаковать и штурмовать, неважно какой ценой: главное — быстрота и внезапность. Места его главных сражений, турецкая крепость Измаил и предместье Варшавы Прага, были затоплены потоками крови. В таких, как Суворов, командирах нуждался всякий главнокомандующий.{84}
Сплетни о том, что Потемкин завидовал военному гению Суворова, не подтверждаются фактами. После Кинбурнской победы светлейший посылал ему многочисленные подарки, от шуб до перигорского паштета, и просил Екатерину наградить Суворова высшим российским орденом, св. Андрея Первозваного: «Кто, матушка, может иметь такую львиную храбрость? Кто больше его заслужил отличность?! [...] Я начинаю с себя — отдайте ему мой». Сердечное отношение Потемкина взволновало Суворова: «Судите ж, светлейший Князь! мое простонравие [...] Ключ таинства моей души всегда будет в Ваших руках».[774]
Осмотрев Херсон и Кинбурн и совершив еще один «летучий» объезд своих владений, Потемкин установил штаб-квартиру в Елисаветграде и стал планировать предстоящую кампанию.
В это время великий князь Павел объявил Екатерине, что также желает сражаться с турками и хочет отправиться на войну вместе с женой. Перспектива появления Павла никак не радовала Потемкина, но он дал свое принципиальное согласие. Однако Екатерина, несмотря на настоятельные просьбы сына, все же отговорила его ехать, чем избавила светлейшего от тяжкой обузы. Павлу приходилось, превозмогая себя, поздравлять светлейшего с победами. Потемкин пытался льстить Павлу, но тот оставался все так же желчен и осуждал соправителя матери в разговоре со всяким, кто был готов слушать.
Согласно договору, Австрия должна была тоже начать военные действия против Порты. Но Иосиф не торопился с выполнением союзнических обязательств, ссылаясь на то, что Потемкин и Румянцев бездействуют. Впрочем, не только австрийцы, но и русские хотели бы возложить на своих союзников главную тяжесть войны, не упустив при этом собственных выгод.
Австрийский император решил использовать дружеское расположение Потемкина к принцу де Линю: тот должен был добиться от светлейшего, чтобы главные сражения провела русская армия. «Вы будете писать мне по-французски, — тайно инструктировал де Линя император, — на отдельном листе бумаги, который будете незаметно вкладывать в пакет, адресованный его величеству лично». Инструкция была перлюстрирована и сообщена Потемкину. Поэтому когда «дипломатический жокей», как называл себя сам де Линь, встретился с Потемкиным в Елисаветграде, тот принял его сдержанно. «Принц де Линь, которого я люблю [...] в теперешнее время он в тягость», — писал Потемкин Екатерине. Война окончательно погубила их дружбу{85}. [775]
Елисаветград был крошечный городок в сорока семи милях от турецкой границы. Потемкин жил в роскошном деревянном дворце рядом со старой крепостью. В город прибывали иностранные волонтеры. 12 января 1788 года сюда приехал граф Роже де Дама, покинувший Францию в поисках славы. Изящный молодой человек с копной черных вьющихся волос, 23-летний кузен Талейрана, был любовником маркизы де Куаньи, прежней подруги де Линя, которую Мария Антуанетта называла «королевой Парижа». Приехав, Дама направился во дворец Потемкина. Пройдя мимо часовых, он оказался в огромной зале, полной ординарцев. Дальше следовал ряд комнат, освещенных как «на празднике в каком-нибудь столичном городе». В первой комнате адъютанты ожидали Потемкина; во второй Сарти дирижировал роговым оркестром; в третьей у огромного бильярдного стола толпилось человек тридцать или сорок генералов. Слева от двери сидел сам светлейший и играл в карты со своей племянницей и одним из генералов. Двор производил впечатление «не меньшей пышности, чем в Европе». Генералы вели себя так подобострастно, что, если Потемкин ронял какой-нибудь предмет, человек двадцать бросались его поднимать. Князь встал, чтобы поприветствовать гостя, усадил его рядом с собой и пригласил отобедать с де Линем и своей племянницей за отдельным столом. После этого француз обедал у Потемкина каждый день в течение трех месяцев, заполненных роскошными собраниями и ожиданием военных действий.[776]
Австрийцы требовали от Потемкина как можно скорее начинать военные действия. Иосиф спрашивал, каков его стратегический план. Потемкин, видимо, поначалу сам не знал, что именно предпринять, и высказывался самым неопределенным образом — так, однажды он сообщил де Линю, что «с Божьей помощью возьмет все, что есть между Бугом и Днестром». Но в конце концов общий план выработался: «Мы предпримем осаду Очакова, пока Украинская армия будет прикрывать Бендеры, а Кавказский и Кубанский корпуса сражаются с горцами и османами на востоке».[777]
Де Линь вряд ли преувеличивал, описывая перепады настроения светлейшего: «иногда он хорош со мной, иногда суров, спорит чуть ли не до ссоры, а потом снова дарит положение первого фаворита; иногда мы играем в карты, беседуя или молча, до шести часов утра». Принц называл себя нянькой этого «избалованного дитяти», а Потемкин сильно негодовал про себя на его «черную неблагодарность» — русская служба перлюстрации перехватывала все письма де Линя и докладывала их содержание Потемкину. Светлейший жаловался на «дипломатического жокея» Екатерине: «принц де Линь как ветряная мельница, я у него то Ферсит, то Ахиллес».[778]
Ухаживая за дамами и играя в бильярд, Потемкин готовился к осаде Очакова. Он ждал подхода резерва и новых рекрутов; постепенно в Елисаветграде собралась армия в сорок-пятьдесят тысяч человек.
Агенты Потемкина вербовали наемников на Средиземноморском побережье, прежде всего в Греции и в Италии. Рассказывали, что на Корсике один молодой человек предлагал свои услуги русскому генералу И.А. Заборовскому. Корсиканец требовал русского чина, соответствующего тому, который он имел в Национальной корсиканской гвардии, и даже написал генералу Тамаре, но в просьбе ему отказали. Несостоявшегося рекрута в потемкинскую армию звали Наполеон Бонапарт.[779]
Потемкин внимательно следил за солдатским бытом и требовал от подчиненных командиров постоянной заботы о солдатах. Он напоминал, что еда должна выдаваться всегда вовремя и всегда горячая, что солдатам ежедневно следует выдавать по чарке водки. Но поразительнее всего его взгляд на средства поддержания дисциплины: «...я требую, дабы обучать людей с терпением и ясно толковать способы к лучшему исполнению. [...] Унтер-офицерам и капралам отнюдь не позволять наказывать побоями... [...] Всякое принуждение, как-то вытяжки в стоянии, крепкие удары в приемах ружейных должны быть истреблены». «Я совершенно убежден, — писал он, — что человечное обхождение с солдатами способствует поддержанию здорового духа армии и доброй службе... Я советую запретить бить людей. Лучшее средство добиться своей цели — это внятное и точное разъяснение».[780] Современники считали гуманное отношение Потемкина к солдатом опасным потаканием. В британском королевском флоте его сочли бы таковым и пятьдесят лет спустя.
Готовясь к войне, светлейший занялся реорганизацией казачьего войска, о чем он мечтал еще с той поры, как была ликвидирована Запорожская Сечь. Тяжелую конницу, кирасир, он считал устаревшей и непригодной для военных действий на юге. Он хотел снова вооружить запорожцев, вернув под знамена империи даже перешедших на сторону турок. Преодолев недоверие Екатерины, он основал новое Черноморское и Екатеринославское войско. Позднее это войско получило название Кубанского и до революции 1917 года оставалось самым крупным после Донского.
В то же время у Потемкина родился необыкновенный замысел — вооружить против турок евреев. Реализация этой идеи, принадлежавшей, возможно, его другу Цейтлину, началась с образования кавалерийского эскадрона, набранного из кричевских евреев. В декабре 1787 года светлейший создал еврейский полк и назвал его Израилевский. Полком командовал князь Фердинанд Брауншвейгский. На фоне традиционного русского, а тем более казацкого антисемитизма эта затея была особенно удивительна.
По мысли Потемкина, Израилевский полк должен был состоять наполовину из пехоты, наполовину из кавалерии (евреев-казаков с запорожскими пиками). В марте 1788 года проходили учения тридцати пяти бородатых еврейских казаков. Скоро набралось уже два эскадрона, однако пять месяцев спустя Потемкин приказал распустить Израилевский полк, — как шутил де Линь, «чтобы не ссориться с Библией».[781]
Делом, не менее важным, чем переформирование кавалерии, было восстановление черноморского флота и его подготовка к боям под Очаковом. Он призвал лучших кораблестроителей. Снова понадобился Сэмюэл Бентам. Потемкин зачислил его в морское ведомство и приказал ему создать гребную флотилию.
Наконец и австрийцы вступили в войну, предприняв вылазку на турецкую крепость Белград. Операция провалилась: австрийские лазутчики, проникшие в город, чтобы открыть ворота, заблудились в тумане. Потемкин был в ярости, но Екатерина успокаивала его: «Хотя для них не очень хорошо, но для нас добро, понеже заведет дело далее». Иосиф поставил под ружье 245 тысяч человек, и, хотя его армия занимала оборонительную позицию, это сдерживало турок и давало Потемкину время готовить сражение на Лимане.
Потемкин направил де Линю два меморандума, которых тот не упоминает в своих знаменитых письмах, потому что они ясно очерчивают изъяны австрийской стратегии. Потемкин советовал концентрировать силы, а не рассредоточивать их на непрочные кордоны, как делал Иосиф. Мы не знаем, дошли ли эти меморандумы до императора, но он делал прямо противоположное тому, что рекомендовал Потемкин, — результаты были плачевны. Австрийский генерал принц Фредерик Иосиф Саксен-Кобург-Заальфельд не сумел взять Хотин; вторая атака на Белград также не состоялась.
Между тем Потемкина по-прежнему занимал польский вопрос. Речь Посполитая приближалась к так называемому Четырехлетнему сейму — парламенту, возглавившему польскую революцию против российского протектората. Этого удалось бы избежать, если бы состоялся союз Потемкина с королем Станиславом Августом. «Решите Польшу предпринять войну [вместе] с нами», — убеждал князь Екатерину. Он предлагал 50 тысяч ружей, чтобы экипировать польскую армию. Польская конница, которая могла бы очень помочь в предстоящих сражениях с турками, насчитывала 12 тысяч всадников). Часть этих сил Потемкин хотел возглавить сам, «хотя бы одну бригаду. Я столько же поляк, как и они», — писал он. Екатерина не одобряла его планов.[782] Она лишь предложила трактат, который поддерживал польскую конституцию, удовлетворявшую целям России, но подписан он не был.
В Херсоне Сэмюэл Бентам начал работать над созданием гребной флотилии, пустив в ход всю свою изобретательность. Галеры он превратил в канонерские лодки, но главным его делом стала установка на канонерские лодки гораздо более тяжелых орудий, чем употреблялись до тех пор. «Использование тридцатишести- и даже сорокавосьмифунтовых орудий на таких маленьких судах, — хвастался он брату, — моя собственная идея». Потемкин, прибывший в Херсон с инспекцией в октябре, вполне оценил значение бентамовского нововведения и внедрил его на все лодки, включая двадцать пять запорожских «чаек», строительством которых руководил Фалеев. «Во флоте бдят калибр пушек, а не число», — объяснял Потемкин Екатерине. Он публично принес благодарность Бентаму. Англичанин торжествовал.[783]
К весне у Потемкина образовалась хорошо вооруженная гребная флотилия, созданная почти из ничего. Кого поставить во главе ее? Накануне нового 1788 года в Елисаветград прибыл снедаемый жаждой деятельности принц Нассау-Зиген. Потемкину нравился послужной список принца, но он знал пределы его возможностей и называл его «почти моряк», — впрочем, это делало его самым подходящим кандидатом в адмиралы нового «почти флота».[784] 26 марта Нассау был назначен командиром гребной флотилии.
Потемкин снова и снова осматривал свое детище, хотя «сила его власти, внушаемый им страх и скорость исполнения его приказаний делали эти инспекции почти ненужными». К концу марта 1788 года все было почти готово. Но, когда вопрос с командованием был как будто уже решен, на сцену выступил американский адмирал.
«Прибыл Пол Джонс, — сообщала Екатерина Гримму 25 апреля 1788 года. — Сегодня я принимала его. Верю, что он сотворит для нас чудеса».[785] Джон Пол Джонс, сын шотландского садовника, был самым знаменитым моряком своего времени; в Америке его считают основателем национального флота. Крошечная эскадра Пола
Джонса терроризировала британские берега на протяжении всей американской войны за независимость. В Америке он имел репутацию героя освободительной войны, во Франции — дерзкого головореза, а в Англии — лютого пирата. Английские няни пугали рассказами о нем детей. В 1783 году, когда война за независимость окончилась, Пол Джонс оказался в Париже. Барон Гримм, Томас Джефферсон и Льюис Литглпейдж рекомендовали его Екатерине. Императрица не могла не соблазниться громким именем. Считается, что Екатерина приняла Пола Джонса в русскую службу, не посоветовавшись с Потемкиным, однако архивы показывают, что светлейший вел с ним параллельные переговоры. «Если сей офицер теперь во Франции, — предписывал он русскому послу в Париже Симолину 5 марта 1788 года, — прошу ваше сиятельство устроить его приезд в Россию в скорейшем времени, чтобы мы могли употребить его талант в открывающейся кампании».[786]
Скоро Пол Джонс прибыл в Царское Село, однако адмирал Сэмюэл Грейг и английские офицеры Балтийского флота отказались служить вместе с пиратом, и Екатерина направила его в Елисавет-град. 19 мая 1788 года Потемкин поручил контр-адмиралу Павлу Ивановичу Джонсу командование парусной эскадрой из 11 боевых кораблей; гребная флотилия осталась за Нассау.
20 мая 1788 года перед Лиманом под Очаковом вырос лес турецких мачт. «Нам предстоит станцевать танец с капитан-пашой», — задорно сообщал Нассау жене. Графу де Дама он клялся, что через два месяца либо погибнет, либо наденет Георгиевский крест.[787] Турецким флотом командовал Газы Хасан-паша, выдающийся военачальник, последний из знаменитых алжирских пиратов, подавивший мятеж против султана в Египте. Кумир константинопольской толпы, он получил прозвание Крокодила морских боев. Газы Хасан-паша привел 18 линейных кораблей, 40 фрегатов и множество гребных галер, всего 109 судов, что значительно превосходило силы русских. Потемкин, снова занервничав, опять начал думать об эвакуации из Крыма. «Когда кто сидит на коне, тогда сойдет ли с оного, чтоб держаться за хвост?» — отвечала Екатерина.[788] Конечно, прежде всего он нуждался в ее поддержке.
Лиман тянется с востока на запад на тридцать миль. Ширина его восемь миль, но у самого выхода к морю расстояние между берегами всего две мили. Южный берег принадлежал русским и оканчивался узкой Кинбурнской косой, а на северном берегу, блокируя выход русских судов из Днепра в Черное море, стояла турецкая крепость Очаков. Только овладев Очаковом можно было думать о дальнейшем развитии военных успехов. Но до тех пор, пока турецкие суда хозяйничали в Лимане, взять крепость не представлялось возможным. Вступая в бой с турецкой флотилией, нельзя было этот бой проиграть: поражение позволило бы туркам снова атаковать Кинбурн, подняться на пятнадцать миль вверх по Днепру и штурмовать Херсон. Взятие же Очакова открыло бы связь между Херсоном и Севастополем, дало бы возможность защитить Крым и отвоевать для России новый участок побережья.
Теперь все зависело от того, одолеют ли Нассау-Зиген и Пол Джонс Крокодила морских боев.
27 мая 1788 года Потемкин выступил из Елисаветграда во главе армии по направлению к Очакову. Утром 7 июня Хасан-паша вошел в Лиман с гребной флотилией под прикрытием боевых кораблей. Это было величественное зрелище — «красивее, чем бал в Варшаве», — вспоминал Нассау. Он и граф де Дама показали друг другу портреты своих жен. Турки открыли огонь. Сильный противный ветер не позволял эскадре Пола Джонса вступить в сражение и тогда запорожские чайки под командой Нассау атаковали турок по всей линии. Бентам, командовавший семью галерами и двумя канонерками, бил по турецким судам из всех пушек. Одно из орудий взорвалось, и Бентаму опалило брови.
Турки стали отступать в беспорядке. Чтобы остановить бегство, Хасан-паша велел стрелять по собственным судам. Нассау и Пол Джонс отдали приказ преследовать противника. Турки отошли, потеряв три корабля.
Тем временем армия Потемкина встала лагерем на Южном Буге. «То Божий промысел!» — восклицал светлейший, узнав об успешном сражении 7 июня.[789] Но главные дела были еще впереди — чтобы начинать осаду Очакова с суши, надо было полностью разбить турецкую флотилию в Лимане.
А между Нассау и Полом Джонсом после 7 июня начались ссоры. Оба жаловались друг на друга Потемкину. Тот пытался примирить их, втайне поддерживая Нассау. «Вас одного, — писал Потемкин ему через два дня после сражения, — я считаю творцом нашей победы».[790]
16 июня Хасан-паша ввел в Лиман всю свою флотилию. «Невозможно представить себе более устрашающей картины, чем эта линия кораблей, протянувшаяся от берега до берега», — писал подполковник Генри Фэншоу. Корабли стояли так близко друг к другу, что их паруса соприкасались. Атака была неизбежна. Ночью, получив подкрепление из 22 канонерских лодок, Нассау созвал военный совет. Пол Джонс сказал: «Я вижу перед собой глаза настоящих героев», — но рекомендовал осторожность. Нассау вышел из себя, объявив, что американец может стоять со своими кораблями позади всех, и назначил на раннее утро упреждающий удар.
Граф де Дама командовал наступлением на правом фланге, Бентам и Фэншоу, поддерживаемые кораблями Джонса, «Владимиром» и «Александром», пошли в атаку на турецкие линейные корабли. Турки двинулись им навстречу, трубя в трубы, ударяя в кимвалы и громко крича, однако, не выдержав дерзкого натиска, скоро отступили. Корабль самого Хасана-паши сел на мель. К нему устремились канонерки графа де Дама, но турецкий огонь потопил одну из лодок. Заметив мель, Пол Джонс приказал своим линейным кораблям прекратить преследование, но Бентам, Фэншоу и остальные продолжали погоню на своих легких судах.
Главное дело разгорелось после полудня, когда удалось разбить оттоманский флагман. Хасан-паша продолжал командовать боем, высадившись на ближайшую косу.
Англичане не прекратили охоты и с наступлением ночи. Турки отошли под прикрытие очаковской артиллерии, оставив в Лимане два разбитых линейных корабля и шесть канонерских лодок.
Ночью Газы Хасан стал выводить свой флот в море, но, когда корабли проходили мимо Кинбурнской косы, Суворов открыл по ним огонь с батареи, выставленной на этот самый случай. Пытаясь уклониться от русских ядер, два корабля и пять фрегатов врезались в берег и встали, освещенные яркой луной. Во время затишья Пол Джонс провел рекогносцировку и написал мелом на корме одного из кораблей: «Сжечь. Пол Джонс, 17/28 июня».
На флагмане Нассау собрался военный совет. Адмиралы снова поссорились. «Я не хуже вас знаю, как захватывать корабли!» — кричал Нассау. «А я доказал, что умею захватывать не только турецкие», — парировал Джонс.[791]
Нассау, Бентам и де Дама решили атаковать суда, севшие на мель. «Дисциплиной, — вспоминал Бентам, — мы немногим отличались от лондонской толпы». Он выпустил столько ядер, что из-за дыма уже не видел цели. Ему удалось захватить один линейный корабль, но «толпа» так жаждала крови, что взорвала другие суда, к веслам которых были прикованы три тысячи гребцов. «Мертвые тела плавали вокруг еще две недели», — рассказывал Сэмюэл отцу.[792] Хасан-паша приказал казнить нескольких своих офицеров.
«Наша победа полная! восклицал Нассау. — И обеспечила ее моя флотилия!» За два дня сражений турки потеряли 10 кораблей, 5 галер, 3 тысячи человек убитыми и 1673 пленными. Потери русских составили всего один фрегат, 18 человек убитых и 67 раненых. Графу де Дама была поручена честь доставить эту новость светлейшему в лагерь на Буге. Князь был вне себя от радости: «Что я вам говорил? — восклицал он, обнимая де Линя. — Это ли не чудо? Я баловень у Господа Бога». И писал Суворову: «Лодки бьют корабли [...]! Я без ума от радости».[793]
В ту же ночь светлейший приплыл по Бугу на флагман Пола Джонса «Святой Владимир», где был устроен обед. Подняли флаг Потемкина — адмирала Черноморского и Каспийского флотов. Князь убедил командующего гребной флотилией извиниться перед обидчивым американцем, однако остался при убеждении, что победа одержана только благодаря Нассау. «Матушка родная, Всемилостивейшая Государыня! — писал он Екатерине 19 июня. — Поздравляю с победой знаменитой! Капитан-паша, хотевши нас проглотить, пришед с страшными силами, ушел с трудом. Бог видимо помогает. Мы лодками разбили в щепы их флот и истребили лутчее, а осталась дрянь, с которою он уходит в Варну. Матушка, будьте щедры к Нассау, сколько его трудов и усердия [...] А пират наш не совоин».[794]
На самом деле победой русские были больше всего обязаны артиллерии Бентама. Разумеется, в этом не сомневался и сам Сэмюэл, произведенный в полковники и получивший Георгиевский крест и шпагу с золотым эфесом. Потемкину Екатерина отправила золотую шпагу «необыкновенной красоты, с тремя большими алмазами» и золотое блюдо с надписью «фельдмаршалу князю Потемкину-Таврическому, командующему сухопутной и морской армиями, одержавшими победу на Лимане, и создателю флота».[795] Посрамленный Хасан-паша ушел с остатками своего флота.
Все шло прекрасно, теперь можно было приступать к осаде Очакова, как вдруг от Екатерины пришла весть о том, что 21 июня шведский отряд, переодетый в русские мундиры, инсценировал нарушение собственной границы. Король Густав III начал войну против России. Выступая из Стокгольма по направлению к Финляндии, он хвастался, что скоро «будет завтракать в Петергофе». Главные русские силы и лучшие военачальники находились на юге. Командование финским фронтом было поручено графу Мусину-Пушкину, ничем до сих пор себя не проявившему. По счастью, Балтийская флотилия Грейга не ушла в Средиземноморье, как предполагалось, и в первом же морском бою шведы были разбиты. Однако на суше наступление Густава на Петербург продолжалось. В столице чувствовали себя как в осажденной крепости. Обдумывая, как в будущем защитить Петербург от шведов, Потемкин вполне всерьез писал Екатерине о том, что необходимо было бы переселить всех жителей Финляндии и построить на финской земле сплошные заградительные укрепления: «Я не любил никогда крепости, а паче Финляндских наших, которые ничему не мешают, а берут людей много. Я всегда говорил, хотя может быть то казалось шуткою, чтобы всех финляндцев развести по государству, а землю засеками зделать непроходимою. Тогда бы столица была верна».[796]
Тем временем Англия, Голландия и Пруссия изъявили готовность заключить антироссийский тройственный союз. Новый прусский король Фридрих Вильгельм желал во что бы то ни стало нагреть руки на русско-австрийской вражде с Турцией и завладеть еще одним куском Польши (таков был план, получивший имя своего создателя, прусского канцлера графа фон Герцберга). Екатерина заверяла Иосифа, что не допустит войны Пруссии с Австрией, но все понимали, что сама Россия в любую минуту может оказаться вынуждена воевать на три фронта — против Турции на юге, против Швеции на севере, против Пруссии — на западе.
1 июля Нассау возглавил морскую атаку на турецкие корабли, оставшиеся под прикрытием очаковской крепости. После сражения турки бросили свои суда и укрылись за крепостными стенами. Через два часа после этого Потемкин сел на коня и двинулся на Очаков во главе 13 тысяч казаков и 4 тысяч гусар. Гарнизон встретил их заградительным огнем, а затем вылазкой 600 всадников и 300 пехотинцев. Князь немедленно выставил на равнине под крепостью двадцать пушек и лично командовал бомбардировкой. «Огромные алмазы на портрете императрицы, который он всегда носил на груди, привлекали огонь на него».[797] Рядом с ним убило солдата и двух лошадей.
«Уморя себя, уморишь и меня, — написала Потемкину Екатерина, узнав о его геройстве. — Зделай милость, впредь удержись от подобной потехи».[798]
Началась осада Очакова.
27. ШТУРМ ОЧАКОВА
И ты, гой ecu, наш батюшка! Ой прехрабрый предводитель наш, Лишь рукой махни, Очаков взят, Слово вымолви, Стамбул падет, Мы пойдем с тобой в огонь и полымя, Пройдем пропасти подземныя! Солдатская песня «Штурм Очакова»В 1788 году грозный Очаков был главной военной целью России: крепость не только контролировала устья Днепра и Буга, но являлась ключом к Херсону, а значит, и к Крыму. Под руководством французского инженера Лафита турки многократно усилили ее оборону. «Город имеет форму вытянутого прямоугольника, — писал Фэншоу, — спускается с вершины горы к морю, со всех сторон окружен стеной значительной толщины, двойным рвом и имеет шесть бастионов; на оконечности песчаной косы, начинающейся у его западной стены и вдающейся в Лиман, поставлена укрепленная батарея».[799] Город был довольно велик — с мечетями, дворцами, садами и казармами; гарнизон насчитывал от 8 до 12 тысяч всадников и янычар.
Потемкин выстроил русские войска полукругом и приказал начать бомбардировку. Но враг не дрогнул. «Не те турки, и черт их научил», — писал Потемкин Екатерине. Действительно, турки весьма усовершенствовали свое военное искусство по сравнению с прошлой войной, и главнокомандующий не решался идти на штурм крепости, опасаясь больших потерь.
27 июля пятьдесят турецких всадников сделали вылазку. Суворов по собственной инициативе атаковал их. Те стали отступать, Суворов бросился преследовать их небольшими силами, и тут неожиданно со стороны Очакова двинулось три тысячи турок. Только благодаря отвлекающему маневру, предпринятому Репниным, Суворову и остаткам его отряда удалось спастись. Сам Суворов был легко ранен, более двухсот его солдат погибли. Головы убитых были выставлены на пиках вокруг крепостных стен.
Когда Потемкин послал узнать, что произошло, Суворов, по преданию, отвечал: «Я на камушке сижу и на Очаков гляжу».[800]
Потемкин был возмущен и потрясен. «Человечное и сострадательное сердце», как записал его секретарь Цебриков, не могло перенести такую бездарную потерю. Узнав, что его любимый кирасирский полк участвовал в этом бою, он сурово отчитывал Суворова: «Вы всех рады отдать на жертву сим варварам! [...] Солдаты не так дешевы, чтобы ими жертвовать по пустякам». Обиженный Суворов удалился в Кинбурн залечивать ранение.[801]
Время шло, а Потемкин все не отдавал приказа о штурме. 18 августа турки предприняли еще одну вылазку. Генерал Михаил Голенищев-Кутузов, впоследствии легендарный герой войны 1812 года, победитель Наполеона, был ранен в голову и, как Потемкин, потерял глаз. Нассау отбросил турок огнем со своих гребных судов.
Приближалась зима, и иностранцы-командиры, недовольные медлительностью Потемкина, начинали роптать. Нассау говорил, что это «самый невоенный человек на свете и вдобавок слишком гордый, чтобы прислушиваться к чьему-либо мнению». Де Линь сообщал в секретной депеше Кобенцлю, что Потемкин только тратит «время и людей». «Такое множество упущений, — предполагал граф де Дама, — не может не объясняться тем, что князь Потемкин имеет какие-то личные причины [...] откладывать дело».[802]
У Потемкина, действительно, были особые причины для промедления. Он ждал, когда Австрия в полной мере откроет второй фронт против Турции и понимал, что без полноценной австрийской поддержки в Молдавии и Бессарабии война будет затягиваться, а он, потеряв лучших солдат во время скоропалительного штурма, поставит свою армию в трудное положение. Екатерина соглашалась с ним: «Лутче тише, но здорово, нежели скоро, но подвергаться опасности, либо потере многолюдной».[803]
Шла война со Швецией, росла враждебность англо-прусского альянса, турки на удивление ловко расправлялись с австрийцами — Потемкин понимал, что взятие Очакова не положит конца войне.
Он отбросил европейскую военную науку и стал следовать тактике, соответствовавшей духу его врага — и его собственному. Ему удавалось выигрывать битвы, не сражаясь, как в 1783 году в Крыму. Если приходилось держать осаду, он предпочитал давать взятки, торговаться и морить осаждаемых голодом. Сегодняшние генералы оценили бы его человеколюбие и осторожность. Потемкин решил, что не пойдет на штурм без крайней необходимости. «Я все употреблю, — писал он Суворову, — надеясь на Бога, чтобы достался он дешево». Его эмиссары вели непрерывные переговоры с турками. Светлейший был «убежден, что противник желает сдаться», — сообщал де Линь австрийскому императору в августе 1788 года{86}. [804]
В лагере под Очаковом Потемкин вел свой обычный образ жизни: проводил ночи за картами, бильярдом или беседами; по временам впадая в депрессию, «обматывал голову носовым платком, смоченным в лавандовой воде — знак его ипохондрии». Как всегда, играл оркестр под руководством Сарти. Во время одного из вечеров, когда играла роговая музыка, Потемкин спросил одного немца, артиллерийского офицера: «Что вы думаете об Очакове?» — «Я думаю, — отвечал тот, — что вы верите, будто стены очаковские, подобно иерихонским, падут от звука труб».[805]
В начале зимы в лагерь прибыли три грации. Екатерина Долгорукова, жена одного из офицеров и дочь князя Федора Барятинского, одного из первых придворных Екатерины, славилась своей «красотой, тонким вкусом, тактом, юмором и талантами». Прасковья Потемкина, урожденная Закревская, жена Павла Потемкина, не отличалась хорошей фигурой, но имела «восхитительное лицо, белоснежную кожу и прекрасные глаза; не обладая особенным умом, она была очень самоуверенна». Ею начинал теперь увлекаться светлейший. А Екатериной Самойловой, 25-летней женой его племянника, увлекся граф де Дама. Проведя день в холодных траншеях, Дама являлся в шатер к дамам: «Я надеялся, что усиленная осада заставит их сдаться быстрее, чем крепость». Скоро Самойлова вознаградила его усилия.[806]
А Очаковская крепость не сдавалась и не собиралась сдаваться — Хасан-паша, вернувшийся со своей флотлией, доставил в Очаков продовольствие, боеприпасы и полторы тысячи янычар. К стыду русских морских начальников и к ярости Потемкина пополнение дважды поступало в город. Однако вся турецкая флотилия снова оказалась заперта в Лимане под стенами города.
5 сентября Потемкин, Нассау, де Дама и де Линь вышли на шлюпке в Лиман, чтобы осмотреть редут Хасан-паши и обсудить план Нассау — высадить 2 тысячи человек у стены под нижней батареей. Турки начали стрелять крупной картечью и ядрами. Потемкин сидел один на корме, с сияющими на солнце орденами и «выражением спокойного достоинства на лице».[807]
Общество, окружавшее Потемкина, в особенности пестрая компания из новоиспеченных контр-адмиралов и иностранных наблюдателей, стало постепенно распадаться. Жизнь под стенами Очакова становилась все тяжелее. «Нет воды, — писал де Линь, — мы питаемся мухами; ближайший рынок от нас за тысячу лье. Пьем только вино [...] спим по четыре часа». Рано наступила зима. Лагерь утопал в «снегу и экскрементах».[808] Лиман зеленел от мертвых тел турок.
Сэмюэл Бентам, подавленный невыносимыми условиями и угнетающим зрелищем, писал домой отчаянные письма. Потемкин, сжалившись над ним, отправил его с поручением на Дальний Восток.{87} Льюиса Литтлпейджа светлейший заподозрил в стремлении подорвать авторитет Нассау. Американец уверял, что никогда не искал поводов для раздора; князь утешил его, и он вернулся к своему покровителю, Станиславу Августу.[809]
Джон Пол Джонс, чье незнатное происхождение всегда заставляло его доказывать свои заслуги, был отставлен Потемкиным. Непомерное честолюбие американца раздражало светлейшего. Пола Джонса стали винить во всех неудачах, случавшихся на море. Потемкин приказал ему разбить турецкие корабли, севшие на мель вблизи Очакова, или хотя бы вывести из строя их орудия. Джонс дважды пытался выполнить приказ, но по разным причинам ему это не удалось. Потемкин перепоручил дело Антону Головатому, который «с 50 казаками тотчас сжег, несмотря на канонаду». Американец выразил свое неудовольствие переменой приказа, на что князь отвечал: «Заверяю вас, г. Контр-Адмирал, что в вопросах командования никогда не вхожу в личности, но оцениваю заслуги по справедливости [...] Что же касается моих приказов, я не обязан давать в них отчет и могу переменять судя по обстоятельствам».[810]
Светлейший доложил Екатерине, что «сей человек неспособен к начальству», и добился его отзыва. «Я вечно буду сожалеть о том, что утратил ваше расположение, — писал Пол Джонс Потемкину 20 октября. — Осмелюсь сказать, что если таких же умелых моряков, как я, можно найти, то вы никогда не встретите сердца более верного и преданного...» Во время их последней встречи Пол Джонс упрекал Потемкина за то, что тот разделил командование флотом. «Согласен, — отвечал светлейший, — но теперь поздно о том говорить». 29 октября Джонс отбыл в Петербург.[811]
Уехал из-под Очакова и Нассау, раздраженный медленным ходом дел и тоже впавший в немилость у Потемкина. «Счастье [ему] не послужило», — писал Потемкин Екатерине.[812]
Удалился и принц де Линь. Потемкин написал ему «любезнейшее, очаровательнейшее, трогательнейшее» прощальное письмо. В своем ответе, напоминающем письмо любовника накануне тягостной разлуки, принц просил прощения за то, что причинил огорчение своему другу, однако, добравшись до Вены, стал говорить, что Очаков никогда не будет взят, и делал все, чтобы повредить репутации Потемкина.
Екатерина беспокоилась о славе фельдмаршала и благополучии супруга и послала ему памятное блюдо, брильянт и шубу. «Первое — от щедрот монарших — милость. А вторая — от матернего попечения». Это, добавлял Потемкин с чувством, для него «дороже бисера и злата».[813]
В конце октября под Очаковом наступили сильные холода. Осматривая траншеи, Потемкин говорил солдатам, что они могут не вставать перед ним: «Главное — не лягте под турецкими пушками». Температура опустилась до минус пятнадцати. Вода в Лимане замерзла.
Графине Самойловой пришлось перебраться к мужу, командовавшему левым флангом. Ее любовнику графу де Дама это причинило серьезные неудобства: «Пробираясь к ней, чтобы оказывать ей знаки внимания, которые она благоволила принимать, я рисковал замерзнуть в снегу».[814]
Кобенцль сообщал из Петербурга Иосифу, что русская армия страдает «исключительно по вине Потемкина»: «Он потерял целый год перед Очаковым, где от болезней и недостатка продовольствия его армия потеряла больше, чем в двух сражениях». Критики Потемкина, находившиеся далеко от места действия, утверждали, что из-за его нерешительности под стенами крепости погибло 20 тысяч человек и 2 тысячи лошадей.[815] Говорили, что в госпиталях умирает от сорока до пятидесяти человек ежедневно, а «от дизентерии не излечивается почти никто».[816] Трудно сказать, сколько умерло на самом деле, но во всяком случае Потемкин потерял меньше людей, чем до него Миних и Румянцев-Задунайский, чьи армии так выкосили болезни, что они с трудом могли продолжать воевать. Что же касается австрийцев, проклинавших Потемкина за Очаков, то они имели право поднимать голос в последнюю очередь: в то же самое время 172 тысячи австрийских солдат были больны и 33 тысячи умерло — больше, чем вся армия Потемкина.
Александр Самойлов, живший в лагере со своим корпусом, писал, что морозы в самом деле «весьма сильны», но армия не страдает, потому что Потемкин обеспечил ее тулупами, шапками и кеньгами — овчинными или войлочными галошами — в дополнение к теплым палаткам.[817] Выдавали мясо, водку и горячий пунш с рижским бальзамом.
Светлейший раздал солдатам много денег. «Это избаловало их [...] не облегчив их нужд», — утверждал Дама со свойственным ему аристократическим презрением к народу. Но русские понимали Потемкина лучше. «Князь от природы человеколюбив», — писал его секретарь Цебриков.[818] Рядом со своим шатром светлейший приказал поместить лазарет из сорока палаток и часто посещал его, чего не будет делать почти никто из английских генералов спустя шестьдесят лет, во время Крымской войны. Армия действительно страдала, но выжила благодаря тому, что Потемкин обеспечивал ее медицинской помощью, деньгами, едой, одеждой — словом, невиданной в России заботой о простых солдатах. Переговоры с турками о сдаче крепости между тем продолжались.
Наконец, после нескольких месяцев ожидания турецкий дезертир сообщил светлейшему, что сераскир — командующий гарнизоном крепости — казнил нескольких знатных жителей города, которые вели переговоры с русскими, и сдаваться не будет.[819]
К концу подходило и терпение Екатерины. Россия продолжала воевать на два фронта, хотя ситуация в войне со шведами улучшилась благодаря морской победе Грейга при Готланде и вмешательству Дании, атаковавшей шведов с тыла. В августе 1788 года Англия, Пруссия и Голландия заключили антироссийский тройственный союз. Недовольство Россией росло и в Польше. Пруссия предложила полякам трактат, дававший им надежду на более сильную конституцию и независимость от России.
Дальновидный Потемкин уже предупреждал Екатерину, что лучше не портить отношения с Пруссией, и предлагал свой вариант альянса с Польшей. Его предложения остались без внимания — как выяснилось впоследствии, совершенно напрасно. А поляки, поддержанные Пруссией, потребовали вывода всех русских войск со своей территории. Это был еще один удар, тем более что корпуса, стоявшие на юге, получали из Польши значительную часть продовольствия и останавливалась там на зимних квартирах. Потемкин стал просить отставки. «Еcтьли ты возьмешь покой [...], — отвечала ему Екатерина, — прийму сие за смертельный удар». Она умоляла его взять Очаков как можно скорее и поставить армию на зимние квартиры. «Ничего на свете так не хочу, как чтоб ты мог [...] в течение зимы приехать на час сюда, чтоб, во-первых, иметь удовольствие тебя видеть по столь долгой разлуке, да второе, чтоб с тобою о многом изустно переговорить».[820]
Князь не мог удержаться и не напомнить императрице, что он ее предупреждал: «В Польше худо, чего бы не было, конечно, по моему проекту». Чтобы ослабить враждебность тройственного союза, он предлагал на время «притворить мирный и дружеский вид» к Пруссии и Англии и заключить мир со Швецией: «увидите после, как можно будет отомстить».[821]
Гарновский в секретных рапортах светлейшему из Петербурга еще в августе сообщал, что против его медлительности ропщет весь двор. Завадовский и Александр Воронцов распускали злобные слухи и создавали помехи намерению Потемкина вступить в переговоры с Англией и Пруссией. Теперь и сама Екатерина «выказывала неудовольствие». Она умоляла Потемкина: «Возьми Очаков и зделай мир с турками [...] По взятии Очакова старайся заводить мирные договоры».[822]
7 ноября Потемкин послал казаков овладеть островом Березань, последним источником продовольствия крепости. Казаки захватили двадцать семь пушек и двухмесячный запас продовольствия. 1 декабря светлейший подписал план штурма крепости шестью колоннами примерно по 5 тысяч человек. По льду можно было атаковать Очаков и со стороны Лимана . 5-го числа военный совет постановил начинать штурм. Граф де Дама, которому было поручено атаковать Стамбульские ворота, приготовился к смерти: написал прощальное письмо сестре, вернул письма своей парижской возлюбленной маркизе де Куаньи, — а затем до двух часов ночи пробыл у Самойловой.
Потемкин провел ночь накануне штурма в землянке у передовых траншей. Упрямый камердинер князя не пустил к нему Репнина, прибывшего с сообщением, что штурм вот-вот начнется: он не решался разбудить хозяина — «пример рабской покорности, возможной только в России». Когда солдаты пошли на приступ, князь Таврический молился.[823]
6 декабря в 4 часа утра три пушки подали сигнал к штурму. С криками «ура» колонны двинулись к турецким укреплениям. Турки бешено сопротивлялись. Русские были беспощадны. Как только они проникли в крепость, «началась невообразимая резня». Русские солдаты словно обезумели: даже после того, как гарнизон сдался, они носились по улицам, истребляя мужчин, женщин и детей — всего погибло от 8 до 11 тысяч турок — «как вихрь самый сильный, — докладывал Потемкин Екатерине, — обративши в короткое время людей во гроб, а город верх дном».[824] Роже де Дама со своими солдатами шел по грудам тел. В какой-то момент он провалился ногой вниз и попал каблуком в рот раненому турку. Челюсти сомкнулись и командующий колонной смог вытащить ногу, только разорвав сапог.
Солдаты пригоршнями хватали алмазы, жемчуг, золото; на следующий день в русском лагере драгоценные камни можно было купить за бесценок. На серебро никто не обращал внимания. Потемкин приберег для императрицы трофейный изумруд размером с куриное яйцо.
Около 7 часов утра Очаков был в руках русских{88}. Потемкин приказал остановить погромы. Особые меры были приняты, чтобы защитить одежду и украшения пленных женщин и оказать помощь раненым. Все очевидцы, включая иностранцев, сообщают, что штурм был великолепно спланирован.
Князь вошел в Очаков со своей свитой и сералем — «прелестными амазонками». Очаковского сераскира, старого сурового пашу, привели к Потемкину с непокрытой головой. «Твоему упрямству обязаны мы этим кровопролитием!» — сказал ему князь. Сераскира удивила печаль русского главнокомандующего о погибших в бою. «Я исполнил свой долг, — ответил Гусейн-паша, — а ты свой. Судьба решила дело».[825] И добавил с восточной учтивостью, что сопротивлялся так долго, чтобы сделать победу его светлости еще более блистательной. Потемкин приказал разыскать в руинах тюрбан коменданта.
Еще до того, как подробные отчеты дошли до Петербурга, уже циркулировали истории о небрежном отношении Потемкина к раненым. «Как про меня редко доносят правду, то и тут солгали», — объяснял он государыне.[826] Светлейший отдал раненым свою палатку, а сам перебрался в кибитку.
Подполковник Карл Боур, самый быстрый курьер в России, помчался с донесением к императрице. Поздравляя Екатерину со взятием крепости, Потемкин писал, что захвачено 310 пушек и 180 знамен; потери русских составили 2500 человек, турок — 9500. Трупы врагов грузили на телеги, вывозили на Лиман и сбрасывали на лед, где они замерзали жуткими пирамидами.
Екатерина торжествовала: «За ушки взяв обеими руками, мысленно тебя цалую [...] Всем, друг мой сердечный, ты рот закрыл, и сим благополучным случаем доставляется тебе еще способ оказать великодушие слепо и ветренно тебя осуждающим».[827]
Очаковская победа лишила австрийского императора возможности сваливать свои промахи на бездействие Потемкина и поэтому он совсем не был доволен русской победой: «Взятие Очакова очень выгодно для продления войны, а не для заключения мира», — брюзжал он. Но победа есть победа. Критики Потемкина были посрамлены. Над де Линем, утверждавшим, что Очаков не будет взят, смеялся весь венский двор. Прежние хулители Потемкина бросились писать ему льстивые поздравления. «Этот человек никогда не идет проторенной дорогой, — говорил Литглпейдж, — но всегда приходит к цели».[828]
16 декабря в Петербурге служили молебен и салютовали сто одним залпом. Боур, произведенный в полковники и получивший золотую табакерку с брильянтами, поехал обратно, увозя для князя Таврического звезду св. Георгия и инкрустированную алмазами шпагу ценой в 60 тысяч рублей. Потемкин же, несмотря на усталость, отнюдь не почивал на лаврах. Во время очередного прилива энергии он инспектировал флот в Херсоне, осмотрел новые верфи в Витов-ке и принял решение основать новый город — Николаев. Но главное — до отъезда в Петербург нужно было разместить в Очакове сильный гарнизон, поставить армию на зимние квартиры и превратить захваченные богатства в новые боевые корабли и пушки.
Князь снова призывал императрицу к разрядке в отношениях с Пруссией. Екатерина не соглашалась и настаивала, что отношения с Европой — ее прерогатива. «Государыня, я не космополит, — отвечал Потемкин. — До Европы мне мало нужды, а когда доходит от нее помешательство в делах мне вверенных, тут нельзя быть равнодушну. Напрасно, матушка, гневаешься в последних Ваших письмах. [...] Не влюблен я в Прусского Короля, не боюсь его войск, но всегда скажу, что они всех протчих менее должны быть презираемы».[829]
Петербург ждал возвращения светлейшего как второго пришествия. «Город волнуется, ожидая его светлости, — писал Гарновский. — Все только об этом и говорят». Екатерина следила за его путешествием: «Переезд твой из Кременчуга в Могилев был подобен птичьему перелету, а там дивися, что устал. Ты никак не бережешься, а унимать тебя некому: буде приедешь сюда больной, то сколько ни обрадуюсь твоему приезду, однако, при первом свиданьи за уши подеру, будь уверен».[830]
Екатерина волновалась о том, чтобы достойно встретить победителя: «Князю Орлову за чуму сделаны мраморные ворота, — говорила она Храповицкому, — графу П.А. Румянцеву-Задунайскому поставлены были триумфальные в Коломне, а князя Г.А. Потемкина-Таврического совсем позабыла. — Ваше Величество так его знать изволите, — заметил секретарь, — что сами никакого с ним расчета не делаете. — То так, — отвечала Екатерина, — однако же все человек, может быть, ему захочется. — Приказано в Царском Селе иллюминовать мраморные ворота, и украся морскими и военными арматурами, написать в транспаранте стихи, кои выбрать изволила из Оды на Очаков, Петрова. Тут при венце лавровом будет в верху: Ты в плесках внидешь в храм Софии. Ничего сказать не могут, ибо в Софии [вблизи Царского Села] есть Софийский собор; но он будет в нынешнем году в Цареграде...».[831]
Дорога перед Царским Селом освещалась днем и ночью на шесть миль. При подъезде светлейшего должны были салютовать пушки — обыкновенно это делалось только в честь государыни. «Скажи, пожалуй, любят ли в городе князя? — спросила она как-то своего камердинера Захара Зотова. — Один только Бог, да вы», — последовал смелый ответ. Екатерину это не смущало. Она говорила, что слишком больна, чтобы снова отпустить его на юг. «Боже мой, — говорила она, — как мне князь теперь нужен».[832]
4 февраля 1789 года, в воскресенье, светлейший прибыл в Петербург в разгар бала в честь дня рождения дочери великого князя Павла Марии. Потемкин прошел прямо в свои апартаменты в Шепелевском дворце. Императрица оставила праздник, застала князя за переодеванием и долго оставалась с ним наедине.[833]
28. «УСПЕХИ МОИ ПРИНАДЛЕЖАТ ПРЯМО ТЕБЕ...»
Силу к силе приберем, Все до единого умрем, А Потемкина прославим; Мы сплетем ему венец От своих, братцы, сердец! Солдатская песня11 февраля 1789 года эскадрон конных гвардейцев под звуки фанфар пронес мимо Зимнего дворца двести турецких знамен, захваченных в Очакове. За парадом последовал великолепный обед в честь Потемкина. «Князя видим весьма приветливого и ко всем преласкового; прибытие его повседневно празднуем», — желчно замечал Завадовский.[834] Потемкин получил 100 тысяч рублей на постройку Таврического дворца, усыпанный алмазами жезл и добился отставки Румянцева-Задунайского, командующего Украинской армией. Теперь светлейшему подчинялись обе армии.
Потемкин щедро награждал своих воинов: он настоял, чтобы Суворов, которого он привез с собой в Петербург, получил алмазное перо с буквой «К» («Кинбурн») на шляпу, и сразу отправил своего любимого генерала в бывшую румянцевскую армию. Князь обещал Суворову отдать под его командование отдельный корпус.[835]
Екатерина II Потемкин были рады друг другу, как в былые годы, — Потемкин прислал ей какой-то подарок, она отвечала: «присланное от тебя, мой друг, — так называнная безделка [...] красоты редкой или луче сказать безподобна, каков ты сам. Ей и тебе дивлюсь».[836]
Радость встречи и праздники не могли, однако, рассеять политического напряжения. Продолжалась война на два фронта — с турками и со шведами, — польские дела шли все хуже и хуже для России. Сейм, позже получивший название Четырехлетнего, подбадриваемый Берлином, с наивным энтузиазмом ждал поддержки от Пруссии. Ненависть к России толкала польскую шляхту к пересмотру своей конституции и к войне с Екатериной. Пруссия цинично поддерживала идеализм польских патриотов, хотя на самом деле Фридриха-Вильгельма интересовала только возможность очередного раздела Польши.
Но это было еще не все: в союзе с Англией Пруссия поддерживала Швецию и Турцию. Английский премьер-министр Питт надеялся уговорить поляков присоединиться к «федеративной системе» против России и Австрии. Иосиф II волновался, опасаясь, что Потемкин пойдет на сепаратный договор с Пруссией и тогда Австрия окажется в одиночестве. Иосиф настоятельно советовал своему послу в Петербурге быть крайне обходительным с Потемкиным и всячески льстить тщеславию этого «всемогущего человека».[837]
Итак, перед Потемкиным и Екатериной стоял вопрос: идти ли на риск войны с Пруссией или договориться с ней? Светлейший уже давно советовал Екатерине оставить ее упрямое предубеждение против Фридриха Вильгельма и попытался убедить ее прийти к согласию с Пруссией: Россия не могла позволить себе третий фронт. Потемкин советовал Екатерине: «Затейте Прусского Короля что-нибудь взять у Польши».[838] Если бы удалось сделать так, чтобы Фридрих Вильгельм обнаружил перед польской шляхтой свои истинные аппетиты, надежды поляков на него рассеялись бы.
Сегюр предлагал Потемкину обсудить перспективы союзного договора Франции с Россией и Австрией. Но светлейший скептически относился к французскому королю Людовику XVI; позволив созвать Генеральные штаты, король, по мнению Потемкина, далеко отступил от принципов самодержавия. «Я советовал бы моей государыне, — дразнил он Сегюра, — заключать альянс с Людовиком Толстым, Людовиком Младшим, Людовиком Святым, умницей Людовиком XI, мудрецом Людовиком XII, с Людовиком Великим, даже с Людовиком Возлюбленным, но только не с Людовиком Демократом».[839]
Во время этого приезда Потемкина оборвалась карьера американского «пирата» Пола Джонса. В апреле 1789 года, именно в ту пору, когда светлейший пообещал ему новую должность, американце, вполне в духе сегодняшних приемов дискредитации, обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Джонс бросился жаловаться светлейшему: «Женщина дурного поведения обвиняет меня в изнасиловании своей дочери!» Пострадавшая сторона заявляла, что несчастной всего девять лет. «Возможно ли, — осаждал Пол Джонс Потемкина, — чтобы в России поверили не подтвержденной никакими доказательствами жалобе недостойной женщины, сбежавшей от своего мужа и семьи, выкравшей свою дочь и живущей в дурном доме, и опозорили прославленного генерала, заслужившего военные награды в Америке, Франции и здесь, на службе империи?» Он признавался Потемкину, что «любит женщин и удовольствия, которые те могут доставить, но мысль о том, чтобы добиваться их силой, ему отвратительна».[840]
Потемкин, заваленный делами государственной важности и давно потерявший к Полу Джонсу интерес, не ответил. Один только граф Сегюр поддержал американца и стал выяснять, кто устроил против него эту провокацию. Оказалось, что особа, подавшая жалобу в полицию, «торговала молодыми девицами», а Катерина Гольцварт, которой было не то двенадцать, не то четырнадцать лет, продавала масло постояльцам гостиницы, где жил Пол Джонс и, — как объяснял сам Пол Джонс, отвечая на вопросы полиции, за плату «совершенно добровольно позволяла делать с собой все, что может доставить удовольствие мужчине».
Сегюр просил Потемкина освободить американца от судебного разбирательства и восстановить его на службе. Первое было выполнимо, последнее — нет. «Благодарю вас за то, что вы постарались сделать для Джонса, хотя вы и не выполнили всех моих просьб, — писал Сегюр князю. — Он не более виновен, чем я, и человек его ранга никогда не подвергался подобному унижению, да еще по обвинению женщины, чей муж подтверждает, что она блудница и чья дочь пристает к мужчинам в трактирах».[841] Благодаря усилиям Сегюра и неохотной помощи Потемкина, дело Джонса остановили, а 26 июня 1789 года его в последний раз приняла Екатерина. Сегюр установил, что дело подстроил Нассау-Зиген.
Вернувшись в Париж, Джонс написал тщеславные мемуары о своих подвигах на Лимане и забросал Потемкина прошениями о наградах. «Время покажет вам, мой повелитель, — писал он светлейшему 13 июля 1790 года, — что я не жулик и не мошенник, а честный и верный солдат».[842]
27 марта 1789 года в Стамбуле скончался султан Абдул-Хамид. Сменивший его 18-летний Селим III, умный и агрессивный реформатор, опирался на мусульманский фанатизм и, поддерживаемый прусским, английским и шведским послами, был настроен самым решительным образом. Австрия и Россия хотели начать с Селимом в переговоры о мире, чтобы не допустить вступления в войну Пруссии, но начало правления нового султана ничего хорошего не предвещало. Австрийский канцлер Кауниц описывал Потемкину свирепость нового султана: увидев на улице Стамбула польского еврея в туфлях «неправильного» цвета, Селим приказал немедленно казнить его, и несчастный не успел даже объяснить, что он иностранный подданный. Мир можно было завоевать только на поле битвы.
6 мая, согласовав с императрицей планы действий на все возможные случаи развития событий, включая войну с Пруссией и с Польшей, князь Таврический выехал из Царского Села на юг. Он не увидится с Екатериной почти два года.
Из объединенных Украинской и Екатеринославской армий, общей численностью около 60 тысяч человек, Потемкин составил главную, подчинявшуюся его непосредственному командованию, и четыре корпуса. Предстояло, продвигаясь через Молдавию и Валахию (сегодняшние Молдова и Румыния), занять крепости на Днестре и Пруте и вытеснить турок к Дунаю.
Главная австрийская армия под командованием фельдмаршала Лаудона должна была атаковать Белград Днестровский, а принц Фридрих Иосиф Саксен-Кобургский (или, как его кратко именовали в России, принц Кобург) действовал совместно с русскими в Валахии и Молдавии. Основная после потемкинской армии сила русских, корпус Суворова должен был контролировать пространство между союзными войсками. Суворов расположил свой корпус между тремя параллельными реками — Серетом, Берладом и Прутом.
100-тысячной турецкой армией командовал новый великий визирь Хасан-паша Дженазе. Для начала он собирался разбить австрийцев и прорвать фронт союзников. Одновременно предполагалась высадка турецких войск в Крыму. Газы Хасан-паша, сменивший море на сушу, во главе 30-тысячного корпуса должен был отвлекать главную армию Потемкина от помощи австрийцам, на которых была нацелена армия великого визиря. Турки маневрировали на удивление ловко, и русским приходилось постоянно быть начеку. 11 мая Потемкин перешел Буг, собрал свои силы под Ольвиополем, а затем двинулся к Бендерам, мощной крепости на берегу Днестра.
На Западе между тем произошли события, открывшие новую историческую эпоху. 14 (3) июля, в тот день, когда Потемкин устраивался в своей ольвиопольской штаб-квартире, парижская толпа штурмом взяла Бастилию, а 26 (15) августа Национальное Собрание приняло Декларацию прав человека.[843] Польские патриоты, ободренные примером Франции, снова стали требовать от России вывести войска и склады боеприпасов. Потемкин не мог незамедлительно противодействовать полякам. Он лишь умножил Черноморское казачье войско, которое в опасный момент стало бы действовать как передовой отряд в пророссийски настроенных восточных областях Речи Посполитой.[844]
Готовясь к продолжению военных действий против турок, Потемкин метался между Ольвиополем, Херсоном, Очаковом и Елисаветградом, осматривая обширную линию фронта, пока не слег с «гемороидом и лихорадкой». «Но ничто меня не остановит, кроме смерти», — писал он Екатерине.[845] Чтобы ободрить князя, она послала ему награду за Очаков — фельдмаршальский жезл.
Тем временем великий визирь во главе турецкой армии шел навстречу принцу Кобургскому, чтобы не дать австрийцам соединиться с русскими — и в этот-то напряженный момент Потемкин вдруг получил письмо от обескураженной Екатерины. Именно в тот момент, когда турки нащупали самое слабое место русско-австрийского фронта, отношения императрицы с ее фаворитом Мамоновым оборвались самым унизительным для нее образом.
Екатерине исполнилось шестьдесят лет. Она оставалась величественной на публике, простой и игривой в частной жизни. «Я видел ее в течение десяти лет один или два раза в неделю и всегда наблюдал за ней с новым интересом», — вспоминал Массон. Графиня Головина вспоминала, как однажды она обедала и весело болтала с другими фрейлинами, когда одна из них, графиня Толстая, «кончила есть и, не поворачивая головы, отдала свою тарелку, и была очень удивлена, увидав, что ее приняла прекрасная рука с великолепным бриллиантом на пальце. Графиня узнала императрицу и вскрикнула».[846]
Государыня тщательно ухаживала за своими руками, волосы ее были всегда идеально уложены, но она очень располнела, ноги ее «потеряли всякую форму».[847] Архитекторы ее дворцов и вельможи, чьи дома она посещала, строили специальные пандусы, чтобы облегчить ей подъем. В голосе ее появилось дребезжание, нос заострился; ее все чаще мучило несварение желудка. Чем более она старела, тем более усиливалась ее потребность в душевном комфорте.
А Мамонов то объявлял себя больным, то просто отсутствовал, то видимо тяготился своими обязанностями. Сначала Екатерина расстраивалась. «Слезы, — записал однажды секретарь императрицы Храповицкий после ее ссоры с фаворитом, — вечер проводили в постели».[848] Когда Екатерина спросила совета у Потемкина, он намекнул, что причина уклончивого поведения Мамонова — его увлечение кем-то из фрейлин. Но Екатерина так привыкла к Мамонову, что не хотела слушать предостережений. Фаворит давно жаловался на свою жизнь: Потемкин перекрыл ему все возможности проявить себя на государственном поприще — так, в свой последний приезд он наложил вето на просьбу Мамонова о месте вице-канцлера в Государственном совете.
Наконец Екатерина написала Мамонову письмо, в котором великодушно предлагала отпустить его и устроить его счастье женитьбой на одной из богатейших невест империи. Ответ поверг ее в ужас: Мамонов признался, что уже год любит фрейлину княжну Дарью Щербатову, и просил разрешения жениться на ней. Жестоко уязвленная, но всегда благожелательная к своим любимцам, Екатерина дала свое согласие на брак.
Поначалу Екатерина скрыла этот кризис от Потемкина, возможно, не желая обнаруживать постигший ее конфуз, а также чтобы увидеть, как будут развиваться ее отношения с новым молодым человеком, которого она приблизит к себе. Однако 29 июня она сказала своему секретарю, что собирается написать Потемкину о происшедшем. Когда письмо достигло адресата, свадьба Мамонова уже состоялась: жених получил 2250 душ и 100 тысяч рублей. «Я ничей тиран никогда не была и принуждения ненавидую, — жаловалась она Потемкину. — Возможно ли, чтобы вы не знали меня до такой степени и чтобы великодушие моего характера совершенно вышло у вас из головы и вы сочли меня дрянной эгоисткой. Вы исцелили бы меня сразу, сказав правду». Она раскаивалась, что не обратила внимания на предупреждения Потемкина, и пеняла ему: «Если вы знали об этой любви, почему не сказали мне о ней прямо?»[849]
Светлейший отвечал: «Я, слыша прошлого году, что он из-за стола посылывал ей фрукты, тотчас сметил, но, не имея точных улик, не мог утверждать перед тобою, матушка. Однако ж намекнул. Мне жаль было тебя, кормилица, видеть, а паче несносна была его грубость и притворные болезни». Называя Мамонова Нарциссом и бездушным эгоистом, он советовал отправить его посланником в Швейцарию.[850] Вместо этого новобрачные граф и графиня Мамоновы были отосланы в Москву.
«Место свято пусто не бывает», — заметил Завадовский по поводу случившегося.[851] Екатерина быстро нашла замену Мамонову, но, прежде чем сообщать о том Потемкину, хотела убедиться в правильности своего выбора. Уже в первом письме об истории с Мамоновым она упоминает, что собирается познакомиться с неким «Noiraud»{89}. А через три дня после заявления Мамонова Екатерина видится с этим Нуаро все чаще. Молодому человеку протежировали Анна Никитична Нарышкина и недруг Потемкина граф Николай Иванович Салтыков, заведовавший великокняжеским двором. Поскольку весь двор знал, что Мамонов влюблен в Щербатову, они не теряли времени и, опасаясь вмешательства Потемкина, подталкивали Нуаро к императрице. Не приходится сомневаться, что те, кто поддерживал нового кандидата в фавориты, намеревались ослабить позиции светлейшего, зная, что война не позволит ему вернуться, как это случилось после смерти Ланского. В июне 1789 года императрица, мучимая войной, разочарованная и уставшая, как никогда прежде была готова принять то, что ей предлагали.
Нуаро, 22-летний Платон Александрович Зубов, последний фаворит Екатерины, был, наверное, самым красивым из всех ее возлюбленных. Мускулистый, но стройный, изящный и темноволосый — отсюда прозвище, данное ему Екатериной, — он отличался холодным, надменным выражением лица. Необходимость заботиться о нем во время его частых болезней отвечала материнскому инстинкту Екатерины. Он воспитывался при дворе с семи лет; Екатерина оплачивала его обучение за границей. Жадный и амбициозный, он был неглуп, но лишен воображения и любознательности. Потемкин помогал Екатерине управлять империей и воевать, а Зубову отводилась роль компаньона и ученика в государственных делах.
Восхождение Зубова шло обычным порядком: однажды при дворе заметили, что молодой человек запросто подает руку императрице. На нем был новый мундир и большая шляпа с плюмажем. После вечерней карточной игры он сопроводил Екатерину в ее апартаменты и занял комнаты фаворита, где, очевидно, его ожидал денежный подарок. На следующий день приемная «нового божка» наполнилась просителями. 3 июля 1789 года Зубов получил чин полковника Конной гвардии и генерал-адъютанта — и тут же подарил Анне Нарышкиной часы за 2 тысячи рублей. Покровители Зубова уже опасались реакции Потемкина и предупреждали молодого человека, чтобы тот выказал почтение его светлости.
Екатерина снова влюбилась; она не переставала восхищаться Нуаро. «Мы любим этого ребенка, он действительно очень интересен». Влюбленность пожилой женщины в юношу моложе ее почти на сорок лет придавала ее радости приторный оттенок: «Я здорова и весела и как муха ожила». В то же самое время она с волнением ожидала, что скажет супруг.[852]
«Всего нужней Ваш покой, — осторожно написал Потемкин, — [...] он мне всего дороже». И продолжал: «Я у Вас в милости, так что ни по каким обстоятельствам вреда себе не ожидаю...» Екатерина не могла заставить себя написать имя молодого человека, но не переставала превозносить его достоинства: «...се Noiraud a de fort beaux yeux et ne manque pas de lecture»{90} — и напоминала об их тайном союзе: «Правду говоришь, когда пишешь, что ты у меня в милости ни по каким обстоятельствам, кои вреда тебе причинить не могут [...] Злодеи твои, конечно, у меня успеха иметь не могут». А взамен она просила одобрения своей новой любви: «Утешь ты меня, приласкай нас».[853]
Зубова она буквально заставляла писать светлейшему льстивые письма: «При сем прилагаю к тебе письмо рекомендательное самой невинной души, которая в возможно лутчем расположении, с добрым сердцем и приятным умоначертанием. Я знаю, что ты меня любишь и ничем меня не оскорбишь. — И продолжала, словно извиняясь: — А без сего человека, вздумай сам, в каком бы я могла быть для здоровья моем фатальном положении. Adieu, mon ami. — Приласкай нас, чтоб мы совершенно были веселы».[854]
«Матушка моя родная, — отвечал Потемкин. — могу ли я не любить искренно человека, который тебе угождает. Вы можете быть уверены, что я к нему нелестную буду иметь дружбу за его к Вам привязанность». Получив от него долгожданные «ласковые» слова, она благодарила: «Мне очень приятно, мой друг, что вы довольны мной и маленьким Нуаро [...] Надеюсь, что он не избалуется». Эта надежда, однако, не оправдалась. Зубов проводил долгие часы перед зеркалом, завивая волосы, а его ручные обезьяны дергали за парики почтенных стариков. «Потемкин, — говорил Массон, — был обязан почти всем своим величием самому себе, тогда как Зубов — только дряхлости Екатерины».[855]
Возвышение Зубова нередко описывается как политический крах Потемкина, но так может казаться только в позднейшей исторической перспективе. После смерти светлейшего участие Зубова в государственных делах действительно весьма возросло, однако в момент выбора нового фаворита Потемкин заботился прежде всего о том, чтобы Екатерина нашла себе такого возлюбленного, который дал бы ей личное счастье, но не претендовал на управление империей. Потемкин не сожалел о конце карьеры своего ставленника Мамонова, потому что тот потерял уважение к Екатерине. В феврале 1790 года, когда светлейший приехал в Петербург, пошли слухи, что он продвигает в фавориты какого-то своего кандидата. Один из мемуаристов предполагал, что речь шла о младшем брате Зубова, Валериане, а это означает, что Зубовы не казались светлейшему враждебными. Граф де Дама, находившийся рядом с Потемкиным, также не замечал в нем никакой неприязни к Зубовым.[856] Поэтому неудивительно, что между светлейшим и фаворитом завязалась обычная переписка — младший любимец императрицы отдавал дань уважения старшему.
В июле 1789 года турецкий корпус сделал неожиданный бросок к молдавскому местечку Фокшаны, где австрийцы охраняли правый фланг армии Потемкина. Австрийский командующий, принц Кобург, трезво оценив свои возможности, призвал на помощь русских. Потемкин специально приказывал Суворову не позволять туркам концентрироваться. Получив известие Кобурга, Суворов бросил на подмогу австрийцам пять тысяч солдат. Они двигались с такой решительностью, что турецкий командующий принял их за авангард большой армии. 20-21 июля 1789 года в битве при Фокшанах маленький, но дисциплинированный корпус Суворова с помощью австрийских войск разбил войска сераскира Мустафы-паши, уничтожив полторы тысячи турок и потеряв всего несколько сотен человек. Турки бежали к Бухаресту. Суворов отошел на старые позиции.
12 августа Потемкин перешел Днестр, повернул на юг и устроил свою главную квартиру в Дубоссарах. Армия расположилась между Дубоссарами и Кишиневым, а Потемкин переезжал от Очакова к Херсону и обратно, готовя порты к турецкой атаке с моря.
Резиденция светлейшего в Дубоссарах была «роскошна, как палаты визиря». Уильям Гульд разбил, как обычно, парк. Оркестр Сарти играл не умолкая. Любовниц и слуг возили с собой многие генералы, но только Потемкин держал при себе на войне садовников и скрипачей. Казалось, он собирается провести здесь остаток жизни.
Тем временем великий визирь действовал согласно своему плану: безошибочно вычислив самое слабое место в расположении русских и австрийских войск, он вел свою армию против принца Кобурга, а Газы Хасан-паша должен был помешать армии Потемкина прийти австрийцам на помощь. Но Потемкин сумел разрушить этот план.
Когда Хасан-паша во главе 30-тысячного корпуса вышел из крепости Измаил, Потемкин отправил ему навстречу часть своей армии под командованием Репнина, поставив перед тем задачу не только атаковать турок, но и взять Измаил. Репнин загнал корпус бывшего алжирского адмирала обратно в крепость, но штурмовать Измаил не решился.
1 сентября Потемкин отдал приказ Суворову: «...естьли бы где в Вашей дирекции неприятель оказался, то, Божию испрося милость, атакуйте, не дав скопляться». 4 сентября к Суворову, уже получившему приказ Потемкина, прискакал курьер от Кобурга с просьбой о помощи. К Фокшанам подходил великий визирь с 90-тысячным войском; у Кобурга было всего 18 тысяч человек. Ответ, полученный австрийским командующим, был краток: «Иду. Суворов». Отправив курьера к князю, Суворов с 7 тысячами солдат стремительным маршем прошел через разлившиеся реки 100 верст за двое суток.[857]
Потемкин очень опасался, что Суворов опоздает. В тот же день, когда он отдал приказ Суворову, он замыслил операцию по захвату турецкого замка Гаджибея — будущей Одессы. Сухопутные силы двигались от Очакова при поддержке легкой гребной флотилии под командованием Хосе де Рибаса; флотилию прикрывал парусный флот. Свою же армию Потемкин лично повел к Каушанам — на случай, если Репнину или Суворову понадобится его помощь.
Суворов успел вовремя. Корпус Кобурга стоял против лагеря великого визиря на реке Рымник и готовился к бою. Турок было вчетверо больше, чем союзников. В приказе от 8 сентября Потемкин так сформулировал задачу Суворова: «Содействие Ваше Принцу Кобур-ху для атаки неприятеля я нахожу нужным: но не для дефензивы» (т.е. обороны). 11 сентября началась битва. Турки сражались, как всегда, фанатично, бросая на русские каре все новые и новые волны янычар. Так продолжалось два часа. Наконец русско-австрийские силы с возгласами «Да здравствует Екатерина!», «Да здравствует Иосиф!» двинулись вперед. В жестоком сражении оттоманы потеряли 5 тысяч человек убитыми. Великий визирь «бежал как мальчишка», — восторгался победой Потемкин.[858]
Счастливый князь благодарил Суворова: «Объемлю тебя лобызанием искренним и крупными словами свидетельствую мою благодарность; ты, мой друг любезный, неутомимой своею ревностию возбуждаешь во мне желание иметь тебя повсеместно». Суворов отвечал взаимным лобызанием: «Драгоценное письмо Ваше цалую!..»[859] Их признания основывались на взаимном уважении: стратегия принадлежала Потемкину, тактика — Суворову. 13 сентября были взяты Каушаны, а днем позже Рибас овладел Гаджибеем. Князь приказал Севастопольскому флоту выходить в море против турок — а сам направился к двум главным оплотам противника на Днестре.
Поскольку очаковская бойня была свежа на памяти турок, Потемкин надеялся взять крепости «дешево». Первой был Аккерман (Белгород Днестровский), в устье реки. Когда турецкий флот повернул обратно к Стамбулу, Потемкин отдал приказ о штурме Аккермана. 30 сентября Аккерман пал. Осмотрев крепость, светлейший вернулся в свою ставку через Кишинев.
Теперь оставались знаменитые Бендеры — замок на высокой скале, охранявшийся почти целой армией: бендерский гарнизон насчитывал 20 тысяч человек. Потемкин одновременно начал устанавливать осаду крепости и открыл переговоры, а 9 ноября он уже отправил Екатерине «реляцию» о сдаче Бендер под названием «Чудесный случай»: «В городе восемь бим-башей над конницей их: в один день шестеро видели один сон, не зная еще о Белграде Днестровском. В ту ночь, как взят, приснилось, что пришли люди и говорят: «Отдайте Бендеры, когда потребуют, иначе пропадете».[860] Имел ли случай место на самом деле или турки искали предлог избежать русского штурма, но 4 ноября крепость сдалась; Потемкин взял 300 пушек — в обмен на разрешение гарнизону уйти. Акт о капитуляции свидетельствует, что применительно к Потемкину использовались титулы, которых по оттоманскому этикету удостаивался только сам султан.
Бендеры не стоили России ни одной жизни. Иосиф II направил Потемкину личное поздравление и подтверждал свое восхищение в письме к де Линю: «Осаждать крепости и брать их силой — это искусство [...] но овладевать ими таким способом — искусство высочайшее». Бескровное взятие Бендер австрийский император называл «вершиной славы» Потемкина.[861]
После сражения на Рымнике султан казнил великого визиря в Шумле, а сераскиру Бендер отрубили голову в Стамбуле: четыре месяца спустя английский посол видел его голову на стене сераля.
«Ну, матушка, сбылось ли по моему плану?» — спрашивал Екатерину торжествующий князь. Сообщая, что кампания обошлась русской армии «даром», он перешел на стихи:
Nous avons pris neuf lansons
Sans perdre un garson.
Et Benders avec trois pachas
Sans perdre un chat. {91}
Победу Суворова на Рымнике Потемкин оценил с царской щедростью: «...ей, матушка, он заслуживает Вашу милость и дело важное. Я думаю, что бы ему? [...] Петр Великий графами за ничто жаловал. Коли бы его с придатком Рымникский?» Потемкин гордился тем, что русские спасли от разгрома австрийцев, и просил государыню «быть милостивой к Александру Васильевичу» и «тем посрамить тунеядцев генералов, из которых многие не стоят того жалования, что получают».[862]
Екатерина наградила Суворова предложенным титулом (Иосиф II также жаловал полководца графским достоинством Священной Римской империи) и шпагой с алмазами и надписью «За разбитие Визиря». Потемкин благодарил ее и распорядился выдать каждому солдату суворовского корпуса по рублю. Посылая Суворову «целую телегу с бриллиантами» и орден св. Георгия первой степени — высшую военную награду, — параллельно с официальными поздравлениями он отправил личное письмо: «Вы, конечно, во всякое время равно бы приобрели славу и победы, но не всякий начальник с удовольствием, моему равным, сообщил бы Вам воздаяния. Скажи, граф Александр Васильевич! что я добрый человек. Таким я буду всегда». Суворов отвечал ему в тон: «Могу ли себе вообразить? Бедный, под сумою, ныне [...] Долгий век князю Григорию Александровичу! [...] Он честный человек, он добрый человек, он великий человек!»[863]
Потемкин сделался настоящим героем дня, переходя «от победы к победе», как писала Екатерина де Линю: теперь он полностью отвоевал Днестр, Буг и территорию между ними. Но оставался вопрос о том, как строить отношения с Пруссией. Екатерина уверяла князя, что следует его совету «мы пруссаков ласкаем», — но жаловалась: «каково на сердце терпеть их грубости и ругательством наполненные слова и поступки...»[864]
Тем временем главная австрийская армия, под командованием героя Семилетней войны, старика фельдмаршала Лаудона, 19 сентября заняла Белград Балканский, в то время как Кобург взял Бухарест.
В российской столице складывался настоящий культ Потемкина-Марса, бога войны. В честь очаковской победы была выбита медаль с его профилем; скульптор Шубин работал над его бюстом. Но Екатерина наставляла его, как благоразумная мать: «прошу тебя не спесивься, не возгордися, но покажи свету великость твоей души». Потемкин всерьез обиделся — на одну строчку письма императрицы ответил обстоятельным посланием, в котором снова угрожал посвятить себя церкви. «Епископской митры вы никогда от меня не получите, — возражала Екатерина, — монастырь — не место для того, чье имя гремит по всей Азии и Европе».[865]
В Вене имя Потемкина звучало с театральных подмостков, женщины носили его изображение на поясах и кольцах. Он не мог не похвастаться Екатерине и послал ей один из таких перстней, но после ее выговора стал осторожней: «Как я твой, то и успехи мои принадлежат прямо тебе».[866]
Язвленный удачами Потемкина, австрийский император просил его заключить мир, который делали еще более насущным «злые намерения наших общих врагов» — то есть Пруссии.[867] В готовности турок к подписанию мира сомневаться не приходилось. Потемкин учредил свой двор в Яссах, молдавской столице. Ему принадлежала неограниченная власть над южной Россией и вновь завоеванными областями. Он жил в турецких дворцах; его свита стала еще более экзотичной; его наложницы вели себя как одалиски. Палящее солнце, огромное расстояние от Петербурга, годы, проведенные вдали от столицы, изменили его. Враги начали сравнивать его с полумифическим ассирийским тираном, прославившимся военными победами и изощренной любовью к роскоши, — Сарданапалом.
29. САРДАНАПАЛ
То, возмечтав, что я султан, Вселенну устрашаю взглядом... Г.Р. Державин. Водопад Не только там тиранство, Где кровь и цепи. Деспотизм порока, Бессилье и безнравственность излишеств, Безделье, безразличье, сладострастье И лень — рождают тысячи тиранов... Дж.Г. Байрон. Сарданапал. Пер. Г. Шенгели«Будьте внимательны к князю, — шепнула княгиня Екатерина Долгорукова своей подруге графине Варваре Головиной, приехавшей ко двору светлейшего в Яссы. — Он здесь пользуется властью государя».[868] Яссы, город, который Потемкин выбрал своей столицей, был создан словно для него. Его окружали три могущественные державы — Оттоманская Порта, Россия и Австрия. Жители города исповедовали три религии — православие, ислам и иудаизм — и говорили на трех языках — греческом, турецком и французском. Рынки, где торговали евреи, греки и итальянцы, в изобилии предлагали восточные товары. Здесь было «достаточно восточной пикантности, чтобы ощутить азиатскую атмосферу, и достаточно цивилизованности, чтобы европеец чувствовал себя заехавшим не слишком далеко от дома».[869]
Двумя дунайскими княжествами, Молдавией и Валахией, правили господари, греки из константинопольского квартала Фанар; были среди них даже потомки византийских императоров. Фанариоты покупали временный престол у турецкого султана. Мусульманско-христианский обряд их коронации — вероятно, единственный случай венчания на престол не в той стране, которой владыкам предстояло править. Оказавшись на престоле в Яссах или Бухаресте, они спешили вернуть себе богатства, которые заплатили султану за свои места: «господарь покидает Константинополь с тремя милионами пиастров долга, а через четыре года возвращается с шестью миллионами».[870] Пародия на турецких султанов и византийских императоров, они окружали себя двором, состоявшим из фанариотов; первый министр именовался «великим постельничим», начальник полиции — «великим спатарем», верховный судья — «великим гетманом». Иногда господарь всходил на престол одного, а то и обоих княжеств, несколько раз.
Молдавские и валашские аристократы, бояре, близко породнились с фанариотскими династиями. Многие из них жили в Яссах, где строили себе великолепные неоклассические дворцы. Они носили турецкие халаты и шаровары, длинные бороды, на бритых головах — меховые шапки с жемчужным узором. Потягивая шербет, они читали Вольтера. Женщины в коротких полупрозрачных платьях с газовыми рукавами проводили дни на диванах, перебирая четки из алмазов или кораллов. В глазах европейцев единственным их недостатком был полный живот, считавшийся признаком красоты. Де Линь утверждал, что господарь разрешал своим друзьям наносить визиты окружавшим его супругу женщинам (предварительно подвергнув гостей медицинскому осмотру) и что по сравнению с ясскими нравами Париж «Опасных связей» показался бы монастырем.[871]
Потемкину подходили не только ясская роскошь и царивший в Яссах космополитический дух, но и политическая ситуация. Молдавский престол был необычайно доходным, но в то же время и опасным местом: головы падали здесь с такой же легкостью, с какой наживались состояния. Женщины при дворе вздыхали: «на этом месте мой отец был казнен по приказу Порты, а там — моя мать по повелению господаря». Русско-турецкие войны ставили господарей между двух огней. В первой войне Россия завоевала право иметь консулов в дунайских княжествах, а одной из причин второй войны стало изгнание в 1787 году Османами молдавского господаря Александра Маврокордато.
Потемкина привлекала и неопределенность положений дунайских правителей, и их греческое происхождение. Светлейший управлял из Ясс так, будто наконец учредил собственное княжество. Дакия предназначалась ему с 1782 года, когда возник греческий проект. Теперь слухи об ожидающей его короне стали колоритнее чем когда-либо: предполагали, что ему достанется то ли герцогство Ливонское, то ли греческое королевство Морея, то ли у Неаполя будут куплены два острова, Лампедуза и Линоза, и на них основан рыцарский орден — но самой вероятной версией оставалась Дакия.[872] На Молдавию Потемкин уже смотрел «как на собственное имение».[873]
В то время как господари Молдавии и Валахии в письмах из турецкого лагеря умоляли Потемкина о мире, он принял их роскошный образ жизни, управляя княжествами с помощью боярской думы и своего энергичного помощника Сергея Лашкарева.[874] И турки, и европейцы знали, что Потемкин хочет получить Молдавию. Бояре сами почти предлагали ему господарский престол.[875] В письмах они благодарили его за то, что он освободил их от тирании турок и «умоляли его не терять из вида интересы нашей скромной страны, которая всегда будет чтить [его] как освободителя».[876]
Светлейший начал выпускать собственную газету — «Le Courrier de Moldavie». Газета печаталась в его походной типографии, сообщала местные и европейские новости, проклинала французскую революцию и мягко пропагандировала идею независимого Румынскрго княжества под управлением Потемкина.[877] Некоторые даже уверяли, что он намерен создать отдельную молдавскую армию из отборных русских полков.
Светлейший жил во дворцах князей, Кантакузина либо Гики{92}, иногда переезжая в имение Чердак неподалеку от Ясс. Кроме племянниц и племянников, заведующего канцелярией Попова, садовника Гульда и архитектора Старова, его сопровождали: 10 механиков, 20 ювелиров, 23 ковроткалыцицы, 100 вышивальщиц, балетная труппа, хор из 300 человек и роговой оркестр под управлением Сарти из 200 человек. Сарти «положил на музыку победную песнь «Тебе Бога хвалим», и к оной музыке приложена была батарея из десяти пушек, которая по знакам стреляла в такт; когда же пели «свят! свет!», тогда производилась из оных орудий скорострельная пальба».[878] Отказались ехать только английские повара, так что светлейшему пришлось довольствоваться французскими. Впрочем, он получал горы английских деликатесов.
Петербургские красавицы устремлялись в Яссы развлекать светлейшего. У Потемкина завязался бурный роман с Прасковьей Потемкиной.
«Жизнь моя, душа общая со мной! — писал он ей. — Как мне изъяснить словами мою к тебе любовь, когда меня влечет непонятная к тебе сила, и потому я заключаю, что наши души сродные. Нет минуты, чтобы то, моя небесная красота, выходило у меня из мысли; сердце мое чувствует, как ты в нем присутствуешь [...] Ты дар Божий для меня [...] Моя любовь не безумной пылкостью означается, как бы буйное пьянство, но наполнена непрерывным нежнейшим чувствованием [...] Из твоих прелестей неописанных состоят мой экстаз, в котором я вижу тебя живо пред собой [...] Я тебе истину говорю, что только тогда существую, как вижу тебя, а мысли о тебе всегда заочно, тем только покоен. Ты не думай, чтоб сему одна красота твоя была побуждением или бы страсть моя к тебе возбуждалась необыкновенным пламенем; нет, душа, она следствием прилежного испытания твоего сердца и от тайной силы, и некоторой сродной наклонности, что симпатией называют. Рассматривая тебя, я нашел в тебе ангела, изображающего мою душу. Итак, ты — я; ты нераздельна со мной, я весел — когда ты весела, и сыт, когда сыта ты».[879]
Влюбившись, Потемкин готов был ради предмета своей страсти на все. В марте и апреле 1790 года он приказал Фалееву переименовать в честь своей возлюбленной два судна. «Алмазы и драгоценности с четырех концов света оттеняли ее прелести». Когда она хотела новых украшений, полковник Боур мчался в Париж; когда ей не хватало духов, майор Ламздорф летел во Флоренцию.[880]
Вот список покупок, сделанных во время одной из таких поездок, для Прасковьи Потемкиной или другой «султанши», в июле 1790 года. Курьером был майор Ламздорф. Когда он прибыл в Париж, русскому поел анику барону Симолияу пришлось бросить все дела. «Я посвятил все время выполнению дел, которые ваша светлость пожелала осуществить в Париже и помогал ему собственным советом и советами одной знакомой мне дамы [...] Мы приобрели только произведения последней моды:
Платья от модистки мадемуазель Госфит — 14333 ливров
платья от Анри Дерейе — 9488 ливров
отрез муслина из Индии, с вышивкой шелком и серебром (Анри Дерейе) — 2400 ливров
мадам Плюмфер — 724 ливров
продавцу рубинов — 1224 ливров
цветочнице — 826 ливров
за 4 корсета — 255 ливров
за 72 пары бальных туфель—446 ливров
вышивальщице за 12 пар бальных туфель — 288 ливров
за пару серег — 132 ливра
за 6 дюжин пар чулок — 648 ливров
рубины — 248 ливров
газ — 858 ливров
упаковщику Боке — 1200 ливров».[881]
Впрочем, курьеры отправлялись в Европу не только за платьями и деликатесами, но и собирали информацию для светлейшего.
Путешествие, во время которого были сделаны перечисленные выше покупки, стоило 44 тысячи ливров — примерно 2 тысячи фунтов стерлингов, — в то время, когда английский дворянин мог безбедно жить на 300 фунтов в течение года, а последняя сумма превышала годовое жалование русского фельдмаршала (7 тысяч рублей).
Такие поездки совершались довольно часто. Даже барону Гримму Потемкин посылал списки необходимых ему музыкальных инструментов, географических карт или женских платьев. Платить по счетам, однако, светлейший не спешил (так, в декабре 1788 года отчаявшийся Симолин взывал к Безбородко, умоляя его добиться уплаты Потемкиным счета за покупки на 32 тысячи ливров).[882]
Суммы, которые он тратил, подсчитать невозможно. Он был «невероятно богат и одновременно беден, — писал о нем де Линь. — Вместо того, чтобы регулярно платить по счетам, он предпочитал расточать и раздавать деньги». Массон констатировал: «Потемкин, правда, заимствовал деньги непосредственно из государственной казны, но он немало расходовал на нужды империи и был не только любовником Екатерины, но и великим правителем России». А Пушкин в цикле анекдотов «Table Talk» записал такой: «Потемкин послал однажды адъютанта взять из казенного места 100 ООО рублей. Чиновники не осмелились отпустить эту сумму без письменного вида Потемкин на другой стороне их отношения своеручно приписал: дать, е... м...».[883]
Говорили, что Екатерина приказала своему казначею рассматривать требования Потемкина как ее собственные, но это не совсем так. Нам неизвестно ни одного случая, когда Екатерина отказала бы Потемкину в просьбе о деньгах — и все же он должен был о них просить. Через его руки проходили огромные суммы на строительство городов и флота, на содержание армий, но легенды о растратах им казенных денег не подтверждаются документами, показывающими, как финансовые потоки, с одобрения императрицы, двигались, через генерал-прокурора Вяземского к Потемкину, потом к его помощникам, Фалееву, Попову или Цейтлину, к конкретным полкам и верфям. Некоторые суммы вовсе не доходили до светлейшего, а интересоваться небольшими деньгами он считал ниже своего достоинства, и Вяземский жаловался императрице, что не получает полного отчета. Однако скажем еще раз: не делая большой разницы между собственным и казенным кошельком, он часто тратил собственные средства на государственные надобности — часто в связи с тем, что требуемые деньги поступали из казны с большими задержками.
Потемкин делал колоссальные долги, чем мучил своего банкира Ричарда Сутерланда, который, впрочем, разбогател с его помощью, а потом стал банкиром императрицы и получил баронский титул. Банкиры и купцы вились вокруг светлейшего, как хищные птицы, наперебой предлагая товары и кредиты. Сутерланд пострадал больше всех. 13 сентября 1783 года он умолял Потемкина «соизволить распорядиться о выплате 167 029 рублей и шестидесяти копеек», потраченных на обустройство поселенцев. «Моя репутация, — взывал шотландец, которого осаждали кредиторы из Европы, — зависит от возврата этих денег». В 1788 году, когда князь был должен Сутерланду 500 тысяч рублей, банкир сообщил: он находится в «таком критическом состоянии», что вынужден «лично явиться к своему благодетелю, чтобы получить сумму, без которой не знает, как продолжать вести дела». Рукой Потемкина на прошении помечено: «Сказать, что получит 200 тысяч рублей».[884]
Только смерть светлейшего приоткрыла завесу над его финансовыми делами — но и тогда разобраться в них до конца не удалось. Как и императрица, он был частью государства, и состоянием его была вся империя.
Враги России, взволнованные потемкинскими победами, изо всех сил подстрекали Османов к продолжению войны. России теперь грозила еще война с Пруссией, Польшей, Англией и Швецией. Зиму 1789-го и большую часть следующего года Потемкин провел в переговорах с Портой. Поначалу казалось, что турки искренне желают мира. Султан Селим освободил русского посла из Семибашенного замка и поручил переговоры Газы Хасан-паше, новому великому визирю.
Прусская дипломатия тем временем стремилась привести в исполнение план, названный по имени его создателя, канцлера Герцберга: получить польские города Торн и Данциг при том, чтобы Австрия вернула Польше Галицию, а Россия Турции —«Дунайские княжества. Это требовало создания антироссийской коалиции, в которую, под предлогом возврата Крыма, предложили вступить султану Селиму. Швеции предложили Ригу и всю Ливонию. Австрии, союзнице России, пригрозили вторжением прусских,войск. Россия была вынуждена вывести войска из Польши. Только теперь, когда Речи Посполитой была предложена конституционная реформа и военный союз — в обмен на Торн и Данциг — польская шляхта поняла, что аппетиты Пруссии намного превосходят стремления ненавистной России. Выбора, однако, у поляков,не осталось. Англия поддержала Пруссию в требовании, чтобы Россия и Австрия заключили с Портой мир на условиях возврата завоеванных территорий. Не было и речи о том, чтобы воевать с турками дальше: Потемкину пришлось передислоцировать армию на случай нападения Польши или Пруссии. 24 декабря 1789 года Екатерина сказала своему секретарю: «Теперь мы в кризисе: или мир, или тройная война».[885]
Агентом Потемкина на переговорах с великим визирем был Иван Степанович Бароцци, грек, служивший России, Турции, Австрии и Пруссии одновременно.[886]
26 декабря 1789 года Бароцци привез в Шумлу условия Потемкина: новая граница проводится по Днестру; крепости Бендеры и Аккерман (Белгород Днестровский) разрушаются; дунайские княжества — Молдавия и Валахия — получают независимость от султана/ Архивы показывают, что русские предложения были обильно сдобрены подарками оттоманским чиновникам: упоминаются 16 колец, золотые часы, цепочки и табакерки, «кольцо с синим рубином и алмаз для первого секретаря турецкого посла Овни Эсфиру». Сам Бароцци получил «кольцо с большим изумрудом» — то ли для подарка, то ли для того, чтобы надевать во время переговоров с визирем.[887] Потемкин предложил даже построить мечеть в Москве. Однако, несмотря на блеск брильянтов, условия Потемкина «алжирскому пирату» не понравились. Газы Хасан-паша выставил встречные предложения, на что Потемкин отвечал 27 февраля: «Мои предложения коротки и не требуют многих истолкований». Перемирия не будет: «требование перемирия [...] показывает больше желания выиграть время, нежели сделать мир, и притом я очень знаю турецкие ухватки: они любят торговаться и протягивать время по их пословице, что турки за зайцами на фурах ездят. Я же лутче соглашусь быть побитым, нежели обманутым».[888]
Потемкин был прав, не доверяя полностью переговорам, которые вел Бароцци. От австрийцев и своих агентов в турецкой столице он знал, что султан Селим параллельно ведет негоциации с прусским посланником в Константинополе Генрихом Дицем. Если бы турки получили помощь от Пруссии и Польши, они смогли бы продолжать войну. К тому времени, когда Потемкин прислал свой ответ, султан уже подписал — 20 января 1790 года — соглашение о наступательном союзе с Пруссией. Фридрих Вильгельм обязался помочь Порте отвоевать Крым и объявить войну Екатерине.
В эти дни стремительно ухудшалось состояние здоровья австрийского императора. Туберкулез подорвал его силы. Когда окружающим стало казаться, что он выздоравливает, вдруг последовал абсцесс прямой кишки, потребовавший операции. Последние минуты Иосифа II были трагичны. «Кто-нибудь заплачет обо мне?» — спросил он. Ему отвечали, что принц де Линь не перестает рыдать. «Я не думал, что заслуживаю такой привязанности»,— ответил император. На своей могиле он предложил написать: «Здесь покоится государь, чьи намерения были чисты, но замыслы потерпели крах». Екатерина «много жалела о союзнике» своем, который «умирал, ненавидим всеми». Говорили, что, когда Иосиф испустил последний вздох — 9 (20) февраля 1790 года — Кауниц прошептал: «Это очень любезно с его стороны».[889]
Для России смерть Иосифа был тяжелым ударом. 18 (29) марта Пруссия подписала договор о военном альянсе с Польшей. Фридрих Вильгельм двинул 40 тысяч солдат на север, к Ливонии, и столько же— в сторону Силезии. Помимо этих армий у него имелось под ружьем еще 100 тысяч солдат. Новый глава габсбургского дома, брат Иосифа — Леопольд, немедленно написал Потемкину: «В лице моего брата вы потеряли друга, но в моем лице обрели нового, высоко почитающего ваш талант и благородство». Потемкин и Леопольд согласовали планы защиты Галиции от поляков — однако Леопольд больше всего опасался вторжения Пруссии, поддержанной Польшей. Он умолял Потемкина заключить мир.[890]
Тем временем в Варшаве возобладали так называемые «патриоты», поверившие в возможность создать новую, сильную конституцию, изгнать из страны русские войска и отобрать у Австрии Галицию. Опасность утратить контроль над Польшей угнетающе действовала и на Екатерину, и на Потемкина. Потемкин сообщил Леопольду, что, если начнется война с Пруссией и Польшей, он возглавит армию лично.[891]
У Потемкина был свой план усмирения Речи Посполитой. Он собирался возглавить казачье войско и поднять православное население Брацлавского, Киевского и Подольского воеводств (где находились его имения) против католического центра, как некогда сделал Богдан Хмельницкий. Поэтому, взяв Бендеры, он предложил Екатерине дать ему новый титул, наполненный особым историческим смыслом, — титул великого гетмана казацких войск.[892]
«План твой весьма хорош [...] — отвечала императрица. — Но от подписания меня удерживает только то одно, чего тебе самому отдаю на разрешение: не возбудит ли употребление сего названия в Польше безвремянного внимания Сейма и тревоги во вред делу?»[893] И все же в январе 1790 года она жаловала ему звание великого гетмана императорских Екатеринославских и Черноморских казачьих войск. Потемкин был в восторге и немедленно велел сшить себе щегольский гетманский мундир, в котором разъезжал по Яссам; впрочем, одновременно он «приказал сделать себе и мундир из солдатского сукна, дабы своим примером подать недостаточным офицерам не издерживать из малого своего жалованья на покупку тонкого сукна»; «в угождение его, все генералы сделали таковые мундиры, и так,, хотя приказа и не было, но почти все штаб- и обер-офицеры с удовольствием во всю войну одевались в куртки толстого сукна, как солдаты».[894] Он не забывал, что должен делить славу с императрицей. Она называла его «мой Великий Гетман», а он отвечал: «Конечно, твой. Могу похвалиться, что ничем, кроме тебя, никому не должен».[895]
Затем он потребовал заменить русского посла в Варшаве, Штакельберга, и предложил на этот пост Булгакова — совет, которому Екатерина последовала.[896] Она помнила, что в Польше у Потемкина собственные интересы и что его занимает идея создания независимого княжества. Он заверял ее: «Я тут себе ничего не хочу», — а что касается гетманского титула, то, «ежели б не польза Ваша требовала, принял ли бы в моем степени фантом, более смешной, нежели отличающий».[897] Всю весну он занимался формированием казачьего войска.
Узнав о провозглашении Потемкина гетманом, варшавские патриоты действительно пришли в ярость. С новой силой забурлили слухи о его видах на польский престол. В письме к Безбородко светлейший с негодованием отрицал, что имеет личные виды: «Простительно слабому Королю думать, что я хочу Ево места. По мне — черт тамо будь. И как не грех, ежели думают, что в других могу быть интересах, кроме Государственных».[898] Возможно, Потемкин говорил искренне: корона польского короля была дурацким колпаком. И, разумеется, он был убежден: то, что хорошо для него лично, полезно России.
Французская и польская революции изменили настроение екатерининского двора и внешнюю политику императрицы. Ее тревожило распространение идей французской революции, которые она называла «заразой» и которые стремилась подавить в собственном государстве. В мае 1790 года, когда Россия стала терять своего союзника Австрию, война со Швецией подходила к переломному моменту, а прусско-польский союз грозил открытием нового фронта, управляющий Петербургской таможней Александр Радищев опубликовал книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», в которой помимо того, что критиковал крепостное право и проповедовал гражданские свободы, допустил намеки на Потемкина и Екатерину. Радищев был арестован, обвинен в подстрекательстве к мятежу и оскорблении ее величества и приговорен к смерти.
Светлейший вступился за него. «Я прочитал присланную мне книгу. Не сержусь [...] Кажется, матушка! он и на Вас возводил какой-то поклеп. Верно и Вы не понегодуете. Ваши деяния — Ваш щит».[899] Благородная реакция Потемкина успокоила Екатерину. Она смягчила приговор: Радищев был лишен чинов и дворянства и сослан в Сибирь. «Сия Монаршая милость исходатайствована Князем Григорием Александровичем», — писал брат Радищева 17 мая 1791 года.[900]
Переговоры с великим визирем продолжались. Екатерина решила, что, ввиду альянса Порты с Пруссией, требование независимости для Молдавии чрезмерно, и Потемкин предложил, чтобы княжество было передано Польше в качестве «взятки», с целью снова склонить Речь Посполитую к России. Сам он при этом ничего не терял: Молдавия и в таком случае могла стать его княжеством.[901]
Султан Селим был настроен воевать, и переговоры Газы Хасан-паши с Потемкиным скоро потеряли смысл. «Алжирский пират» был слишком заметной и популярной фигурой, чтобы просто казнить его, и его смерть в марте 1790 года стала, вероятно, результатом отравления. Екатерину это волновало: «Поберегись, Христа ради, от своего турка. Дай Бог, чтоб я обманулась, но у меня в голове опасение: у них таковые штуки водятся, и сам пишешь, что Гассан-паша едва ли не отравлен, а сему пруссаки повод и, может быть, умысел дали, и от сих врагов всего ожидать надлежит, понеже злоба их паче всего личная противу меня, следовательно, и противу тебя, котораго более всего опасаются».[902] Тем временем в Молдавии турки нанесли поражение армии принца Кобурга. «Пошел как дурак, — негодовал Потемкин, — и разбит как шлюха».[903]
Поняв, что трактат с Портой обязывает его к войне против России, непоследовательный прусский король пришел в негодование, дезавуировал трактат и отозвал из Константинополя своего посланника Дица. Фридриха Вильгельма интересовала только возможность атаковать Австрию. В мае 1790 года он лично возглавил свою армию.
Новый глава габсбургского дома не выдержал этой угрозы — Леопольд отказался от намерений Иосифа II завоевать турецкие владения в Европе и начал переговоры с Пруссией. 16 (27) июля в Райхенбахе он принял требования Пруссии и Англии о немедленном перемирии с Турцией на условиях возврата завоеванных земель. Пруссия отпраздновала эту победу повышением ставок: Фридрих Вильгельм ратифицировал альянс с Турцией, подписанный Генрихом Дицем. Россия осталась одна, в состоянии холодной войны с Пруссией, Англией и Польшей — и действительной войны с Турцией и Швецией.
28 июня шведы при Роченсальме нанесли поражение российскому Балтийскому флоту, которым теперь командовал принц Нассау-Зиген. Русские потеряли 55 судов. Екатерина, не любившая дурных вестей, сообщила об этом Потемкину лишь спустя две с половиной недели. Впрочем, нет худа без добра — эта победа подвигла шведского короля на заключение мира. 3 (14) августа соглашение было подписано в Вереле. «Одну лапу мы из грязи вытащили, — писала Потемкину Екатерина. — Как вытащим другую, то пропоем Аллилуйя».[904]
Выход Австрии из войны с Портой временно снял угрозу нападения Пруссии на Россию. Потемкин и Екатерина понимали, что, пока Берлин и Лондон обдумывают следующий ход, можно попытаться ослабить позиции турок, укрепивших свои армии на Дунае и на Кавказе. «Я был в Николаеве, Херсоне и Очакове, все тамо, что нужно, рас-порядил и, уставши как собака, возвратился, зделав до тысячи верст, и двести 40 верст от Очакова в Бендеры перескакал в пятнадцать часов».[905] Флот должен был патрулировать по Черному морю, а армия — занять все крепости на Дунае. Флотилии под командованием Хосе де Рибаса, составленной из переоборудованных императорских галер, бентамовских канонерских лодок, запорожских чаек и марсельского торгового судна, превращенного в боевой корабль, предстояло подняться вверх по Дунаю и соединиться с армией под стенами Измаила — самой неприступной из турецких крепостей в Европе.
Летом Потемкин лично занялся подготовкой экипажа флотилии. Его инструкции, предвосхищавшие суворовскую «Науку побеждать», описывают еще неведомые другим европейским армиям штурмовые десантные соединения: «Всего нужнее сделать разбор верный людям и узнать, кто имеет способность цельно стрелять, кто легче в бегу и кто мастер плавать; все построения должны производиться отменно живо, разсыпаться и тотчас строиться [...] Приучать их бегать и влазить на высоты, переходить рвы и прочее [...] обучать скрываться и подкрадываться к неприятелю, чтоб схватывать его часовых. К таковым экзерцициям и офицеры приучены должны быть».[906] Кавказский и Кубанский корпуса получили приказ разбить 40-тысячную армию Батал-паши.
В августе князь Таврический установил свою штаб-квартиру в Бендерах, на Днестре, откуда было удобно руководить армиями и флотом, оставаясь в контакте с Петербургом, Веной и Варшавой.
Новая кампания — новая возлюбленная: отношения с Прасковьей Потемкиной, которая провела со светлейшим два года, кончились в Яссах, и он отправил ее в лагерь к мужу. Возможно, за этим последовал короткий роман с Екатериной Самойловой, женой его племянника; — той самой, за которой под Очаковом ухаживал Роже де Дама.
Но скоро место «султанши» заняла княгиня Екатерина Долгорукова. Ей только что исполнился 21 год, нее называли самой красивой женщиной в России. «Ее красота поразила меня, — писала художница Виже-Лебрен. — В ее чертах есть что-то греческое и еврейское, особенно в профиль».
Кроме петербургских красавиц, двор Потемкина оживляли французские эмигранты, бежавшие от революции и поступившие на русскую военную службу. У графа Александра де Ланжерона, ветерана американской войны за независимость, высокомерного французского аристократа, презиравшего примитивных русских, азиатский стиль жизни светлейшего вызывал такое отвращение, что он верил самым злым сплетням про него и охотно повторил их в своих записках. Ланжерон был отставлен Александром I после Аустерлицкого сражения, потом прощен и назначен генерал-губернатором южных провинций — должность, с которой он не смог справиться больше одного года, — и только после всех этих разочарований он признал гений Потемкина и воздал ему должное.
Вслед за Ланжероном явился его более одаренный соотечественник, 24-летний Арман дю Плесси, герцог Ришелье. Внучатый племянник кардинала Людовика XIII и внук фельдмаршала Людовика XV, он унаследовал от первого знание человеческого сердца, а от второго терпимость к чужим взглядам. О Потемкине Ришелье говорил, что для него нет ничего невозможного — «он правит землей от Кавказских гор до Дуная, разделяя с императрицей власть над остальной частью империи».[907]
При дворе Потемкина в Бендерах царила «азиатская роскошь»: «В те дни, когда не было бала, общество проводило вечера в диванной. Мебель здесь была покрыта турецкой розовой материей, затканной серебром, на полу лежал златотканый ковер. На роскошном столе стояла курильница филигранной работы, распространявшая аравийские ароматы. Разносили чай нескольких сортов. Князь был обычно одет в кафтан, отороченный соболем, со звездами св. Георгия и Андреевской, украшенной бриллиантами». Рядом с Потемкиным почти все время находилась княгиня Долгорукова — на ней «был костюм, напоминавший одежду султанской фаворитки — недоставало только шаровар».[908]
Ужины происходили «в роскошной зале»: «кушанья разносили рослые кирасиры в черных меховых шапках с султанами и в посеребренных перевязях. Они шли по двое» — как стража в представлениях трагедий. «Во время ужина прекрасный роговой оркестр из пятидесяти инструментов, под управлением Сарти, исполнял лучшие пьесы. Все было великолепно и величественно».[909]
Среди собравшихся в гостиной Потемкина «можно было видеть восточного принца, лишенного трона и три года проведшего в передних комнатах князя, другого принца, ставшего казачьим полковником, ренегата-пашу, македонского и персидского послов».[910] Разумеется, подобные картины сами просились на полотно. «Мне доставило бы удовольствие иметь хороших живописцев, которые работали бы здесь под моим наблюдением», — писал Потемкин Кауницу в Вену.[911]
«В военном лагере, — отметил Ришелье, — князя сопровождает все, что услаждает жителей столичных городов». В самом деле, ужины, музыкальные вечера, карточная игра, ухаживанья, любовные интриги — все было как в Петербурге. Роскошь, которой он окружил Долгорукову, «превосходила все, что мы знаем по сказкам 1001 ночи.[912] Как-то раз она сказала, что любит цыганскую пляску. Потемкин немедленно вызвал из Кавказского корпуса двух ротмистров, которые, как он слышал, были «мастера плясать по-цыгански»: «когда их привезли, одели одного из них цыганкою, а другого цыганом, — вспоминал адъютант Потемкина Лев Энгельгардт, — я лучшей пляски в жизни моей не видывал. Так поплясали они недели с две и отпущены были в свои полки на Кавказ».[913]
Князь решил построить для своей возлюбленной подземный дворец, и два полка гренадер работали над новой резиденцией две недели. Интерьер украсили греческими колоннами и бархатными диванами. В подземном дворце Долгоруковой имелась целая анфилада комнат, а в гостиной — хоры для музыкантов (чуть приглушенный звук инструментов производил особое впечатление на слушателей). Во время обеда в честь дня рождения княгини, когда подали десерт, дамы вместо конфет получили стеклянные вазочки, наполненные брильянтами.
Игнорируя правила светских приличий, «оживляемый страстью и уверенный в своей абсолютной власти», Потемкин иногда забывал о присутствии гостей и оказывал княгине, словно безродной куртизанке, «чрезмерно вольные» знаки внимания.[914]
Муж Долгоруковой, князь Василий Васильевич, роптать не смел. Ланжерон вспоминал, как однажды светлейший схватил князя за ворот и закричал: «Всеми своими орденами ты, несчастный, обязан мне одному!» Эта сцена, по словам француза, «вызвала бы немалое удивление в Париже, Лондоне или Вене».[915] Вероятно, именно к роману с Долгоруковой относится эпизод, записанный Пушкиным как случившийся с некой графиней двумя годами раньше: «Князь Потемкин во время очаковского похода влюблен был в графиню ***. Добившись свидания и находясь с нею наедине в своей ставке, он вдруг дернул за звонок, и пушки кругом всего лагеря загремели. Муж графини ***, человек острый и безнравственный, узнав о причине пальбы, сказал, пожимая плечами: «Экое кири куку!»[916]
К тому же самому времени относятся документы, из которых видно, что Потемкин следил за строительством городов, входя в такие подробности, как, например, форма колоколов собора в Николаеве, положение фонтанов и расположение батарей вокруг Адмиралтейства; контролировал строительство канонерских лодок и линейных кораблей на Ингульской верфи; разрабатывал новую сигнальную систему для кораблей и организовывал обучение морских артиллеристов.
Он наконец договорился с княгиней Любомирской об уступке ей имения Дубровна в качестве частичной уплаты за Смилу. Он посылал инструкции русским послам в Варшаве — Штакельбергу, а затем сменившему его Булгакову, — изучал секретные депеши барона Аша о польской революции, рассматривал жалобы короля Станислава Августа на казаков, угоняющих из Польши лошадей, и вел переговоры с пророссийски настроенными польскими магнатами. Он продолжал реформировать армию и совершенствовать ее снаряжение, усиливая легкую кавалерию и выдвигая на командные должности казаков, старообрядцев и иностранцев, что вызывало ярость аристократов-гвардейцев.
Польша тем временем вооружалась. «Буде совершит договор свой с Портою и пристрастие окажет на деле с Королем Прусским, ежели он решится противу нас действовать, в то время должно будет приступить к твоему плану», — писала Екатерина Потемкину.[917] Хуже всего было то, что англичане и пруссаки готовились к войне всерьез.
Польские патриоты без умолку кричали о его королевских амбициях. С 1789 года на сейме предпринимались попытки лишить его польского дворянства и конфисковать польские имения. Жалуясь императрице на судебные тяжбы, в которые его вовлекают польские власти, он просил у нее поместье в Екатеринославской губернии: «Довольно я имел, но нет места, где б приятно мог я голову приклонить». Государыня пожаловала ему имение и перстень на именины.[918]
Потемкин предпринял еще одну попытку договориться с турками, но становилось все яснее, что действовать можно только силой. «Наскучили уже турецкие басни, — писал светлейший находившемуся при визире Лашкареву 7 сентября. — Мои инструкции: или мир, или война. Вы им изъясните, что коли мириться, то скорее, иначе буду их бить».[919]
В марте Потемкин принял на себя командование Черноморским флотом, назначив контр-адмиралом Федора Федоровича Ушакова. Это был блестящий выбор. В первых же боях Ушаков одержал над турками две победы, 8 июля в Керченском проливе и 28-29 августа при острове Тендра, где разбил корабль адмирала, трехбунчужного паши Саит-бея, «лутчего у них морского начальника». «На Севере Вы умножили флот, — напоминает Потемкин Екатерине, — а здесь из ничего сотворили. Ты беспрекословно основательница, люби, матушка, свое дитя, которое усердно тебе служит и не делает стыда». Она отвечала: «Я всегда отменным оком взирала на все флотские вообще дела. Успехи же оного меня всегда более обрадовали, нежели самые сухопутные, понеже к сим изстари Россия привыкла, а о морских Ея подвигах лишь в мое царствование прямо слышно стало [...] Черноморский же флот есть наше заведение собственное, следственно, сердцу близко».[920] Гребная флотилия под начальством Рибаса и флотилия черноморских казаков под командованием Головатого получили приказ идти к устью Дуная, под прикрытием парусников, и прорваться в реку. Сам главнокомандующий поспешил в Николаев и Крым осмотреть суда и приказал армии выступать к Дунаю.
Хорошая весть пришла с другого конца Черноморского побережья: 30 сентября генерал Герман разбил на берегах Кубани 25-тысячную армию Батал-паши. «Мы не потеряли и сорока человек!» — радостно сообщал Потемкин.[921]18 октября пала крепость Килия на Дунае, а через два дня флотилия Рибаса захватила крепости Тульча и Исакча. Турецкая флотилия на Дунае прекратила существование. К середине ноября весь нижний Дунай, от устья до Галаца, был в руках русских, кроме могучей, по-европейски укрепленной твердыни — крепости Измаил.
30. ИЗМАИЛ
Все то, что леденит и мысль и тело Глухих легенд причудливая тьма, Что даже бред рисует нам несмело, На что способен черт, сойдя с ума; Все ужасы, которые не смела Изобразить фантазия сама, — Все силы ада здесь кипели страстью... Байрон. Дон Жуан. VIII: 123. Пер. Т. Гнедич23 ноября 1790 года тридцатитысячное русское войско под командованием Ивана 1Удовича, Павла Потемкина и Александра Самойлова и флотилия под начальством Хосе де Рибаса, подошли к Измаилу. Погода стояла холодная, армии грозил голод. Только бесстрашный Рибас был готов к штурму, трое других генералов ссорились между собой и медлили. Ни один из них не имел достаточного авторитета в войсках, чтобы повести их на приступ. Измаил, построенный на естественном уступе скалы, защищался 265 пушками и гарнизоном из 35 тысяч солдат, то есть целой армией. С одной стороны крепость защищала полукруглая стена огромной толщины, глубокие рвы, сообщающиеся между собой башни и редуты, а с другой — Дунай. Фортификации были усовершенствованы французскими и немецкими инженерами.
Потемкин остался в Бендерах. Он продолжал вести прежний образ жизни. Постепенно остывая к Долгоруковой, он приблизил к себе Софию де Витт.
Никто не знал, что 25 ноября Потемкин послал Суворову, стоявшему со своим корпусом под Браиловом, секретный приказ — возглавить штурм Измаила: «Сторона города к воде очищена, остается предпринять с помощью Божиею на овладение города. Для сего, Ваше Сиятельство, извольте поспешить туда для принятия всех частей в вашу команду». И в тот же день: «Много там равночинных генералов, а из того выходит всегда некоторый род сейма нерешительного. Рибас будет вам во всем на помогу и по предприимчивости и усердию; будешь доволен и Кутузовым».[922]
В тот же день, когда Потемкин вызвал Суворова, 25 ноября, под Измаилом состоялся военный совет. Рибас настаивал на штурме, остальные колебались. Гудович отдал приказ отводить войска.
Тем временем Потемкин продолжал изображать беззаботность, никому не сообщая, что командование поручено Суворову. Есть рассказ о том, как в один из этих дней он играл в карты со своим «гаремом», когда София де Витт предложила прочесть линии на его руке и сказала, что Измаил падет через три недели. Потемкин рассмеялся и, будто эта мысль только сейчас пришла ему в голову, объявил, что у него есть надежный способ обеспечить победу: вызвать Суворова.
Получив рапорт Гудовича об отступлении из-под Измаила, светлейший саркастически отвечал ему: «...вижу я трактование пространное о действиях на Измаил , но не нахожу тут вредных для неприятеля положений. Канонада по городу, сколько бы она сильна ни была, не может сделать большого вреда. А как Ваше Превосходительство не примечаете, чтоб неприятель в робость приведен был, то я считаю, что сего и приметить невозможно. Конечно, не усмотрели Вы оное в Килии до самой ея сдачи, и я не приметил также никакой трусости в Очакове до самого штурма. Теперь остается ожидать благополучного успеха от крайних средств, которых исполнение возложено от меня на Г[осподина] Генерал-Аншефа и Кавалера Графа Александра Васильевича Суворова Рымникскаго».[923]
Прибыв 2 декабря под Измаил, Суворов перестроил артиллерийские батареи, приказал готовить осадные материалы — сколачивать лестницы для штурма и вязать фашины для забрасывания рвов; начал тренировать солдат взбираться на стены. Впрочем, ни Потемкин, ни Суворов не были уверены в успехе: «Крепость без слабых мест, — писал последний. — Полевая артиллерия имеет снарядов только один комплект. Обещать нельзя, Божий гнев и милость зависят от его провидения».[924]
7 декабря к крепости отправился трубач с ультиматумом Потемкина и Суворова: сераскиру Измаила давалось 24 часа на размышление. «Если будете вы продолжать бесполезное упорство, — говорилось в письме главнокомандующего, — то с городом последует судьба Очакова и тогда кровь невинная жен и младенцев останется на вашем ответе».[925] Турки ответили парадом на стенах крепости. Сераскир Мегмет-паша попросил десятидневную отсрочку, чтобы связаться с великим визирем. «Получа Вашего Превосходительства ответ, — писал ему Суворов 9 декабря,— на требование согласиться никак не могу, а против моего обыкновения еще даю вам сроку день до будущего утра на размышление». В тот же день состоялся военный совет. Суворов приказал штурмовать со всех сторон — шестью колоннами с суши и четырьмя с Дуная. «Завтра, — объявил он, — либо нас, либо турок похоронят в Измаиле».[926] Сераскир написал: «Дунай остановит свое течение и небо упадет на землю, прежде чем падет Измаил».[927]
В З часа ночи 11 декабря небо в самом деле стало падать на землю. После массированной бомбардировки крепости сигнальная ракета возвестила о начале штурма. Турецкие пушки отвечали свирепым огнем. Над стенами взвивалось пламя, Измаил являл собой «ужасное и захватывающее зрелище», — вспоминал Ланжерон.[928] Граф де Дама, во главе одной из колонн, атаковавших со стороны Дуная, одним из первых поднялся на стены: сторона крепости, обращенная к реке, действительно оказалась слабейшей. Со стороны суши в город прорвались две колонны, но отряд Кутузова дважды был отброшен назад. Говорили, что Суворов послал Кутузову записку — поздравление со взятием Измаила и обещание добыть для него пост губернатора города. С третьей попытки Кутузов пробился за стены. К рассвету все колонны поднялись на крепостной вал, но не все еще проникли в город. Наконец они ворвались в Измаил «как взбесившийся горный поток». Рукопашный бой между 60 тысячами солдат достиг кровавого апогея, и даже к полудню исход битвы не определился.[929] Измаил являл собой картину дантова ада.
Через некоторое время турки все же начали слабеть. Русские с криками «Ура!» и «Да здравствует Екатерина!» ринулись уничтожать все живое. «Началась ужасная бойня, — вспоминал граф де Дама. — Сточные канавы окрасились в красный цвет. Не щадили ни женщин, ни детей».[930]
Из подземных конюшен вырвались 4 тысячи лошадей и носились, топча живых, мертвых и раненых, пока их также не перебили. Сераскир с 4 тысячами солдат защищал последний бастион под развивающимся зеленым флагом. Английский моряк на русской службе попытался взять сераскира в плен и застрелил его. Англичанина пронзили полтора десятка штыков.
«Не буду даже пытаться изобразить этот ужас, при воспоминании о котором кровь до сих пор стынет в жилах», — вспоминал Ришелье. Ему удалось спасти десятилетнюю девочку, лежавшую возле четырех женщин с перерезанными горлами. Двое казаков собирались убить и ее. Ришелье схватил девочку за руку и обнаружил, что «маленькая пленница не имеет ни одной раны, кроме царапины, вероятно, от сабли, зарубившей ее мать».[931] Татарский князь Каплан-Гйрей и пятеро его сыновей, гордые потомки Чингисхана, стояли на своем бастионе до конца. Отец пал последним, окруженный телами сыновей.
Обезумевшие от крови казаки надевали на себя одежду своих жертв. Из разграбленных лавок неслись ароматы восточных специй. Побоище продолжалось до четырех часов дня.
Так была завоевана одна из главных крепостей Оттоманской империи. В один день погибло почти 40 тысяч человек. «Нет крепчей крепости, ни отчаяннее обороны, как Измаил, падший пред Высочайшим троном Ея Императорского Величества кровопролитным штурмом! Нижайше поздравляю Вашу Светлость», — рапортовал Суворов Потемкину в тот же день.[932]
Получив известие о взятии Измаила, Потемкин приказал салютовать из пушек. Он собирался сам приехать в захваченную крепость, но заболел и вместо себя отправил Попова.
Потемкин и Екатерина надеялись, что грандиозное поражение подтолкнет турок к скорому заключению мира на выгодных для России условиях.
Существует легенда о том, что, приехав через двенадцать дней после измаильской победы в Яссы, Суворов на вопрос Потемкина: «Чем могу я вас наградить за ваши заслуги?» — отвечал: «Нет! Ваша Светлость! Я не купец и не торговаться с вами приехал. Меня наградить, кроме Бога и Всемилостивейшей Государыни, никто не может!»[933] Этот эпизод пересказан многими историками, повторявшими миф о зависти Потемкина к успехам Суворова. Однако никто из потемкинского окружения, даже желчный Ланжерон, не вспоминает ни о встрече с Суворовым, ни о каких-либо трениях между светлейшим и героем Измаила. Переписка Потемкина и Суворова в этот период свидетельствует, что оба высказывали друг другу взаимное восхищение. Скорее всего они встретились после взятия Измаила только в феврале 1791 года — в Петербурге, когда оба, почти одновременно, прибыли в столицу. И здесь Потемкин продолжал расхваливать Суворова и хлопотать о милостях для него.[934]
Потемкин жаждал явиться в Петербург — он одержал победы «на пространстве, почти четверть глобуса составляющем». Он сам заявлял, что не берет на себя «ни знания, ни хитрости, искусству принадлежащей», но действия его войск произведены были «везде с успехом и предусмотрением, а движения были скрыты так, что и свои обманулись, не только чужие. [...] Убегая быть спесиву, следуя Вашему матернему совету после прошлой кампании, — писал он Екатерине, — должен ныне еще более смириться, поелику кампания сия несравненно знаменитей и редкая или, лутче сказать, безпримерная. Евгений, Король Прусский и другие увенчанные герои{93} много бы таковою хвастали, но я, не ощущая в себе качеств, герою принадлежащих, похвалюсь только теми, которые составляют мой характер сердечный: это безпредельным моим усердием к Вам [...] Я тем похвалюсь, чем никто другой не может: по принадлежности моей к тебе все мои добрые успехи лично принадлежат тебе». Он не был в Петербурге почти два года и просил у императрицы разрешения вернуться. «Крайне нужно мне побывать на малое время у Вас и весьма нужно, ибо описать всего невозможно».[935]
Она соглашалась, что «на словах говорить и писать, конечно, разнится», но находила его приезд несвоевременным.[936] Такую реакцию Екатерины часто объясняли немилостью к Потемкину и опасением, что, вернувшись в столицу, он будет стараться сместить Зубова. Напряжение между ними действительно возникло, но по другому поводу. Екатерина, вопреки настояниям светлейшего, упрямо не желала смягчать отношения с прусским королем. Потемкина же волновало то, что его враги в столице интригуют против него, раздувая слухи о его претензиях на польский трон.
Екатерина продолжала делать Потемкину подарки и снова выкупила Таврический дворец за 460 тысяч рублей, чтобы заплатить его долги. Но он с изумлением обнаружил, что алмазы на присланной ему Андреевской звезде — поддельные.[937] Она попросила его подождать несколько недель, чтобы не упустить возможность подписать мир с турками — после измаильского потрясения можно было ожидать, что султан наконец на это пойдет.
Приехать в Петербург Потемкину помогли Англия и Пруссия, создавшие так называемый Очаковский кризис.
Еще до падения Измаила Англия и Пруссия рассчитывали свести на нет территориальные приобретения России. Антироссийскую коалицию возглавляла Пруссия и только непоследовательность и нерешительность Фридриха Вильгельма не позволила союзникам нанести России серьезного вреда. Теперь Англия, освободившись от недавнего кризиса в отношениях с Испанией, взяла дело противостояния России в свои руки, преследуя и коммерческие, и политические цели.
Отношения Англии с Россией испортились со времени екатерининского «вооруженного нейтралитета» и после прекращения торгового трактата в 1786 году (в следующем году Россия подписала торговое соглашение с Францией). Не желая зависеть от русских морских поставок, Англия стремилась к расширению коммерческих связей с Польшей. Опасались в Лондоне и роста российского влияния на Юго-Восточную Европу, особенно после взятия Измаила, когда ближайшей перспективой стал победный мир русских с турками. Премьер-министр Уильям Питт предложил создать «федеративную систему» — заключить союз с Польшей и Пруссией, а также несколькими другими государствами, чтобы принудить Петербург отказаться от территорий, завоеванных в ходе второй русско-турецкой войны. Если Россия отказалась бы вернуть Османам Очаков и другие приобретения, британский королевский флот должен был атаковать ее на море, а Пруссия на суше.[938]
В условиях, когда Англия снаряжала экспедицию на Балтику, чтобы бомбардировать Петербург, оставалось немного шансов, что султан Селим подпишет мир с Россией. Он только что казнил великого визиря, назначил на этот пост воинственного Юсуф-пашу и собрал новую армию. Англичане и пруссаки подготовили ультиматум, армии и боевые корабли.
Теперь Потемкин срочно потребовался в Петербурге.
10 февраля 1791 года он выехал из Ясс. Отправляясь в столицу, он, по некоторым рассказам, говорил, что «нездоров и едет в столицу зубы дергать», то есть бороться с фаворитом государыни Платоном Зубовым, но думается, в разгар Очаковского кризиса у него имелись более серьезные заботы. В Петербурге на этот раз его ждали с особым трепетом. «Все министры в панике, — доносил шведский посланник граф Стединг Густаву III. — Все в волнении перед появлением этого сверхъестественного человека. Никто не осмеливается принимать решений до его приезда».[939]
— Ваше величество, — спросил Стединг на одном из приемов императрицу, — надо ли верить слуху, что князь Потемкин привезет с собой мир?
— Это возможно, — отвечала Екатерина, и добавила, что светлейший — большой оригинал и она позволяет ему делать все, что он хочет. — Он любит делать мне сюрпризы, — заключила императрица.
Навстречу светлейшему отправили дворцовую карету, по ночам дороги освещали факелами в течение недели. Граф Брюс во главе делегации ждал его на одной из станций на Московском тракте, не осмеливаясь даже раздеться на ночь. Чтобы заранее обсудить с Потемкиным политические дела, встречать его выехал и Безбородко.[940]
Тем временем как Фридрих Вильгельм собрал в Восточной Пруссии 88-тысячное войско, а лорд Хоуд снарядил в Спитхеде 36 линейных и 29 вспомогательных судов, князь Таврический вез в Петербург новую любовницу и готовился дать самый необычайный в истории России бал.
Часть восьмая: ПОСЛЕДНИЙ ГОД (1791)
31. ОЧАКОВСКИЙ КРИЗИС
Во-первых, старайся испытать, не трус ли ты;
если нет, то укрепляй врожденную смелость
частым обхождением с неприятелем.
Наставление Потемкина его племяннику Н.Н. Раевскому
Когда 28 февраля 1791 года Потемкин въехал в Петербург по дороге, освещенной сотнями факелов, императрица сама поспешила ему навстречу. Она снова подарила ему Таврический дворец, который за два месяца до этого выкупила в казну.
«Хотя все давно ждали этого события, хотя я очень много слышал о власти и влиянии этого человека, но то возбуждение, которое охватило общество, та торжественность, с какой его встречают, потрясли меня, — писал шведский дипломат Ян-Якоб Йеннингс. — С тех пор, как он приехал, нет иной темы для разговоров. Что делает князь, что будет делать? Где обедал, где обедает, где будет обедать? Аристократы, купцы, писатели — все столпились у его дверей и заполонили его приемные».[941]
«Авторитет князя Таврического высок, как никогда прежде, — отмечал Стединг. — Все, что блистало до его появления, померкло; вся Россия пала к его ногам». Им восхищались — и ему завидовали. Дамы носили его портрет в медальонах. На вечерах исполняли написанную к его приезду «Оду Потемкину».[942]
Придворные — Николай Салтыков, Завадовский, Иван Чернышев, Безбородко, Остерман, Строганов, Брюс — соревновались в пышности балов в честь победителя. Публика терялась в догадках о том, кто же новая любовница светлейшего. Придворные готовили балы в честь княгини Долгоруковой — как вдруг заметили, что он почти не посещает ее. Она сказалась больной, но Потемкин так к ней и не приехал, и через некоторое время она уехала в Москву.[943] 18 марта принц Нассау-Зиген дал обед, на котором подавали любимые блюда князя — осетрину и стерлядь. На этом вечере светлейший, явившись в усыпанном алмазами мундире великого гетмана, преподнес гостям еще один деликатес — Софию де Витт.
Ее появление на балу Нассау стало «величайшей сенсацией», записал Йеннингс. Окончив карточную игру, Потемкин говорил с ней одной, а гости смотрели на них во все глаза: «женщины с раздражением и любопытством, мужчины с вожделением и восхищением».[944]
25-летняя гречанка София де Витт, с белокурыми кудрями, голубыми глазами и благородным профилем, была «самой очаровательной женщиной Европы тех лет». Она была родом из Стамбула. Когда ей исполнилось двенадцать лет, ее мать, торговка зеленью, продала ее польскому послу, поставлявшему красавиц Станиславу Августу, а ее сестру — одному из турецких пашей. Скоро красавицу заметил майор де Витт, сын губернатора польской крепости Каменец-Подольск, и, купив ее за 1000 дукатов, женился на ней в 1779 году. Витт послал ее в Париж с принцессой Нассау-Зиген обучаться хорошим манерам и французскому языку.
«Прекрасная гречанка» околдовала столицу Европы. Ланжерон видел ее в Париже и восхищался «самыми нежными и восхитительными глазами, какие когда-либо создавала природа», но вряд ли заблуждался относительно ее хитрости и холодного сердца.[945] «Наивность и невежественность, вероятно, напускные» лишь усиливали ее очарование. Весь Париж восхищался ее прекрасными глазами. Когда ее спрашивали, как она себя чувствует, она отвечала: «Мои прекрасные глаза болят», — чем приводила общество в восторг.[946] Хосе де Рибас обратил на нее внимание и представил Потемкину под Очаковом. В Яссах и в Бендерах ее видели в греческом костюме. Сначала она стала конфиденткой Долгоруковой, — а затем заняла ее место. Потемкин назначил ее мужа губернатором Херсона.
Императрица преподнесла г-же де Витт алмазные серьги. Ее супруг заявлял, что она войдет в историю как друг царского дома и добавлял: «Князь не любовник моей жены, а просто друг, потому что если бы он стал ее любовником, я прервал бы с ним всякие отношения». «Вы единственная женщина, — говорил ей Потемкин, — которая удивляет меня». Она отвечала: «Я это знаю. Если бы я была вашей любовницей, вы быстро бросили бы меня, а вашим другом я останусь навсегда». Разумеется, никто этому не верил, но скоро все стали замечать, что Потемкин теряет к ней интерес.[947]
Чтобы отметить взятие Измаила и выразить свое презрение к планам англо-прусской коалиции, светлейший решил дать праздник. Говорили, что он ведет переговоры о субсидий, которая Россия предоставит Густаву III. Англия также предлагала Швеции 200 тысяч фунтов за возможность использования шведских портов во время будущей войны против России. Но было ясно, что цена упадет, лишь только будет преодолен Очаковский кризис. Поэтому Потемкин, с одной стороны, затягивал переговоры с шведским посланником, а с другой — на случай военных действий отправил Суворова инспектировать войска на шведской границе.
Шведскому посланнику Стедингу казалось, что Потемкина занимают только бриллианты. Он в изобилии украшал ими свой мундир, рассматривал их, любовался алмазами на портрете Екатерины, который носил на груди. Он привез шведа в Таврический дворец, провел его через пятьдесят зал, заставил «все рассмотреть и всем восхититься, потом усадил в свою карету, рассуждая только о себе самом, о Крыме и Черноморском флоте». Стединг присутствовал на многочисленных репетициях праздника. Двести музыкантов, помещенных на хорах в большом зале, играли для двоих слушателей: для светлейшего и Стединга. Потом сотня танцоров исполняла кадриль. Репетиции начинались в 3 часа дня и заканчивались в 9 часов вечера, «и не было ни единого мгновения, когда бы я мог обратить внимание князя на шведские дела. Вот какой человек, — заканчивал Стединг депешу своему королю, — управляет этой империей».[948] Потемкин говорил всем и каждому, что иностранные дела его не волнуют, а он думает теперь только о предстоящем празднике.[949]
Политикой Потемкин занимался в покоях императрицы. Не видевшись два года, они снова пытались найти общий язык в поисках предотвращения войны. 16 (27) марта Уильям Питг отправил через Берлин в Петербург ультиматум. Это было резким шагом со стороны обычно осторожного премьер-министра, но 39 английских боевых кораблей и 88 тысяч прусского войска казались серьезным аргументом. Императрица заявила, что ни за что не поддастся на угрозы.
Пытаясь найти выход из западни, Потемкин и Екатерина обратились даже к самому влиятельному в тот момент деятелю ненавистной им революционной Франции — графу Мирабо. Потемкин считал, что «Франция с ума сошла», Екатерина говорила, что Мирабо должен быть повешен, причем не на одной, а на многих виселицах сразу, а потом колесован — и тем не менее кажется логичным, что Потемкин вступил в контакт с человеком, не уступавшим ему масштабом личности и экстравагантностью{94}. Князь платил крупные взятки «Мирабобче», как он называл французского трибуна, пытаясь убедить Францию присоединиться к России в противостоянии Англии. Хотя Мирабо был сторонником союза с Лондоном, русские деньги были приняты, но союз с Францией не состоялся — 2 апреля (19 марта) 1791 года Мирабо умер.[950]
Потемкин знал, что Россия не сможет сражаться с Англией, Пруссией, Швецией, Польшей и Турцией одновременно. Поэтому, готовя армию к новой войне и размещая корпуса на Двине и под Киевом, чтобы двигать их через Польшу к Пруссии, он был готов торговаться с Фридрихом Вильгельмом за свободу действий в отношении турок и поляков. Но Екатерина не желала идти на уступки. Стединг считал, что ее величество тайно завидует светлейшему. Возможно, он сделал этот вывод из ее слов — однажды она сказала, что Потемкин делает то, «что она ему позволяет». Шведский посланник сообщал: «императрица уже не та, что прежде [...] Возраст и болезни притупили остроту ее ума и суждения». Теперь стало легче обмануть ее, взывая к ее тщеславию. «Что вы хотите? Она женщина, а женщиной нужно управлять», — так, по словам Стединга, говорил ему о Екатерине Потемкин.[951]
Но дело было вовсе не в личных отношениях Потемкина с императрицей. Она глубоко переживала, потому что их взгляды на политическую ситуацию разошлись так, как никогда прежде. Потемкин сердился, ибо ее гордое упрямство угрожало судьбе всего, что было создано их общими усилиями.
Мешал светлейшему и Платон Зубов, все сильнее интриговавший против него. «Князь сердит на Мамонова, зачем, обещав, его не дождался и оставил свое место глупым образом».[952] Политик никогда не бывает так уязвим, как в моменты, когда он достигает вершины могущества, потому что это сплачивает его врагов. Зубова поддерживал Николай Салтыков, руководивший воспитанием молодых великих князей — Александра и Константина, а Салтыкова, в свою очередь, поддерживал великий князь Павел, состоявший в тайной переписке с прусским королем.[953]
Сказанные много лет назад слова Екатерины: «мы ссоримся о власти, а не о любви», — были теперь верны, как никогда. Если убеждение не помогало, Потемкин пытался заставить ее изменить мнение. Екатерина плакала. Ее отказ сделать дружественный жест в адрес державы, готовой вторгнуться в обессиленную Россию, был совершенно неразумен, тем более, что Потемкин не настаивал на том, чтобы делать действительные уступки Фридриху Вильгельму, а всего лишь предлагал отвлечь его до тех пор, пока будет заключен мир с Турцией.
«Захар Зотов{95} из разговора с князем узнал, что, упрямясь, ничьих советов не слушают, — записал секретарь императрицы. — Он намерен браниться. Плачет с досады, не хочет снизойти и переписаться с Королем Прусским».[954] Если бы война стала неизбежной, Потемкин, конечно, защищал бы свои турецкие завоевания, а от Пруссии откупился бы разделом Польши. Но раздел, который бы разрушил его собственные виды на Польшу, был для него последним выходом.[955]
Екатерина II Потемкин спорили целыми днями. 22 марта ее секретарь записал: «Нездоровы, лежат; спазмы и сильное колотье с занятием духа. Князь советует лечиться; не хотят, полагаясь на натуру». На следующий день: «Продолжение слабости [...]. Всем скучает. Малое внимание к делам».
Десятилетний Федор Секретарев, сын камердинера Потемкина, стал свидетелем одной из сцен между Потемкиным и Екатериной. Князь стукнул кулаком по столу и хлопнул дверью так, что задрожали стекла. Екатерина заплакала, потом заметила испуганного мальчика: «Пойди посмотри, как он?» Федя отправился в покои Потемкина и застал его в мрачном раздумье. «Это она тебя послала? — спросил он. — Пусть поревет». Но через несколько минут встал и пошел мириться. [956]
В апреле противостояние продолжилось. «Разные перебежки, — читаем в дневнике Храповицкого 7-го числа. — Досада. Упрямство доводит до новой войны». Но через два дня Екатерина наконец сдалась: «Сего утра князь с графом Безбородком составили какую-то записку для отклонения от войны. [...] Князь говорил Захару: как рекрутам драться с англичанами. Разве не наскучила здесь шведская пальба?»[957] Екатерина согласилась возобновить старый трактат с Пруссией и помочь ей получить у Польши Торн и Данциг. Но все же подготовка к войне продолжалась. «Обещаю вам, — писала Екатерина своему постоянному корреспонденту доктору Циммерману в Гамбург, специально отправив письмо через Берлин, — что вы будете иметь обо мне известие, если на меня нападут с моря или с сухого пути, и ни в каком случае не услышите, что я согласилась на те постыдные уступки, которые неприятель позволит себе предписать мне».[958]
Потемкин и Екатерина не знали, что коалиция вот-вот распадется. 29 (18) марта лидер английской оппозиции Чарльз Джеймс Фокс произнес в парламенте пламенную речь, доказав, что Англии нечего защищать под Очаковом, а Эдмунд Берк назвал Питта покровителем турок, «орды азиатских варваров». Русский посланник Семен Воронцов развернул широкую кампанию в английской прессе и объединил купцов от Лидса до Лондона, убедив их в пагубности войны с Россией. Чернила и бумага оказались сильнее прусской стали и английского пороха. Протестовали даже моряки. Адмирал Нельсон спрашивал: «Как мы будем противостоять флоту русской императрицы? Моря, неудобные для судоходства, и отсутствие дружественных портов — плохие помощники!» Стены домов по всему королевству запестрели надписями: «Нет войне с Россией!». 16 (5) апреля Питт отправил в Петербург Уильяма Фокнера, чтобы найти выход из конфликта, едва не стоившего ему кресла.
Екатерина поставила бюст Фокса в галерею Царскосельского дворца рядом с бюстами Демосфена и Цицерона. Потемкин заявил английскому посланнику Чарльзу Уитворту, что он и императрица — «баловни Провидения». Для того, чтобы добиться успеха, сказал он, «им довольно только пожелать этого».[959]
Теперь предстоящий праздник должен был отметить не только военную победу над турками, но и дипломатическую — над пруссаками и англичанами. Посыльные Потемкина развозили по Петербургу приглашение:
Генерал-фельдмаршал князь Потемкин-Таврический
просит зделать ему честь пожаловать
в понедельник 28го дня сего Апреля в шесть часов по полудни
в дом его что в Конной гвардии в маскерад,
который удостоен будет
Высочайшего присутствия
Ея Императорского Величества и Их Императорских Высочеств.[960]
32. ПИР ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Фельдмаршал князь Потемкин дал нам вчера
великолепный праздник, на котором я пробыла
с семи часов вечера до двух ночи...
Теперь пишу вам,
чтобы справиться с головной болью.
Екатерина II — барону Гримму
28 апреля 1791 года в 7 часов вечера императорская карета остановилась перед классической колоннадой дворца светлейшего, освещенного сотнями факелов. Государыня, в русском платье с длинными рукавами, с богатой диадемой на голове, вышла под балдахин, укрывавший ее от дождя. Ее встретил Потемкин в красном фраке и наброшенном на плечи черном с золотом и бриллиантами плаще. На нем было «столько алмазов, сколько может уместиться на платье». Адъютант нес за ним подушку с его шляпой, такой тяжелой от драгоценностей, что светлейший с трудом удержал бы ее на своей богатырской голове. Потемкин прошел между двумя рядами лакеев в светло-желтых ливреях с серебряными галунами и опустился на колени перед государыней. Она подняла его; он взял ее руку.
Рядом с дворцом были устроены качели, карусели и даже лавки, где бесплатно выдавались костюмы. От пятитысячной толпы народа исходил глухой шум. Князь приказал, чтобы доступ к столам открывали, как только появится императрица, но по ошибке дворецкого, принявшего карету одного из придворных за царскую, пир начался раньше времени. Толпа стремилась к столам с таким оживлением, что Екатерине, встревоженной событиями во Франции, на мгновение показалось, что «почтенная публика» взбунтовалась. Она с облегчением вздохнула, увидев, что причина шума — бесплатное угощение.[961]
Князь подвел императрицу к дверям дворца. Идея новой постройки — двухэтажный корпус с шестиколонным портиком и простирающиеся от него два длинных флигеля — узнавалась легко: фасад простого, но колоссального по размаху творения Ивана Старова символизировал власть и величие светлейшего. Через вестибюль
Потемкин и Екатерина проследовали в Колонный зал, где их приветствовали три тысячи гостей.
Толпы приглашенных буквально терялись в овальном зале, которому не было равных в Европе — 21 метр в высоту, 74,5 в длину и 15 в ширину, двухъярусные окна, а вдоль северной стены два ряда из тридцати шести ионических колонн. Полы были инкрустированы редкими породами дерева, мраморные вазы поражали своими размерами, с потолка свисали люстры черного хрусталя, приобретенные некогда у герцогини Кингстон. Пятьдесят шесть люстр давали столько света, что зал казался охваченным пожаром. Скрытый на двух галереях духовой оркестр из трехсот музыкантов и орган, сопровождаемые хором, исполняли специально написанные к случаю хоры — оды Державина, положенные на музыку композитором Козловским.
Открывшийся перед императрицей за балконными окнами зимний сад также был самым большим в Европе — площадь его равнялась площади дворца. Стеклянные своды поддерживали колонны в виде пальм со скрытыми в них трубами с горячей водой. Шедевр Уильяма Гульда являл собой джунгли из экзотических растений, цветов, гиацинтов и нарциссов, миртов и апельсиновых деревьев; за зеркальными стенами находились огромные печи. В стеклянных гроздьях винограда и фруктах прятались светильники. Купол был расписан как небо. Но больше всего поражала бесконечная перспектива — через залитый светом Колонный зал Екатерина могла видеть зимний сад и дальше, через его стеклянные стены — простирающийся до самой Невы парк с беседками и холмами, еще покрытыми снегом.
В центре зимнего сада был «воздвигнут род жертвенника об 8-ми вокруг стоящих столбах [...] Среди сего олтаря, на подножии из красного мрамора, стоит образ Екатерины, изсеченный из чистейшего белого мрамора в рост человеческий, во образе божества в длинном римском одеянии». Князь подвел императрицу к покрытому персидскими коврами трону под балдахином в левой части зала, и из тропического леса показалась кадриль «из двадцати четырех пар знаменитейших и прекраснейших жен, девиц и юношей составленная».[962] Дамы были одеты в греческие костюмы, кавалеры — в испанские. В первой кадрили, поставленной знаменитым балетмейстером Ш. Ле Пиком, танцевал великий князь Александр Павлович, во второй —- Константин Павлович. «Невозможно представить себе, — восклицала потом Екатерина, — ничего более великолепного, разнообразного и блестящего!»
Когда в парке стемнело, Потемкин провел императорскую фамилию в Гобеленный зал, где шпалеры представляли историю Эсфири. Посреди диванов и кресел стоял золотой слон в натуральную величину, покрытый изумрудами и рубинами. Сидевший на слоне арап подал сигнал, взвился занавес, и открылись театральная сцена и ложи. За двумя французскими комедиями и балетом последовал парад народов империи, а за ним — пленные измаильские паши. Пока гости наслаждались зрелищем, в других залах слуги зажигали еще 140 тысяч плошек и 20 тысяч восковых свечей. Когда императрица вернулась в Колонный зал, он снова сиял светом.
Снова взяв руку Екатерины, Потемкин провел ее в зимний сад и здесь, перед статуей своей благодетельницы, еще раз упал перед ней на колени. Императрица подняла его и нежно поцеловала в лоб. Грянул хор Державина:
Гром победы, раздавайся!
Веселися, храбрый росс!
Потемкин дал знак оркестру — и начался бал. Екатерина играла в карты со своей невесткой Марией Федоровной в Гобеленном зале, затем удалилась отдохнуть. Потемкин имел покои в ее дворцах — Екатерину ждала спальня в его жилище. Они оба любили монументальные дворцы и крошечные спальни. Комната императрицы находилась в том же крыле, что покои светлейшего. Дверь, спрятанная под ковром, вела в спальню и кабинет Потемкина. Его спальня была проста и уютна, со стенами, обитыми однотонным шелком. (Когда он приезжал в столицу, Екатерина, как говорили, иногда оставалась здесь ночевать; но достоверно известно только то, что она давала в Таврическом дворце обеды.)
В полночь Екатерина вышла к ужину в приподнятом расположении духа, и юные танцоры повторили для нее две кадрили. Стол императрицы, поставленный на возвышении, где перед этим играл оркестр, был покрыт золотом. Вокруг нее сидели сорок восемь вельмож. Каждый из четырнадцати столов, стоявших вокруг царского, освещался шаром из белого и синего стекла. На одном из них высились огромный серебряный кубок и две вазы из коллекции герцогини Кингстон. Потемкин сам прислуживал императрице за креслом, пока она не настояла, чтобы он сел рядом. После ужина музыка и танцы возобновились. В 2 часа ночи Екатерина наконец встала, чтобы уехать.
В вестибюле светлейший опять преклонил колени, демонстрируя сановникам империи и представителям Европы свою смиренную покорность перед монаршей волей. Было подготовлено две мелодии — одна на случай, если государыня соблаговолит остаться; другая — если станет уезжать. По знаку Потемкина (он приложил руку к сердцу) послышалась печальная песнь, сочиненная им самим много лет назад. Великолепие праздника, грустная мелодия и вид коленопреклоненного гиганта тронули Екатерину. Оба залились слезами. Он снова и снова целовал ее руку.
На свидетельства о последнем пребывании светлейшего в Петербурге впоследствии наслоились воспоминания о последовавших вскоре событиях, и эта сцена часто описывается как предзнаменование смерти Потемкина. Эта ночь в самом деле была эмоциональным апогеем лет, проведенных им рядом с императрицей. После ее отъезда он бродил по залам, впав в жестокую меланхолию.
Екатерина, вернувшись к себе, тоже не могла заснуть. Чтобы справиться с головной болью, она села за письмо Гримму, рассказывая о празднике с восторгом девушки, совершившей первый выезд в свет. Она даже начертила план дворца, указав место, где сидела, точно отметила, сколько времени провела в Таврическом дворце, — а затем сформулировала то, ради чего и затевалась их совместная с Потемкиным «постановка»: «Вот как, сударь, посреди тревог, войны и угроз диктатора [т.е. короля прусского] мы проводим время в Петербурге».
Стоимость причуды Потемкина, однако, превосходила все возможное — считается, что за три месяца пребывания в столице он потратил от 150 до 500 тысяч рублей. Все знали, что за бал платит казна; скоро зашептали о том, что государыне такая расточительность не по душе.
В то самое время, как Екатерина писала письмо Гримму, пришли новые неприятные известия из Польши.
3 мая (22 апреля) 1791 года Речь Посполитая приняла новую конституцию. Дебаты в сейме достигли такого накала, что один из депутатов, вынув шпагу, пригрозил, что заколет собственного сына. «Революция 3 мая» создала наследственную монархию: властные полномочия передавались курфюрсту Саксонскому и его дочери. Варшава праздновала под лозунгом «король вместе с народом».[963]
Момент, однако, не благоприятствовал полякам, ибо в Англии и Пруссии готовы были развязать руки России и дать ей расправиться с непокорными соседями. Екатерина разделяла отвращение Потемкина к Французской революции: называя республиканизм «болезнью разума», она уже начала бороться с вольнолюбивыми идеями в собственной державе. И хотя польская конституция, направленная на усиление, а не на ослабление монархии, имела весьма консервативный характер, Екатерина предпочла видеть в ней распространение «французской заразы». «Мы готовы, — мрачно сообщала она Гримму, — и не уступим самому дьяволу!».[964]
Потемкин, почти ежедневно получавший рапорты от своих варшавских агентов, решил возглавить польскую политику и наконец реализовать свои тайные планы. Он чувствовал, что мир с Турцией и успех в Польше заставит его критиков замолчать. Поэтому он остался в Петербурге гораздо дольше, чем обещал Екатерине, чтобы обсудить проблему, которая так затрудняла их отношения. Но прежде чем решать польские проблемы, надо было принудить турок к миру и найти выход из очаковского кризиса в переговорах с посланцем английского премьер-министра, которого ждали со дня на день.
«Ежели хочешь камень свалить с моего сердца, — упрашивала его Екатерина в начале мая, — ежели хочешь спазмы унимать, отправь скорее в армию курьера и разреши силам сухопутным и морским произвести действие поскорее, а то войну еще протянем надолго, чего, конечно, ни ты, ни я не желаем».[965] Во время одного из приступов творческой эйфории князь отправил в армию приказы о наступлении; одновременно по всему югу России устраивались новые поселения. 11 мая он приказал Ушакову «искать неприятеля, где он в Черном море случится, и господствовать там так, чтобы наши берега были ему неприкосновенны»; Репнину — производить натиски на неприятеля «где только удобные случаи могут представиться»; Гудовичу, командовавшему Кубанским корпусом, — занять Анапу.[966] Одновременно Екатерина II Потемкин разрабатывали политику по отношению к Польше.
16 мая, когда до разрешения англо-прусского кризиса было еще далеко, Екатерина подписала первый рескрипт Потемкину касательно Польши. Князю дозволялось военное вмешательство, но только в том случае, если Пруссия вступит на территорию Польши; тогда Потемкин мог предложить полякам принадлежавшую туркам Молдавию под условием, что они откажутся от достижений майской революции. Если бы этот план не удался, Потемкин мог прибегнуть к традиционным крайним мерам, организовав конфедерацию под руководством своих польских союзников — Браницкого и Потоцкого. Екатерина специально уточняла, что в числе крайних мер одобряла его план поднять восстание православного населения Киевского, Подольского и Брацлавского воеводств и возглавить его в качестве великого гетмана казацкого.
Многие историки писали о том, что Потемкин так и не получил полномочий, о которых просил. На самом деле наоборот, эти полномочия были потенциально огромны, хотя и обусловлены — вероятностью войны России с Пруссией и Англией{96}. Кроме того, Потемкин не получал приказы Екатерины как школьник распоряжения учительницы: они работали над рескриптами вместе, как делали всегда. Документы и переписка показывают, что в течение более чем двух лет Екатерина соглашалась с «молдавским» и «казацким» проектами Потемкина.[967]
Польские планы светлейшего кажутся экстравагантными и противоречивыми, но князь всегда развивал несколько идей одновременно, а решение применить ту или иную схему принимал в последний момент. С того времени, как он получил власть, польский вопрос занимал его в самых разных аспектах, но ни один из его планов невозможно отделить от его интересов к территориальным владениям за пределами Российской империи. Он верил, что независимое польское княжество, созданное на основе его земель в Смиле, позволит России получить опорную позицию в Центральной Европе, не платя соседним державам — Австрии и Пруссии — новым разделом Польши.
Потемкин разрабатывал по меньшей мере четыре плана. Первый — присоединение к Польше Молдавии. Это княжество хорошо вписалось бы в такое государство, о котором мечтал Феликс Потоцкий в письме к светлейшему от мая 1790 года, где он предлагал создать федеративную республику из полусамостоятельных гетманств. В то же самое время готовился план конфедерации во главе с Браницким и Потоцким — для восстановления старой конституции или установления новой. В феврале Потемкин приглашал Потоцкого встретиться и обсудить «истинное благо нашей страны».[968]
Кроме того, имелся план вторжения Потемкина в Польшу в качестве великого гетмана Черноморского казачества под предлогом освобождения православного населения восточной части Польши. В пользу этого варианта говорили и польские корни Потемкина, и его королевские амбиции, и русский инстинкт к подавлению польской вольницы, и пресловутая «страсть к казакам». Еще до получения звания гетмана он специально набирал казаков для Черноморского войска в Польше. 6 июля 1787 года, например, Екатерина разрешила ему сформировать четыре регулярных эскадрона из жителей его польских деревень (в Смиле князь уже создал пешее и конное ополчение). Александра Браницкая позднее утверждала, что Потемкин собирался «возглавить всех казаков, объединиться с польской армией и провозгласить себя королем Польши».[969]
Хотя этот проект кажется теперь невероятным, он все же был осуществим. Населенные православными области, Подолия и восточная Польша, возглавляемые такими магнатами, как Феликс Потоцкий с его старинными взглядами на польскую свободу, были очень далеки от многоумных патриотов-католиков, возглавлявших Четырехлетний сейм в Варшаве и перенявших новое, французское представление о гражданских свободах. План казацкого восстания нельзя рассматривать вне связи с другими замыслами: и Екатерина, и Потемкин видели в нем средство мобилизовать православное население на борьбу с варшавской революцией и в то же время, если удастся, образовать для светлейшего собственное княжество в пределах федеративной Польши под протекторатом России.
Последним планом был новый раздел Польши. Потемкин никогда не стеснялся обсуждать эту перспективу и часто делал это в присутствии прусских посланников. Но, что бы ни утверждали националистически настроенные польские историки, это все же была крайняя мера. Да, в апреле он заставил поляков уступить Торн и Данциг, но сделал это чтобы избежать войны на два фронта. Потемкин понимал, что раздел уничтожит родину его предков и подорвет его собственные позиции за пределами России. Со стратегической точки зрения раздел играл на руку прежде всего Пруссии, приближая Гогенцоллернов к российским границам. Более всего Потемкин склонялся к петровской политике сохранения независимой Польши в качестве полусамостоятельного государства, выполняющего роль буферной зоны. Его молдавский проект предусматривал расширение, а не уменьшение польской территории. Если бы он прожил дольше, возможно, он добился бы осуществления одного из своих замыслов и предотвратил бы второй раздел. А если бы пережил Екатерину — вполне вероятно, переселился бы в Польшу.
Пока Потемкин согласовывал свои польские планы в Петербурге, в революционной Варшаве ходили самые мрачные слухи. Польский посланник в Петербурге Деболи подливал масла в огонь, постоянно сообщая Станиславу Августу о видах Потемкина на польский престол. Петербургские враги светлейшего объединились, и наступил самый жестокий кризис за всю историю его партнерства с Екатериной.
«Кажется, мы неплохо справлялись и без вас», — вот что, согласно одному из донесений Деболи, Екатерина заявила Потемкину. Слова эти звучат вполне правдоподобно, однако все же напоминают скорее речь жены, делающей выговор мужу, но не покидающей его.[970] Уильям Фокнер, специальный посланник английского премьер-министра Питта-младшего, прибыл в Петербург 14 мая 1791 года, а в начале июня открылись затяжные переговоры о преодолении очаковского кризиса. Екатеринам Потемкин подолгу беседовали с англичанином. В своих депешах Фокнер отмечал единство их позиции, несмотря на разницу в стиле поведения — приветливый у императрицы и угрюмый у светлейшего. Например, во время одной из таких встреч в соседней комнате собака залаяла на ребенка. Императрица поспешила успокоить мальчика и, повернувшись к Фокнеру, произнесла: «Собака, которая лает, — не кусает».[971]
Однажды Потемкин пригласил Фокнера на обед, во время которого разразился «странным и совершенно непонятным» монологом. Светлейший «сказал мне, что он русский и любит свою страну, но и Англию любит тоже; что я — островитянин, а следственно, высокомерен и не люблю ничего кроме своего острова». Затем последовало предложение вполне в духе Потемкина: почему бы Англии не взять себе Кандию (Крит) в качестве компенсации за русские приобретения в Османской империи? Оттуда Британия могла бы контролировать торговлю между Египтом и Ближним Востоком. После этого князь пустился расписывать свои южные завоевания и великие проекты, успех которых «зависит исключительно от него». На протяжении всей этой речи Фокнер не имел возможности вставить ни слова, но английский премьер мог не сомневаться, что Россия намерена оставаться на Черном море и уступать туркам Очаков не собирается.[972] В начале июля в Англии и в Пруссии поняли, что должны принять условия Екатерины.
Следующее огорчение ждало Фокнера, когда в Петербурге появился Роберт Адер, отправленный Ч.Дж. Фоксом в качестве неофициального посланника от английской оппозиции. Семен Воронцов обеспечил Адеру наилучший прием в российской столице, сообщив Потемкину, что сама герцогиня Девонширская, первая леди лондонского света, «оказывает ему честь своей дружбой».[973] Адер был прекрасно принят императрицей и князем; на прощание Потемкин сделал ему подарок от имени Екатерины — перстень с ее портретом.[974]
Достигнув зенита своего могущества, Потемкин походил на медведя, загнанного в угол стаей собак. Зубов не переставал внушать императрице, что светлейший ведет себя недопустимо высокомерно и, более того, угрожает ее власти. «В сие время крылося какое-то тайное в сердце императрицы подозрение против сего фельдмаршала», — писал ЕР. Державин.[975] Светлейший повторял, что он со всех сторон окружен врагами. В Царском Селе, куца Екатерина перебралась на лето, Потемкин появлялся нечасто и ненадолго. В то самое время, когда решение вопроса об отношениях с Англией, Пруссией и Польшей становилось все более актуальным, дипломаты отмечали, что Екатерина сделалась холодна с Потемкиным. Как всегда, это обнадеживало его врагов.
Зубов не только чернил Потемкина в глазах Екатерины: ему удалось поссорить с Потемкиным Суворова, добившись для него, якобы по собственной инициативе, тех милостей, которые прежде предлагал Потемкин. «От имени императрицы» Зубов сказал Державину, чтобы тот не просил ни о чем светлейшего, но адресовался прямо к нему.
Державин обратил на себя внимание императрицы одой «Фелица», в которой представил в смешном виде генерал-прокурора Вяземского и самого Потемкина. При этом светлейший много лет покровительствовал Державину, защищая его от Вяземского и других недоброжелателей. Державин отплатил за покровительство поэтическими колкостями (знаменитый «Водопад», прославляющий Потемкина, написан уже после смерти князя Таврического). Зубов предложил Державину место секретаря императрицы; поэт принял предложение.
Когда Державин представил светлейшему свое «Описание торжества в доме князя Потемкина», тот разгневался так, что «с фуриею выскочил из своей спальни [...] и ускакал Бог знает куда».[976] Через несколько дней поэт снова явился к Потемкину, и светлейший принял его — хотя холодно, но спокойно и без гнева.
В периоды политической напряженности князь, одержимый тревогой, всегда вел себя экстравагантно. Державин и кое-кто из иностранных наблюдетелей, таких, как Деболи, утверждали, что он сошел с ума, намекая на последствия застарелого сифилиса, но никаких подтверждений этому у нас нет. Однажды, по словам Деболи, Потемкин приехал пьяный на вечер графини Пушкиной и «погладил ее по волосам». Та пригрозила выставить его, на что он отвечал, что непременно станет королем Польши. Эта история маловероятна. Кроме того, даже враги светлейшего говорили, что его любовные дела шли в эту пору успешно как никогда. «Женщины жаждали внимания князя Потемкина, — говорил его критик граф Ф.В. Ростопчин, — как мужчины жаждут чинов». Фокнер сообщал в Англию, что «Петербург бурлит рассказами о ссоре князя с одной женщиной, видимой склонности к другой и истинной привязанности к третьей».[977]
В рассказах о последних месяцах жизни Потемкина утверждается, что он уезжал из Петербурга в июле 1791 года побежденный Зубовым и отвергнутый Екатериной. Эти рассказы, некритически повторенные многими историками, не имеют ничего общего с действительностью.
Недруги Потемкина выдавали желаемое за действительное и находили логические связи между событиями, не связанными между собой. Так, когда 24 июня 1791 года в Царское Село прибыл граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, мечтавшие о падении Потемкина усмотрели в этом факте подтверждение своих желаний, ибо ни один из екатерининских вельмож, кроме Орлова, не мог равняться с Потемкиным военным и политическим престижем. Орлов хвастался, что когда он входит в дверь, Потемкин выходит в окно.[978] Однако, если сопоставить поведение Орлова с другими фактами, станет понятно, что даже если Орлов приехал по инициативе Зубова, на отношения Екатерины и Потемкина его появление не могло повлиять хотя бы потому, что отношения Екатерины с братом ее покойного фаворита были совсем иного рода, нежели отношения с Потемкиным. Поэтому неудивительно, что вопреки желаниям недругов светлейшего Екатерина сразу после приезда Орлова известила Потемкина. Когда же Орлов стал высказывать какие-то колкости в его адрес, она потребовала прекратить нападки «на ее верного друга» (сообщение Деболи[979]). Их внутренняя привязанность друг к другу остается той же, что была всегда. Потемкин жалуется на болезнь ногтей — она отвечает заботливыми записками; он посылает ей «пребогатую юбку» — она благодарит его за подарок. Очевидно, Екатерина очень хотела сгладить трения между супругом и своим нынешним возлюбленным, и поэтому в ее записках к Потемкину неоднократно передаются поклоны от Зубова.
Словом, нет смысла всерьез говорить о том, что Потемкин утратил свое влияние — влияние его оставалось не меньшим, чем прежде. Когда Фокнер наконец объявил, что Англия согласна на условия России, Потемкин взял дело в свои руки, даже не посоветовавшись с Екатериной, — что, как отмечал Деболи, очень разозлило русских министров. Скоро генералы Потемкина одержали ряд побед: 19 июня он сообщал, что Кутузов, выполняя его приказ, провел наступление на Бабадаг и разбил двадцать тысяч турок. 22 июня Гудович взял штурмом крепость Анапу и, среди 13 тысяч пленных, захватил героя Чечни Шейха Мансура.{97} «Вот ключ, отворивший двери к большим ударам, — сообщал князь императрице 2 июля, — теперь изволишь увидеть, как заревут в Азии». В тот же вечер императрица с небольшой свитой, включавшей братьев Зубовых, приехала из Петергофа в Петербург и обедала у Потемкина в его «доме в Конной гвардии» (так тогда назывался Таврический дворец).[980]
11 июля Очаковский кризис наконец был преодолен: представители Англии и Пруссии подписали ноту, в которой основанием для мира с Турцией — если турецкая сторона подпишет его немедленно — признавалась граница по Днестру; Очаков со степью между Бугом и Днестром отходил к России. В случае, если бы турки отказались подписывать соглашение, Россия сохраняла за собой право бороться за более выгодные условия. В тот же день в Петербург прискакали два курьера — один от Гудовича с сообщением о взятии крепости Суджук-Кале, другой — с донесением о том, что 30-тысячная русская армия перешла Дунай и 28 июня разбила при Мачине 80-тысячную армию великого визиря, и курьер от Гудовича о занятии крепости Суджук-Кале. «В один день, мой друг, два праздника, — писала Екатерина Потемкину, — да сверх того еще чудесные дела: принятие наших кондиций союзниками».[981]
Теперь все ждали реакции Потемкина на польскую конституцию. Словно неповоротливый, но устрашающий колосс, он медленно разворачивался в сторону Польши — с какими намерениями? Деболи уверял, что он собирается сделаться королем польским, организовав Конфедерацию или подняв казацкое восстание. Александра Браницкая желала, чтобы Потемкин был провозглашен наследником Станислава Августа. В польской столице уже несколько лет циркулировали слухи, предупреждающие, что Потемкин мечтает сделать наследниками трона детей Браницкой. Кипение страстей перемежалось комическими интерлюдиями: на каком-то вечере Потемкин сказал Деболи, что поляки так любят Порту, что даже носят турецкие шаровары.
Потемкин разрывался между необходимостью скакать на юг, чтобы возглавить переговоры с оттоманами, и сознанием, что, как бы ни были тяжелы для него нападки Зубова, он не может оставить столицу, пока они с Екатериной не выработают единую политику по отношению к Польше. Екатерина настаивала на том, чтобы он скорее занялся мирным соглашением. У Потемкина же тем временем появились новые — личные — причины для того, чтобы оставаться в Петербурге. Он снова влюбился.
Продолжала ли императрица, сама занятая Зубовым, ревновать Потемкина, или она устала от его демонстративного разврата? Как бы то ни было, когда князь предложил назначить в инспекцию, созданную для борьбы со злоупотреблениями в армии, совершенно пустого человека, князя Михаила Андреевича Голицына, она, зная причину этого назначения —- роман Потемкина с женой Голицына, резко выговаривала ему: «Он тебе честь в армии не принесет [...Щозволь сказать, что рожа жены его, какова ни есть, не стоит того, чтоб ты себя обременял таким человеком, который в короткое время тебе будет в тягость. Тут же не возьмешь ничего, саг madame est charmante, mais on ne gagne pas la moindre chose en lui faisant la cour{98}». Всему Петербургу было известно, что, наскучив прекрасной гречанкой, светлейший занялся Прасковьей Голицыной (урожденной Шуваловой). «Вечно мятущаяся», писавшая повести на французском языке, она стала его последней страстью. Однако родственники Прасковьи Андреевны ревностно защищали ее добродетель. Екатерина предупреждала Потемкина: «Извини меня, ежели скажу, что и муж и жена тебя обманывают». Она умоляла его скорее отправляться на юг: «Faites la Paix, apres quoi Vous viendrez ici Vous amuser tant qu’il Vous plaira{99} [...] Письмо же сие издери по прочтении». Но князь сохранил это письмо, самое едкое из всех посланий Екатерины{100}.[982]
Вспышка раздражения Екатерины знаменовала, как и обычно, окончание их ссоры. Только что, 18 июля, она подписала новый рескрипт Потемкину, который закреплял достигнутое ими согласие и означал, что светлейшему пора уезжать на юг. Русские, польские и западные историки спорят о смысле этого документа уже двести лет. Главным противоречием кажется несовместимость предоставленных князю огромных полномочий с прочно утвердившимся убеждением, что к этому времени он потерял свое влияние. Легенда гласит, что Потемкин «не мог снести мысли о своей опале», когда «узнал, что Платон Зубов, по всей видимости, получил безраздельную власть над разумом Екатерины». Эту версию враги светлейшего сообщали иностранцам, приезжавшим в Петербург после смерти Потемкина.[983] Раз Екатерина II Зубов были готовы сместить князя Таврического — как, в самом деле, она могла поручить ему решать, мириться или воевать с турками и поляками? Значит, заключали исследователи последних дней Потемкина, Екатерина подписала рескрипт для видимости, чтобы избавиться от него. Эта точка зрения базируется на обратной исторической перспективе, а не на фактах.[984]
В июле 1791 года даже недруги Потемкина поняли, что он уезжает из Петербурга победителем. «Ему так доверяют, — информировал английский посланник Уитворт свое министерство, — что он имеет теперь полную свободу решать», заключать мир с Турцией или продолжать войну. Что же касается козней Зубова, «то нет никакой вероятности, что они увенчаются успехом — так велика благосклонность к Потемкину императрицы».[985] Спустя много лет Зубов признавался, что так и не смог устранить Потемкина со своего пути: «А устранить было необходимо, потому что императрица всегда сама шла навстречу его желаниям и просто боялась его, будто взыскательного супруга. Меня она только любила и часто указывала на Потемкина, чтоб я брал с него пример».[986]
Как только мы поймем, что Потемкин был очень и очень далек от падения, станет ясно, что рескрипт 18 июля стал его триумфом, с лихвой компенсировавшим все неудачи в борьбе против Зубова. После подписания мира с Турцией Потемкин был бы свободен в осуществлении своих дальнейших планов; он мог начинать войну с Польшей и даже принимать решения о форме польской конституции. При этом, конечно, он стал бы согласовывать детали с Потоцким — дело должно было выглядеть так, будто поляки сами обратились к России за помощью. Рескрипт означал, что Потемкин убедил императрицу: осуществление его планов может подчинить поляков, не доводя Польшу до раздела. Однако Екатерина сочла необходимым уточнить, что, если замысел князя не удастся, раздел остается единственным выходом из положения.[987]
В последний вечер в Петербурге светлейший обедал у своей племянницы Татьяны Энгельгардт. В числе гостей находилась графиня Головина. Она считала светлейшего самым безнравственным человеком столицы, но в этот раз ему удалось тронуть даже ее: Потемкин говорил, что скоро умрет.
24 июля 1791 года в 4 часа утра Потемкин выехал из Царского Села. Вослед ему Екатерина послала записку, исполненную теплотой их прежней любви. «Прощайте, друг мой, — заканчивала она. — Целую вас». Больше они не увиделись никогда.[988]
33. ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕЕЗД
Скидайте шаль вы алу, Стирайте красоту, Привез печаль не молу, Оденьтесь в черноту. Ваш дядюшка скончался, В степи и на плаще; Он с нами навечно расстался, Вам жить велел еще. Солдатская песняВ Могилеве светлейшего приветствовал звон колоколов и пушечный салют. Чиновники, дворяне из самых отдаленных уголков губернии, дамы в лучших своих нарядах ожидали его у губернаторского дома.
Как только экипаж остановился, все бросились к нему, но князь Таврический, в летнем халате, покрытый пылью, прошел в дом, ни на кого не взглянув. Вечером, за обедом, он пригласил польского патриота Михаила Огинского присоединиться к своей свите и удостоил беседы — о Голландии, «которую он знал так, словно прожил там всю жизнь, об Англии, о правительстве, обычаях и нравах которых ему известно решительно все», о музыке и живописи, «прибавив, что англичанам незнакомо ни то, ни другое». Перейдя к обсуждению военного искусства, Потемкин объявил, что ключ к победе — это умение нарушать правила: «Стратегом нужно родиться».[989]
Когда Потемкин подъезжал к Молдавии, князь Репнин уже вел переговоры с великим визирем в Галаце. Потемкин радостно сообщил Екатерине, что 24 июля подписаны прелиминарии, — но 31-го, когда ему оставался всего день пути, Репнин согласился на перемирие. Рассказывали, что Потемкин был в ярости на Репнина, укравшего его триумф. «Как, — сказал он ему, — будучи ничтожным учеником Мартэна [...], осмелился ты в мое отсутствие предпринять такие действия? Кто приказывал тебе так поступать?» — сообщает один из мемуаристов. Репнин был масоном-мартинистом, племянником Н.И. Панина, и входил в ближайшее окружение великого князя. Несмотря на это, он стал деятельным помощником Потемкина. «Библия объединяет их», — иронически объяснял де Линь.[990] Но в этот раз Репнин, заверенный письмами из Петербурга в том, что Зубов защитит его от неудовольствия Потемкина, решил действовать без согласования со светлейшим и допустил серьезную ошибку.
Не зная о договоренности с Фокнером, Репнин подписал восьмимесячное перемирие, дававшее туркам возможность собраться с силами, и обязательство России не укреплять завоеванную территорию. Не знал Репнин и о том, что Потемкин ждет новостей с Черного моря: если бы флот Ушакова добился успехов, можно было бы «повысить кондиции». Ушаков разбил турецкий флот и поверг в панику Константинополь в тот самый день, когда Репнин поставил свою подпись под условиями перемирия. Опираясь на морскую победу, Потемкин мог бы принудить турок к продолжению войны и тем самым освободить Россию от обязательств, данных Англии. Когда Екатерина получила первое известие о заключенном перемирии, она обрадовалась, но узнав вслед за этим о победе Ушакова, стала негодовать на Репнина так же, как Потемкин.[991]
Светлейший поспешил в Николаев, чтобы осмотреть новые боевые корабли и дворец и, проделав путь в 500 верст, вернулся в Яссы за 30 часов. После этого он заболел, что часто с ним случалось после нескольких месяцев нервного напряжения, непосильной работы и изматывающих переездов. В Константинополе опять объявилась чума, а на юге России — эпидемия малярии.
Великий визирь Юсуф-паша собрал за Дунаем новую армию в 150 тысяч человек. Переговоры с турками продолжались. Посланник великого визиря начал переговоры с испытания решимости Потемкина: он спросил, не может ли Турция оставить за собой Днестр. Князь прекратил конференцию. Визирь принес свои извинения и предложил казнить своего посланника. Потемкин потребовал независимости для Молдавии, права России утверждать господарей Валахии и уступки Анапы. Он повышал ставки, провоцируя турок на продолжение войны. Но тут явилось грозное предзнаменование.
13 августа 1791 года умер от лихорадки один из офицеров Потемкина, принц Карл Александр Вюртембергский, родной брат Марии Федоровны, супруги великого князя Павла. Светлейший устроил пышные похороны. Потемкин прошел в траурной процессии по жаре и затем выпил два стакана ледяной воды. При выносе тела из храма он принял траурный катафалк за свою карету. Для такого суеверного человека, как Потемкин, не могло быть знака яснее. Почти без чувств его вывезли из Галаца. Он приказал Репнину выводить войска из мест, пораженных эпидемией.[992]
Потемкина перевезли в расположенное неподалеку местечко Гуща, где Попов наконец уговорил его принимать лекарство — вероятно, хину. Судя по тому, что светлейший назначил полномочных представителей на переговоры (Самойлова, Рибаса и Лашкарева), ему стало лучше, но Екатерина продолжала тревожиться: «...что меня жестоко беспокоит — есть твоя болезнь и что ты ко мне о том пишешь, что не в силах себя чувствуешь оную выдержать. Я Бога прошу, чтоб от тебя отвратил сию скорбь, а меня избавил от такого удара».[993]
29 августа Екатерина молилась о здравии Потемкина в Александро-Невской лавре и подарила монастырю «большое серебряное паникадило, к раке св. Александра Невского золотую лампаду, сверх того, сосуды золотые с антиками и брильянтами». К светлейшему выехала Александра Браницкая. Но в эти дни Потемкин уже сообщал: «Благодаря Бога опасность миновалась, и мне легче [...] Я не уповал уже Вас, матушка родная, Всемилостивейшая Государыня, видеть».[994] Не оправившись до конца от лихорадки, он снова отправился в Яссы.
«...Не понимаю, как, в крайней слабости быв, можешь переехать из места в место, — волновалась Екатерина — и добавляла: — Платон Александрович [...] весьма безпокоился о твоей болезни и один день не знал, что и как печаль мою облегчить». Потемкина, разумеется, не могли не шокировать подобные признания, однако до последних дней от посылал приветы «зубу», который так и не смог «выдернуть». Еще четыре дня, до 10 сентября, он мучился непрерывным жаром и головными болями: «Я во власти Божией, но дела Ваши не потерпят остановки до последней минуты».[995]
В самом деле, он следил за ходом переговоров, посылал визирю подарки, передислоцировал армию на случай продолжения войны и докладывал Екатерине, что флот благополучно вернулся в Севастополь. Не прекратил он и своих польских интриг: тайно вызвал к себе своих союзников — генерала артиллерии польской армии Феликса Потоцкого и фельдгетмана Северина Ржевуского, чтобы сообщить им о намерениях императрицы.[996]
Между тем Потемкин продолжал думать о развлечениях. Он хотел изысканной музыки и хорошего общества. 27 августа он писал французскому историку и политику Сенаку де Мейлану, находившемуся в это время в Москве, что находит его мысли о французской революции и Древней Греции такими любопытными, что хотел бы познакомиться с их автором, и приглашал посетить его в Молдавии.[997]
Тогда же, летом 1791 года, Потемкин сочинил канон Богородице: «И ныне волнующаяся душа моя и уповающая в бездне беззаконий своих ищет помощи, но не обретает. Подаждь ей, Пречистая Дева, руку свою, ею же носила Спасителя моего и не допусти погибнуть во веки». Ему предложили услуги еще одного композитора и музыканта. «Хотел было я отправить к Вам первого пианиста и одного из лучших композиторов в Германии [...], — сообщал из Вены граф Андрей Разумовский. — Он недоволен своим положением здесь и охотно предпринял бы это путешествие. Теперь он в Богемии, но его ожидают сюда обратно. Если Ваша Светлость пожелает, я могу нанять его не надолго, а так, чтобы его послушать и подержать при себе некоторое время». Ответ Потемкина не сохранился. Композитора звали Моцарт{101}.[998]
В середине сентября состояние Потемкина опять ухудшилось. Из всех его привязанностей осталась одна — та, которая не оставляла его на протяжении двадцати лет. Екатерина II светлейший снова писали друг другу простые слова любви, словно боясь упустить возможность еще раз заверить друг друга в своих чувствах. В Яссах свирепствовала малярия. Большинство больных поправлялись после нескольких дней озноба и бреда, но Потемкину, за которым ухаживали и Александра Браницкая и Софья де Витт, лучше не становилось.
Екатерина хотела следить за ходом его болезни так, будто он находился в соседних комнатах Зимнего дворца. Но курьеры преодолевали расстояние между Яссами и Петербургом за семь-двенадцать дней, и ее взволнованные письма всегда опаздывали: когда она думала, что ему лучше, он снова ослабевал — и наоборот. Она приказала Попову посылать ей ежедневные отчеты о состоянии князя и просила Браницкую: «Пожалуй, графиня [...] постарайтесь, чтоб он берегся как возможно от рецидивы, коя хуже всего, когда кто от болезни уже ослаб. Я знаю, как он беспечен о своем здоровье». Трое докторов — Тиман, Массо и Санковский — констатировали, что «болезнь уже в таком развитии, что обыкновенное врачество едва ли поможет»[999]
Угасающий Потемкин продолжал тревожиться о больных солдатах: «Такого году никогда не бывало: все немогут. Дом мой похож на лазарет, в армии в лазаретах больных 8 т[ысяч], да при полках 10 тыс[яч]. Слава Богу, что не мрут», — и готовился к переговорам: «Турков жду через четыре дни. Много ожидаю плутовства, но я остерегусь»[1000] Его перевезли из Ясс в загородный дом.
Наконец он согласился соблюдать диету: «Здоровье его Светлости при наблюдаемой им умеренности в пище час от часу становится лутче», — докладывал императрице Попов в середине сентября[1001] Потемкин готовил путь для вывода армии через Молдавию, поскольку путь через Польшу оставался закрыт. Австрийцы недавно подписали мир с Турцией в Систове, и теперь вся Европа внимательно следила за ходом русско-турецких переговоров в Гуще. Венские газеты каждый день сообщали о состоянии здоровья Потемкина. В случае продолжения войны он снова должен был возглавить армию, в случае подписания мира ждали визита Потемкина в Вену.
Потемкин, хотя и «устал, как собака», 16 сентября передавал императрице через Безбородко: «...я, верьте, себя не щажу». Через три дня лихорадка возобновилась с удвоенной силой. Браницкая не отходила от его постели. Он отказывался принимать хину. «Нужно его светлости принимать лекарство, — сообщал Попов Екатерине. — При всем его от оных отвращении убеждаем Его Светлость к принятию Высочайшим Вашего Императорского Величества имянем». Потемкин просит прислать ему китайский шлафрок: «Оный мне крайне нужен». Екатерина немедленно выполняет просьбу, добавив к халату шубу. Князь продолжает диктовать донесения государыне, а его собственноручные записки делаются все короче: «Сна лишился и не знаю, когда будет конец».[1002]
25 сентября приступы усилились. Стоны князя весь день надрывали сердце его приближенным. Попов с горечью сообщал Екатерине, что светлейший, «как только боли унимались, начинал говорить о безнадежности своей жизни и со всеми прощался, не веря никаким нашим вопреки сего уверениям». Князя посетили архиепископ Амвросий и грузинский митрополит Иона «и слезно умоляли беречь себя, принимать лекарства и воздерживаться от вредной пищи. «Едва ли я выздоровею, — отвечал на это Князь, — сколько уже время-ни, а облегчения нет как нет. Но да будет воля Божия! [...] Ты, духовник мой, — продолжал он, обращаясь к Амвросию, — и ведаешь, что я никому не желал зла».[1003]
Ничто не радовало его так, как письма и знаки внимания Екатерины. «При напоминании вашего императорского величества имя-ни всегда льются обильныя слезы из глаз его», — сообщал Попов 27 сентября. У него хватило сил только на одну строчку: «Матушка родная, жить мне больше тяжело, что тебя не вижу».[1004]
30 сентября ему исполнилось 52 года. Все пытались его утешить, но каждый раз, вспоминая про Екатерину, он «горько плакал» — о том, что больше ее не увидит. В тот же день Екатерина, прочтя очередной отчет Попова, отвечала: «Всекрайне меня беспокоит твоя болезнь». Она умоляла его принимать лекарства — «да, приняв, прошу уже и беречь себя от пищи и питья, лекарству противных». Она отвечала на донесение Попова десятидневной давности, но на следующее утро, когда письмо полетело из Петербурга на юг, Потемкин проснулся с тяжелой одышкой, — вероятно, началось воспаление легких. Возобновились жар и обмороки, 2 октября он немного пришел в себя, но от хины категорически отказался. А затем вдруг потребовал, чтобы закладывали карету: он хотел еще раз увидеть степи и почувствовать ветер с Черного моря. «Теперь желает его светлость, чтоб везли его отсюда в здоровейшее место; но я не знаю, как тронуться ему отсюда, когда все силы его изнурены до крайности».[1005]
Пока адъютанты и доктора решали, что делать, светлейший написал свое последнее собственноручное письмо государыне:
Матушка Всемилостивейшая Государыня!
В теперешнем болезнию изнуренном состоянии моем молю Всевышнего да сохранит драгоценное здравие твое, и повергаюсь к освященным Вашим стопам
Вашего Императорского Величества
вернейший и благодарнейший подданный
Князь Потемкин Таврический
Матушка, ох как болен.[1006]
После этого он перестал узнавать окружающих, а затем впал в обморок, перешедший в кому. В течение девяти часов врачи не находили пульса.
В Петербурге Екатерина читала его письма от 25 и 27 сентября — «Не могу я сам писать...» — и пыталась убедить себя, что еще есть надежда: «Вижу, что последние три строки твои немного получе написаны. И доктора твои уверяют, что тебе полутче». Она снова пишет Браницкой, прося не оставлять больного.[1007]
3 октября к полудню Потемкин повторил свое требование уехать из Ясс. Выезд назначили на следующее утро. Проведя бессонную ночь, он поминутно спрашивал: «Который час? и все ли готово?» Рано утром, несмотря на сильный туман, он объявил, что пора отправляться. Его положили в кресло и перенесли в большую шестиместную карету. Он продиктовал секретарю последнее письмо Екатерине и приписал внизу: «Одно спасение уехать».[1008] На подпись уже не хватило сил.
В 8 часов утра поезд из нескольких карет тронулся в путь.
Эпилог ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Их ищут места — и не знают; В пыли Героев попирают! Героев ? — Нет! —но их дела Из мрака и веков блистают; Нетленна память, похвала И из развалин вылетают, Как холмы гробы их цветут; Напишется Потемкин труд. Г.Р. Державин. ВодопадНа следующий день тело светлейшего привезли обратно в Яссы для вскрытия и бальзамирования. Вскрытие производилось в его апартаментах во дворце господаря Григория Гики. Органы брюшной полости оказались чрезмерно «влажны», печень увеличена; врачи констатировали разлитие желчи. Никаких признаков отравления не обнаружилось. Скорее всего, организм был истощен лихорадкой — тифозной либо малярийной — в сочетании с геморроем, злоупотреблением вином и переутомлением, — но едва ли в этом крылась причина смерти. Симптомы, которые описывает Попов в своих отчетах, очень напоминают признаки пневмонии.[1009]
Тело было бальзамировано, внутренности положены в шкатулку, сердце — в золотую урну. Покойника одели в парадный мундир.
В свите Потемкина царил хаос. Генералы ссорились о том, кому командовать армией. Тело покойного, его наследство, письма Екатерины, а также вопрос о войне или мире — все ждало решений императрицы. За несколько дней до смерти Потемкин отправил приказ о передаче командования армией генералу М.В. Каховскому. Но он находился в Крыму и командование взял на себя старший по армии генерал-аншеф М.Ф. Каменский. Через два дня после кончины князя приехал Каховский; «тут началась у них брань» — но в конце концов была исполнена воля светлейшего.[1010]
Когда спустя неделю весть дошла до Екатерины, она впала в жестокую депрессию. «Слезы», «огорчение», «отчаяние», «продолжение слез», — записывает Храповицкий несколько дней подряд. Она успокаивала себя, сочиняя панегирик покойному: «Это был человек высокого ума, редкого разума и превосходного сердца. Цели его всегда были направлены к великому. Он был человеколюбив, очень сведущ и крайне любезен [...] В эту войну он выказал поразительные военные дарования: везде была ему удача — и на суше, и на море. Им никто не управлял, но сам он удивительно умел управлять другими. Одним словом, он был государственный человек: умел дать хороший совет, умел его и выполнить». Но дороже всего ей были их личные отношения: «Его привязанность и усердие ко мне доходили до страсти; он всегда сердился и бранил меня, если, по его мнению, дело было сделано не так, как следовало [...] В нем были качества, встречающиеся крайне редко и отличавшие его между всеми другими людьми: у него был смелый ум, смелая душа, смелое сердце. Благодаря этому мы всегда понимали друг друга и не обращали внимания на толки тех, кто меньше нас смыслил. По моему мнению, князь Потемкин был великий человек, который не выполнил и половины того, что был в состоянии сделать...»[1011]
Тяжелее этой потери в ее жизни не бывало: «Как можно мне Потемкина заменить: он настоящий был дворянин, умный человек, меня не продавал; его не можно было купить».[1012]
Но императрицу ждали дела. Не без царственного высокомерия жаловалась она Гримму: «Князь Потемкин сыграл со мной злую шутку! Теперь вся тяжесть правления лежит на мне одной».[1013] В тот же день, как пришла весть о кончине Потемкина, собрался Совет, и в Яссы на завершение переговоров был послан Безбородко. В Константинополе великий визирь советовал Селиму III продолжать войну, но европейские послы подсказывали, что теперь, после смерти предполагаемого короля Дакии, у Турции больше шансов заключить мир.
Михаилу Потемкину Екатерина приказала вывезти из Ясс ее письма и разобраться в финансах покойного{102}. Но письма императрицы составляли самую ценную часть наследства светлейшего, и Попов настоял, что вручит их государыне лично. Что же касается денег, оставленных Потемкиным, то вопрос о них решался на протяжении еще двух царствований и так до конца не был распутан. Считается, что с 1783 года Потемкин получил 55 миллионов рублей — 51 352 096 рублей 94 копейки на содержание армии и строительство флота и городов — и около 4 миллионов рублей личных денег. Как он тратил собственные средства, проследить невозможно{103}. Император Павел I приказал возобновить расследование, но Александр I, поняв непосильность этой задачи, закрыл дело.[1014]
В Петербурге не говорили теперь ни о чем, кроме как о наследстве князя Таврического: миллионы — или только долги? «Хотя он оставил значительное состояние, особенно в брильянтах, — сообщал граф Стединг Густаву III, — можно предположить, что, когда все долги будут уплачены, семеро наследников получат немного». Екатерина могла оставить долги на наследников, и тогда на уплату их ушли бы все деньги — говорили, что светлейший оставил 7 миллионов, — но она понимала, что, хотя Потемкин пользовался казной как собственным банком, он тратил и свои средства на государственные нужды, и подсчитать, сколько должна каждая сторона, уже невозможно. «Никто еще не знает точно достатка покойникова, — писал по приезде в Яссы Безбородко. — Много он должен казне, но много и на казне считает». Положение усугублялось тем, что придворный банкир барон Сутерланд умер почти в один день со своим покровителем, в результате чего разразился финансовый скандал, угрожавший и без того шаткому положению России на европейском финансовом рынке. Потемкин был должен Сутерланду 762 785 рублей; помимо этого, в одном только Петербурге долги его составляли 2,1 миллиона.[1015]
Со своей обычной щедростью Екатерина купила у наследников князя Таврический дворец за 935 288 рублей, а также коллекцию картон, стеклянную фабрику, бриллианты (на миллионы рублей) и несколько имений. Она сама заплатила долги покойного и предоставила делить огромное состояние семерым наследникам — Энгельгардтам и Самойловым. Только в Смиле каждый из них получил по 14 тысяч душ мужского пола, не считая имений в России, — и все-таки даже спустя десять лет ссоры между ними продолжались. Да и по прошествии двух столетий жители Чижево ищут в земле потемкинские сокровища.
Екатерина распорядилась закрыть все собрания в столице, прекратить приемы при дворе, вечера в Малом Эрмитаже. Некоторых восхищала ее скорбь: «Она потеряла не любовника: это был друг, гений которого не уступал ее собственному». Стединг находил, что «чувствительность» Екатерины — лучший панегирик Потемкину.[1016] Столица оделась в траур, но под внешней печалью многие скрывали торжество.
Если незнатное дворянство и младшие офицеры искренне оплакивали героя, то многие представители: аристократии и военачальники радовались. Великий князь Павел говорил, что теперь государыня может похвастаться тем, что в империи стало одним вором меньше, — хотя цесаревичу, конечно, нельзя ставить в упрек его желчность: в течение двадцати лет Потемкин делал все возможное, чтобы отдалить его от трона. Зубов, «хоть и не радовался открыто», имел вид человека, освободившегося «от тяжкого долгого ига».[1017]
Когда весть о кончине князя дошла до Румянцева-Задунайского, присутствовавшие ожидали, что он обрадуется, но фельдмаршал встал на колени перед образами и объяснил удивленным очевидцам: «Князь был мне соперником, может быть, даже неприятелем, но Россия лишилась великого человека, а отечество потеряло сына бессмертного по заслугам своим!» Безбородко признавал, что «много обязан [...] редкому и отличному человеку». Скорбел и Суворов, чувствовавший, что героический век окончен: Потемкин дал развернуться его гению, чтобы прославить отечество и прославиться самому. Полководец дважды ездил молиться на могилу светлейшего.[1018]
Л.H. Энгельгардт, участвовавший в подготовке церемонии погребения князя в Яссах, заговорил с тремя гренадерами, служившими под началом Потемкина. «Покойный его светлость был нам отец, — сказали солдаты, — облегчил нашу службу, довольствовал нас всеми потребностями; словом сказать, мы были избалованные его дети; не будем уже мы иметь подобного ему командира». Даже желчный Ростопчин признавал, что гренадеры Потемкина плачут по нему. Безбородко, расспрашивавший солдат о тяготах при осаде Очакова, услышал, что «тогда так нужда велела» и что Потемкин обращался с ними с великой добротой.[1019]
Двойственное отношение, которое возбуждала у современников личность Потемкина, невероятно исказило его образ в исторической перспективе и затруднило объективную оценку его достижений. Враги обвиняли его в лени, разврате, нерешительности, Сумасбродстве, лживости, некомпетентности в военных делах, но даже они признавали его мощный ум, силу характера, масштабное видение политической ситуации, смелость, щедрость и великие достижения.
«Невозможно отрицать, — писал первый биограф Екатерины Ж.А. Кастера, — что ум, мужество и энергия, а Также многие, одни за другим развернувшиеся дарования сделали его достойным места первого министра империи». Де Линь говорит, что природа создала Потемкина из материала, «которого хватило бы на сто человек».[1020]
Как завоеватель новых земель Потемкин стоит рядом с Петром Великим. Так же, как Петр, он заложил новые города и построил флот, так же, как первый русский император, умер в 52 года — но на этом сходство заканчивается, потому что* Потемкин был столь же человеколюбив и незлопамятен, как Петр жесток и мстителен.
По-настоящему личность князя Таврического можно понять и оценить только в свете его уникального партнерства с Екатериной: здесь мы имеем дело с беспрецедентным любовным и политическим альянсом. Считать его только историей нежной любви и благородной дружбы означало бы игнорировать колоссальные исторические свершения, ставшие плодом этих отношений.
Отношения с Екатериной позволили Потемкину превзойти всех прославившихся в истории министров-фаворитов и вести себя подобно царю. Он щеголял своей почти неограниченной властью, но в то же время страдал от двусмысленности своего положения. Он вел себя сумасбродно, потому что мог себе это позволить, но, обладая полномочиями соправителя империи, официально им не являлся. Как все фавориты, он страдал от всеобщего убеждения, что действиями «доброй правительницы» руководит «злой советник», — отсюда и название его первой биографии: «Князь тьмы». Если бы он был царем, его судили бы по его свершениям, а не по образу жизни: коронованные особы могут позволить себе любые причуды. «Его завоевания увеличивали славу империи, — говорил о нем Сегюр, — однако восхищение, которое они вызывали, адресовали императрице, а ненависть — ему».[1021]
Светлейший был смел в политике, но осторожен на поле боя. В непосредственном командовании армией он действительно отличался медлительностью, но являлся при этом непревзойденным стратегом как на суше, так и на море: он был одним из первых, кто применил одновременные действия морских и сухопутных сил на огромном театре военных действий. Ему ставили в вину то, что в русской армии царит беспорядок и коррупция, но то, чего он добился в борьбе с этими пороками, заслуживает уважения. Так, Безбородко, приехавший в армию после его смерти, удивлялся увиденной им организованности.[1022] Кроме того, нельзя забывать, что при всех «беспорядках» армия Потемкина побила турок, которые нанесли многочисленные поражения австрийцам, — а те считались в Европе гораздо лучшими воинами, чем русские. Как напоминала Екатерина Гримму, на счету Потемкина — только победы, а этим могут похвастаться немногие генералы. В целом военная история до сих пор не отдала должного Потемкину: он был безусловно талантливый военачальник, хотя и стоявший на одну ступень ниже, чем такие гении военного дела, как Фридрих Великий, Суворов или Наполеон. Если же вспомнить его заботу о солдатах, то равного ему не знала русская история, вплоть до сегодняшнего дня, времени чеченской войны.
Тридцать лет спустя граф Ланжерон, чье предвзятое описание Потемкина повредило репутации князя не меньше, чем записки де Линя или сочинение Гельбига, признавал: «Я судил его слишком строго, и на мои оценки повлияло мое возмущение. [...] Конечно, он имел все недостатки придворных, вульгарность выскочки и дерзость фаворита, но все это перемололось на мельнице его гения. Он ничему не учился, но [...] его ум был так же велик, как его тело. Он умел замышлять и исполнять чудеса — и такой человек был необходим Екатерине. Он занял Крым, покорил татар, переселил запорожцев на Кубань и цивилизовал их, основал Херсон, Николаев, Севастополь, построил в этих городах верфи, создал флот, стал властелином на Черном море [...] За все эти чудеса он достоин признания».[1023]
Вскоре после смерти Потемкина Державин начал оду «Водопад», в которой запечатлел черты, снискавшие князю прозвища Алкивиада и Мецената. Великолепие, быстрота и мощь водопада символизируют бурную жизнь светлейшего и его переменчивую натуру. Герцог Ришелье, знаток человеческой натуры и сам государственный деятель, понимал Потемкина лучше всех иностранцев. «Совокупность его достоинств, — говорил он, — намного превосходила его недостатки [...] Почти все его общественные деяния несут на себе печать благородства и величия».[1024]
Хотя сам Потемкин просил Попова похоронить его на родине, в Чижево, Екатерина сочла, что прах князя должен принять один из построенных им городов, Херсон или Николаев. Странно, что она не повелела привезти его в Петербург, но, может быть, ученица Просветителей, она не придавала большого значения могилам? Кроме того, она знала, что чем дальше его прах от столицы, тем меньше вероятность, что после ее смерти его осквернит Павел.
Траурная церемония состоялась в Яссах. 11 октября тело Потемкина было положено в большом зале — вероятно, во дворце Гики. Катафалк стоял в сооруженном внутри зала павильоне, обитом черным сукном и обложенном по краям серебряным позументом. Потемкин лежал в открытом гробу, обитом розовым бархатом и покрытом парчовым покрывалом. Над гробом — балдахин на десяти древках, с черными страусовыми перьями. В головах и на первых ступенях на подушках — княжеская корона, фельдмаршальский жезл, лавровый венок, ордена. По сторонам катафалка — две пирамиды с укрепленными на них гербом светлейшего и доской с перечнем его побед{104}; рядом — знамена великого гетмана. На крышке гроба — шпага, шляпа и шарф. Вокруг горели свечи, семнадцать офицеров несли караул. Проститься с телом дозволялось всем желающим. «Народ стекался толпами; горесть написана была на всех лицах, наипаче воины и молдаванские бояре проливали слезы о потере своего благодетеля и друга».[1025]
13 октября в 8 часов утра Екатеринославский и Малороссийский гренадерские и Днепровский мушкетерские полки выстроились вдоль улиц, по ходу погребальной процессии. Под колокольный звон и пушечный салют генералы вынесли гроб из церкви; балдахин несли офицеры гвардии, кисти поддерживали полковники. Впереди процессии шли эскадрон конвойных гусар и кирасирский полк Потемкина. За домочадцами покойного конюхи вели его верховых лошадей. Дальше следовали сто двадцать солдат с факелами и тридцать шесть офицеров со свечами, молдавские бояре в экзотических турецких костюмах и черкесские князья. Вслед за ними — духовенство и обер-офицеры со знаками отличия князя. Наконец, гроб на катафалке, запряженном восьмеркой лошадей. За гробом — родственники покойного. Замыкали шествие казаки.
Через высокую башню траурный кортеж вошел в крепость — монастырь Голия; гроб внесли в церковь Вознесения, которую когда-то посещал Петр I. Смешение византийского, классического и русского стилей вполне подходило для Потемкина. Пушки салютовали в последний раз.
Ничто не могло возместить Екатерине утрату Потемкина. После Рождества она три дня не выходила из своей комнаты. В честь Ясского мира она приказала салютовать из пушек 101 залпом и устроила праздничный обед, но не позволила произносить тостов. 30 января 1792 года, когда Самойлов привез подписанный договор с Турцией, она уединилась с племянником светлейшего, и они вместе долго плакали. Летом, вернувшись из Царского Села, она объявила, что будет жить во дворце Потемкина, который назвала в его честь Таврическим, и действительно стала проводить там довольно много времени. Она полюбила этот дворец и часто гуляла одна по его саду, словно ища Потемкина. Отмечая день рождения князя, она снова плакала, а в годовщину его смерти заперлась у себя на весь день. Однажды, посетив Таврический дворец в сопровождении Зубова и внуков, она заметила: «Tout etait charmant{105}, а теперь все не ладно».[1026]
Василий Попов стал не только ее секретарем, но и воплощением потемкинских политических принципов. Достаточно было ему сказать, что некое предложение не понравилось бы светлейшему, чтобы Екатерина отказалась даже рассматривать его. Когда она приезжала в Таврический дворец, Попов становился на колени и благодарил ее за то, что она удостоила своим посещением дом его благодетеля. Самойлов по смерти Вяземского занял должность генерал-прокурора. Рибас основал в Хаджибее город Одессу, как завещал Потемкин, а генерал-губернатор Новороссии Ришелье сделал этот город самым космополитичным портом мира. В 1815 году Ришелье стал министром иностранных дел Франции.
Через два года после смерти Потемкина де Линь писал о нем Екатерине как о своем «драгоценном, неподражаемом и восхитительном» друге. Принцу так и не довелось возглавить ни одну армию; он умолял Меттерниха позволить ему принять участие в наполеоновском походе на Россию — своеобразный ответ на гостеприимство Екатерины и Потемкина. Сегюр стал церемонимейстером Наполеона, в 1812 году советовал ему не связываться с Россией, а после Реставрации снова появился на политической сцене в качестве пэра Франции. Нассау-Зи-ген пытался внушить Наполеону, что должен возглавить завоевание британской Индии, но погиб в Пруссии в 1806 году.
Франсиско де Миранда, прослужив несколько лет генералом французской революционной армии, возглавил борьбу за освобождение Латинской Америки от испанского владычества. В 1806 году он высадился в Венесуэле с двумя сотнями волонтеров, но вынужден был отступить. В 1811 году Симон Боливар убедил его вернуться и возглавить патриотическую армию Венесуэлы. Военные поражения и землетрясение заставили Миранду вступить в переговоры с испанцами. Потом он попытался бежать, Боливар арестовал его, выдал испанцам, ив 1816 году, через тридцать лет после встречи с Потемкиным, Миранда умер в тюрьме.
Сэр Джеймс Харрис стал графом Малмсбери, и Талейран удостоил его названия «самого проницательного министра своего времени». Сэр Сэмюэл Бентам занял пост генерал-инспектора британского министерства кораблестроения; именно под его контролем строились те корабли, что разбили франко-испанский флот при Трафальгаре. Иеремия Бентам осуществил свой проект — построил тюрьму Паноптикон. Эксперимент не удался, но философ обвинял в этом поддержавшего его короля, Георга III.
Джон Пол Джонс получил от Вашингтона поручение разбить алжирских пиратов у Варварийского побережья, но умер в Париже 7/18 июля 1792 года в возрасте всего 45 лет и был удостоен государственных похорон. Его провозгласили основателем американского флота. Потом его могила считалась утраченной—до 1905 года, когда генерал Гораций Портер обнаружил останки Пола Джонса, прекрасно сохранившиеся в свинцовом гробу. Президент Теодор Рузвельт послал за ним четыре крейсера, и в январе 1913 года, через 125 лет после встречи с Потемкиным, Пол Джонс был погребен в мраморном саркофаге, за тысячи миль от России, в Морской академии в Аннаполисе.[1027]
Для того чтобы иметь возможность проводить время вместе с Александрой Браницкой, Екатерина отвела ей покои Потемкина в своих дворцах, но настояла, чтобы сменили прислугу: вид домашних покойного надрывал бы ей сердце. Зубову она поручила многие из постов, которые занимал светлейший, но молодой фаворит показал себя мало к чему способным.
В свое время, вдохновляемая князем, Екатерина почти уверилась в своем плане отстранить Павла от престолонаследия и передать трон внуку — Александру.[1028] Но без поддержки светлейшего у нее, вероятно, не хватило на это сил.
5 ноября 1796 года Екатерина встала, как обычно, рано утром. Когда она закрылась в уборной, с ней случился удар. Как и английского короля Георга II, последний недуг застал ее в тот момент, который объединяет монархов с простыми смертными. Через некоторое время камердинер и горничная взломали дверь, перенесли ее в спальню, уложили на матрас на полу и доктор Роджерсон сделал ей кровопускание. В Гатчину, к великому князю, поскакали курьеры (увидев их, Павел решил, что его собираются арестовать). По приезде в Петербург цесаревич вместе с Безбородко просмотрел бумаги императрицы и, как считается, уничтожил те, в которых говорилось о наследовании престола Александром. Екатерина скончалась 6 ноября, в 9 часов 45 минут, на том же матрасе на полу.
Павел I упразднил все что мог из сделанного матерью. В Таврическом дворце он устроил казармы конногвардейского полка, в Зимнем саду — конюшни. Очень по-ребячески он «наказал» библиотеку Потемкина, «сослав» ее в Казань.[1029] Павел вернулся к прусской парадомании своего отца, уничтожил ненавистные ему потемкинские порядки в армии и превратил Россию в казарму. Его деспотизм и непоследовательность объединили против него недовольных гвардейских офицеров, и в 1801 году он был убит.
Сыновья Павла I, Александр I и Николай I, сохранили прусский порядок, и царская Россия так и осталась «кнуто-германской империей», как называл ее анархист Бакунин.
Софья де Витт вышла замуж за самого богатого из польских магнатов — Феликса Потоцкого, с которым познакомилась в Яссах после смерти Потемкина. Потом, «совершив все грехи Содома и Гоморры», она завела роман со своим пасынком Юрием Потоцким и жаловалась посетившему ее Ланжерону, что не может жить всего на 60 тысяч дукатов в год. В 1805 году, после смерти старика Потоцкого, она прогнала пасынка, посвятила себя воспитанию детей, преумножила свое состояние и умерла в 1822 году, окруженная всеобщим уважением.
Александра Браницкая удалилась в свои имения и стала невероятно богатой. «Кажется, — говорила она, — у меня около двадцати восьми миллионов». Принявшая последний вздох Потемкина, она стала «носительницей его славы». В своем имении она построила усыпальницу в память Потемкина и заказала свой портрет с бюстом дяди на заднем плане. Вигель записал со слов матери, что в 1790-е годы «все почтеннейшие дамы и даже генеральши подходили к ней к руке; а она, умная, добрая и совсем не гордая женщина, без всякого затруднения и преспокойно ее подавала им».[1030] Александр I дважды посещал ее и назначил статс-дамой. Дети ее детей, русские и польские аристократы, уже обзавелись собственными семьями, когда она умерла в возрасте 88 лет в 1838 году.
Графиня Екатерина Скавронская, овдовев, вышла замуж по любви за рыцаря Мальтийского ордена графа Джулио Литта. Младшая из племянниц, Татьяна, похоронив Михаила Потемкина, вышла за уже немолодого князя Н.Б. Юсупова, богача и мецената. Этот брак не принес ей счастья, но, подобно своему дяде, она стала обладательницей огромной коллекции драгоценных камней, включавшей серьги Марии Антуанетты, алмаз «Полярная звезда» и диадему сестры Наполеона, королевы Неаполитанской. Феликс Юсупов, убивший Григория Распутина в 1916 году, гордился своим родством с Потемкиным.[1031]
Скажем еще несколько слов о внучатных племянницах Потемкина. Дочь Браницкой Елизавета вышла замуж за князя Михаила Семеновича Воронцова, сына врага Потемкина — графа Семена Романовича. Михаил Воронцов стал наместником Кавказа и Новороссии. Говорили, что Елизавета Воронцова унаследовала шкатулку с брачной записью о венчании Потемкина с Екатериной II и приказала бросить ее в Черное море.[1032] Англоман «милорд» Воронцов был не в состоянии держать под контролем сердце своей увлекающейся, но обладавшей безупречными манерами жены. В 1823 году она уже состояла в связи с одним из своих кузенов, Александром Раевским, когда познакомилась с сосланным в Одессу Александром Пушкиным. Безусловно, ее родство с великим Потемкиным служило дополнительным магнитом для молодого поэта. Между княгиней и поэтом начался бурный роман. Воронцов выслал Пушкина из Одессы. Тот ответил злой эпиграммой, а через девять месяцев после его отъезда у княгини Лизы родилась дочь Софья, в портретах которой многие усматривают разительное сходство с поэтом. Так, возможно, смешалась кровь Потемкина и Пушкина. В 1837 году, когда Пушкин погиб на дуэли, на руке у него был «талисман» — перстень с надписью на древнееврейском языке, подарок Елизаветы Воронцовой.
Дочь Скавронской, также Екатерина, скандально прославилась на всю Европу. Прозванная «обнаженным ангелом» за свое пристрастие к прозрачным платьям и «Chat Blanc» — «Белой кошкой» — за безграничную чувственность, она вышла замуж за генерала князя Петра Багратиона. От матери она унаследовала ангельское выражение лица, алебастровую белизну кожи, голубые глаза и каскад золотых волос. В 1802 году в Дрездене она стала любовницей Метгерни-ха и от него родила дочь Клементину. Гете встречался с ней в Карлсбаде и восторгался ее красотой, когда она начинала новый роман — с принцем Людвигом Прусским. Ее муж Багратион погиб в Бородинском сражении. В 1814 году она отправилась на Венский конгресс, где соперничала с герцогиней Саган за благосклонность Александра I. Затем она перебралась в Париж, прославилась там многочисленными любовными связями и потемкинскими брильянтами, а в 1830 году стала женой английского генерала и дипломата лорда Хоудена.[1033]
Софья, дочь Самойлова, вышла замуж за сына графа Бобринского, смешав кровь Екатерины, Орловых и Потемкиных.
События русской революции 1905 года начались с произошедшего в Одессе восстания матросов на броненосце «Потемкин», о котором снял свой знаменитый фильм Сергей Эйзенштейн — так имя Потемкина стало одновременно символом большевизма{106}. Лестница Ришелье в Одессе была переименована в Потемкинскую, и теперь французский герцог стоит над ступенями, носящими имя того «необыкновенного человека», которым он так восхищался.
Таврический дворец стал и колыбелью, и могилой русской демократии. В 1906 году здесь заседала Государственная дума; после Февральской революции 1917 года во дворце располагалось Временное правительство, а затем Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. 6 января 1918 года в бывшем Зимнем саду собралось первое и последнее, до 1991 года, заседание демократического парламента — Учредительного собрания. Когда Ленин оставил зал, матросы-охранники разогнали депутатов и заперли дворец.
23 ноября 1791 года тело Потемкина привезли в Херсон. По обычаю, при бальзамировании тел великих людей внутренности хоронили отдельно. Особенно большое значение придавалось погребению сердца: в том же году, несколькими месяцами раньше, сердце Мирабо было пронесено по улицам Парижа в свинцовой урне, покрытой цветами.
Считается, что внутренности Потемкина погребены в церкви Вознесения в ясском монастыре Голия. В церкви нет на это никаких указаний, но в течение двухсот лет несколько человек знали, что они хранятся в золотой шкатулке под покрытой ковром каменной плитой у подножия средневекового трона господаря: мозг, задумавший королевство Дакию, лежал под портретом молдавского князя Василия Волка.
Родственники Потемкина не забыли то место в степи, которое отметил своей пикой казак Головатый. В 1792 году Самойлов поставил здесь классической формы обелиск с высеченными на гранях надписями. Рисунок обелиска и белый камень, из которого он сделан, так напоминают фонтан в Николаевском дворце, что, скорее всего, проект стелы принадлежал тому же архитектору — Ивану Старову. Позднее, в начале XIX века, наследники Потемкина поставили рядом с обелиском пирамиду десятиметровой высоты из темного камня{107}.[1034]
В Херсоне тело Потемкина было положено в раку в центре церкви св. Екатерины-великомученицы. Императрица заказала мраморное надгробие, но через пять лет, когда она умерла, плита еще не была готова. Потемкин оставался не похороненным. У раки светлейшего молились местные жители и приезжие; в их числе был и Суворов.[1035]
Об этих посещениях узнал Павел I и страшно разгневался: даже через семь лет после своей смерти Потемкин продолжал нарушать традиции и приличия. 18 апреля 1798 года император подписал приказ генерал-прокурору Александру Куракину, «дабы все тело без дальнейшей огласки в самом же том погребу погребено было в особо вырытую яму, а погреб засыпан землею и выглажен так, как бы его никогда не бывало». Предание гласит, что на словах император приказал Куракину не только уничтожить все, что напоминало о Потемкине, но и разбросать его кости по Чертову ущелью невдалеке от церкви. Могила была выкопана и снова зарыта под покровом ночи.[1036]
4 июля 1818 года архиепископ Екатеринославский Иов Потемкин, кузен светлейшего, распорядился снять плиту пола в церкви св. Екатерины и поднять гроб. Набальзамированное тело оказалось на месте — как это случалось не раз, подданные игнорировали безумный каприз Павла. Говорили, что, уезжая из Херсона, Иов что-то увез с собой. Была ли это урна с частью праха Потемкина?
По воцарении Александра I Потемкин был реабилитирован. Было решено поставить памятник Потемкину в Херсоне.[1037] Проект заказали И.П. Мартосу, но скоро работа остановилась из-за очередной ссоры наследников о деньгах — памятник стоил 170 тысяч рублей — и возобновилась только в 1826г. Колоссальный бронзовый монумент, открытый в 1837г., представлял Потемкина в римских доспехах, с мечом, в шлеме с плюмажем, на высоком пьедестале. Во время гражданской войны власть в Херсоне менялась несколько раз, и петлюровцы, мстя за ликвидацию Запорожской Сечи, сняли памятник с пьедестала и поставили во двор местного музея. Во время Второй Мировой войны памятник был то ли вывезен, то ли уничтожен немцами.
Каждое новое вскрытие могилы рождало новые сомнения. В 1859 году еще одна официальная комиссия убедилась, что тело князя на месте. Под полом обнаружили большой склеп, в нем деревянный гроб, в деревянном — наглухо запаянный свинцовый. Местный чиновник Ф. Мильгоф осмотрел склеп и приказал запечатать его снова.[1038]
Решено было возвести надгробие — но выяснилось, что никто не заметил точного места, где его надо поместить. В 1873 году очередная комиссия вскрыла захоронение и нашла части свинцового и деревянного гробов, куски золотого позумента и три орденские звезды, а также маленький деревянный ящик, содержащий череп с треугольным отверстием в основании — вероятно, тем, что сделал доктор Массо при бальзамировании, — и остатки каштановых волос. На этот раз над могилой поставили надгробную плиту. Прах Потемкина, если это был он, наконец обрел покой.[1039]
Затем произошла революция. Большевики приказали раскопать кладбище при церкви св. Екатерины, где были похоронены офицеры, убитые при осаде Очакова. Пожелтевшие фотографии, сохранившиеся у местного священника, отца Анатолия, представляют жуткую сцену: крестьяне стоят над скелетами в остатках мундиров екатерининских времен; на заднем плане маячит кожанка чекиста.
В 1930 году молодой писатель Борис Лавренев приехал в Херсон, свой родной город, навестить больного отца. Проходя через крепость, он увидел на церкви табличку: «Музей атеизма». Он вошел — в стеклянной витрине темнело «что-то круглое, коричневое». Предмет оказался черепом, а поясняющая надпись гласила: «Череп любовника Екатерины II Потемкина». В соседней витрине стоял скелет с остатками мышц: «Кости любовника Екатерины II Потемкина». В третьей лежала одежда Потемкина — остатки зеленого бархатного кафтана, белых панталон, чулок и туфель.
Лавренев немедленно отправил телеграмму в Наркомат культуры, а когда вернулся в Ленинград, узнал, что херсонский «музей» закрыт. Потемкина снова собрали, положили в новый гроб, гроб поставили в новый склеп и закрыли новой кладкой.[1040]
11 мая 1984 года начальник Херсонского отделения службы судебно-медицинской экспертизы Л.Г. Богуславский снова вскрыл могилу и обнаружил «31 человеческую кость [...] принадлежащую мужскому скелету, рост около 185 см [...] возраст — около 52-55 лет»; возраст скелета определялся приблизительно двумя столетиями. Однако в гробу откуда-то взялись эполеты английского офицера времен Крымской войны. Гроб был не очень старый, но кроме православного имел на крышке еще и католический крест. Эксперты нашли, что прах несомненно принадлежит Потемкину. Но откуда взялись католический крест и английские эполеты?
В июле 1986 года, отвечая на письмо историка Евгения Анисимова, который остался неудовлетворен результатами экспертизы, Богуславский заверил, что экспертиза останков сомнения не вызывает. Оригинальные гробы — деревянный с позолотой и свинцовый — исчезли во время революции. Католический гроб, слишком короткий для покойника, относится, вероятно, к 1930 году. Английские эполеты — из другого захоронения: свидетельство грабежа могил большевиками. Итак, в 1986 году князь Таврический был похоронен снова — если считать ясское захоронение и все эксгумации, — в восьмой раз.[1041]
Сегодня церковь св. Екатерины полна прихожан. Первое, что бросается в глаза при входе, — решетка вокруг белой мраморной плиты, в самой середине храма, под куполом. Надпись на ней гласит:
Фельдмаршал Светлейший князь
Григорий Александрович
Потемкин- Таврический
Родился 30 сентября 1739 года
Умер 5 октября 1791 года
Похоронен в сем храме 23 ноября 1791 года
По краям плиты — семь позолоченных медальонов с названиями взятых Потемкиным городов и датами.
Старушка, продающая свечи у входа, советует мне подождать священника. Отец Анатолий — представитель нового поколения православных священников — рад показать иностранцу могилу Потемкина. Склеп никто не открывал уже несколько лет.
Отец Анатолий зажигает шесть свечей и открывает незаметную дверь в деревянном полу. По ступеням, ведущим в темноту, он спускается первым, ставя восковые свечи на выщербинки в стене. Добираемся до маленького помещения, где когда-то висели иконы и стояли серебряный, свинцовый и деревянный гробы Потемкина. В середине склепа на небольшом возвышении — простой деревянный гроб с крестом на крышке. Священник зажигает еще несколько свечей и поднимает крышку гроба. Под ней — черный мешок с черепом и нумерованными костями князя Потемкина.
Остается только одна тайна: где сердце Потемкина? Его не похоронили в Голии вместе с мозгом и внутренностями, а положили в золотую урну. Но где она? Самойлов писал, что она находится под престолом церкви св. Екатерины в Херсоне, однако отец Анатолий уверяет, что никаких следов урны нет. По всей видимости, сердце Потемкина увез в 1818 году архиепископ Иов. В имение Браницкой? Или в Чижево, где сам светлейший просил похоронить его? Сегодняшние обитатели Чижево верят, что сердце Потемкина похоронено там, в той церкви, где он учился петь и читать.
Это было бы справедливо: империи, для которой столько сделал Потемкин, сегодня больше нет, и большую часть его завоеваний Россия потеряла. Если кости Потемкина остались на Украине, то сердце его, конечно, должно принадлежать России.
Приложение
За те несколько лет, что я работал над этой книгой, мне помогали самые разные люди, от пасечника в смоленской деревне, где родился Потемкин, до профессоров и архивистов в Москве, Петербурге, Париже, Варшаве, Одессе и Яссах.
На этот труд меня вдохновила Исабель де Мадариага, почетный профессор факультета славистики Лондонского университета, корифей в изучении екатерининской эпохи. В своем фундаментальном труде «Россия в эпоху Екатерины Великой» она воздала должное личности Потемкина и констатировала необходимость написания его биографии. На протяжении всей моей работы она помогала мне идеями и советами. Больше всего я благодарен ей за наши встречи, во время которых она высказывала мне свои замечания с мягким юмором, который, наряду с другими чертами, делает ее очень похожей на саму императрицу. Исторической истиной эта книга обязана ей, а за ошибки и неточности в ответе я сам. Я счастлив, что мог положить от ее имени венок на могилу Потемкина в Херсоне.
Не состоялась бы эта книга и без мудрых подсказок и практической помощи Александра Борисовича Каменского, профессора кафедры новой и новейшей истории Российского государственного гуманитарного университета, авторитетного специалиста по истории Екатерины И. Огромная благодарность Вячеславу Сергеевичу Лопатину, щедро поделившемуся со мной своим уникальным знанием российских архивов; его гостеприимному дому я обязан многими приятными часами моих московских поездок. Он также прочитал книгу в рукописи и высказал свои замечания.
Я благодарен профессору Дж.Т. Александеру за ответы на мои вопросы и профессору Е.В. Анисимову за помощь в петербургских разысканиях. Джордж Ф. Джусбери помог мне своим знанием военной карьеры Потемкина, а профессор Дерек Билз — сведениями, касающимися жизни Иосифа II. Курс лекций проф. Билза и проф. Тима Блэннинга (Сидни Сассекс Колледж, Кембридж) «Просвещенный деспотизм», который я слушал студентом, заложил основу этой книги. Отдельно хочу подчеркнуть особую важность для моей работы трех книг — «Екатерина II и Г.А. Потемкин. Личная переписка. 1769-1791», подготовленную B.C. Лопатиным, упомянутую выше монографию Исабель де Мадариага и исследование Дж.Т. Александера «Екатерина Великая».
Не могу не поблагодарить Его Королевское Высочество принца Уэльсского, за помощь, оказанную мне в рамках его участия в реставрации памятников Санкт-Петербурга и в подготовке празднования 200-летнего юбилея А.С. Пушкина; Сергея Дегтярева-Фостер, неутомимого пропагандиста русской истории, помогавшего мне в путешествиях по России; Иона Флореску, стараниям которого я обязан успехом моей румынско-молдавской экспедиции. Благодарю также лорда Ротшильда, проф. Михаила Пиотровского и Джеральдин Норман — председателя правления, президента и директора Треста развития Эрмитажа, которые организуют в лондонском музее Сомер-сет-Хаус постоянную выставку предметов из коллекции Екатерины II.
Лорду Брэбурну я признателен за ознакомление с полным текстом моей рукописи и, за прочтение отдельных глав — д-ру Аманде Форман, Флоре Фрэзер и особенно Эндрю Робертсу за подробные советы и ободрение. Уильям Хэнем прочитал отрывки, касающиеся искусства, проф. Джон Клиер фрагменты об отношениях Потемкина с евреями, Адам Замойский — фрагменты о Польше.
В Москве я благодарен руководителям и сотрудникам РГАДА и РГВИА. Неоценимую помощь мне оказали Наталья Болотина, изучающая жизнь и деятельность Потемкина, и ее мать Светлана Романовна, а также Игорь Федюкин, Дмитрий Фельдман, Юлия Турчанинова и Эрнст Гусинский. Галина Бабкова (Моисеенко), один из лучших специалистов исторического факультета РГГУ, помогла найти и отобрать архивные материалы.
В Санкт-Петербурге с лучшими словами благодарности я вспоминаю моих друзей и коллег проф. Зою Белякову и д-ра Сергея Кузнецова, руководителя исследовательского отдела Строгановского дворца (Государственный Русский музей), а также сотрудников РГИА, директора Государственного Эрмитажа проф. Михаила Пиотровского, директора Русского музея Владимира Гусева; заместителя директора ГРМ Людмилу Куренкову, зав. отделом скульптуры XVIII — начала XX в. д-ра Елену В. Карпову; Марию П. Гарнову из отдела западноевропейского искусства Эрмитажа, сотрудницу Эрмитажа Г. Комелову и А.Н. Гусанова из Павловского дворца-музея. Инна Локотни-кова любезно показала мне Аничков дворец, Л.И. Дьяченко провела для меня подробную экскурсию по Таврическому дворцу. Благодарю Леонида Богданова за фото портрета Потемкина для обложки книги.
В Смоленске мне помогали сотрудник Смоленского исторического музея Анастасия Тихонова, Елена Самолюбова и заместитель начальника смоленского Отдела народного образования по науке Владимир Голичев; в Чиже-во — школьный учитель и знаток местных преданий Виктор Желудев и учителя школы деревни Петрищево.
За помощь в путешествии по южной Украине я признателен Виталию Сергейчику из пароходной компании «Укмар» и Михаилу Широкову; в Одессе — Наталье Котовой и Семену Я. Апартову, проф. кафедры международных исследований Одесского государственного университета; в Одесском историческом музее — директору Леониде А. Лещинской, заместителю директора Вере В. Солодовой и особенно хранителю и знатоку архива, Адольфу Николаевичу Малых; директору одесского Музея украинского торгового флота Петру П. Клишевскому и фотографу Сергею Д. Беренинычу; в Очакове — мэру города Юрию М. Ишенко; в Херсоне — отцу Анатолию, священнику церкви св. Екатерины; Ольге Пицык в Днепропетровске, сотрудникам краеведческих музеев Николаева и Симферополя и Анастасу Викгоревичу из севастопольского Музея морского флота. Огромную помощь мне оказала Анна Абрамовна Галиченко, автор книги «Алупка: дворец и парк».
В Румынии благодарю Развана Магуряну, проф. Бухарестского политехнического университета, и Иоана Воробета, который довез нас до Ясс, охранял нас и сделал возможным наш переезд в Молдавию; в Яссах — проф. Фанику Унгу-ряну, знатока монастыря Голия, и Александра Унгуряну, проф. географии Ясского университета, без чьей поддержки я не смог бы найти место смерти Потемкина; в Варшаве — Петера Мартына, Аркадиуша Бауц-Бентковского и сотрудников Архива древних актов; в Париже — сотрудников Архива Министерства иностранных дел. Карен Бланк изучила и перевела немецкие тексты. Има-нол Гальфарсоро перевел дневник Миранды с испанского языка. В Телави (Грузия) Леван Гахехиладзе познакомил меня с Лидией Потемкиной.
В Великобритании я должен поблагодарить также моего агента, Джорджину Кэйпел, председателя правления «Ориона» Энтони Читэма, директора издательства «Вайденфелд энд Николсон» Иона Труина и лорда и леди Вайденфелд. Благодарю Джона Джилкса за исполнение географических карт; Питера Джеймса, многотерпеливого редактора этой книги; сотрудников Британской библиотеки, Британского музея, Государственного архива, Лондонской библиотеки, библиотеки Института Восточной Европы и славяноведения, Корнуэль-ского и Винчестерского архивов и архива Энтони-Истейт. Благодарю моего отца, доктора медицины Стивена Себаг-Монтефиоре, за подсказки, касающиеся психологии и болезней Потемкина, и мою мать, Эйприл Себаг-Монтефиоре, за тонкий анализ личных отношений моего героя. Не смог бы я написать эту книгу и без уроков русского языка, преподанных мне Галиной Олексюк. За помощь и ответы на вопросы хочу поблагодарить также Нила Ашерсона, Вадима
Беньятова, Джеймса Блаунта, Алена де Белтона, д-ра Джона Кейси, достопочтенного Л.ХЛ. (Тима) Коэна, проф. Энтони Кросса, сэра Эдварда Дэшвуда, Ингеборгу Дапкунайте, барона Роберта Димсдейла, проф. Кристофера Даффи, Лайзу Файн, княгиню Катю Голицыну, князя Эммануила Голицына, Дэвида Хеншоу, проф. Линдзи Хьюз, Таню Иллингворт, Анну Жуковскую, Пола и Са-финаз Джонс, Дмитрия Ханкина, проф. Родрика Э. МакГру, Джайлза МакДоноу, Ноэяа Малькольма, графа Мальмсбери, Нила МакКендрика (Гонвилл энд Гай Колледж, Кембридж), д-ра Филипа Манзела, Сергея Александровича Медведева, Чарльза и Пэтти Палмер-Томкинсон, д-ра Монро Прайс, Анну Райд, Кеннет Роуз, достопочтенную Олыу Полиции, Хайвелла Уильямса, Андре За-луского.
Мою жену Санту я благодарю за то, что она так долго терпела присутствие Потемкина в нашей семье.
Издание моей книги в России для меня большая честь, которой я обязан Ингеборге Дапкунайте, Михаилу Фридману, лорду Вайденфелду и особенно Владимиру Григорьеву.
Примечания
Даты приводятся по юлианскому календарю (старый стиль), отстававшему в XVIII веке от григорианского (новый стиль) на одиннадцать дней. В тех случаях, когда речь идет о событиях, происходивших в Европе, указываются числа по обоим календарям.
Пролог. СМЕРТЬ В СТЕПИ
1 Брикнер 1891. С. 222. Основной источник нашего рассказа о смерти Потемкина — рапорт B.C. Попова Екатерине II (РА. 1878. Ns I. С. 20-25); см. также: РГВИА 52.2.94.3-26.
2 Ligne 1809. Р. 97 (де Линь Кауницу, нояб. 1788).
3 Гравюра М.М. Иванова, Эрмитаж (Е: 22158). B.C. Попов, который в момент смерти Потемкина находился в Яссах, представлен на гравюре, вероятно, по его собственному указанию. Иванов был личным художником Потемкина и путешествовал в его свите (см. главу 23). Это не единственное изображение кончины Потемкина: см. также гравюру Г.И. Скородумова «Смерть Г.А. Потемкина 5 октября 1791 г.»
4 Переписка. № 1161 (Екатерина II Потемкину 3 окт. 1791).
5 Переписка. № 1159 (Екатерина II Потемкину 30 сен. 1791).
6 Переписка. № 1162 (Потемкин Екатерине II4 окт. 1791).
7 Массон 1996. С. 68.
8 Самойлов 1867. Стб. 1558; АКВ. Т. 13. С. 216-222 (Безбородко Завадовскому 5 дек. 1791).
9 Массон 1996. С. 68; ВМ. 33540. F. 296 (И. Бентам П.М. Дашкову 19/30 июля 1786).
10 Ligne 1809. Vol. 2. Р.6 (де Линь Сегюру 1 авг. 1788).
11 Сегюр 1989. С. 338; Davis 1961. Р. 148;
12 Пушкин. Ак. Т. 12. С. 177.
13 Солдатский А. Секрет князя // ЗООИД. Т. 9. С. 360-363.
14 Переписка. С. 963 (B.C. Попов Екатерине И).
15 Храповицкий. 11 окт. 1791.
16 Массон 1996. С. 69.
17 Сб. РИО. Т. 23. С. 561 (Екатерина II Гримму).
18 Храповицкий. 6 и 12 янв. 1791.
ОБ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г.А. ПОТЕМКИНА
Педантичная мораль и династическая щепетильность Романовых XIX века не допускали реабилитации Потемкина: свидетельства современников о его браке с императрицей были напечатаны только после революции 1905 года. Сыграл свою роль и культ Суворова, сложившийся после итальянского похода 1799 года, продержавшийся весь XIX век и потом восстановленный во время Великой Отечественной войны. До смерти Сталина отношение советских историков к Потемкину определялось классовой ненавистью и коммунистическим ханжеством. Он служил иллюстрацией всесильности императорских капризов, образом выскочки, нередко мешавшего действиям настоящего героя, — Суворова (см.: БСЭ. Т. 46. М., 1940. С. 545). В 1940-е годы эта тенденция была усугублена еще более негативными оценками (см., например: История СССР 1949). Первые серьезные исследования о Потемкине появились только в 1950-е годы (см.: Дружинина 1955; Дружинина 1959). Самые же основательные труды — B.C. Лопатина и О.И. Елисеевой — появились после падения коммунистического режима, вернув Потемкину его заслуженное место в русской истории.
На Западе, со времени смерти Потемкина и до сегодняшнего дня, опубликовано множество романических историй о Екатерине и ее любовнике, повлиявших даже на академических ученых. Так, Т.С.У. Блэннинг, профессор истории Европы нового времени в Кембридже, крупный специалист по эпохе Просвещения, в книге «Joseph II: Profiles in Power» описывает Потемкина как постельного героя (см.: Blanning 1994. Р. 176), а Норман Дэвис, профессор истории Института славянских и восточно-европейских исследований (Лондонский университет) в книге «Europe: A History» упоминает потемкинские деревни как действительный исторический факт (см.: Davies 1996. Р. 658). Разумеется, подобных казусов нет в работах лучших западных специалистов по истории России XVIII века: в исследованиях Марка Раева (см.: Raeff 1967; Raeff1972), Исабель де Мадариага (см.: Madariaga 1981; Madariaga 1998), Дж.Т. Александера (см.: Alexander 1969), У. Брюса Линкольна (см.: Lincoln 1981) деятельность Потемкина проанализирована в соответствии с исторической истиной. Потемкину уделено немалое место и в лучших западных биографиях Екатерины II: Винсент Кронин дает подробный исторический портрет Потемкина (см.: Cronin 1978), Анри Труайя делает основной акцент на объяснении личности светлейшего князя (см.: Troyat 1977).
Часть первая. ПОТЕМКИН И ЕКАТЕРИНА. 1739-1762
1. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ЮНОША
19 Семевский 1875. С. 486.
20 Карабанов 1872. С. 463; Рассказ жителя Санкт-Петербурга С А Медведева, потомка Михаила Потемкина (О семье Потемкина // Дворянская ассамблея. Вып. 1998-2000); Болотина 1995а. С. 16-25; Самойлов 1867. Стб. 558; Список военным чинам первой половины XVIII столетия // Сенатский архив. 1895. Т. 7.
21 Карабанов 1872. С. 463; Болотина 1995а. С. 16-25; Golitsyn 1855. P. XXVIII-XXXI, 253, 255, 262-263, 305, 370.
22 Энгельгардт 1997. С. 16.
23 Марфа (Елена) вышла замуж за полковника В.А. Энгельгардта, Пелагея — за П.Е. Высоцкого, Дарья — за А.А. Лихачева, Мария — за Н.Б. Самойлова, Надежда умерла девицей в 19 лет в 1757 г.
24 Anspach. 9 марта 1786; Ligne 1809. Р. 69 (де Линь маркизе де Куаньи, письмо IX, 1787).
25 Семевский 1875. С. 486-488; Карабанов 1872. С. 463; Бумаги графа А.Н. Самойлова // РА. 1882. № 2. С. 91-95 (митрополит Платон графу А.Н. Самойлову 26 фев. 1792); С. 93 (Потемкин митрополиту Платону; священник Антип Матвеев П.В. Лопухину).
26 Фонвизин 1959. Т. 2. С. 91.
27 Жизнь Потемкина 1812. С. 7.
28 Anspach. 18 фев. 1786.
29 Сегюр 1989. С. 327.
30 Екатерина 1990. С. 338.
31 Пушкин. Ак. Т. 8. Ч. 1. С. 42.
32 Пушкин. Ак. Т. 8. Ч. 1. С. 190.
33 Czartoryski 1888. Р. 87.
34 Екатерина 1990. С. 422.
35 Poniatowski 1914. Р. 156-157; ср. Понятовский 1995. С. 104-105.
2. ГВАРДЕЕЦ И ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ: ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
36 Рассказ о жизни Екатерины до переворота основан на ее «Собственноручных записках» (Екатерина 1907. С. 251-460; Екатерина 1990); см. также: Madariaga 1981. Р. 1-30; Alexander 1989. Р. 17-60; Анисимов 1999. С. 383-405.
37 PRO FO 19/82. Charles, Lord Cathcart (29 дек. 1769); Anspach. 29 фев. 1786; Кросс 1996. С. 266.
38 Валишевский 1911. С. 125.
39 Там же.
40 Екатерина 1990. С. 430.
41 Чечулин 1924. С. 101.
42 Семевский 1867. С. 161; Дашкова 1987. С. 51.
43 Екатерина 1990. С. 463 [О смерти императрицы Елизаветы Петровны].
44 РА. 1907. № 11. С. 130-132; Краснобаев 1983. С. 488-489.
45 Массон 1996. С. 83.
46 Пшвные источники описания переворота — «Собственноручные записки» Екатерины; ее письмо Понятовскому от 2 авг. 1762; письмо Роберта Кейта к лорду Гренвиллу, 1 (12) июля 1762 // Сб. РИО. Т. 12. С. 2-4; Madariaga 1981. Р. 21-37; Alexander 1989. Р. 5-16.
47 Дашкова 1987. С. 54-55.
48 Там же. С. 66, 68.
49 Carew, Reginald Pole. Russian anecdotes. The Antony Archive CO/R/3/92. Эти истории основаны на разговорах путешественника с выдающимися русскими, с которыми он познакомился во время своего пребывания в России в 1781 г. Скорее всего, эти рассказы о перевороте он слышал от самого Потемкина. История о том, что Потемкин вместе с В. Бибиковым сопровождал карету Екатерины — первое упоминание в мемуарах современников о местонахождении Потемкина в эти часы.
50 Екатерина 1990. С. 498 (письмо Понятовскому 2 авг. 1762); Самойлов 1867. Стб. 482-486.
51 Дашкова 1987. С. 68.
52 Там же. С. 69.
3. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
53 Сегюр 1989. С. 338-339.
54 Memoirs. Р. 16-17 (это издание представляет собой перевод книги Cerenville 1808 и адаптацию Helbig 1779-1780 и содержит легенды о Потемкине, ходившие о нем при его жизни; см. прим. 8 к гл. 25); Segur 1859. Vol. 1. Р. 292.
55 Asseburg 1842. Р. 315; Бильбасов 1900. Т. 2. С. 74; Екатерина 1907. С. 567 (письмо Понятовскому 2 авг. 1762).
56 Дашкова 1987. С. 72.
57 Сб. РИО. Т. 7. С. 108-120; Т. 42. С. 475,480; Самойлов 1867. Стб. 482-486.
58 Иванов 1995. С. 15. Иванов подвергает серьезному сомнению знаменитое «третье письмо» от А.Г. Орлова к Екатерине II, содержащее признание в убийстве Петра III во время пьяной драки и называющее виновником кн. Федора Барятинского. См. также: Екатерина 1907. С. 568; АКВ. Т. 21. С. 89.
59 Дашкова 1987. С. 78.
60 Alexander 1989. Р. 14.
61 РГАДА 268.890.291-294 (Герольдмейстерская контора); РА. 1867. Кн. 4. Стб. 482-486; см. также: Анненков 1849.
62 Thiebault 1804. Vol. 2. Р. 78; РА. 1907.11. С. 130-131; о таланте Потемки-на-мима см.: Парело 1879. С. 315.
63 Екатерина 1907. С. 546-563 (письма Понятовскому 9 авг., 12 сент., 27 дек. 1762); см. также «Записки».
64 Екатерина 1907. С. 559 (письмо Понятовскому).
65 Массон 1996. С. 142.
66 Zamoyski 1992. Р. 86; АХС 798 f.527 (Понятовский Екатерине II 2 нояб. 1763); Poniatowski 1914. Р. 33.
67 Валишевский 1911. С. 95-96.
68 Анисимов 1999. С. 199.
69 Troyat 1977. Р. 175.
70 ВМ. Add MS 15,875 (сэр Джордж Макартни леди Холланд, фев. 1766); Mansel 1992. Р. 141.
71 Richardson 1784.
72 Казанова 1990. С. 582, 584; Mansel 1992. Р. 96.
73 ВМ. Add MS 15,875 (сэр Джордж Макартни леди Холланд, фев. 1766).
74 Казанова 1990. С. 584.
75 Corberon 1904. Vol. 2. Р. 95 (13 янв. 1777).
76 Макартни леди Холланд (см. прим. 18); Ligne 1880. Vol. 1. Р. 101-102.
77 Екатерина II Завадовскому. С. 244.
78 Рибопьер 1877. С. 476; Ligne 1809. Vol. 2. Р. 45.
79 Damas 1912. Р. 99.
80 Щербатов 1858. С. 93.
Часть вторая. ПРИБЛИЖЕНИЕ. 1762-1774
4. ЦИКЛОП
81 Пушкин. Ак. Т. 12. С. 177; см. также: Гельбиг 1887. С. 24.
82 Переписка. № 10 (Екатерина II Потемкину 21 фев. 1774).
83 Казанова 1990. С. 581, 553.
48 Екатерина 1907. С. 573-574 [Отрывки].
85 Parkinson 1971. Р. 211.
86 Щербатов 1858. С. 93.
87 Сб. РИО. Т. 19. С. 297 (Ганнинг Саффолку, 28 июля/8 авг. 1772).
88 Ransel 1975. Р. 76. Сб. РИО. 12. С. 202-203 (Макартни Сэндвичу, 18 мар. 1765).
89 Краснобаев 1983. С. 490.
90 Самойлов 1867. Стб. 598.
91Семевский 1875. С. 490-491.
92 Самойлов 1867. Стб. 601-602; Saint-Jean 1888. Ch. 1-12; PC. 1872. Т. 5. С. 466; Семевский 1875. С. 493.
93 Memoirs. Р. 20.
94 Семевский 1875. С. 492-493; ГАРФ 728.1.425.1-5. Екатерина 1907. С. 697-699 (Потемкину, март 1774); Парело 1879. С. 309-310; Самойлов 1867. Стб. 601-604.
95 PC. 1872. № 5. С. 466; Saint-Jean 1888. Ch. 1-12.
96 Валишевский 1911. С. 45.
97 Saint-Jean 1888. Ch. 1-12. Графиня Елизавета Разумовская позже была помещена отцом в монастырь за тайный брак с гр. Петром Апраксиным. Потемкин заступался за нее перед К. Г. Разумовским; Семевский 1875. С. 492-493.
98 Buckinghamshire 1900-1902. Vol. 2. Р. 232.
5. ГЕРОЙ ВОЙНЫ
99 Переписка. № 1 (Потемкин Екатерине II24 мая 1769).
100 Дубровин 1884. Т. 2. С. 403 (Екатерина II З.Г. Чернышеву 23 июня 1769).
101 Екатерина II — Вольтер. Т. 1. С. 59 (4/15 авг. 1769).
102 Ланжерон 1895. С. 199-200.
103 Memoirs. Р. 25.
104 Бартенев 1911. Т. 4. С. 14.
105 Langeron // ААЕ 20:14-15.
106 Переписка. С. 545 (Потемкин Румянцеву 21 дек. 1769).
107 Румянцев 1826. С. 164-171.
108 Там же.
109 Ligne 1809. Vol. 2. Р. 8 (де Линь Сегюру 1 авг. 1788).
110 Сегюр 1989. С. 361.
111 Ligne 1809. Vol. 2. Р. 10-13 (сент. F78S);
112 Там же.
113 Румянцев 1826. С. 164-171; Переписка. № 2 (Потемкин Екатерине II 21 авг. 1770).
114 Семевский 1875. С. 495.
115 Kinross 1979. Р. 400.
116 Kinross 1979. Р. 401.
117 ЧОИДР. 1865. Кн. 2. С. 111-113 (Румянцев Екатерине II, 1771).
118 КФЖ. Январь-апрель 1771; Семевский 1875. С. 494; Переписка. № 12 (Екатерина II Потемкину; традиционно это письмо, где императрица описывает, как она пошла в библиотеку «к дверям, чтоб Вас дождаться, где в сквозном ветре простояла два часа», датируется февралем 1774, но оно могло быть написано и в 1771-1772).
119 СН. 1879. Т. 1. С. 244, 283 (Г.Г. Орлов П.А. Румянцеву).
120 Румянцев 1826. С. 164-171.
121 Самойлов 1867. Стб. 1002; Скальковский 1885-1886. Т. 3. С. 127-129 (Потемкин Запорожскому атаману от 15 апр. и 25 мая 1772);
122 АКВ. Т. 8. С. 11 (С.Р. Воронцов Ф.В. Ростопчину 18/29 окт. 1796; пер. с франц.).
123 Сб. РИО. Т. 13. С. 258-261.
124 Ransel 1975. Р. 293 (Риббинг президенту шведской канцелярии 13 июля 1772).
125 Переписка. № 10 (Екатерина II Потемкину 21 фев. 1774, «Чистосердечная исповедь»); № 9 (Екатерина II Потемкину, февраль 1774). Письмо, упомянутое в прим. 20, может относиться и к этому приезду Потемкина в 1772.
126 Самойлов 1867. Стб. 1004-1016.
127 Переписка. № 10 (Екатерина II Потемкину 21 фев. 1774); Валишевский 1911. С. 110.
128 Сб. РИО. Т. 13. С. 270-272; Сб. РИО. Т. 19. С. 325.
129 АКВ. Т. 32. С. 165 (С.Р. Воронцов А.Р. Воронцову 9 фев. 1774 и 11 июня 1773).
130 Румянцев 1826. С. 164-171; Долгорукий 1889. С. 481-517. Записки Ю.В. Долгорукого содержат известную долю вымысла. Об отношении к Потемкину в армии см. статью B.C. Лопатина в «Переписке» (с. 500-502) и письмо М.В. Муромцева к А.И. Бибикову из Силистрии: Бибиков 1865.
131 Румянцев 1826. С. 164-171 (Румянцев Екатерине II 14 нояб. 1775); Екатерина II — Вольтер. Т. 2. С. 158 (Екатерина II Вольтеру 19/30 июня 1773).
132 Румянцев 1826. С. 164-171 (Румянцев Екатерине II 14 нояб. 1775).
133 Переписка. № 3 (Екатерина II Потемкину 4 дек. 1773)
134 Alexander 1969. Р. 85 (П. Любасый Н.Н. Бантыш-Каменскому 18 дек. 1773).
6. «НА ВЕРХУ ЩАСТИЯ»
135 Валишевский 1911. С. 143; Переписка. № 10 (Екатерина II Потемкину 21 фев. 1774).
136 Saint-Jean 1888. P. 1-10.
137 Документы ставки Пугачева. № 7 (1 октября 1773. Именной указ башкирам Оренбургской губернии).
138 Сб. РИО. Т. 19. С. 399-401 (Ганнинг Саффолку 4/25 фев. 1774).
139 Alexander 1989. Р. 173.
140 Сегюр 1989. С. 413 (письмо Екатерины II, предположительно г-же Жоффрен; многократно публиковалось, хотя оригинал неизвестен).
141 Asprey 1986. Р. 600.
142 Энгельгардт 1997. С. 42; Memoirs. Р. 27; Saint-Jean 1888. Р. 1-12.
143 Екатерина 1907. С. 697-699 (Екатерина II Потемкину, март 1774); Массон 1996. С. 68; Memoirs. Р. 27; Энгельгардт 1997. С. 42.
144 Memoirs. Р. 27.
145 Переписка. № 10 (Екатерина II Потемкину 21 фев. 1774).
146 Переписка. № 5 (Екатерина II Потемкину, фев. 1774).
147 Переписка. № 7 (Екатерина II Потемкину 15 фев. 1774).
148 Переписка. № 9 (Екатерина II Потемкину 18 фев. 1774).
149 Переписка. № 20,199 (Екатерина II Потемкину март 1774).
150 Переписка. № 9, 11 (Екатерина II Потемкину 18 фев. и после 21 фев. 1774).
151 Валишевский 1911. С. 136 (слова Васильчикова, записанные Дюраном де Дистрофом).
152 Переписка. № 13 (Потемкин Екатерине II 27 фев. 1774).
153 Переписка. № 17 (Екатерина II Потемкину 28 фев. 1774).
154 Сб. РИО. Т. 19. С. 405 (Ганнинг Саффолку 4/15 мар. 1774); Барсуков 1873. Стб. 123-125 (Сольмс Фридриху II 7 мар. 1774).
155 Friedrich der Grosse. Politische Correspondenz. Vol. 35. P. 215 (30 мар. 1774).
156 PC. 1873. Вып. 8-9. С. 342 (П.И. Панин А.Б. Куракину 7 мар. 1774); Брикнер 1891. С. 26-27; Румянцева 1888. С. 179-181. Восторженную реакцию генерала А.И. Бибикова на возвышение Потемкина см.: РА. 1866. Стб. 396.
157 Сб. РИО. Т. 27. С. 52 (Екатерина II Гримму 14 июля 1774).
Часть третья. ВМЕСТЕ. 1774-1776
7. ЛЮБОВЬ
158 Это описание внешности Потемкина основано на неоконченном портрете Лампи (Эрмитаж); Stedingk 1919. Р. 98 (Я.Я.Йеннингс Фронсу 17 мар. н.с. 1791).
159 Сб. РИО. 1876. Т. 19. С. 405 (Ганнинг Саффолку 4/15 мар. 1774).
160 Барсуков 1873. Стб. 123,125 (Сольмс Фридриху II 4 и 7 мар. 1774).
161 Сегюр 1989. С. 318; Wraxall 1776. Р. 201; ААЕ И: 297 (1773).
162 Переписка. № 27 (Екатерина II Потемкину, март 1774).
163 Брикнер 1891. С. 25-26 (Е.К. Сивере Я.Е. Сиверсу 28 апр. 1774).
164 Переписка. № 141 (Екатерина II Потемкину 8 дек. 1774).
165 Niemcewicz 1848. Р. 80.
166 Сб. РИО. Т. 23. С. 84 (Екатерина II Гримму 2/4 мар. 1774).
167 Сб. РИО. Т. 23. С. 7 (Екатерина II Гримму 30 авг. 1774); Переписка. № 231 (Екатерина II Потемкину, 1774).
168 Сб. РИО. Т. 23. С. 3 (Екатерина II Гримму 19 июня 1774); Переписка. № 20 (Екатерина II Потемкину, март 1774).
169 Сб. РИО. Т. 23. С. 4 (Екатерина II Гримму 3 авг. 1774).
170 Переписка. № 15 (Екатерина II Потемкину 28 фев. 1774).
171 Переписка. № 32 (Екатерина II Потемкину после 19 мар. 1774).
172 Переписка. № 50 (Екатерина II Потемкину 16 апр. 1774).
173 Переписка. № 12 (Екатерина II Потемкину 26 фев. 1774 ?).
174 Переписка. № 238, 241 (Екатерина II Потемкину, 1774), № 46 (Екатерина II Потемкину после 10 апр. 1774).
175 Переписка. № 15 (28 фев. 1774); № 34 (после 23 мар. 1774).
176 Ротиков 1998. С. 103-104.
177 Переписка. № 14 (Екатерина II Потемкину 27 фев. 1774).
178 Переписка. № 15, 27 (Екатерина II Потемкину 28 фев., после 15 мар. 1774).
179 Переписка. № 429 (Екатерина II Потемкину, фев.-март 1776), № 212 (мар.-дек. 1774).
180 Переписка. № 97 (Екатерина II Потемкину 18 авг. 1774), № 400 (1775), № 165 (1774), № 168(1774).
181 Переписка. № 391, 390 (Екатерина II Потемкину, 1775).
182 Переписка. № 399, 58 (Екатерина II Потемкину, 1775, 8 мая 1774).
183 Переписка. № 30 (Екатерина II Потемкину до 19 мар. 1774).
184 Переписка. № 31 (Екатерина II Потемкину, после 19 мар. 1774).
185 Переписка. № 428 (Екатерина II Потемкину, фев.-март 1776).
186 Переписка. № 54 (Екатерина II Потемкину после 22 апр. 1774).
187 Переписка. № 10 (Екатерина II Потемкину 21 фев. 1774).
8. ВЛАСТЬ
188 Массон 1996. С. 68.
189 Переписка. № 19 (Екатерина II Потемкину 1 мар. 1774).
190 Переписка. № 20 (Екатерина II Потемкину после 1 мар. 1774).
191 Переписка. № 12 (Екатерина II Потемкину 26 фев. 1774 (?)).
192 Переписка. № 15 (Екатерина II Потемкину 28 фев. 1774).
193 РГВИА 52.1.72.336.
194 Румянцева 1888. С. 179-180; Энгельгардт 1997. С. 39.
195 Румянцева 1888. С. 179-180; Брикнер 1891. С. 26 (Е.К. Сиверс Я.Е. Сиверсу 17 апр. 1774); Барсуков 1873. № 2. С. 125 (Сольмс Фридриху II 7 мар. 1774).
196 Переписка. № 21 (Екатерина II Потемкину после 1 мар. 1774).
197 Румянцева 1888. С. 179-181.
198 Переписка. № 28 (Екатерина II Потемкину до 17 мар. 1774).
199 Переписка. № 44 (Екатерина II Потемкину до 9 апр. 1774); Барсуков 1873.Стб. 126 (Сольмс Фридриху II 18 мар. 1774); Румянцева 1888. С. 183 (8 апр. 1774).
200 Храповицкий. 30 мая 1786.
201 Валишевский 1911. С. 136.
202 Там же.
203 Переписка. № 57 (Екатерина II Потемкину 5 мая 1774); Сб. РИО. Т. 5. С. 413.
204 Переписка. № 64 (Екатерина II Потемкину 22 мая 1774; пер. с франц.).
205 Переписка. № 68 (Екатерина II Потемкину 30 мая 1774; пер. с франц.).
206 Карнович 1885. С. 265-267.
207 Переписка. № 52 (Екатерина II Потемкину 21 апр. 1774).
208 АКВ. Т. 10. С. 110 (С.Р. Воронцов 24/12 июля 1801, Лондон). Об орденах ходатайствовали либо Екатерина лично, либо ее послы. Так, императрица сама писала Густаву III шведскому об ордене Серафима для Потемкина (см. Сб. РИО. Т. 145. С. 96), а 12 марта 1774 Н И. Панин приказывал Штакельбергу, русскому послу в Польше, просить Станислава Августа о пожаловании Потемкину польского Белого Орла (см.: Сб. РИО. 1911. Т. 135. С.68).
209 Сб. РИО. Т. 19. С. 416 (Ганнинг Саффолку).
210 Там же; Переписка. № 70 (Екатерина II Потемкину 2 июня 1774; пер. с франц.).
211 Переписка. № 84 (Екатерина II Потемкину 8 июля 1774).
212 АГС. Т.1. С. 454.
213 Там же.
214 Сб. РИО. Т. 6. С. 74-76 (22 июля 1774).
215 Переписка. № 91 (Екатерина II Потемкину 29 июля 1774).
216 Осмнадцатый век. М., 1868. Кн. 1. С. 112.
217 Переписка. № 127 (Екатерина II Потемкину 10-12 окт. 1774).
218 Там же.
219 Сб. РИО. Т. 6. С. 117 (П.И. Панин Екатерине И).
220 Мавродин 1970. Т. 3. С. 403.
221 Переписка. № 151,158 (Екатерина II Потемкину, декабрь 1774).
222 Сб. РИО. Т. 23. С. 11 (Екатерина II Гримму 21 дек. 1774).
223 Болотов 1931. Т. 3. С. 192.
224 Переписка. № 87 (Екатерина II Потемкину 22 июля 1774).
9. ГОСПОЖА ПОТЕМКИНА
225 Переписка. № 71 (Екатерина II Потемкину 4 июня 1774); КФЖ. С. 281 (8 июня 1774).
226 Это описание бракосочетания Екатерины и Потемкина основано на: КФЖ от 8 июня 1774; Переписка 1997. N°№ 71-79 (Екатерина II Потемкину, июнь 1774); С. 478-481,513-515; Переписка 1787-1791 гг. С. 28; РА. 1906. № 12. С. 613 (в этой публикации П.И. Бартенева использованы свидетельства Д.Н. Блудова, А.В. Браницкой, М.С. и Е.К. Воронцовых, А.Г. Строганова, А.А. Бобринского, В.П. Орлова-Давыдова и «Записки» князя Ф.Н. Голицына).
227 РА. 1906. № 2. С. 613. П.И. Бартенев утверждает, что это предание рассказано графом А.А. Бобринским, внукам А.Н. Самойлова.-
228 Castera 1798. Vol. 3. Р. 90.
229 Переписка. № 76, 147, 33 (Екатерина II Потемкину 12 июня, после 9 дек., после 23 марта 1774).
230 Kukiel 1955. Р. 17-18.
231 Переписка. № 434 (Екатерина II Потемкину, фев.-март 1776).
232 Castera 1798. Vol. 3. Р. 90.
233 Валишевский 1911. С. 173. Во втором томе своих мемуаров Сегюр писал, что практически все допускали существование «прочных и неразрывных уз» между Екатериной и Потемкиным.
234 Louis XVI —Vergennes. Р. 162 (Людовик XVI Верженну, сент. 1774).
235 Temperley 1968. Р. 224; PRO FO Secretary of State. SP 106/67. № 33 (Уитворт Гренвиллу 1 июля 1791).
236 Ligne 1795-1811. Vol. 24. P. 181 (де Линь Кауницу 15 дек. 1788, Яссы).
237 Переписка. № 94 (Екатерина II Потемкину до 1 авг. 1774).
238 Сб. РИО. Т. 19 С. 448 (Ганнинг Саффолку 26 янв. / 6 фев. 1774).
239 РА. 1906. № 12. С. 616.
240 Переписка. № 295, 297, 299 (Екатерина II Потемкину март 1775).
241 Сб. РИО. Т. 23. С. 13; Переписка. № 355, 356 (Екатерина II Потемкину до 7 нояб. 1775).
242 Fothergill 1969. P. 157-162; см. также переписку Ганнинга с Саффолком за июнь 1775: Сб. РИО. Т. 19. С. 460-462.
243 Сб. РИО. Т. 1. С. 105.
244 Переписка. № 293,304 (Екатерина II Потемкину, март-апр. 1775); Русская беседа. 1858. Т. 6. С. 73; Сб. РИО. Т. 19. С. 460-462 (Саффолк Ганнингу 26 мая 1775 и Ганнинг Саффолку 19/30 июня 1775).
245 Сб. РИО. Т. 19. С. 461 (Саффолк Ганнингу 26 мая 1775); Переписка. № 293 (Екатерина II Потемкину, март 1775); РА. 1875. Кн. 2. № 5. С. 6 (А.Г.Орлов Потемкину); Сб. РИО. Т. 1. С. 105,169-196; Васильчиков 1880. С. 280-288; Сб. РИО. Т. 19. С. 466-467 (Ганнинг Саффолку 19/30 июня 1775); РП. 4:1. С. 109; Сб. РИО. Т. 1. С. 170-193.
246 РГАДА 5.85.1.259; АКВ. Т. 8. С. 14-15 (С.Р. Воронцов Ф.В. Ростопчину 18/29 нояб. 1796; пер. с франц.).
247 Болотов 1931. Т. 3. С. 208-213.
248 Переписка. № 339 (Екатерина II Потемкину после 10 июля 1775; пер. с франц.); Сб. РИО. 1876. Т. 19. С. 470 (Ганнинг Саффолку 13/24 июля 1775); Сб. РИО. Т. 23. С. 4 (Екатерина II Гримму 3 авг. 1774); Переписка. № 314 (Екатерина II Потемкину 22 апр. 1775)
249 Болотов 1931. Т. 3. С. 207-224; Shvidkovsky 1996. Р. 192-193; Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 47 (Екатерина II г-же Бьельке 24 июля 1775).
250 Louis XVI — Vergennes. P. 162 (Людовик XVI Верженну, сент. 1774).
251 Аргументы в доказательство тому, что Темкина являлась дочерью Екатерины, см: Алексеева 1975; .Переписка. С. 638-639. Портрет Елизаветы Григорьевны Темкиной кисти Боровиковского (1798) хранится в Третьяковской галерее. Она действительно чем-то напоминает мать Потемкина Дарью Васильевну. Однако она не была наследницей светлейшего; нам не удалось обнаружить ни одного упоминания о ней в его переписке. О ней заговорили гораздо позже. Поскольку нет и других известных детей Потемкина, можно предположить, что он был бесплоден. Согласно другому мнению отцом Темкиной считается Павел или Михаил Потемкин — но откуда тогда ее отчество? Темкина вышла замуж за И Х. Карагеорги, грека на русской службе, губернатора первого построенного Потемкиным города, Херсона. Можно вспомнить также, что племянник Потемкина, Василий Энгельгардт, имел пятерых внебрачных детей от разных любовниц, и все они получили дворянство и фамилию отца.
252 РГАДА 11.1.946.595 (В.А. Энгельгардт Потемкину 5 июля 1775).
253 Переписка. № 331,338 (Екатерина II Потемкину, июнь, 10 июля 1775).
254 Сб. РИО. Т. 19. С. 463-464 (Саффолк Ганнингу 30 июня 1775); С. 476-502 (Саффолк Ганнингу 1 и 8 сен. 1775; Ганнинг Саффолку 20 сен. 1775; Георг III Екатерине II 1 сен. 1775; Екатерина II Георгу III 23 сен. 1775).
255 Переписка. № 15, 396, 400 (Екатерина II Потемкину 28 фев. 1774;
1775).
256 Сб. РИО. Т. 19. С. 506 (Ганнинг Саффолку 5/16 окт. 1775).
257 Переписка. № 328 (Екатерина II Потемкину после 15 июня 1775).
258 Переписка. № 435 (Потемкин Екатерине И, фев.-март 1776).
259 Castera 1798. Vol. 2. P. 314-315; Валишевский 1911. С. 149.
10. ССОРЫ И ПРИМИРЕНИЕ
260 Переписка. № 430 (Екатерина II Потемкину, фев.-март 1776).
261 Сб. РИО. Т. 19. С. 509 (Ганнинг Саффолку 1/12 янв. 1776); С. 511 (Оукс Идену 16/27 фев. и 26 фев./8 мар. 1776);
262 Согberon 1904. Р.164 (27 янв. 1776); Р. 190(11 фев. 1776); Р. 194 (30 мар. 1776).
263 Переписка. № 434 (Екатерина II Потемкину, фев.-март 1776).
264 Переписка. № 420 (Екатерина II Потемкину, фев.-март 1776).
265 Переписка. № 436 (Екатерина II Потемкину, фев.-март 1776).
266 Переписка. № 417,452 (Екатерина II Потемкину, фев.-март 1776).
267 Переписка. № 421 (Екатерина II Потемкину, май 1776).
268 Переписка. № 425 (Екатерина II Потемкину, фев.-мар. 1776).
269 Там же.
270 Переписка. № 426 (Екатерина II Потемкину, фев.-март 1776; пер. с франц.).
271 РА. 1878. Вып. 1. С. 18 (Екатерина II Д.М. Голицыну 13 янв. 1776; Corberon 1904. Р. 188 (22 мар. 1776).
272 Переписка. № 438 (Екатерина II Потемкину 21 мар. 1776); Corberon 1904. Р. 190 (24 мар. 1776).
273 Согberon 1904. Р. 190 (24 мар. 1776).
274 Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. P. 18 (Кобенцль Иосифу II 5 мая 1780).
275 PC. 1895. Т. 83. С. 31. Екатерина II Штакельбергу 2/13 мая и 12/23 мая 1776; Бильбасов 1895. С. 30-34; прусский посланник информировал Фридриха II об этом деле в депешах от 23 апр. и 8 сен. 1776 и 4 мая 1781; РГИА. 1640.1.32 (Фридрих II Потемкину 29 мая н.ст. 1776).
276 Переписка. № 443 (Екатерина II Потемкину после 21 мар. 1776).
277 РГВИА 271.1.28.6-7 (принц Генрих Прусский Потемкину 2 сен. и 6 окт. 1775); РГИА. 1640.1.32 (Фридрих II Потемкину 29 мая н.ст. 1776); Corberon 1904. Р. 210 (9 апр. 1776).
278 Рассказ о смерти великой княгини основан на переписке Екатерины с Потемкиным и др. лицами; см. также: КФЖ (апрель-май 1776); Corberon 1904. Р. 229-250; Madariaga 1981. Р. 344-346; Alexander 1989. Р. 228-231.
279 КФЖ. 9-15 апр. 1776.
280 Сб. РИО. Т. 42. С. 346 (Екатерина II Козмину).
281 Corberon 1904. Р. 229 (26 апр. 1776).
282 Сб. РИО. Т. 27. С. 78-79; Corberon 1904. Р. 230.
283 Сб. РИО. Т. 19. С. 519 (Оукс Идену 15/26 апр. 1776).
284 Согberon 1904. Р. 244 (5 мая 1776).
285 Там же.
286 Сб. РИО. Т. 19. С. 519 (Оукс Идену 15/26 апр., 3/14 мая, 10/21 мая и 14/25 июня 1776); Васильчиков 1880. Т. 1. С. 363 (К.Г. Разумовский М.В. Ковалинскому); Согberon 1904. Р. 248 (7 мая 1776).
287 Переписка. № 452,418 (Екатерина II Потемкину, май-июнь, фев.-март
1776).
288 Переписка. № 457 (Екатерина II Потемкину, май-июнь 1776).
289 Переписка. № 458 (Потемкин Екатерине II после 2 июня 1776).
290 Там же.
291 Переписка. № 464 (Екатерина II Потемкину до 21 июня 1776).
292 Сб. РИО. Т. 19. С. 519 (Оукс Идену 1/12 июля 1776); Румянцева 1888. С. 204.
293 Переписка. № 467 (Екатерина II Потемкину 22 июня 1776); Карнович 1885. С. 266; Самойлов 1867. Стб. 1205. Цифру 9 миллионов рублей называет Харрис (с. 528); она кажется слишком высокой и может быть неточна, но, учитывая разнообразие подарков и ту беспорядочную щедрость, с которой делала их Екатерина, проверить ее невозможно. Может бьггь, сам Потемкин хвастался перед Харрисом таким богатством. Количество крестьян и Кричевское поместье, напротив, подлежат проверке по бумагам С.Бентама, Самойлова и другим источникам: см. главу 20. Особенного доверия заслуживают сведения Самойлова как близкого к Потемкину человека и наследника его имения.
294 Сб. РИО. Т. 19. С. 521 (Оукс Идену 26 июля/6 авг. 1776); Castera 1798. Vol. 2. Р. 308.
Часть четвертая. ПАРТНЕРСТВО. 1776-1777
11. ЕЕ ФАВОРИТЫ
295 Екатерина II Завадовскому. С. 244-257.
296 АКВ. Т. 12. С. 9-10 (Завадовский С.Р. Воронцову); Екатерина II Завадовскому. С. 256.
297 Parkinson 1971. Р. 76.
298 Екатерина II Завадовскому. С. 257; Переписка. № 496 (Екатерина II Потемкину до 14 мая 1777).
299 Переписка. № 495 (Екатерина II Потемкину до 14 мая 1777); Массон. С. 66.
300 Екатерина II Завадовскому. С. 257; АКВ. Т. 24. С. 156 (Завадовский С.Р. Воронцову).
301 Переписка. № 497 (Екатерина II Потемкину 22 мая 1777).
302 АКВ. Т. 12. С. 16-19 (Завадовский С.Р. Воронцову).
303 Alexander 1989. Р. 213.
304 Переписка. № 502 (Екатерина II Потемкину 24 июня 1777).
305 Harris 1844. Р. 149 (Харрис Идену, 2/13 фев. 1778; Харрис Саффолку 2/13 фев. 1778).
306 Harris 1844. Р. 170 (Харрис Фрейзеру 16/27 мая 1778).
307 Там же.
308 Harris 1844. Р. 172 (Харрис к Саффолку 22 мая/2 июня 1778); Р. 173 (Харрис Саффолку 29 мая/9 июня 1778); Переписка. № 537 (Екатерина II Потемкину 25 мая 1778).
309 Сб. РИО. Т. 23. С. 89-90 (Екатерина II Гримму 16 мая 1778).
310 Переписка. № 538 (Екатерина II Потемкину до 1 июня 1778).
311 Сб. РИО. Т. 23. С. 107; Harris 1844 (Харрис Саффолку 20/31 дек. 1778.
312 Переписка. № 544 (Екатерина II Потемкину до 28 июня 1778); Завадовский Румянцеву. С. 23-24.
313 РА. 1881. Кн. 3. С. 402-403 (Екатерина II Корсакову); КФЖ. 1,28 июня 1778; РП 5.1. С. 119.
314 РА. 1881. Кн. 3. С. 402-403 (Екатерина II Корсакову).
315 Harris 1844. Р. 179-180 (Харрис Саффолку 14/25 сен. 1778).
316 Harris 1844. Р. 224 (Харрис виконту Веймуту 9/20 сен. 1778).
317 Корберон. Вып. 6. С. 190-194 (Корберон о ссоре Потемкина с Екатериной); Переписка. С. 702-703 (Екатерина II Корсакову 10 окт. 1779); Harris 1844 (Харрис Веймуту 11/22 окт. 1779).
318 Pole Carew. CO/R/3/195; АКВ. Т. 13. С. 163-164 (А.А. Безбородко С.Р. Воронцову 5 июля 1789).
319 Harris 1844. Харрис Веймуту 11/22 окт. 1779; Р. 366 (Харрис Стормонту 14/25 мая 1781).
320 Щербатов 1858. С. 83.
321 Parkinson 1971. Р. 49; Alexander 1989. Р. 215.
322 Ligne 1880. Vol. 1. P. 275.
323 Corberon 1904. Vol. 2. P. 137-138; Segur 1859. Vol. 3. P. 18; Храповицкий. 12 июля 1789, 7 дек. 1791.
324 Сб. РИО. Т. 27. С. 131-131 (указ Потемкина об учреждении должности флигель-адъютанта императрицы от 16 июня 1776).
325 Saint-Jean 1888. Р. 40-48.
326 Переписка. С. 675.
327 Переписка. № 539 (Екатерина II Потемкину до 1 июня 1778; пер. с франц.).
328 Saint-Jean 1888. Р. 12-21.
329 Corberon. Vol. 2. Р. 154 (19 июня 1776); Harris 1844. Р. 430, 528 (Харрис Стормонту 25 мар./5 апр. 1782).
330 Энгельгардт 1997. С. 49.
331 Храповицкий. 16 фев. 1789; Гарновский 1876. Т. 15. С. 16 (Гарновский Попову, дек. 1786.)
332 Гарновский 1876. Т. 16. С. 406 (Гарновский Попову).
333 Переписка. С. 721, 748 (Ланской Потемкину без даты, 29 сен. 1783).
334 AGAD 172.79 (Потемкин Станиславу Августу 29 сен. 1779).
335 Goertz 1969. Р. 43.
336 Damas 1912. Р. 97; Harris 1844. Р. 210 (Харрис Веймуту 7/18 авг. 1779).
337 Harris 1844. Р. 366 (Харрис Стормонту 7/18 мая 1781).
338 Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. P. 17 (Кобенцль Иосифу II5 мая 1780); Saint-Jean 1888. Ch. 2. P. 12-21.
339 Harris 1844. Харрис Веймуту 11/22 о юг. 1779; то же: PC. 1908. Июнь. С. 627.
12. ЕГО ПЛЕМЯННИЦЫ
340 Рибопьер 1877. С. 479.
341 АКВ. Т. 11. С. 361 (С.Р. Воронцов Кочубею 17/29 янв. 1802; пер. с франц.).
342 Вигель 2000. С. 17.
343 PC. 1875. № 3. С. 519-520.
344 Там же.
345 Там же. С. 521
346 Там же. С. 521.
347 Там же. С. 521.
348 Переписка. № 503 (Потемкин Екатерине II после 28 июня 1777).
349 Переписка. № 522 (Екатерина II Потемкину, 1777).
350 PC. 1875. № 3. С. 519.
351 Там же. С. 521.
352 Harris. Р. 180 (Харрис Саффолку 14/25 сен. 1778); PC. 1875. № 3. С. 521.
353 Kukiel 1955. Р. 17-18.
354 Harris 1844. Р. 224 (Харрис Веймуту 9/20 сен. 1779); PRO FO SP 103/63 (Фицгерберт Фоксу 26 апр. 1783).
355 Aragon 1893. Р. 133.
356 Vigee Lebrun 1879. Vol. 1. Р. 192-194; Мемуары князя Ю.Долгорукого, цит. по: РП. Т. 1. Вып. 1. № 30.
357 Переписка. № 576-579 (Екатерина II Потемкину, дек. 1779); РА. 1911. № 6. С. 202-203.
358 Письма Т.В. Энгельгардт Потемкину: РГАДА 11.858.6 (3 июня 1785); РГАДА 11.858.5 (8 апр. 1784); РГАДА 11.858.4 (20 мар. 1784); РГАДА 11.858.3 (14 мар. 1784); Corberon 1904. Vol. 2. Р. 363 (17 сен. 1780); РП. Т. 1. Вып. 1. С. 10; РП. Т. 4. Вып. 2. С. 206.)
359 РГАДА 11.858.4 (Т.В. Энгельгардт Потемкину 29 мар. 1784).
360 Beales 1987. Р. 20; Previtt 1997. Р. 249; Mitford 1970. Р. 35; Fraser 2000. Р. 22,42.
361 PC. 1875. № 4. С. 681-682 (пер. с франц.).
362 Там же.
363 Там же. С. 683.
364 Там же. С. 682 (пер. с франц.).
13. ГЕРЦОГИНИ, ДИПЛОМАТЫ, ШАРЛАТАНЫ
365 В рассказе о герцогине Кингстон учтены сведения из следующих исследований и документов: Grundy 1999. Р. 1-10, 526; Corberon 1904. Vol. 2. Р. 179 (22 сен. 1777); РГВИА 52.33.539 (С. Бентам отцу 17 мая 1780); РГАДА 39.33.539 (8 апр. 1780); ВМ 120.33555 (8 апр. 1780); Mavor. Р. 157, 175, 184;
Cross 1977. P. 390; Cross 1997. P. 363-367; Валишевский 1911. С. 132; White 1950. P. 147-149; Yusupov 1953. P. 6-9.
366 The Northern Hero: The Life of Major S-le The Celebrated Twindler (British Library 1493 r35, 1786); Castera 1798. Vol. 2. P. 399, 445. Mavor. P. 184; Cross 1977. P. 394-395.
367 Валишевский 1911. С. 132; Corberon 1904. Vol. 2. P. 227 (10 мая 1779).
368 Mansel 1992. P. 9; Ligne 1809. P. 71.
369 Mansel 1995. P. 202; MacDonogh 1999. P. 193-194; Fraser 2000. P. 248; Harris 1844. P. 181 (Харрис Саффолку 21 сен./2 окт. 1778); P. 184 (Харрис Саффолку 5/16 окт. 1778).
370 Harris 1844. Р. 321. (Харрис Стормонту 13/24 дек. 1780).
371 Румянцева 1888. С. 197 (2 фев. 1776).
372 Harris 1844. Р. 136-137 (Саффолк Харрису 9 янв. 1778); Р. 140 (Харрис Саффолку 26 янв./б фев. 1778); Р. 170 (Харрис У. Фрейзеру 16/27 мая 1778); Валишевский 1911. С. 22; Castera 1798. Vol 2. P. 282.
373 Stanislas-August 1914. Vol. 2. P. 233.
374 Сб. РИО. Т. 19. С. 407 (Ганнинг Саффолку 7/18 мар. 1774).
375 Переписка. № 537 (Екатерина II Потемкину 25 мая 1778); Memoirs. Р. 48-49.
376 РГАДА 5.167.1 (принц Генрих Потемкину 25 окт. 1778).
377 Harris 1844. Р. 210 (Харрис Веймуту 7/18 авг. 1779).
378 Harris 1844. Р. 212 (Харрис Веймуту 9/20 сен. 1779).
379 Harris 1844. Р. 146 (Харрис Саффолку 30 янв./10 фев. 1778).
380 Goerts 1969. Section 3. P. 41 (Меморандум Герца Фридриху II).
381 Harris 1844. Р. 210, 214 (Харрис Веймуту 7/18 авг. и 9/20 сен. 1779).
382 РГВИА 271.1.66.1 (Харрис Потемкину б/даты); Harris 1844. Р. 268 (Харрис отцу 26 мая 1780); РГАДА 11.923.2 (Харрис Потемкину); Harris 1844. Р. 216 (Харрис Веймуту 9/20 сен. 1779).
383 Письмо Харриса сестре цит. по: Madariaga 1954. Р. 466-467.
384 Corberon 1904. Vol. 2. P. 313; PRO FO SF 91/103. № 59 (Дж. Харрис, граф Малмсбери, 9/20 сен. 1779).
385 Memoirs. P. 50; Castera 1798. Vol. 2. P. 442; РГАДА 11.858.6 (T.B. Энгельгардт Потемкину 3 июня 1785); Pole Carew CO/R/3/203; Harris 1844. P. 338 (Харрис Стормонту 16/27 фев. 1781).
386 Сб. РИО. Т. 23 (Екатерина II Гримму 9 июля 1781); Зотов 1875. С. 50-83; Dumas 1967. Р. 65-73; Trowbridge 1910. Р. 142-147, 74-110; Corberon 1904. Vol. 1. P. 195; Vol. 2. P. 395-396; Madariaga 1998. P. 150-167.
387 Зотов 1875. С. 50-83; Сб. РИО. Т. 23 (Екатерина II Гримму 9 июля 1781).
388 Harris 1844. Р. 239-240 (Харрис Стормонту 15/26 фев. 1780).
389 Harris 1844. Р. 225-226 (Харрис Веймуту 9/20 сен. и 23 окт./5 нояб. 1779).
390 Harris 1844. Р. 252 (Харрис Стормонту 31 мар. /11 апр. 1780); Madariaga 1954. Р. 466; Torcy. Memoirs. Vol. 2. P. 99; Corberon 1904. Vol. 1. P. 370; Harris 1844. P. 255 (Харрис Стормонту 7/18 апр. 1780).
391 Harris 1844. P. 275 (Харрис Стормонту 15/26 июня 1780); PRO FO 65/1 № 170 (Харрис Стормонту 29 дек. 1780/9 янв. 1781); Goerts 1969. Section 3 (Герц Фридриху И).
392 Corberon 1904. Vol. 1. Р. 370 (23 сен. 1780).
393 Harris 1844. Р. 256 (Харрис Стормонту 15/26 мая 1780); PRO FO 91/104, б/номера (Харрис Стормонту 15/26 фев. 1780); SP 91/104, № 19 (Стормонт Харрису 11 апр. 1780).
394 Harris 1844. Р. 203 (Харрис Веймуту 24 мая/4 июня 1779); Corberon 1904. Vol. 2. Р. 226.
Часть шестая. КОЛОСС 1777-1783
14. ВИЗАНТИЯ
395 Источники описания Османской империи: Tott 1786. Т. 1; неопубликованные депеши Н. Пизани, Я.И. Булгакова и др. (архив канцелярии Потемкина в РГВИАФ. 52); см. также: Kinross 1979. Р. 362-406; Mansel 1995. Р. 57-132.
396 РГВИА 52.11.53.31 (Пизани Булгакову 1/12 мая 1787).
397 Kramer, McGrew 1974. P. 267, 210В (Бароцци Потемкину, янв. 1790).
398 Переписка. № 695 (Потемкин Екатерине И, начало 1784).
399 Batalden 1982. Р. 71-72; Bruess 1997. Р. 85-86, 117, 128, 176.
400 Мемориал бригадира Александра Андреевича Безбородка по делам политическим // Сб. РИО. Т. 27. (1879). С. 385; Безбородко А.А. Картина или краткое известие о российских с татарами войнах и делах, наченшихся в половине десятого века и почти безпрерывно чрез восемьсот лет продолжающихся // Сб. РИО. Т. 26. С. 339-369. О греческом проекте см.: Маркова 1958. Р. 75-103; Batalden 1982. Р. 96-97; Елисеева 1997. С. 26-31; Елисеева О.И. Балканский вопрос во внешнеполитических проектах Г.А. Потемкина // Век Екатерины И. С. 63-68; Зорин 2001. С. 31-39.
401 АКВ. Т. 13. С. 223-228 (Безбородко С.Р. Воронцову 17 нояб. 1791).
402 Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. P. 6 (Кауниц Кобенцлю 14 апр. 1780).
403 Переписка. № 590 (Екатерина II Потемкину после 22 мая 1780).
15. ИМПЕРАТОР СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
404 Maria Theresa — Joseph II. Vol. 3. P. 246 (Иосиф II Марии Терезии 2 июня н.с. 1780).
405 Joseph II und Katarina. Письмо 3 (Екатерина II Иосифу II 19 мая 1780); Переписка. № 591 (Екатерина II Потемкину 23 мая 1780).
406 Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. P. 1 (Иосиф II Кобенцлю) 13 апр. 1780).
407 Mansel 1992. Р. 80; Ligne 1880. Vol. 1. P. 310; Ligne 1795-1811. Vol. 20. P. 79; Ligne 1809. Vol. 2. P. 34; Сб. РИО. Т. 23. С. 440 (Екатерина II Гримму 19 апр. 1788); Crankshaw 1969. Р. 254-268; Wheatcroft 1995. Р. 226-236; Blanning 1970. Р. 47-67,151-155; Beales 1987. Р. 31-89, 306-337, 431-438.
408 Maria Theresa—Joseph II. Vol. 3. Р. 246 (Иосиф II Марии Терезии 2 июня 1780).
409 Сб. РИО. С. 175-182 (Екатерина II Гримму).
410 Энгельгардт 1997. С. 26-30.
411 Lojek 1979. Р. 58.
412 Maria Theresa — Joseph II. Vol. 3. P. 250, 260 (Иосиф II Марии Терезии 8 и 19 июня 1780).
413 Dimsdale. 7 сен. н.с. 1781.
414 Corberon 1904. Vol. 2. Р. 274-275 (8 авг. 1780).
415 Основные источники для портрета принца де Линя — Mansel 1992 и сочинения самого Ш.Ж. де Линя, а также неопубликованные письма его Потемкину в РГАДА и РГВИА, приводимые ниже. См. также: Miranda 1929. Р. 294; Ligne 1809. Vol. 2. Р. 71 (Линь Куаньи 8 авг. 1780); Mansel 1992. Р. 21, 29, 65, 93; Сб. РИО. Т. 23. С. 185 (Екатерина II Гримму 7 сен. 1780); Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. Р. 53 (Кобенцль Иосифу II17 сен. н.с. 1780); Harris 1844. Р. 287 (Харрис Стормонту 22 сен./З окт. 1780).
416 РГАДА 11.893.9 (Линь Потемкину 6 дек. н.с. 1780).
417 Переписка. № 604 (Екатерина II Потемкину после 14 янв. 1781).
418 Corberon 1904. Vol. 2. Р. 287 (18 авг. 1780).
419 Harris 1844. Р. 321 (Харрис Стормонту 13/24 дек. 1780).
420 Harris 1844. Р. 314 (Харрис Стормонту 13/24 дек. 1780); Р. 380-381 (Харрис Стормонту 14/25 июля 1781); Сб. РИО. Т. 23. С. 341 (Екатерина II Гримму 30 нояб. 1787); Harris 1844. Р. 275 (Харрис Стормонту 15/26 июня, 6/17 окт., 24 нояб./5 дек., 13/24 дек. 1780); Madariaga 1981. Р. 385-387; АКБ. Т. 13. С. 75-83 (АА Безбородко С.Р. Воронцову, июль 1785); PRO FO, SP 106/67 (Ч.Дж. Фокс лорду Гренвиллу 18 июня 1791); Harris 1844. Р. 431-432 (Ч.Дж. Фокс Харрису и Харрис Фоксу 19/30 апр. 1782); Р. 342-350 (Харрис Стормонту 13/24 мар. 1781,30 апр./11 мая 1781).
421 Переписка. № 608,610 (Екатерина II Потемкину, фев.-мар., апр. 1781).
422 Pole Carew CO/R/3/96 (май 1781); о персидской экспедиции: ААЕ. Memoires et Documents Russie. Vol. 10. P. 113-224 (здесь же отчет Габлица и Сегюра Верженну от 15 окт. 1786); Описание дел Архива Морского министерства за время с половины XVIII до начала XIX столетия. СПб., 1877-1882. Т. 3. С. 629; «армянский проект» Потемкин хотел вести параллельно с греческим, покровительствуя армянским священникам так же, как греческим; Bruess 1997. Р. 196-197.
423 Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. Р. 154-158 (Кобенцль Иосифу II 23 мая 1781); Р. 207 (Кобенцль Иосифу II 26 авг. 1781); Joseph II und Katarina. Письмо 32 (Иосиф II Екатерине II); письмо 84 (Екатерина II Иосифу II); Переписка. № 820 (Екатерина II Потемкину 23 нояб. 1787).
424 Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. Р. 141 (Кобенцль Иосифу II 5 апр. 1781); Harris 1844. Р. 367 (Харрис Стормонту 8/19 июня и 25 июня/6 июля 1781).
425 Joseph II - Cobenzl. Vol. 1. Р. 197 (Иосиф II Кобенцлю 19 авг. 1781); Р. 207 (Кобенцль Иосифу II 26 авг. 1781); PRO FO, cyphers SP 65/3, no 94 (Харрис Стормонту 25 июня/6 июля 1781).
426 Harris 1844. P. 382 (Харрис Стормонту 14/25 июля 1781).
16. ДВЕ СВАДЬБЫ И КОРОНА ДАКИИ
427 Joseph II und Katarina. Письмо 49 (Екатерина II Иосифу II7/18 дек. 1781).
428 Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. P. 170 (Кобенцль Иосифу II 5 июля 1781); Harris 1844. P. 391 (Харрис Стормонту 10/21 и 17/28 сен. 1781); Р. 399-408 (21 ОКТ./1 нояб. 1781); Р. 394 (21 сен./2 окт. 1781); Joseph II - Cobenzl. Vol. 1. Р. 209 (Кобенцль Иосифу II 26 авг. 1781).
429 Joseph II - Cobenzl. Vol. 1. Р. 226 (Кобенцль Иосифу II 12 сен. 1781); Р. 291 (18 янв. 1782); Vol. 2. Р. 75 (1 нояб. 1786); Вигель 2000. С. 231; Переписка. № 616 (Екатерина II Потемкину, до нояб. 1781).
430 Казанова 1990. С. 604-609; Segur 1925. Р. 189; РГАДА 11.687.2 (великий гетман Браницкий Потемкину 9 апр. н.с. 1775). Переписка Браницкого с Потемкиным (РГАДА 11.867.1 -60) — это история русско-польских отношений с 1775 по 1791. Уже в 1775 при дворе было известно, что Потемкин протежирует Браницкому, создавая собственную польскую партию; см., напр., Сб. РИО. Т. 135. С. 68 (И.А. Остерман О.М. Штакельбергу 7 дек. 1775).
431 Dimsdale. 27 авг. 1781.
432 Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. P. 291 (Кобенцль Иосифу II18 янв. 1782); Vol.2. Р. 75 (1 нояб. 1786); Vol. 1. Р. 93 (13 дек. 1780); РГАДА 11.901.5 (Скаврон-ский Потемкину 20 июня 1784); РГАДА 11.901.19 (Скавронский Потемкину 4/15 июня 1785); Vigee Lebrun 1879. Vol. 1. P. 192-194.
433 РГАДА 11.857.8; РГАДА 11.857.40; Вигель 2000. С. 17.
434 Harris 1844. Р. 391, 408, 412; Joseph II - Cobenzl. Vol. 1. Р. 282; Joseph II und Leopold von Toscana. Vol. 1. P. 114-124; Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. P. 301; McGrew 1992. P. 129; Сб. РИО. Т. 23. С. 145, 157-159; Grifflts 1970. P. 565; Ransel 1975. P. 211; Сб. РИО. Т. 9. С. 64; Joseph II - Cobenzl. Vol. 1. P. 342.
435 Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. P. 262, 318; Переписка, hfebfe 620, 621 (Потемкин Екатерине II 15 и 19 апр. 1782); Сб. РИО. Т. 23. С. 621.
436 Переписка. № 622 (Екатерина II Потемкину 3 июня 1782).
437 Joseph II und Katarina. P. 136,169 (Иосиф II Екатерине II и Екатерина II Иосифу II 13 нояб. 1782; Екатерина II Иосифу II 10 сен. 1782); Joseph II — Cobenzl. Vol.1. Р. 344 (Кобенцль Иосифу II 4 дек. 1782); Harris 1844. (Харрис Грэнтаму 23 дек./3 янв. 1783).
438 Segur 1825-1827. Vol. 2. P. 382-383,401; Castera 1798. Vol. 3. P. 307.
17. ПОТЕМКИНСКИЙ РАЙ
439 Рассказ о Крымском ханстве и его присоединении России опирается на мемуары барона де Тота (Tott 1786); Дубровин 1885-1889. Т. 2; «Бумаги князя Г.А. Потемкина-Таврического 1774-1788» (Сб. ВИМ. Т. 1, 6), а также Fisher 1970; Fisher 1978.
440 Tott 1786. Vol. 2. P. 98; Fisher 1970. P. 6-21.
441 Сб. РИО. Т. 8. С. 227 (Екатерина II Вольтеру).
442 Fisher 1970. Р. 95.
443 Переписка. № 630 (Екатерина II Потемкину до 30 сен. 1782).
444 Переписка. № 633, 631 (Екатерина II Потемкину ок. 14 окт., 30 сен. 1782); Дубровин 1885-1889. Т. 2. С. 98, 313-319, 322, 550, 558, 752-753 (переписка Потемкина с Прозоровским, Румянцевым и Суворовым); ПСЗ № 14879 (21 мая 1779, хартия грекам); ПСЗ № 14942 (14 нояб. 1779, хартия армянам); ЗООИД. Т. 2. С. 660; Т. 1. С. 197-204; Т. 4. С. 359-362.
445 Harris 1844. Р. 483 (Харрис Грэнтаму 8/19 нояб. 1782).
446 Сб. РИО. Т. 23. С. 274-275 (Екатерина II Гримму 20 апр. 1783).
447 Переписка. № 635 (Потемкин Екатерине II до 14 дек. 1782).
448 Harris 1844. Р. 498 (Харрис Грэнтаму 20/31 янв. 1783); Madariaga 1959. Р. 135.
449 РГАДА 5.85.3.158-180 (рескрипты Екатерины II Потемкину о Крыме, дек. 1782-апр. 1783).
450 Harris 1844. Р. 487, 492 (Харрис Грэнтаму 6/17 дек. 1782 и 27 дек. 1782 / 7 янв. 1783).
451 Harris 1844. Р. 380-381 (Харрис Стормонту 14/25 июля 1781); Сб. РИО. Т. 23. С. 431 (Екатерина II Гримму 30 нояб. 1787); Harris 1844. Р. 275 (Харрис Стормонту 15/26 июня, 6/17 окт., 24 нояб./5 дек., 13/24 дек. 1780); АКВ. Т.13. С. 77 (Безбородко С.Р. Воронцову 8 июля 1785); PRO FO SP106/67, У. Фокнер лорду Грэнвиллу 18 июня 1791; Harris 1844. Р. 431-432 (Ч.Дж. Фокс Харрису и Харрис Фоксу 19/30 апр. 1782); Р. 342-350 (Харрис Стормонту 13/24 марта, 30 апр. / 11 мая 1781).
452 Переписка. № 642 (Потемкин Екатерине И, март 1783).
453 Masson 1800. Vol. 1. P. 103; РГАДА 5.85.3.81 (указ Екатерины II Потемкину о преобразовании драгунских и гусарских полков и иррегулярных войск 15 дек.1774); Сб. ВИМ. Т. 1. С. 74-78; см. также: PC. 1873. Т. 7. С. 722-727; РА. 1888. Кн.2. С. 364-367; Трегубов 1908. С. 101; Бегунова 1988. С. 86-87. Стоит также отметить, что в британской армии пудру и помаду отменили только в XIX веке.
454 Harris 1844. Р. 498 (Харрис Грэнтаму 20/31 янв. 1783).
455 Переписка. С. 730.
456 Переписка. № 645 (Екатерина II Потемкину 14 апр. 1783; пер. с франц.), № 648 (Потемкин Екатерине II22 апр. 1783).
457 Переписка. № 653 (Потемкин Екатерине II 11 мая 1783).
458 ЗООИД. Т. 12. С. 265, 266, 277, 279 (Потемкин де Бальмену, Суворову и Рахманову).
459 Переписка. С. 739 (Потемкин Безбородко); №№ 662, 654 (Потемкин Екатерине II, 13 июня, 16 мая 1783).
460 Переписка. № 654 (Потемкин Екатерине II 16 мая 1783), № 664 (Екатерина II Потемкину 13 июня 1783).
461 Louis XVI — Vergennes. P. 131-134; Harris 1844. P. 504 (Грэнтам Харрису 22 фев. 1783).
462 Переписка. № 658 (Екатерина II Потемкину 30 мая 1783).
463 Переписка. № 656 (Екатерина II Потемкину 26 мая 1783).
464 Переписка. № 657 (Потемкин Екатерине II 28 мая 1783).
465 Переписка. № 661,668, (Екатерина II Потемкину 9 июня, 15 июля 1783).
466 Переписка. № 666 (Потемкин Екатерине II 10 июля 1783); № 670 (Екатерина II Потемкину 20 июля 1783).
467 Переписка. № 674 (Потемкин Екатерине II 5 авг. 1783).
468 РГАДА 5.85.3.175-180 (рескрипт Екатерины II Потемкину 8 апр. 1783 о действиях в отношении Тамани и Кубани после принятия решения об аннексии Крыма); Переписка. № 676 (Екатерина II Потемкину 13 авг. 1783).
469 Переписка. № 681 (Екатерина II Потемкину 17 сен. 1783).
470 Переписка. № 677, 678 (Екатерина II Потемкину 18 и 31 авг. 1783).
471 РА. 1905. Кн. 2. С. 349 (Булгаков Потемкину 1 окт. 1783).
472 Переписка. № 684 (Екатерина II Потемкину 26 сен. 1783); Joseph II und Katarina. Письмо 94 (Иосиф II Екатерине II12 нояб. 1783).
473 Переписка. № 687 (Екатерина II Потемкину 16 окт. 1783), № 689 (Потемкин Екатерине II 22 окт. 1783).
474 АКБ. Т. 13. С. 45-46 (Безбородко С.Р. Воронцову 7 фев. 1784); о борьбе Потемкина с эпидемией см.: ЗООИД. Т. 11. С. 335, 342-344: рескрипты полковнику Гаксу и Муромцеву.
475 Энгельгардт 1997. С. 41.
476 РА. 1905. Кн. 2. С. 352 (Потемкин Булгакову 8 фев. 1784); РА. 1866.№ 11-12. Стб. 1574 (Булгаков Потемкину 15 мар. 1784).
477 АКВ. Т. 13. С. 47-48 (Безбородко С.Р. Воронцову 15 мар. 1784).
Часть шестая. СОПРАВИТЕЛЬ. 1784-1786
18. ИМПЕРАТОР ЮЖНОЙ РОССИИ
478 Damas 1912. Р. 89-90.
479 Memoirs. Р. 66-67.
480 ЗООИД. Т. 11. С. 506-508; Загоровский 1913. С. 1-33; Гарновский 1876. Т. 15. С. 33; Самойлов 1867. Стб. 1234-1235.
481 Переписка. № 318 (Екатерина II Потемкину, после 7 мая 1775); Сб. ВИМ. Т. 1. С. 46-52; Переписка. № 449 (Потемкин Екатерине II 21 апр. 1776); Скальковский 1886. Часть За. С. 148,158-163.
482 Сб. ВИМ. Т. 1. С. 20-21, 74-88; ПСЗ. Т. 20. № 14251 (15 фев. 1775); № 14464 (9 мая 1775); Сб. РИО. Т. 27. С. 37; Переписка. № 482,483 (Потемкин Екатерине II и Екатерина II Потемкину, вторая пол. 1776). McNeill 1964. Р. 200-202; Переписка. № 359 (Екатерина II Потемкину, конец 1775); Сб. ВИМ. Т. 1. С. 65-67 (8 сен. 1775); Дружинина 1959. С. 64-75.
483 Переписка. № 544 (Екатерина II Потемкину, июнь 1778); Сб. РИО. Т. 27. С. 50-51.
484 Сб. ВИМ. Т. 1. С. 110,112 (указ Екатерины и письмо Потемкина 25 июля 1778); РГВИА 143.1.6-7 (Потемкин о расходах на основание Херсона: 460103 рубля).
485 Завадовский Румянцеву. С. 23-25); Переписка. № 547 (Екатерина II Потемкину, после 29 июля 1778).
486 Самойлов 1867. Стб. 1215-1218; РГАДА 5.85.3.109 (Екатерина II Потемкину о присылке рабочих для постройки адмиралтейства, 31 мая 1778); РГВИА 1.194.54.10.52 (рапорты И.А. Ганнибала Потемкину, 11 нояб. 1779); ЗООИД. Т. 11. С. 324-326 (Потемкин Ганнибалу, 1781, 1782); Дружинина. С. 64-83; Самойлов 1867. Стб. 1215-1218.
487 Bentham 1862. Р. 17-18 (10 авг. 1780); Cornwall Archive, Antony. CAD/50. Pole Carew Papers. 1,3,4,8,9,13-18,20; РГАДА 11.900.1 (Кери Потемкину 24 окт. 1781, Херсон).
488 Cornwall Archive, Antony. CAD/50. Pole Carew Papers. 25-27; РГАДА 11.900.1 (Кери Потемкину 24 окт. 1781, Херсон).
489 Antoine 1820. P. 112; ЗООИД. Т. 8. С. 210 (Потемкин Екатерине II); ЗООИД. Т. 13. С. 162 (Антуан Потемкину 11 янв. 1786).
490 ЗООИД. Т. 11.С. 342 (Потемкин Гаксу 22 окт. 1783); С. 354 (Потемкин Корсакову 1 фев. 1784); С. 343 (Потемкин Муромцеву); РГВИА 271.1.35. Л. 4-5.
491 Antoine 1820. Р. 228; Маркова 1970. С. 47; РГАДА 11.946.152 (Бер Потемкину, 1787).
492 Переписка. № 654, 657 (Потемкин Екатерине II 16 и 28 мая 1783).
493 Миранда. 15 дек. 1786; Сумароков 1800. С. 21-24; Guthrie 1802. Р. 32 (письмо 9); РГАДА 1355.1.2064.
494 Переписка. № 662 (Потемкин Екатерине II 13 июня 1783).
495 Там же; ЗООИД. Т. 12. С. 308 (Потемкин Н.И. Корсакову); РГВИА 52.1.1.160.3. Л. 57 (Н.И. Корсаков Потемкину, 14 фев. 1786); Миранда. 1 янв. 1787; Guthrie 1802. Р. 91 (письмо 27).
496 Переписка. № 662, 675 (Потемкин Екатерине II13 июня и 9 авг. 1783).
497 ЗООИД. Т. 12. С. 265 (Потемкин де Бальмену, 1783); С. 281,272 (Потемкин Игельстрому 16 авг. 1783); Миранда. 28 дек. 1786; ЗООИД. Т. 23. (1901) С. 41-43; Сб. РИО. Т. 27. С. 300; Fisher 1970. Р. 142-143; Fisher 1978. Р. 87; ИТУАК. Т. 30 (1899). С. 1-2 (Очерк военной службы крымских татар с 1783 по 1889 г.); Дружинина 1959. С. 64-67, 69,161-162).
498 Переписка. № 672 (Потемкин Екатерине II 29 июля 1783); Миранда. 25 дек. 1786.
499 Переписка. № 672 (Потемкин Екатерине II 29 июля 1783).
500 Переписка. № 747 (Потемкин Екатерине II 6 окт. 1786); Дружинина 1959. С. 176.
501 Миранда. 8 янв. 1787.
502 Дружинина 1959. С. 89; Переписка. № 747 (Потемкин Екатерине II 6 окт. 1786); Segur 1859. Vol. 3. Р. 173.
503 Переписка. № 723 (Потемкин Екатерине II, 1785); Joseph II — Cobenzl. Vol, 2. P. 86 (Кобенцль Иосифу II 1 нояб. 1786); РГАДА 11.946.270 (Кастелли Потемкину 21 мар. 1787, Милан).
504 ЗООИД. Т. 9. С. 276 (Синельников Попову 19 апр. 1784); ЗООИД. Т. 4. С. 376 (Потемкин Синельникову 15 янв. 1786); С. 377 (Потемкин Каховскому); С. 375 (Потемкин Синельникову 14 мар. 1786); ЗООИД. Т. 2. С. 742-743 (Потемкин Синельникову 28 сен. 1784).
505 Переписка. № 748 (Потемкин Екатерине II до 13 окт. 1786).
506 Bartlett 1979. Р. 133; Фадеев В. Воспоминания 1790-1867. Одесса, 1897. Т. 1. С. 42.
507 Shvidkovsky 1996. Р. 250-251.
508 ЗООИД. Т. 13. С. 184-187 (Потемкин Фалееву 1791); ЗООИД. Т. 13. С. 182-182 (Фалеев Потемкину (1791?)).
509 Guthrie 1802. Р. 6-8 (письма 1-2).
510 Сб. ВИМ. Т. 7. С. 371; Langeron. ААЕ 20: 24.
511 Переписка. № 659 (Потемкин Екатерине II 1 июня 1783); № 664 (Екатерина II Потемкину 13 июня 1783; пер. с франц.).
512 Переписка. № 683 (Потемкин Екатерине II 23 сен. 1783); Е.В. Анисимов, цит. по: Hughes 1998. Р. 88; Миранда. 22 нояб. 1786; Сб. РИО. Т. 27. С. 369 (Екатерина II Потемкину о средствах на флот, 26 июня 1786).
513 Anspach. 12 мар. 1786.
514 PRO FO SP 106/107 (Фокнер Гренвиллу 18 июня 1791; Ч. Уитворт, Описание русского Черноморского флота (11 января 1787)); Joseph II und Katarina. P. 353 (Иосиф II фельдмаршалу Ласси 19/30 мая s787); Anderson 1961. Р. 144-145; Сб. РИО. Т. 27. С. 354-355 (указ Екатерины II о препоручении Черноморского флота под командование Потемкина, 13 авг. 1785).
515 PRO FO SP 106/107 (У. Фокнер лорду Гренвиллу 18 июня 1791).
516 ПСЗ. Т. 10. № 520-521 (24 апр. 1777); РГАДА 16.588.1.12, 16.799,1.141-142 и 95; Сб. ВИМ. Т. 7. С. 85 (Потемкин генерал-губернатору Азова В.А. Черткову 14 июня 1776); С. 94 (Потемкин А.И. фрн Медеру 27 авг. 1776). Потемкин заботился об устройстве армянского поселения (см.: Мелликсет-Беков Л. Из материалов по истории армян на юге России. Одесса, 1911. С. 14: Потемкин М.В. Каховскому).
517 CAD/51. Pole Carew Papers; ЗООИД. Т. 8. С. 212 (Потемкин Екатерине II10 авг. 1785); ЗООИД. Т. 9. С. 284. Потемкин митрополиту Гавриилу С.-Петербургскому 26 авг. 1785); ПСЗ. Т. 22. № 280 (14 янв. 1785); ЗООИД. Т. 8. С. 212 (Потемкин Екатерине II10 авг. 1785); ПСЗ. Т. 20. №№ 14870,15006; Сб. ВИМ. Т. 7. С. 54 (Потемкин Муромцеву 31 авг. 1775); РГАДА 11.869.114 (А.А. Вяземский Потемкину 5 авг. 1786).
518 Зуев 1782-1783. С. 144; Сб. РИО. Т. 27. С. 275; ПСЗ. Т. 22. С. 438-440 (16239, 13 авг. 1785); Сб. ВИМ. Т. 7. С. 119-124; РГАДА 248.4402.374-375; РГАДА 11.946.273, 275 (М. Кантакузин Потемкину 6 фев. 1787 и 25 янв. 1787).
519 Скальковский 1836-1838. Часть 1. С. 146-147; РГАДА 11.946.32 (Панаио и Алексиано Потемкину 11 дек. 1784, Севастополь); Дружинина 1959. С. 159; ЗООИД. Т. 11. С. 330-331 (Потемкин Остерману 25 мар. 1783).
520 РГАДА 11.895.25 (Потемкин Сутерланду, 1787).
521 ЗООИД. Т. 9. С. 265 (Синельников Попову); Кабузан 1976. С. 154; ЗООИД. Т. 11. С. 331 (Потемкин Таксу 26 мая 1783).
522 Екатерина 1907. С. 570; Madariaga 1981. Р. 505; Фельдман 2000. С. 186-192; Fishman 1996. Р. 46-59,91-93; Klier 1986. Р. 35-80,95,125; Greenbeig 1944. Р. 23-24; РГАДА 16.696.1.179 (реестр населения г. Екатеринослава 30 янв. 1792).
523 Klier 1986. Р. 95; Greenberg 1944. Р. 23-24; Фельдман 2000. С. 186-192; Fishman 1996. Р. 46-59, 91-93; ЗООИД. Т. 12. С. 295 (ордер Потемкина о назначении Цейтлина управляющим монетного двора в Кафе, 6 мар. 1784); ПСЗ. Т. XXII. № 16146 (приказ Екатерины II об именовании евреев); об отношениях между Потемкиным, Цейтлиным и Сутерландом см.: РГВИА, ф. 52, а также РГАДА 11.895.3-5 (Сутерланд Потемкину 10 авг. и 13 сен. 1783); РГАДА 11.895.7 (Сутерланд Потемкину 2 мар. 1784); Иванов П.А. Управление еврейской иммиграцией в Новороссийскую область // ЗООИД. Т. 17. С. 163-188; ЗООИД. Т. 11. С. 330 (Потемкин Остерману 25 мар. 1783); Энгельгардт 1997. С. 42; Миранда. 30 дек. 1786; Fishman 1996. Р. 46-59, 91-93.
19. АНГЛИЙСКИЕ АРАПЫ И ЧЕЧЕНСКИЕ БОЕВИКИ
524 АКВ. Т. 13. С. 101-102 (Безбородко С.Р. Воронцову 28 окт. 1785.
525 АКВ. Т. 11. С. 177-179 (С.Р. Воронцов НИ. Панину 6/18 мая 1801; пер. с франц.)
526 ВМ 33540. Ff. 64-65 (С. Бентам И. Бентаму); Bartlett 1979. Р. 127-128.
527 ЗООИД. Т. 12. С. 324 (Потемкин В.В. Каховскому); ЗООИД. Т. 15. С. 607-608 (Потемкин И.М. Синельникову 1 июля 1784); ИТУАК. Т. 8. С. 10.
528 РГВИА 52.1.2.461.40.
529 РГАДД 16.788.1.149.
530 РГВИА 52.1.2.496.44-45 (Потемкин В.В. Каховскому 20 янв. 1787); РГВИА 52.1.2.461.1.13-14 (Потемкин профессорам В. (?) Ливанову, М. Прокоповичу и К. Таблицу 5 янв. 1787); Сб. РИО. Т. 27. С. 357 (Екатерина II Потемкину о Ливанове и Прокоповиче, вернувшихся из Англии 1 сен. 1785).
531 PRO FO, cyphers SP 106/67 (Фокнер Гренвиллу 18 июня 1791);
532 АКВ. Т. 13. С. 59-60 (Безбородко С.Р. Воронцову 20 авг. 1784); Дружинина 1959. С. 119-120.
533 РГВИА 52.1.2.461.1.64.
534 Murray 1998. P. 145-147.
535 РГАДА 11.939.2 (леди Крейвен Потемкину 5 апр. 1786); Cross 1997. Р. 358.
536 Философская и политическая переписка императрицы Екатерины И с доктором Циммерманом: 1785-1792. СПб., 1803. С. 47.
537 ЗООИД. Т. 12. С. 313 (Потемкин В.В. Каховскому 3 дек. 1784); РГАДА 16.799.1.35 (Потемкин Екатерине II).
538 Guthrie 1802. Письмо LXI. Р. 195.
539 Переписка. № 730 (Потемкин Екатерине II, 1785-1786).
540 РГАДА 11.946.201, 207, 208, 203, 204, 220, 226 (Банк Потемкину, 1781-1787); ЗООИД. Т. 9. С. 254.
541 РГВИА 271.1.33.1 (Банк Потемкину 25 сен. 1783); Таврические ГУб. Ведомости. № 5; ГАОО. 150.1.23.10 (Потемкин В.В. Каховскому, о Банке); РГАДА 11.946.226 (Банк Потемкину 15 янв. 1787).
542 ААЕ 10: 206 (Сегюр Верженну).
543 ЗООИД. Т. 4. С. 369 (Потемкин Фалееву 13 окт. 1789).
544 ПСЗ. Т. 20. № 520-521 (24 апр. 1777); Т. 21. № 784 (22 дек. 1782); Bartlett 1979. Р. 120; РГАДА 11.869.73 (Вяземский Потемкину 5 авг. 1786, с предложением 30307 поселенцев для Кавказа (или Екатеринослава).
545 Henze P. Circassien Resistance to Russia // The North Caucasus Barrier. P. 75; Baddeley 1908. P. 40-50; Segur 1824-1826. Vol. 2.
546 Anspach. 9 мар. 1786; Миранда. 27 янв. 1787; Encyclopaedia of Gardening. P. 52; РГАДА 11.950.5.234 (Гульд Потемкину).
547 Миранда. 9 янв. 1787; Крючков 1996. С. 164.
548 РГВИА 52.2.2.22-33 (Потемкин И.Е. Старову 26 мая 1790).
549 PRO FO SP 106/107 (Фокнер Гренвиллу 18 июня 1791).
550 Кабузан 1976. С. 164; Дружинина 1959. С. 150-155,160-165,200; McNeill 1964. Р. 200.
551 Segur 1859. Vol. 2. P. 43.
552 McNeill 1964. P. 202.
20. АНГЛОМАНИЯ
553 Bentham. Collected Works. Vol. 10. P. 171 (Дж. Уилсон И. Бентаму 26 фев. 1787).
554 Christie 1993. P. 1-10; ВМ 33558. F. 3 (С. Бентам неизвестному 1 авг. 1780); Bentham 1862. Р. 67-68; ВМ 33555. F. 65 (С. Бентам И. Бентаму 7 янв. 1783).
555 ВМ 33539. F. 289-294 (С. Бентам И. Бентаму 16 июня 1782).
556 ВМ 33558. F. 102-104 (С. Бентам А.М. Голицыну 23 мар. 1783).
557 ВМ 33564. F. 31 (дневник С. Бентама за 1783-1784).
558 ВМ 33540. F. 6 (С. Бентам И. Бентаму 20 янв. 1784), 17-18 (С. Бентам И. Бентаму 20 янв. ст. ст. 1784); 7-12 (С. Бентам И. Бентаму 20/31 янв. — 2 фев. 1784 и 6/17-9/20 мар. 1784).
559 ВМ 33564. F. 30 (дневник С. Бентама, март 1784); Bentham. Correspondence. Р. 279 (С. Бентам И. Бентаму 10/21 июня — 20 июня / 1 июля 1784); ВМ 33540. F. 88 (С. Бентам неизвестному 18 июля 1784); Bentham 1862. Р. 74-77 (С. Бентам отцу 18 июля 1784); Christie 1993. Р. 122-126; Дружинина 1959. С. 148.
560 ВМ 33540. F. 87-89 (С. Бентам отцу (?) 18 июля 1784).
561 Cornwall Archives. CO/R/3/93 (Пол Кери 4/15 июня 1781); РГАДА 11.900.3/4/5 (составленные Кери планы устройства поместья Потемкина на Днепре: Кери Потемкину 13/24 авг. 1781 и 30 мар. 1782); ВМ 33540. F. 87-89 (С. Бентам отцу (?) 18 июля 1784).
562 ВМ 33540. F. 237 (С. Бентам отцу 6 янв. 1786).
563 ВМ 33540. F. 380-382 (И. Бентам отцу 2/14 июня 1787), 87-89 (С. Бентам отцу (?) 18 июля 1784).
564 ВМ 33540 (Потемкин С. Бентаму 10 сен. 1785); Bentham 1862. Р. 79.
565 Christie 1993. Р. 132; РГАДА 11.946.132-134 (С. Бентам Потемкину 18 июля 1784).
566 ВМ 33540. F. 70-78 (С. Бентам И. Бентаму 10/12 июня — 20 июня/1 июля 1784).
567 ВМ 33540. F. 147 (С. Бентам И. Бентаму 30 мар./10 апр. 1785); ВМ 33540 (С. Бентам И. Бентаму, июнь 1784).
568 ВМ 33540. F. 68 (С. Бентам И. Бентаму 19 июня 1784); ВМ 33540. F. 94 (С. Бентам И. Бентаму 18 июля 1784).
569 ВМ 33540. F. 235 (Джеремайя Бентам 2 нояб. 1784); ВМ 33540. F. 306 (маркиз Лэнсдоун Джеремайе Бентаму 1 сен. 1788).
570 РГАДА 11.946.141-142 (И. Бентам Потемкину 27 авг. 1785); РГАДА 11.946.186-210 (И. Бентам Потемкину, фев. 1785); ВМ 33540. F. 151-152 (С. Бентам И. Бентаму 27 мар. 1785); ВМ 33540. F. 160 (Р. Хайнем И. Бентаму 10 мая 1786).
571 ВМ 33540. F. 258 (И. Бентам к неизвестному лицу 9 мая/28 апр. 1786).
572 Сб. РИО. Т. 23. С. 157.
573 Dimsdale. 7 сен. н. с. 1781; Cross 1997. Р. 267-270, 274-276, 284,410.)
574 РГИА. 1146.1.33; Cross 1997. Р. 275, 285; Vigee Lebrun. P. 23-24.
575 РГАДА 11.891.1 (кн. Белозерский Потемкину 9/20 июля 1780).
576 РГАДА 11.923.8 (Харрис Потемкину 15 июня 1784); РГАДА 11.923.5 (Харрис Потемкину 4 июня 1784); РГВИА 52.2.89.91 (лорд Кэрисфорт Потемкину 12 июля 1789, Лондон); Hilles F.W. Sir Joshua and the Empress Catherine // Eighteenth Century Studies. P. 270-273; Crossl997. P. 321.
577 Благодарю за помощь сотрудницу Государственного Эрмитажа М.П. Гарнову.
578 Joseph II — Cobenzl. Vol. 1/Р. 115 (Кобенцль Иосифу II 4 фев. 1781), 265 (Кобенцль Иосифу II 4 дек. 1781), 278 (Иосиф II Кобенцлю 27 дек. 1781); РГАДА 11.946.119-123 (Р. Бромтон Потемкину 21 июня 1782); Cross 1997. Р. 309-310.
579 Segur 1824-1826. Vol. 2. P. 341; Cross 1997. P. 357-358.
580 BM 33540. F. 168 (Лэнсдоун И. Бентаму б/даты).
581 Миранда. 9 янв. 1787.
582 ВМ 33540. F. 163 (С. Бентам И. Бентаму 10 июня 1785); ВМ 33540. F. 318-321 (И. Бентам К. Тромповскому 18/29 дек. 1786).
583 ВМ 33540. F. 31 (И. Бентам 19/30 дек. 1786).
584 ВМ 33540. F. 151 (И. Бентам отцу 27 мар. 1785); ВМ 33540. F. 64 (С. Бентам Полу Кери 18 июня 1784).
585 Bentham. Correspondence. Vol. 3. P. 443 (И. Бентам отцу 28 апр./9 мая 1785); ВМ 33540. F. 296 (И. Бентам Дашкову 19 июля 1786); Soloveytchik 1947.
586 Закалинская 1958. С. 37,41-43; Christie 1993. Р. 206; Christie 1970. Р. 197; Cross 1993. Р. 357-358.
21. БЕЛЫЙ НЕГР, ИЛИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
587 Сб. РИО. Т. 23. С. 319 (Екатерина II Гримму 14 сен. 1784); Parkinson 1971. Р. 45-49; РА. 1886. № 3. С. 244-245: Из записок доктора Вейкарта; Массон 1996. С. 71.
588 Сб. РИО. Т. 26. С. 281-281 (Безбородко Потемкину 29 июня 1784).
589 Массон 1996. С. 71; Сб. РИО. Т. 23. С. 244 (Екатерина II 1 Гримму 29 июня 1782).
590 Сб. РИО. Т. 23. С. 316-317 (Екатерина II Гримму 7/18 июня 1784).
591 Сб. РИО. Т. 23. С. 344 (Екатерина II Гримму).
592 Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. P. 17 (Кобенцль Иосифу II 5 мая н.с. 1780); Harris 1844. Р. 366 (Харрис Стормонту 14/25 мая 1781, 21 июля/1 авг. 1780).
593 Переписка. № 729 (Екатерина II Потемкину), № 730 (Потемкин Екатерине II, 1785-1786).
594 Переписка. № 731 (Екатерина II Потемкину и Потемкин Екатерине II, 1785-1786).
595 Энгельгардт 1997. С. 49; Saint-Jean 1888. Ch. 6. P. 40-48.
596 Сб. РИО. Т. 23 (Екатерина II Гримму 31 авг. 1781). Именно к этому времени относят якобы имевшее место увлечение Екатерины Семеном Федоровичем Уваровым, гвардейским офицером, который развлекал Потемкина пляской и игрой на бандуре.
597 Дашкова 1987. С. 106.
598 Там же. С. 159.
599 Энгельгардт 1997. С. 50.
600 Joseph II — Cobenzl. Vol. 2. Р. 37 (Кобенцль Иосифу II 14 мая 1785).
601 Там же.
602 Damas 1912. Р. 97; Сб. РИО. Т. 42. С. 123 (Екатерина II, ноябрь 1790).
603 Dimsdale. 27 сен. ст. ст. 1781; Anspach. 18 фев. 1786.
604 Dimsdale. 27 авг. 1781.
605 Сб. РИО. Т. 23. С. 89 (Екатерина II Гримму 16 мая 1778).
606 Damas 1912. Р. 95; ВМ 33539. F. 39 (С. Бентам 8 апр. 1780).
607 Сб. РИО. Т. 23. С. 438 (Екатерина II Гримму 23 фев. 1788).
608 Damas 1912. P. 97; Harris 1844. P. 304 (Харрис Стормонту 13/24 дек, 1780).
609 Переписка. № 842 (Екатерина II Потемкину 8 марта 1788); Harris 1844. Р. 413 (Харрис Стормонту 16/27 нояб. 1781).
610 Сб. РИО. Т. 23 (Екатерина II Гримму 30 июня 1785, Петергоф).
611 Гарновский 1876. Т. 15. С. 226 (3 фев. 1789); Т. 16. С. 9.
612 Дашкова 1987. С. 143.
613 Segur 1825-1827. Vol 3. P. 46; Vol. 2. P. 359; Сб. РИО. Т. 23. С. 353 (Екатерина II Гримму 1 июня 1785).
614 Сегюр 1989. С. 393-401.
615 Segur 1825-1827. Vol. 2. P. 418; Memoirs. P. 98-103.
616 Храповицкий. 30 мая 1786.
617 Сегюр 1989. С. 392-393.
618 Переписка. № 737 (Екатерина II Потемкину после 28 июня 1786); КФЖ. 17-28 июня 1786; Joseph II — Cobenzl Vol. 2. P. 75 (Кобенцль Иосифу II 1 нояб. 1786); Memoirs. P. 103-104.
619 Храповицкий. 17, 18 июля 1786.
620 Переписка. № 739 (Потемкин Екатерине II 20 июля 1786).
621 Храповицкий. 20 июля 1786.
622 Сегюр 1989. С. 394.
623 Davis 1961. Р. 148.
624 Saint-Jean 1888. Ch. 6. P. 40.
22. ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ КНЯЗЯ ГРИГОРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
625 [Алексеев Г.П.] Эпизод из жизни князя Потемкина // ИВ. 1889. № 9. С. 683-684.
626 Рибопьер 1877. С. 479; Castera 1798. Vol. 3. P. 296.
627 Сб. РИО. Т. 23. С. 300 (Екатерина II Гримму 5 апр. 1784);
628 Сегюр о Потемкине (цит. по: Castera 1798. Vol. 2. P. 333).
629 Массон 1996. С. 68; Davis 1961. P. 148; Richelieu 1886. С. 148.
630 Castera 1798. Vol. 2. P. 333.
631 Richelieu 1886. С. 148-149.
6932 Castera 1798. Vol. 2. P. 333.
633 Davis 1961. P. 148.
634 Anspach. 18 фев. 1786.
635 РГИА. 1146.1.33.
636 РГАДА 11.889.2 (Любомирский Потемкину 15 авг. 1787); Joseph II — Cobenzl. Vol. 2. P. 194 (Иосиф II Кобенцлю 12 сен. 1787; РГАДД 11.928.8 (Кобенцль Потемкину 26 мар. 1786); РГВИА 52.2.61.7 (Ф.М. Голицын Потемкину 26 авг./б сен. 1781).
637 Миранда. 6 мар. 1787.
638 Сб. РИО. Т. 23. С. 333 (Екатерина II Гримму 15 апр. 1785).
639 Damas 1912. Р. 109.
640 Парело 1879. С. 315.
641 Сегюр 1989. С. 345, 424.
642 Опись гардероба Потемкина, сделанную по его кончине, см.: ЧОИДР. Кн. IV. С. 15-53 (Список домов и движимого имущества Г.А. Потемкина-Таврического, купленного у наследников его императрицей Екатериной II).
643 Richelieu 1886. С. 148.
644 Сегюр 1989. С. 345.
645 Сегюр 1989. С. 351.
646 Ligne 1809. Vol. 2. Р. 6; отсюда же взяты остальные цитаты из де Линя, приведенные в этой главе, за исключением отрывков, приведенных в мемуарах Л.Н. Энгельгардта.
647 Anspach. 18 фев. 1786.
648 Сегюр 1989. С. 387-388.
649 О приватной жизни Потемкина. № 2. С. 88.
650 Энгельгардт 1997. С. 61-62.
651 О приватной жизни Потемкина. № 2. С. 9.
652 Там же.
653 Castera 1798. Vol. 3. P. 128.
654 Миранда. 13 янв. 1787; РГАДА 5.166.8 (Станислав Август Потемкину 7 мая 1787).
655 РГАДА 11.946.229 (проф. Батай Потемкину б/даты, 1784).
656 РГАДА 11.918.1 (Г. Головчин Потемкину 22 авг. 1784); РГВИА 52.2.89.145, 146 (княгиня Барятинская Потемкину 2 сен. 1790 и 11 мар. 1791, Турин); РГАДА 11.937.3 (граф Зайн-Витгенштейн Потемкину 1 авг. 1780; РГАДА 11.946.303, 315 (Николай Карпов Потемкину 27 мая и 25 сен. 1786, Херсон); РГАДА 11.946.430-434 (Элиас Абез, принц Палестинский (?) Потемкину, авг. 1780.
657 Ligne 1809. Р. 75; РГАДА 11.867.11 (Браницкий Потемкину б/даты); РГАДА 11.946.385 (А. Деуза Потемкину 24 авг. 1784).
658 РГАДА 11.902а (реестр долгов Потемкина); РГАДА 11.946.378 (К.Д. Дюваль Потемкину, фев. 1784).
659 РГАДА 52.2.35.7 (П. Теппер Потемкину 25 сен. 1788, Варшава); Карно-вич 1885. С. 265-269; Валишевский 1911. С. 145.
660 Сегюр 1989. С. 352; Richelieu 1886. С. 148-149 (пер. с франц.); Миранда. 1 янв. 1787.
661 Державин 1864-1972. Т. 6. С. 444; ВМ. 33540. F. 64 (С. Бентам Кери 18 июня 1784).
662 Вигель 2000. С. 13.
663 Щербатов 1858. С. 83.
664 Pole Carew. CO/R/3/95.
665 Энгельгардт 1997. С. 89.
666 Там же.
667 РГАДД 11.864.36-77; 11.864.1.12, 13, 16, 29; 11.864.2.68, 73, 86; некоторые отрывки из этих писем опубл. в PC. 1875. Т. 7
668 Самойлов 1867. Стб. 1574; Вигель 2000. С. 13.
669 Сегюр 1989. С. 347; Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. Р. 484 (Кобенцль Иосифу II 3 нояб. 1784).
670 Энгельгардт 1997. С. 43.
671 Harris 1844. Р. 281 (Харрис Стормонту 21 июля/1 авг. 1780).
672 Richelieu 1886. С. 148 (пер. с франц.).
673 АКВ. Т. 9. С. 86 (С.Р. Воронцов А.Р. Воронцову 4/15 нояб. 1786); Энгельгардт 1997. С. 43.
674 Миранда. 8 янв. 1787; Damas 1912. Р. 89-90.
675 Сб. РИО. Т. 42. С. 173 (Екатерина II С. де Мейлану 11 июня 1791).
676 Грахов 1858. С. 470-471.
677 Pole Carew. CO/R/3/95; Болотина 1995.
678 Segur 1925. P. 359; AAE 20:330-335; Harris 1844. P. 239 (Харрис Стормонту 15/26 фев. 1780).
679 Энгельгардт 1997. С. 42.
680 Пушкин. Ак. Т. 12. С. 156, 171; Переписка. № 833, 1021 (Потемкин Екатерине II 5 фев. 1788 и 5 дек. 1789); Энгельгардт 1997. С. 42.
681 Пушкин. Ак. Т. 12. С. 811.
682 О приватной жизни Потемкина. № 2. С. 17-18.
683 Castera 1798. Vol. 2. Р. 279.
Часть седьмая. АПОГЕЙ. 1787-1790
23. ВОЛШЕБНОЕ ЗРЕЛИЩЕ
684 Миранда. 28-31 дек. 1786, 1 янв. 1787; Переписка. № 954 (Екатерина II Потемкину 13 мая 1789).
685 Миранда. 28-31 дек. 1786.
686 Memoires du duc de Cars. Vol. 1. P. 268-279; Davis 1961. P. 88; Madariaga 1950; Keen, Wasserman 1998. P. 154-158; Zamoyski 1999. P. 136-143, 152-153; Zamoyski 1992. P. 260.
687 Миранда. 3, 5 янв. 1787.
688 Joseph II - Cobenzl. Vol. 2. P. 75.
689 Anspach 1826. P. 144.
690 Миранда. 25 дек. 1786 — 20 янв. 1787.
691 Aragon 1893. P. 115 (Нассау-Зиген жене, янв. 1787); Joseph II — Cobenzl. Vol. 2. P. 86 (Кобенцль Иосифу II 2 нояб. 1786).
692 Миранда. 20 янв. 1787.
693 Сб. РИО. Т. 23. С. 392 (Екатерина II19 янв. 1787).
694 Bentham. Collected Works. P. 525 (И. Бентам Дж. Уилсону 9/20 фев. 1787); Сегюр 1989. С. 417.
695 Ligne 1809. Р. 65 (де Линь маркизе де Куаньи; принц присоединился к путешествию только в Киеве); Храповицкий. 17 янв. 1787.
696 Christie 1993. Р. 177 (И. Бентам 19/30 янв. 1787); Сб. РИО. Т. 23. С. 393 (Екатерина II Гримму 23 янв. 1787).
697Segur 1925. Р. 222; Mniszech 1866. Р. 192.
698 Миранда. 26 мар. 1787; Mansel. Р. 106.
699 Сегюр 1989. С. 419.
700 Zamoysli 1992. Р. 260; Davis 1961. Р. 27,119, 213; Миранда. 26 мар. 1787.
701 Сегюр 1989. С. 420.
702 Ligne 1827-1829. Vol. 21. Р. 6; Ligne 1809. Р. 33; Миранда. 17 и 12 фев. 1787.
703 Миранда. 14 фев. 1787.
704 Aragon 1893. Р. 138; Baylen, Woodward 1950. P. 52-68.
705 Миранда. 20 и 28 фев. 1878.
706 Миранда. 14 мар., 18, 19 фев., 22 мар. 1787.
707 Segur 1925. Р. 227-229; Сб. РИО. Т. 23. С. 399 (Екатерина II Гримму 4 апр. 1787).
708 Переписка. № 824 (Потемкин Екатерине II 25 дек. 1787); Соловьев 1863. С. 198; Храповицкий. 16-17 мар. 1787; РГВИА 52.2.71.1-93; 52.2.35.9-35; 52.2.56.2; 52.2.74; 52.2.39 (переписка Потемкина с графом Мошинским по поводу прав на имения Смила и Мещерич).
709 Ligne 1809. Р. 34 (де Линь маркизе де Куаньи, письмо I).
710 Aragon 1893. Р. 126 (Нассау-Зиген жене, фев. 1787); Kukiel 1955. Р. 18; Aragon 1893. Р. 131 (Нассау-Зиген жене, фев. 1787); Zamoyski 1992. Р. 294-295; Mniszech 1866. Р. 199.
711 Миранда. 22 фев. 1787.
712 Zamoyski 1992. Р. 294.
713 Миранда. 21-22 фев., 11 мар., 11, 21 апр. 1787.
24. КЛЕОПАТРА
714 Ligne 1809. Р. 37; Сегюр 1989. С. 438-439. Основные описания путешествия Екатерины II — мемуары Сегюра, письма принцев де Линя и Нассау-Зигена (Aragon 1893); см. также: Madariaga 1981. Р. 393-395; Alexander 1989. Р. 256-257.
715 Сегюр 1989. С. 439.
716 Сегюр 1989. С. 446.
717 РГАДА.5.166.14, 9 (Станислав Август Потемкину 16-17 фев. 1787).
718 Zamoiski 1992. Р. 297; Сегюр 1989. С. 442; Сб. РИО. Т. 23. С. 407-408 (Екатерина II Гримму 26 апр. 1787).
719 Ligne 1809. Р. 40 (де Линь маркизе де Куиньи); Переписка. № 758 (Екатерина II Потемкину 25 апр. 1787); Храповицкий. 26 апр. 1787.
720 Mansel 1992. Р. 111; Переписка. № 759 (Екатерина II Потемкину 25 апр. 1787); РГАДА 5.166.9 (Станислав Август Потемкину 7 мая 1787).
721 РГВИА 271.1.43.1 (Иосиф II Потемкину 25 нояб. 1786); этот неопубликованный архив содержит большую часть переписки Потемкина с Иосифом II, его преемником Леопольдом и канцлером Кауницем; Joseph II — Cobenzl. Vol. 2. Р. 117, 141 (Кобенцль Иосифу II 25 фев., 11 мая 1787); Joseph II und Katarina. P. 277 (Иосиф II Кауницу 19 авг. и 12 сен. 1786 и Иосифа II Екатерине II 15 фев. 1787); Ligne 1809. Р. 40 (де Линь маркизе де Куиньи).
722 ВМ. 33540. F. 365-366 (С. Бентам И. Бентаму 16 мая 1787).
723 Сб. РИО. Т. 23. С. 410 (Екатерина II Гримму 15 мая 1787); Joseph II und Katarina. P. 356 (Иосиф II Ласси 19 мая 1787).
724 Там же.
725 Ligne 1827-1829. Vol24. Р. 4-8.
726 Segur 1859. Vol. 2. Р. 46-47.
727 Joseph II und Katarina. P. 355, 358 (Иосиф II Ласси 19 и 30 мая 1787); Храповицкий. 15 мая 1787.
728 Segur 1859. Vol. 2. Р. 46-47; Сб. РИО. Т. 23. С. 410 (Екатерина II Гримму 15 мая 1787).
729 Ligne 1809. Р. 42 (де Линь маркизе де Куиньи).
730 Segur 1859. Vol. 2. Р. 54-55.
731 Сегюр 1989. С. 449, 453-454; Aragon 1893. Р. 154-158 (Нассау-Зиген жене, май 1787).
732 Сегюр 1989. С. 454.
733 Segur 1859. Vol.2. Р. 54-55.
734 Переписка. № 762 (Екатерина II Потемкину 20-21 мая 1787).
735 Ligne 1827-1829. Vol24. Р. 4-7,11; Aragon 1893. Р. 158-161 (Нассау-Зиген жене 1 июня 1787), Segur 1859. Vol. 2. P. 66-67; Joseph II — Cobenzl. Vol. 2. P. 150 (Кобенцль Кауницу 3 июня 1787); Joseph II und Katarina. P. 363 Иосиф II Ласси 3 июня 1787), p. 292 (Иосиф II Кауницу 3 июня 1787).
736 Joseph II und Katarina. P. 364 (Иосиф II Ласси 5 июня 1787).
737 Ligne 1827-1829. Vol. 24. P. 4-8.
738 Joseph II und Katarina. P. 364 (Иосиф II Ласси 5 июня 1787).
25. АМАЗОНКИ. «ПОТЕМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ». НОВАЯ ВОЙНА
739 Segur 1925. Р. 245.
740 Guthrie 1802. Letter LXV. P. 204-206.
741 Ligne 1809. P. 60,64; Joseph II und Katarina. P. 363-364 (Иосиф II Ласси 5 и 7 июня 1787).
742 Joseph II und Katarina. P. 364 (Иосиф II Ласси 7 июня 1787).
743 Segur 1925. P. 242.
744 Segur 1859. Vol2. P. 67-68,90; ЗООИД. T. 13. C. 268 (донесение M.B. Каховского); Joseph II und Katarina. P. 364,373 (Иосиф II Ласси 8 июня и 12 июля 1787); Wien von Maria Theresa bis zur Franzosenzeit. Vienna, 1972. P. 40; Ka-талог Выставки «Osterreich zur Zeit Kaiser Josephs II mit Regent Kaiserin Maria Theresias, Kaiser und Landesfurst». Stifl Melk, 1980. P. 439.
745 Переписка. № 763 (Екатерина II Потемкину 9 июня 1787).
746 Helbig, Geoig von. Potemkin der Taurier // Minerva. Ein Journal historischen und politischen Inhalts herausgegeben von J.M. von Archenholtz. Hamburg, 17-97-1800; Russische Gunstlinge. Tubingen, 1809; Potemkin: Ein interessanter Beitrag zur Regier ungeschichte Katarina der Zweiten. Halle/Leipzig, 1804. Эти книги были переведены на французский: Vie de Potemkine, par J.E. de C6renville (Paris, 1808) и на английский язык: Memoirs of the Life of Prince Potemkin. London 1812,1813. (Два фрагмента в русском переводе: О приватной жизни князя Потемкина // Москвитянин. 1852. № 2-3; То же. М., 1991. Указатель Керара «Литературная Франция» называет настоящим автором книги «Vie de Potemkine» французского литератора и переводчика с немецкого языка Траншана де Лаверна: Querard. La France Litteraire. Vol. 9. Paris, 1839. P. 531. — Прим. переводчика.)
747 Васильчиков 1880-1884. Т. 1. С. 370-371.
748 Anspach. 3 апр. 1786.
749 Храповицкий. 4 апр. 1787.
750 ЗООИД. Т. 12. С. 303, 309, 320 (ордера Потемкина В.В. Каховскому).
751 Segur 1925. Р. 232.
752 Ligne 1809. Р. 65 (де Линь маркизе де Куаньи).
753 РГАДА 2.111.13-15 (Екатерина II московскому главнокомандующему П.Д. Еропкину); Сб. РИО. Т. 27. С. 411 (Екатерина II вел. кн. Александру 28 мая 1787); РГАДА 10.2.38.1-2 (Екатерина II Л.А. Брюсу 14 мая 1787).
754 Гарновский 1876. Т. 15. С. 33.
755 Ligne 1827-1829. Vol. 24. Р. И.
756 Переписка. № 769 (Потемкин Екатерине II 17 июля 1787); № 773 (Екатерина II Потемкину 27 июля 1787).
757 Ligne 1827-1829. Vol. 24. Р. 4-5,11.
758 Memoirs. Р. 117-118.
759 РГВИА 52.11.53.31 (Пизани Булгакову 1/12 мая 1787).
760 РГВИА 52.2.1.9 (Потемкин Булгакову).
761 РГВИА 52.2.53. 80 (Пизани Булгакову 1 июня 1787). В депеше от 1/12 мая описываются действия английских дипломатов, подталкивавших Россию и Турцию к войне и подстрекавших дагестанцев, чеченцев и лезгин к нападениям на Россию.
762 Переписка. № 782, 795 (Екатерина II Потемкину 24 авг., 24 сен. 1787).
763 Переписка. № 783 (Потемкин Екатерине II 28 авг. 1787).
764 Переписка. № 786 (Екатерина II Потемкину 6 сен. 1787).
765 Переписка. № 789 (Потемкин Екатерине II 16 сен. 1787).
766 Переписка. Ne 790 (Потемкин Екатерине II 19 сен. 1787).
767 Переписка. № 793 (Потемкин Екатерине II 24 сен. 1787).
768 Переписка. № 793, 794 (Потемкин Екатерине II 24 сен. 1787).
26. КАЗАКИ-ЕВРЕИ И АДМИРАЛ-АМЕРИКАНЕЦ. БИТВА В ЛИМАНЕ
769 Переписка. № 795 (Екатерина II Потемкину 27 сен. 1787; пер. с франц.). Основные источники описания русско-турецкой войны в главах 26-34: Петров 1880; Лопатин 1992; Суворов. Письма; Петрушевский 1884; Масловский 1894; ЗООИД. Т. 4, 8, 11; Письма и бумаги А.В. Суворова, Г.А. Потемкина-Таврического, П.А. Румянцева-Задунайского (1787-1789) // Сб. ВИМ; Письма Потемкина Суворову// PC. 1875. Июнь; 1876. Июль; РА. 1877; Christie 1972; Christie 1993; Duffy 1981; Langeron //AAE 20; Damas 1912; Ligne 1809; Ligne 1827-1829; Richelieu 1886.
770 Переписка. № 800 (Екатерина II Потемкину 2 окт. 1787).
771 Переписка. № 799 (Потемкин Екатерине II 2 окт. 1787).
772 PC. 1875. Май. Т. 8. С. 21-30.
773 Байрон. Дон Жуан. VII: 55. Пер. Т. Гнедич.
774 PC. 1875. Май. Т. 8. С. 30-33.
775 РГВИА 52.2.52.10 (Иосиф II де Линю 25 нояб. 1787); Переписка. № 819 (Потемкин Екатерине II12 нояб. 1787).
776 Damas 1912. Р. 23-25.
777 Ligne 1795-1811. Vol. 24. P. 18; РГВИА 52.2.52.3 (Потемкин принцу де Линю б/даты).
778 Переписка. № 853, 854 (Потемкин Екатерине II до 5 мая, 5 мая 1788).
779 Rostoptchin 1823. Р. 27; Aragon 1893. Р. 180; о миссии генерала B.C. Тамары в Средиземноморье см. также письма Потемкина Кауницу от октября 1790: РГВИА 52.2.47.11.
780 Сб. ВИМ. Вып. 4. С. 217 (приказ Потемкина 18 дек. 1787).
781 Ligne 1809. Р. 74 (де Линь Иосифу II, дек. 1787); Ligne 1795-1811. Vol. 24. Р. 41, 57 (де Линь Иосифу II2, 6 мар. 1788); Vol. 21. Р. 180-181 (Записка о евреях); Фельдман 2000. С. 186-192.
782 Переписка. № 826, 833 (Потемкин Екатерине II 3 и 5 фев. 1788).
783 ВМ 33540. Е 487 (С. Бентам И. Бентаму 12/23 окт. 1788); Переписка. № 814 (Потемкин Екатерине II1 нояб. 1787).
784 Damas 1912. Р. 32.
785 Сб. РИО. Т. 23. С. 446 (Екатерина II Гримму 25 апр. 1788). Основные источники наших сведений о Дж. Пол Джонсе, помимо российских архивов и его неопубликованной переписки с Потемкиным — три его биографии: Morison 1959; Preedy 1940; Otis 1900.
786 РГВИА 52.2.56.1 (Потемкин Симолину 5/16 мар. 1788).
787 Aragon 1893. Р. 223 (Нассау-Зиген жене 4 июня 1788); Damas 1912. Р. 31-32.
788 Переписка. № 859 (Екатерина II Потемкину 27 мая 1788).
789 Ligne 1795-1811. Vol. 24. Р. 20.
790 РГВИА 52.2.82. 13 (Потемкин Нассау-Зигену б/даты).
791 Morison 1959. Р. 379-381.
792 ВМ 33540. F. 489 (С. Бентам отцу 12/23 окт. 1788).
793 Ligne 1795-1811. Vol. 24. P. 21; PC. 1875. Июнь. С. 160 (Потемкин Суворову 19 июня 1788).
794 Переписка. № 867 (Потемкин Екатерине II 19 июня 1788).
795 Aragon 1893. Р. 250 (Нассау-Зиген жене).
796 Переписка. № 876 (Потемкин Екатерине II 18 июля 1788).
797 Ligne 1795-1811. Vol. 24. P. 95 (де Линь Иосифу II 12 июля 1788).
798 Переписка. № 874 (Екатерина II Потемкину 13 июля 1788).
27. ШТУРМ ОЧАКОВА
799 ВМ 33554. F 93-94 (Генри Фэншоу, июль 1788). Основные источники описания событий Второй русско-турецкой войны см. в примечании 1 к главе 26.
800 Энгельгардт 1997. С. 69.
801 Цебриков 1895. С. 175-176; PC. 1875. Май. С. 38 (Потемкин Суворову 27 июля 1788).
802 Damas 1912. Р. 56-57.
803 Переписка. № 884 (Екатерина II Потемкину 31 авг. 1788);
804 PC. 1875. Май. С. 21-33 (Потемкин А.В. Суворову, апр. 1788); Ligne 1809. Р. 87 (де Линь Иосифу II, авг. 1788).
805 Langeron. Resume des campagnes // AAE 20: 74.
806 Damas 1912. P. 66-69.
807 Damas 1912. P. 63-64.
808 Ligne 1795-1811. Vol. 7. P. 198-201 (де Линь Сегюру 1 дек. 1788); Ligne 1809. Vol. 2. P. 16 (де Линь Сегюру 1 окт. 1788).
809 ВМ 33540. F. 489,445 (С. Бентам И. Бентаму); ВМ 33558. F. 442 (У. Ньютон Дж.Т. Эбботу 10 сен. 1789); Christie 1993. Р. 241; РГВИА 52.2.89.64-65 (Литтлпейдж Потемкину 16 сен. 1788 и Потемкин Литтлпейджу).
810 Переписка. № 898 (Потемкин Екатерине II 17 окт. 1788); РГВИА 52.2.82.21, 23 (Потемкин Полу Джонсу б/даты и Пол Джонс Потемкину 20 окт. 1788).
811 Там же.
812 Переписка. № 898 (Потемкин Екатерине II 17 окт. 1788).
813 Там же.
814 Damas 1912. Р. 72.
815 Joseph II — Cobenzl. Vol. 2. P. 299 (Кобенцль Иосифу II 24 окт. 1788); Langeron. Resume des campagnes // AAE 20: 74.
816 BM 33540. F. 489 (С. Бентам И. Бентаму).
817 Самойлов 1867. Стб. 1251.
818 Damas 1912. P. 63-64; Цебриков 1875. С. 151, 172, 177 (5 июня 1788).
819 Переписка. № 889 (Потемкин Екатерине II 15 сен. 1788).
820 Переписка. № 901 (Екатерина II Потемкину 7 нояб. 1788).
821 Переписка. № 902 (Потемкин Екатерине II 17 нояб. 1788).
822 Гарновский 1876. Т. 16. С. 213 (16 авг. 1788); С. 220,229-230 (Гарновский Попову 1 окт. и 29 нояб. 1788); Переписка. № 899,903 (Екатерина II Потемкину 19 окт., 27 нояб. 1788).
823 Damas 1912. Р. 79-83.
824 Переписка. № 907 (Потемкин Екатерине II 26 дек. 1788).
825 Киевская старина. 1888. Декабрь. С. 587.
826 Переписка. № 907 (Потемкин Екатерине II 26 дек. 1788).
827 Переписка. № 906 (Екатерина II Потемкину 16 дек. 1788).
828 Joseph II und Katarina. P. 325 (Иосиф II Кауницу 2 фев. 1789); Davis 1961. Р. 194.
829 Переписка. № 907 (Потемкин Екатерине II 26 дек. 1788).
830 Переписка. № 911 (Екатерина II Потемкину 2 фев. 1789).
831 Храповицкий. 26 янв. 1789.
832 Гарновский 1876. Т. 16. С. 236 (Гарновский Попову 3 фев. 1789).
833 Memoirs. Р. 195-197.
28. «УСПЕХИ МОИ ПРИНАДЛЕЖАТ ПРЯМО ТЕБЕ...»
834 КФЖ. 11 фев. и 15 апр. 1789; Завадовский Румянцеву. С. 321 (26 мар. 1789); основные источники описания русско-турецкой войны 1788-1791 годов см. в примеч. 1 к главе 26; см. также: Madariaga 1981. Р. 407-411; Alexander 1989. Р. 262-285.
835 PC. 1876. Октябрь. С. 23; Сб. ВИМ. Т. 7. С. 127 (Потемкин Суворову 23 апр. 1789).
836 Переписка. № 933 (Екатерина II Потемкину, апр. 1789).
837 Joseph II — Cobenzl. Vol. 2. P. 340 (Иосиф II Кобенцлю 24 апр. 1789); Р. 344 (19 мая 1789).
838 Переписка. N°№ 912,973 (Потемкин Екатерине II, февр., 9 июля 1789).
839 Segur 1859. Р. 152-153.
840 Otis 1900. Р. 359 (Пол Джонс Потемкину 13 апр. 1789).
841 РГВИА 52.2.64.12 (Сегюр Потемкину, лето 1789); Segur 1859. Р. 164-165.
842 Otis 1900. Р. 359 (Пол Джонс Потемкину 13 апр. 1789).
843 Потемкин получал частые отчеты о событиях во Франции от русского посла в Париже И.М. Симолина (напр., 27 апр./8 мая 1790: «Король — призрак, заключенный в Тюильри. [...] Страшная анархия» (РГВИА 52.2.56.31)). Парижские новости посылал ему и граф Штакельберг из Варшавы: «Париж превратился в огромный лагерь; все двери заперты [...] улицы полны солдат, женщины подбадривают их...» (РГВИА 52.2.39.306, 26 июля/6 авг. 1789). Сегюр, вернувшись во Францию, также продолжал писать Потемкину: «Мы бьемся в конвульсиях», — писал он 9 мая н.с. 1790 (РГВИА 52.2.64.24).
844 Переписка. № 967 (Потемкин Екатерине II 25 июня 1789); переписка Потемкина по польским делам с Ф.К. Браницким и О.М. фон Штакельбергом (РГВИА 52.2.39, 52.2.70, богатейший источник по истории русско-польских отношений); СИМПИК КВ. Т. 2. С. 9 (Потемкин Белому 2 янв. 1788); С. 10 (Потемкин Головатому 10 авг. 1788); С. 24 (ему же 4 окт. 1789).
845 Переписка. № 962 (Потемкин Екатерине II 10 июня 1789)
846 Массон 1996. С. 42; Головина 1996. С. 165.
847 Vigee Lebrun 1879. P. 13-14.
848 Храповицкий. 19 июня 1789.
849 Переписка. № 969, 975 (Екатерина II Потемкину 29 июня и 14 июля 1789).
850 Переписка. № 976 (Потемкин Екатерине II 18 июля 1789).
851 АКВ. Т. 12. С. 63 (Завадовский С.Р. Воронцову 1 июня 1789).
852 Переписка. № 980 (Екатерина II Потемкину 5 авг. 1789).
853 Переписка. № 971 (Потемкин Екатерине II 5 июля 1789); Ne 975 (Екатерина II Потемкину 14 июля 1789).
854 Переписка. № 972 (Екатерина II Потемкину 6 июля 1789).
855 Переписка. № 979 (Потемкин Екатерине II 30 июля 1789); № 983 (Екатерина II Потемкину 12 авг. 1789); Массон 1996. С. 110.
856 PRO FO, cyphers 65. SP 181 (барон Келлер из Петербурга в Берлин 26 фев. 1789); Saint-Jean 1888. Р. 137-145; этот источник сомнителен, но см. также отзыв Потемкина о В.А. Зубове в измаильском деле: Переписка. № 1097 (Потемкин Екатерине II18 дек. 1790); Damas 1912. Р. 113.
857 Суворов. Документы. Т. 3. С. 500-510; С. 553 (Суворов Хвостову 29 авг. 1796); Лопатин 1992. С. 157-170; РГИА 1146.1.33 (рапорты Гарновского Потемкину 27 июля 1789); Долгорукий 1889. С. 512.
858 Лопатин 1992. С. 165 (Потемкин Суворову 8 сен. 1789); РГВИА 52.2.52.8 (Потемкин де Линю 15 сен. 1789).
859 Лопатин 1992. С. 167.
860 Переписка. № 1015 (Потемкин Екатерине II 9 нояб. 1789).
861 РГВИА 52.2.39.28 (Потемкин Штакельбергу 7 нояб. 1789); РГВИА 52.2.46.3, 14 (Иосиф II Потемкину 1 и 5 дек. 1789); ответные письма Потемкина Иосифу II и его переписка с Кауницем, Кобенцлем и де Линем показывают его тесные отношения с австрийцами в 1789 году.
862 Переписка. № 1014,996,1000 (Потемкин Екатерине II 9 нояб., 22 сен., 2 окт. 1789).
863 Лопатин 1992. С. 173 (Потемкин Суворову и Суворов Попову 8 нояб. 1789).
864 Catherine II — Ligne. P. 114 (Екатерина II де Линю 5 нояб. 1789); Переписка. № 1008 (Екатерина II Потемкину 18 окт.).
865 Переписка. № 1016 (Екатерина II Потемкину 15 нояб.); № 1021 (Потемкин Екатерине II 5 дек. 1789); № 1023 (Екатерина II Потемкину 20 дек. 1789; пер. с франц.).
866 Переписка. № 1021 (Потемкин Екатерине II 5 дек. 1789).
867 РГВИА 271.1.43.3 (Иосиф II Потемкину 7 окт. 1789).
29. САРДАНАПАЛ
868 Головина 1996. С. 105.
869 Ligne 1827-1829. Vol. 7. Р. 199 (де Линь Сегюру 1 дек. 1788).
870 ААЕ 20: 80-10 (Langeron. Journal de la campagne de 1790).
871 Ligne 1827-1829. Vol. 7. P. 199-210 (де Линь Сегюру 1 дек. 1788).
872 Castera 1798. Vol. 3. P. 294; Sain-Jean 1888. P. 48-54, 137-145; AAE 20: 38: Langeron. Journal de la campagne de 1790.
873 AAE 20: 367: Langeron. Resume 1790.
874 РГВИА 52.11.91.11 (князь Н.Маврогени, господарь Валахии, Потемкину 5 нояб. 1789); РГВИА 52.11.91.6 (ответ Потемкина 24 окт. 1789); Dvoichenko-Markov 1963. Р. 208-218.
875 Самойлов 1867. Стб. 1553.
876 РГВИА 52.11.91.25-26 (кн. Кантакузин и др. Потемкину 12 фев. 1790); РГВИА 52.11.91.23-24 (молдавские бояре Потемкину б/даты и 17 нояб. 1789).
877 ЗООИД. Т. 4. С. 470; Haupt 1966. Р. 58-63.
878Энгельгардт 1997. С. 82.
879 Брикнер 1891. С. 254-255.
880 ААЕ 20:131 (Langeron. Evenements de 1790-1791); Сб. ВИМ. Т. 8. С. 22.
881 РГВИА 52.2.56.32-33 (Симолин Потемкину 16/26 июля 1790).
882 РГВИА 52.2.35.35 (Потемкин Сутерланду 1/16 мар. 1787 об уплате Гримму за парижские покупки); Литературное наследство. Т. 29-30. С. 386-389.
883 Ligne 1809. Vol. 2. Р. 5 (де Линь Сегюру 1 авг. 1788); Массон 1996. С. 70; Пушкин. Ак. Т. 12. С. 173.
884 РГАДА 11.895.3-5, 7 (Сутерланд Потемкину 10 авг., 13 сен. 1783, 2 мар. 1784); РГВИА 52.22.35.4 и РГАДА 11.895.13 (Сутерланд Потемкину 6 и 22 окт. 1788).
885 Храповицкий. 24 дек. 1789.
886 Kramer, McGrew 1974. В этой работе опубликованы выдержки из дневников Бароцци, хранящихся в австрийском архиве: Haus-, Hof- und Staatsarchiv Russland II Berichte 202A-206B.
887 РГИА 468.1.2.3904 (список драгоценностей, посланных в Яссы для переговоров с турецкими представителями.)
888 ЗООИД. Т. 8. С. 195-196 (Потемкин Бароцци 16/27 фев. 1790).
889 Переписка. № 1031 (Екатерина II Потемкину 6 фев. 1790); Blanning 1970. Vol. 1. Р. 189,198. Неопубликованная переписка Иосифа II с Потемкиным хранится в РГВИА.
890 РГВИА 52.2.46.9 (Леопольд Потемкину 30 мар. 1790 и Потемкин Леопольду б/даты); 52.2.46.6 (Потемкин Леопольду б/даты).
891 РГВИА 52.2.46.4 (Потемкин Леопольду 25 мая 1790 года).
892 Переписка. С. 893 (Потемкин Екатерине II, ноябрь-декабрь 1789)L
893 Переписка. № 1019 (Екатерина II Потемкину 2 дек. 1789).
894 Энгельгардт 1997. С. 82-83.
895 Переписка. № 1034 (Потемкин Екатерине II 25 фев. 1790).
896 Переписка. № 1021 (Потемкин Екатерине II 5 дек. 1789); Ne 1045,1047 (Екатерина II Потемкину 30 мар., 8 апр. 1790).
897 Переписка. № 1030 (Потемкин Екатерине II 23 янв. 1790).
898 Переписка. С. 920.
899 РВ. 1842. № 7-8. С. 17-18.
900 АКВ. Т. 5. С. 402.
901 Переписка. № 1096 (Потемкин Екатерине II 3 дек. 1790).
902 Лопатин 1992. С. 179.
903 Переписка. № 1059 (Потемкин Екатерине II 19 июня 1790).
904 Переписка. № 1072 (Екатерина II Потемкину 9 авг. 1790).
905 Переписка. № 1073 (Потемкин Екатерине II 16 авг. 1790).
906 Дубровин 1886. С. 120.
907 Ришелье 1886. С. 147-149.
908 Головина 1996. С. 106.
909 Там же.
910 Langeron ААЕ 20:158 (Evenements de 1790-1791).
911 РГВИА 52.2.47.12 (Потемкин Кауницу, окт. 1790).
912 Richelieu 1886. С. 147-149; Vigee Lebrun 1879. Vol. 1. Р. 321.
913 Энгельгардт 1997. С. 88.
914 ААЕ 20: 226. Langeron (Evenements de 1790-1791).
915 ААЕ 20: 143. Langeron (Evdnements de 1790-1791).
916 Пушкин. Ак. Т. 12. С. 173.
917 Переписка. № 1092 (Екатерина II Потемкину 1 нояб. 1790).
918 Переписка. № 1081 (Потемкин Екатерине II 10 сен. 1790); Ns№ 1087, 1089 (Екатерина II Потемкину 30 сен., 1 окт. 1790).
919 ЗООИД. Т. 8. С. 30-31.
920 Переписка. № 1079 (Потемкин Екатерине II 4 сен. 1790); № 1085 (Екатерина II Потемкину 16 сен. 1790).
921 Переписка. № 1079 (Потемкин Екатерине II 4 сен. 1790); № 1085 (Екатерина II Потемкину 16 сен. 1790).
30. ИЗМАИЛ
922 Суворов. Документы. Т. 2. С. 524-525; Кутузов. Документы. Т. 1. С. 113.
923 Сб. ВИМ. Вып. 8. С. 193-194 (Потемкин Гудовичу 28 нояб. 1790).
924 Сб. ВИМ. Вып. 8. С. 195 (Суворов Потемкину 3 дек. 1790).
925 РВ. 1841. № 8. С. 345.
926 Damas 1912. Р. 151.
927 Longworth 1965. Р. 168.
928 ААЕ 20: 235. Langeron. Evenements de 1790-1791.
929 Damas 1912. P. 153-155.
930 Там же. С. 153.
931 Richelieu 1886. С. 181-183.
932 Сб. ВИМ. Вып. 8. С. 197.
933 Дух журналов. 1817. Ч. 8. Кн. 9. С. 429-430.
934 Лопатин 1992. С. 198-211.
935 Переписка. № 1102,1101 (Потемкин Екатерине II13, 11 янв. 1791).
936 Переписка. № 1107 (Екатерина II Потемкину 22 янв. 1791).
937 Переписка. № 1106 (Потемкин Екатерине И, до 18 янв. 1791).
938 McKay, Scott 1983. Р. 240-242; Ehrman 1983. Р. 12-17.
939 Stedingk 1919. Р. 77, 87 (Стединг Густаву III 8 и 16 фев. 1791).
940 Stedingk 1919. Р. 94 (Стединг Густаву III 11 марта 1791).
Часть восьмая. ПОСЛЕДНИЙ ГОД. 1791
31. ОЧАКОВСКИЙ КРИЗИС
941 Stedingk 1919. Р. 98 (Йеннингс Фронсу 17 мар. н.с. 1791).
942 Stedingk 1919. Р. 96 (Стединг Густаву III17 мар. н.с. 1791); автором «Оды Потемкину» был, возможно, П.П. Сумароков (см.: Болотина 1995. С. 254).
943 AGAD 421: 12-15, 20-21 (Деболи Станиславу Августу 1 и 8 апр. 1791); Stedingk 1919. Р. 103 (Стединг Густаву III 25 мар. 1791).
944 Stedingk 1919. Р. 98-108 (Стединг Густаву III и Йеннигс Фронсу 17,21-25 мар., 1 апр. 1791).
945 ААЕ 20: 134-135 (Langeron. Evenements de 1790-1791).
946 Vigee Lebrun 1879. Vol. 1. P. 325; Czartoryski 1888. P. 37.
947 AGAD 421: 12-15 (Деболи Станиславу Августу 1 апр. 1791); Stedingk 1919. P. 108 (Йеннингс Фронсу 1 апр. 1791); ААЕ 20: 286. Langeron. Evenements 1790.
948 Stedingk 1919. P. 107-110 (Йеннингс Фронсу 1 апр. 1791); Р. 113-116 (Стединг Густаву III 8 апр. 1791).
949 AGAD 421: 16-19 (Деболи Станиславу Августу 5 апр. 1791).
950 Джеджула 1972. С. 281; Литературное наследство. Т. 29-30. М., 1937. С. 448-450 (Симолин Остерману 21 мар./1 апр. 1791); Сб. РИО. Т. 23. С. 520 (Екатерина II Гримму 30 апр. 1791).
951 Stedingk 1919. P. Ill (Стединг Густаву III 8 апр. 1791).
952 Храповицкий. 17 мар. 1791.
953 Вернадский Г.В. Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг.,1917. С. 237-239 (цит. по: Лопатин 1992. С. 213).
954 Храповицкий. 17 мар. 1791.
955 Lord 1915. Р. 180-181; Goertz 1969. Р. 74.
956 PC. 1892. Апрель. С. 179.
957 Храповицкий. 7, 8, 9, 15 апр. 1791.
958 PC. 1887. Август. С. 317.
959 PRO FO SP 106/67, № 29 (Уитворт из Петербурга 10 июня 1791).
960 Одесский краеведческий музей. Приглашение, адресованное графине Остерман.
32. ПИР ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
961 Описание праздника в Таврическом дворце основывается на: Сб. РИО. Т. 23. С. 517-519 (Екатерина II Гримму, 29 апр. 1791); Memoirs. Р. 243; Masson. Р. 240-244, 386-387; Дьяченко 1997. С. 1-64; О приватной жизни Потемкина. № 3. С. 21-28; Жизнь Потемкина 1811. Ч. 2. С. 108-114; Жизнь Потемкина 1812. Ч. 2. С. 93-105.
962 Кирьяк 1867. С. 686; Державин 1864-1871. Т. 1. С. 395.
963 В рассказе о польской революции, помимо указанных ниже источников, использованы: Alexander 1989. Р. 285-292; Madariaga 1981. Р. 409-416; Lord 1915. Р. 512-528; Zamoyski 1992. Р. 337, 346; Ehrman 1983. Р. 26-41; McKay, Scott 1983. Р. 240-247; Lojek 1970; Lukowski 1999.
964 Сб. РИО. Т. 23. С. 519-520 (Екатерина II Гримму 29 и 30 апр. 1791).
965 Переписка. № 1120 (Екатерина II Потемкину, май 1791).
966 РВ. 1841. № 8. С. 366-367 (приказы Потемкина Ушакову и Репнину 11 мая 1791).
967 РА. 1874. № 2. С. 251-252; Lojek 1970. Р. 579-581.
968 РГВИА 52.2.68.32, 30 (Ф. Потоцкий Потемкину 12 окт. 1790 и 9 июля 1791); Lord 1915. Р. 527-528. (Потоцкий Потемкину 14 мая 1791); РГВИА 52.2.68.47, 48 (Потемкин Потоцкому 18/29 мая 1790 и 8 фев. 1791).
969 АКВ. Т. 13. С. 227 (Безбородко С.Р. Воронцову 17 нояб. 1791); Сб. РИО. Т. 27. (1880). С. 332-333 (рескрипт Екатерины II Потемкину о запорожцах и некрасовцах от 15 апр. 1784); Сб. РИО. Т. 27. С. 338, 416; Lord 1915. Р. 513.
970 AGAD 421. Р. 58-65 (Деболи Станиславу Августу 17 мая 1791).
971 PRO FO № SP 106/67 (Фокнер Гренвиллу 2 июня 1791).
972 PRO FO № 106/67 (Фокнер Гренвиллу 2,18 июня 1791).
973 РГВИА 52.2.89.159 (С.Р. Воронцов Потемкину 3 мая 1791).
974 PRO FO № 106/67 (Ч. Уитворт. № 41. 5 авг. 1791); Stedingk 1919. Р. 146 (Стединг Густаву III25 июня 1791).
975 Державин 1864-1871. Т. 6. С. 592.
976 Там же. С. 619-620.
977 AGAD 421. Р. 122-123 (Деболи Станиславу Августу 22 июля 1791); АКВ. Т. 8. С. 44 (Ростопчин С.Р. Воронцову 25 дек. 1791; пер. с франц.); PRO FO № 106/67 (Фокнер. № 4. 7 июня 1791; № 8. 21 июня 1791).
978 PRO FO № 106/67 (Уитворт 8 июля 1791).
979 Переписка. № 1123,1127 (Екатерина II Потемкину, июнь 1791); AGAD 421. Р. 122-123 (Деболи Станиславу Августу 22 июля 1791).
980 AGAD 421. Р. 122-123 (Деболи Станиславу Августу 31 мая 1791); РГВИА 52.2.21.164 (рапорт Потемкина Екатерине II от 19 июня 1791, о рейде Кутузова через Дунай 4 июня 1791). Переписка. № 1128 (Потемкин Екатерине II 2 июля 1791); КФЖ. 2 июля 1791.
981 PRO FO № 106/67 (ноты, подписанные Уитвортом, Фокнером и Герцем в Петербурге 11/22 и 16/27 июля 1791); КФЖ. 12 июля 1791; Переписка. №№ ИЗО, 1131 (Екатерина II Потемкину 12 июля 1791); РГВИА 52.2.22.11-15 (рапорт Репнина Потемкину о Мачинской баталии).
982 ААЕ 20: 312 (Langeron. Evenements de 1790-1791-1791); Stedingk 1919. P. 209 (Йеннингс Фронсу, дек. 1791); Переписка. № 1135 (Екатерина II Потемкину 22 июля 1791).
983 Vigee Lebrun 1879. Vol. 1. P. 323.
984 Lojek 1970. P. 579-581.
985 PRO FO, cyphers 106/67 (Уитворт Гренвиллу. № 40. 5 авг. 1791; Уитворт. 12 июля 1791).
986 PC. 1876. № 9. С. 43.
987 РА. 1874. № 2. С. 281-289 (рескрипт Екатерины Потемкину о Польше от 18 июля 1791).
988 Головина 1996. С. 108; Переписка. № 1136 (Екатерина II Потемкину 25 июля 1791; пер. с франц.); КФЖ. 24 июля 1791.)
33. ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕЕЗД
989 Oginski 1826. Vol 1. Ch. 7. Р. 146-153.
990 Массон 1996. С. 69; Ligne 1795-1811. Vol. 24. P. 67 (де Линь Иосифу II, апр. 1788).
991 РГВИА 52.2.22.90-103 (Н.И. Репнин Потемкину, июль-авг. 1791); Переписка. № 1144 (Екатерина II Потемкину 12 авг. 1791); Сб. РИО. Т. 29, С. 220 (Безбородко Завадовскому 17 нояб. 1791); Энгельгардт 1997. С. 94; Сб. РИО. Т. 23. С. 553 (Екатерина II Гримму 27 авг. 1791); PRO FO № 106/67 (Уитворт Гренвиллу 5 авг. 1791); Самойлов. Стб. 1555-1557).
992 АКВ. Т. 8. С. 37 (Ф.В. Ростопчин С.Р. Воронцову 7 окт. 1791); Самойлов. Стб. 1555; Переписка. № 1145 (Потемкин Екатерине II15 авг. 1791).
993 Переписка. С. 955 (Попов Безбородко 24 авг. 1791); № 1149 (Екатерина II Потемкину 28 авг. 1791).
994 Храповицкий. 28 и 29 авг. 1791; Переписка. № 1147 (Потемкин Екатерине II 24 авг. 1791).
995 Переписка. № 1150,1151 (Екатерина II Потемкину 4 сен. 1791, Потемкин Екатерине II 6 сен. 1791).
996 РГВИА 52.2.89.95 (К.С. Чернизен (?) Попову, «для доклада фельдмаршалу», 9 сен. 1791); РГВИА 52.2.68.50 (Потемкин Ф. Потоцкому б/д (4 сен. 1791?) и 52.11.71.16 (Потемкин С. Ржевускому б/д); Zamoyski 1992. Р. 357; Сб. ВИМ. Т. 8. С. 254 (рапорты Потемкина о переговорах с великим визирем о возвращении флота, 29 авг. 1791).
997 РГВИА 52.2.89.166, 271.1.65.1 (Потемкин Сенаку де Мейлану 27 авг. 1791, Сенак де Мейлан Потемкину 6 авг. 1791).
998 Лопатин 1992. С. 239; Васильчиков 1880. Т. 3. С. 122 (А.К. Разумовский Потемкину).
999 АКВ. Т. 25. С. 467 (Екатерина II А.В. Браницкой 16 сен. 1791); ЗООИД. Т. 3. С. 559 (митрополит Иона о посещении Потемкина).
1000 Переписка. № 1154 (Потемкин Екатерине II 16 сен. 1791).
1001 Переписка. С. 958 (Попов Екатерине II 16 сен. 1791).
1002 Переписка. С. 959 (Потемкин Безбородко 16 сен. 1791); РГВИА 52.2.55.253,247,268 (депеши из Вены о Потемкине и мирных переговорах от 21, 17 и 28 сен. 1791); Переписка. № 1155 (Потемкин Екатерине II 21 сен. 1791).
1003 РА. 1878. № 1. С. 21 (Попов Екатерине II 25 сен. 1791); ЗООИД. Т. 3. С. 559.
1004 РА. 1787. № 1. С. 21-22 (Попов Екатерине II 27 сен. 1791); № 1158 (Потемкин Екатерине II 27 сен. 1791).
1005 РА. 1787. № 1. С. 22 (Попов Екатерине II 2 окт. 1791); Переписка. № 1159 (Екатерина II Потемкину 30 сен. 1791).
1006 Переписка. № 1160 (Потемкин Екатерине II 2 окт. 1791).
1007 Переписка. № 1161 (Екатерина II Потемкину 3 окт. 1791); АКВ. Т. 25. С. 467 (Екатерина II А.В. Браницкой 3 окт. 1791).
1008 Переписка. № 1162 (Потемкин Екатерине II 4 окт. 1791).
Эпилог. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
1009 Самойлов 1867. Стб. 1560, 1569; АКВ. Т. 13. С. 216-222 (Безбородко Завадовскому, нояб. 1791, Яссы); ААЕ 20: 360-362 (Langeron. Evenements de 1790-1791); Переписка, С. 961-964. Ходили слухи, что Потемкина отравил доктор Тиман, по приказу то ли Зубова, то ли самой Екатерины. Их опровергает, в частности, Ланжерон. Скоро появился роман-памфлет «Пансалвин — князь тьмы» (Pansalvin, Fiirst der Finstemis), принадлежавший перу масона Альбрехта — о том, как добрая царица приказала отравить своего злодея соправителя.
1010 Энгельгардт 1997. С. 96-97.
1011 Храповицкий. 16 окт. 1791; РА. 1878. Кн. 3. С. 198-199 (Екатерина II Гримму 13 окт. 1791).
1012 Храповицкий. 16 окт. 1791.
1013 Сб. РИО. Т. 23. С. 561 (Екатерина II Гримму 22 окт. 1791).
1014 РГАДА 5.138.9 (М.С. Потемкин Екатерине II 6 дек. 1791, Яссы); ЗООИД. Т. 9. С. 222-225 (рапорт М.С. Потемкина); С. 227 (Александр I гос. казначею барону Васильеву 21 апр. 1801); ЗООИД. Т. 8. С. 226-227 (записка Попова о финансах Потемкина, 9 мая 1800); С. 225-226 (краткое изъяснение доходов и расходов экстраординарных сумм); ЗООИД. Т. 9. С. 226 (указ Екатерины II о долгах Потемкина, 20 авг. 1792); Брикнер 1891. С. 274; Карнович 1885. С. 314; Трегубов 1908. С. 101-102.
1015 Stedingk 1919. Р. 188 (Стединг Густаву III 28 окт. 1791); Cross 1997. Р. 80-81; АКВ. Т. 13. С. 222 (Безбородко Завадовскому, нояб. 1791); РГАДА 11.902а.30 (реестр долгов Потемкина: здесь перечислены долги светлейшее го — от сумм, которые он остался должен Сутерланду, до счетов за ониксовые колонны для Таврического дворца, брильянты, шали (1880 руб.), женские платья (свыше 12 тыс. руб.), устрицы, фрукты, спаржу и шампанское).
1016 Массон 1996. С. 69; Stedingk 1919. Р. 188 (Стединг Густаву III4 нояб. 1791).
1017 Stedingk 1919. Р. 196 (Йеннингс Фронсу б/даты).
1018 Глинка 1845. С. 79; АКВ. Т. 13. С. 223-228 (Безбородко С.Р. Воронцову 17 нояб. 1791).
1019 Энгельгардт 1997. С. 98; АКВ. Т. 8. С. 39 (Ростопчин С.Р. Воронцову 25 дек. 1791; пер. с франц.); АКВ. Т. 13. С. 223-228 (Безбородко С.Р. Воронцову 17 нояб. 1791).
1020 Castera 1798. Vol. 3. Р. 333; Ligne 1795-1811. Vol. 22. P. 82 (де Линь Екатерине II, 1793).
1021 Castera 1798. Vol. 3. Р. 333.
1022 АКВ. Т. 13. С. 223-228 (Безбородко С.Р. Воронцову 17 нояб. 1791). Ср. с контекстом: «Что до войска касается, они в весьма хорошем состоянии. Отнюдь не изнурены, не босы и не нагие [...] Впрочем войско в духе, но и в своеволии. Оно не очень высоко ставит своих офицеров. Сии последний довольно хороши. Но признать надобно, что, нарядив их в куртки простого солдатского сукна, чего нигде нет, поставили их в такой вид, что их никак от нижних чинов не распознаешь. Солдаты весьма хвалят покойника и о нем сожалеют. Когда их спросишь, трудно ли им было перенести нужды под Очаковом и прочее, они обыкновенно отвечают: «Ну, тогда так нужда велела, да за то и город взяли; а после тем хорошо, что нас за ученья не бьют, как прежде били, и лишней чистоты не спрашивают». Случалось, что офицеры, видя непослушание и своевольство, жаловалися покойнику; но он любил всегда править подчиненных, и винить начальников. С другой стороны и офицерство чувствует, что уже у него не будет такого сильного предводителя, по которого словам производили и награждали всякого. Впрочем строй упал во многом, и все, что составляет основание тактики, совершенно пренебрежено. Жаль, смотря на сию прекрасную армию, что она в сей части толико упущена. [...] Я не знаю, как граф Николай Иванович [Салтыков, вице-президент Военной коллегии] выдет из всего нынешнего воинского хаоса. Названия полков и вооружение их, все не то, что мы знаём, и ни на что нет почти государевой конфирмации. Страннее всего, что покойникова страсть к казакам до того простиралася, что он все видимое превращал в сие название. В Екатеринославской губернии мещанин, однодворец, грек, раскольник, серб и волох преображены в казака. Но тяжелее всех так называемые черноморцы. Они отпускаются по билетам своих начальников, шатаются по губернии, грабят, разбойничают и людей убивают. В самом Кременчуке по ночам опасно выдги на улицы, и были примеры, что домы ограблены. Недовольно, что сии разные народы и состояния народныя учинили-ся казаками: покойник хотел всю почти регулярную конницу теми же сделать и, составя полки казачьи, хоть и регулярные, определить в них донских старшин полковниками. [...] Другое у него пристрастие было к названию Екатери-нославского: имея кирасир, и егарей сего имени, учредил он полк гранодер Екатеринославских в десяти баталионах, т.е. одних рядовых до девяти тысяч. Возможно ли туг управиться полковнику, которого из городничих взял? Равная нелепость сделана и с кирасирами, которых 24 эскадрона в один полк втащил и которые приносят только пользу Энгельгарду. Легкие войска казачья, надобно отдать справедливость, в весьма хорошем состоянии. Начальники их люди предостойные, бригадиры Орлов и Платов и полковник Исаев люди знающие, скромные и такие, что нигде их показать нестыдно. [...] Корабельный флот наш в весьма почтительном количестве судов. Я думаю, что вы имеете о том ведомости, каковые нынешний начальник армии послал к государыне. Флотилия также довольно хороша. [...]» (Примечание переводчика.)
1023 ААЕ 20: 362 (Langeron. Evenements de 1790-1791); Брикнер 1895. С. 841. Что касается управления армией — Потемкин действительно позволял полковым командирам использовать их положение для личного обогащения, но в последние годы учредил инспекцию для предотвращения злоупотреблений. Иностранцы (напр., Damas 1912. Р. 114-116) утверждают, что он полностью пренебрегал учениями, но архивы и опубликованные документы показывают, что это не так (напр., Сб. ВИМ. Т. 4. С. 217). Потемкин просто не видел смысла в жестокой и педантичной прусской муштре и опирался на татарскую, казацкую и русскую военные традиции, что оскорбляло европейцев, в частности, Ланжерона, Дама и де Линя. Если же говорить о коррупции, то можно вспомнить, что во Франции при Людовике XVI она была ничуть не меньше, а в британской армии, хотя частично и реформированной в 1798 году, должности продавались вплоть до 1871 г.
1024 Richelieu 1886. С. 148-149.
1025 Энгельгардт 1997. С. 97-102.
1026 Храповицкий. 10 сен. 1792.
1027 Otis 1900. Р. 359.
1028 Массон 1996. С. 33; Сб. РИО. Т. 23. С. 574 (Екатерина II Гримму 14 авг. 1792; Ligne 1795-1811. Vol. 24. Р. 183 (де Линь Кауницу 15 дек. 1788, Яссы; де Линь утверждает, что отстранение Павла от престолонаследия планировалось уже в 1788).
1029 ЗООИД. Т. 9. С. 226 (рескрипт Павла 111 апр. 1799); Болотина 1995. С. 252-264.
1030 ААЕ 20: 134-135 (Langeron. Evenements de 1790-1791); Вигель 2000. С. 16.
1031 Yusupov 1953. P. 6-9.
1032 PA. 1906. № 12. С. 614.
1033 РП. Т. 3. Вып. 1. С. 10; РП. Т. 1. Вып. 2. С. 120; Palmer 1972. Р. 36, 136-137, 148, 322.
1034 Фаника Унгуряну, профессор экономики Ясского университета (Румыния), показала автору это место в октябре 1998 г.
1035 РГАДА 11.966.1-2 (Попов Екатерине II, окт. 1791 и 27 мар. 1792); ЗООИД. Т. 9. С. 390-393; Карпова 1984. С. 355-364.
1036 ЗООИД. Т. 9. С. 390-393; Т. 5. С. 1006 (Павел I А.Б. Куракину 27 мар. 1798; А.Б. Куракин губернатору Селецкому, апр. 1798). Ланжерон, близкий ко двору Павла I, писал в 1824 году: «Комендант крепости имел мужество не повиноваться приказу, но доложил, что приказ выполнен» (ААЕ 20: 331).
1037 Карпова 1984. С. 355-364.
1038 ЗООИД. Т. 5. С. 1006 (Ф. Мильгоф. Письмо из Херсона).
1039 ЗООИД. Т. 9. С. 395-396 (Н. Мурзакевич, 30 авг. 1874).
1040 Лавренев 1991. С. 154-155.
1041 Из письма Л.Г. Богуславского Е.В. Анисимову 15 июля 1986.
Список сокращений
АГС — Архив Государственного Совета.
АКВ — Архив князй Воронцова. Т. 8, М., 1876; Т. 11, 12. М., 1877; Т. 16. М., 1880.
Алексеева 1975 — Алексеева Т.В. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже XVII1-XIX веков. М., 1975.
Анисимов 1999 — Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. М., 1999.
Анненков 1849 — Анненков И.В. История лейб-гвардии конного полка, 1731-1848: В 4 частях. СПб., 1849.
Барсуков 1873 — Князь Григорий Григорьевич Орлов. Подробное жизнеописание, составленное А.П. Барсуковым. // РА. 1873. № 2.
Бартенев 1911 — Бартенев П.И. Биографии генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов Российской Императорской армии / Военно-исторический сборник. СПб., 1911.
Бегунова 1988 — Бегунова А.И. Путь через века: Фрагменты истории войска российского в очерках, живописи, рисунках, свидетельствах участников событий и очевидцев. М., 1988.
Бибиков 1865 — Бибиков А.А. Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова. М., 1865.
Бильбасов 1895 — Бильбасов В.А. Присоединение Курляндии к России / PC. 1895. Т. 83.
Бильбасов 1900 — Бильбасов В.А. История Екатерины 11. Берлин, 1900.
Болотина 1995 — Болотина Н.Ю. Личная библиотека князя Г.А. Потем-кина-Таврического // Книга: Исследования и материалы. Сб. 71. М., 1995.
Болотина 1995а — «Приехал служить великому князю»: Неизвестный список родословной Потемкиных // Источник. 1995. № 1.
Болотов 1931 — Болотов А.Т. Записки. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанное самим им для своих потомков: В 3 т. М.-Л., 1931.
Брикнер 1885 — Брикнер А.Г. История Екатерины Второй. СПб., 1885.
Брикнер 1895 — Брикнер А.Г. Князь Г.А. Потемкин (по запискам графа Ланжерона, хранящимся в парижском архиве) // ИВ. 1895. № 12.
Брикнер 1996 — Брикнер А.Г. Потемкин. М., 1996.
Валишевский 1911 — Валишевский К. Вокруг трона. СПб., 1911 (репринт: М., 1989).
Васильчиков 1880-1884 — Васильчиков А.А. Семейство Разумовских: В 5 т. СПб., 1880-1884.
Век Екатерины 11 — Век Екатерины II: Россия и Балканы. (Сб. статей). М., 1998.
Вигель 2000 — Вигель Ф.Ф. Записки. М., 2000.
ГАОО — Государственный архив Одесской области.
Гарновский 1876 — Записки Михаила Гарновского, 1786-1790 гг. // PC. 1876. Т. 15-17.
Гельбиг 1887 — Гельбиг, Г. фон. Русские избранные и случайные люди // PC. 1887. Т. 56.
Глинка 1845 — Русские чтения, издаваемые Сергеем Глинкою: Отечественные исторические памятники XVIII и XIX столетия. СПб., 1845.
Глинка 1895 — Глинка С.Н. Записки. СПб., 1895.
Головина 1996 — Головина В.Н. Мемуары // История жизни благородной женщины: Е.А. Сабанеева. Воспоминания о былом; В.Н. Головина. Мемуары; А.Е. Лабзина. Воспоминания. / Издание подготовила В.М. Бокова. М., 1996.
Грахов 1858 — Грахов Я. О походной типографии князя Потемкина-Тав-рического // ЗООИД. Т. 4.
Дама 1914 — Дама Р., де. Записки. / СН. 1914. Кн. 18.
Дашкова 1987 — Дашкова Е.Р. Записки / Пер. А.Ю. Базилевича, Г.А. Веселой, Г.М. Лебедевой // Дашкова Е.Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России / Под общей ред. С.С. Дмитриева; составитель Г.А. Веселая. М., 1987.
Державин 1864-1883 — Державин Г.Р. Сочинения: В 9 тт. СПб., 1864-1883.
Джеджула 1972 — Джеджула К.Е. Россия и Великая французская буржуазная революция конца XVIII века. Киев, 1972.
Документы ставки Пугачева — Документы ставки Е.И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773-1774 гг. / Составители А.И. Аксенов, Р.В. Овчинников, М.Ф. Прохоров. М., 1975.
Долгорукий 1889 — Долгорукий Ю.В. Записки // PC. 1889. Т. 63. № 9.
Дружинина 1955 — Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года. М., 1955.
Дружинина 1959 — Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775-1800 гг. М., 1959.
Дубровин 1884 — Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники. СПб., 1884.
Дубровин 1885-1889 — Дубровин Н.Ф. Присоединение Крыма к России (рескрипты, письма, реляции и донесения). В 4 т. СПб.; Т. 1, 2. 1885; Т. 3. 1887; Т. 4.1889.
Дубровин 1886 — Дубровин Н.Ф. А.В. Суворов среди преобразователей Екатерининской армии. СПб., 1886.
Дуси 1844—ДусиГ. Записка об амазонской роте //Москвитянин. 1844. Ne 1.
Дьяченко 1997 — Дьяченко Л.И. Таврический дворец. СПб., 1997.
Екатерина 1907 — Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей с объяснительными примечаниями А.Н. Пыпина. Т. 12. СПб., 1907.
Екатерина 1990 — Екатерина И. Сочинения / Тексты подготовили В.К. Былинин и М.П. Одесский. М., 1990.
Екатерина II Завадовскому — Письма императрицы Екатерины II к графу П.В. Завадовскому 1775-1777 гг. // Русский исторический журнал.
1918. № 3.
Екатерина II — Вольтер — Философская и политическая переписка императрица Екатерины II с г. Волтером с 1763 по 1778 год: В 2 т. СПб., 1802.
Елисеева 1997 — Елисеева О.И. Геополитические проекты Потемкина. М., 1997.
Жизнь Потемкина 1811 — Жизнь генерал-фельдмаршала князя Григория Александровича Потемкина-Таврического: В 2 частях. СПб., 1811.
Жизнь Потемкина 1812 — Жизнь князя Григория Александровича Потемкина-Таврического, взятая из иностранных и отечественных источников. С присовокуплением собрания анекдотов и писем, относящихся до жизни и характера князя Потемкина: В 3 частях. Изд. 2-е. М., 1812.
Завадовский Румянцеву — Письма графа П.В. Завадовского к фельдмаршалу графу П.А. Румянцеву 1775-1791 годов. СПб., 1901.
Загоровский 1913 — Загоровский Е.А. Устройство управления Новороссийским краем при Г.А. Потемкине (1774-1791). Одесса, 1913.
Загоровский 1926 — Загоровский Е.А. Экономическая политика Потемкина в Новороссии. Одесса, 1926.
Закалинская 1958 — Закалинская Е.П. Вотчинные хозяйства Могилевской губернии во второй половине XVIII в. Могилев, 1958.
ЗООИД — Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса. Т. 4, 1858; Т. 5,1863; Т. 8,1872; Т. 9,1875; Т. 11,1879; Т. 12,1881; Т. 13, 1883; Т. 15,1889.
Зорин 2001 — Зорин АЛ. Кормя двуглавого орла: Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2001.
Зотов 1875 — Зотов В. Калиостро: его жизнь и путешествие в Россию // PC. 1875. Т. 12.
Зуев 1782-1783 — Зуев В.Ф. Путевые записки: Исторический и географический месяцеслов. СПб., 1782-1783.
ИВ — Исторический вестник.
Иванов 1995 — Иванов О.А. Тайна письма Алексея Орлова из РопШи // Московский журнал. 1995. № 9.
История СССР 1949 — Белан Ю.Я., Марченко М.И., Котов В.Н. История СССР. Киев, 1949.
ИТУАК — Известия Таврической ученой архивной комиссии.
Кабузан 1976 — Кабузан В.М. Народонаселение России в XVIII — первой половине XIX века. М., 1976.
Казанова 1990 — Казанова Д. История моей жизни / Издание подготовили И.К. Стаф и А.Ф. Строев. М., 1990.
Карабанов 1872 — Исторические рассказы и анекдоты, записанные со слов именитых людей П.Ф. Карабановым / PC. 1872. Кн. 5.
Карнович 1885 — Карнович Е.П. Замечательные богатства частных лиц в России. СПб., 1885.
Карпова 1984 — Карпова Е.В. Культурные памятники. Новые открытия. Л., 1984.
Кирьяк 1867 — Кирьяк Т. Потемкинский праздник 1791 года. (Письмо в Москву) / Сообщ. А.И. Долгоруков // РА. 1867.
Ключевский 1937 — Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть 5. М., 1937.
Кокс 1907 — Кокс У. По России и Польше в исходе XVIII века (1779- 1785). Путевые впечатления англичанина // PC. 1907. Т. 131. № 8, 9; Т. 132. № 10, 12.
Корберон 1907 — Интимный дневник шевалье де Корберона, французского дипломата при дворе Екатерины II (из парижского издания). Прил. к «Новому журналу литературы, искусств и науки». СПб., 1907.
Корберон 1911 — Корберон М.Д., де. Из записок // РА. 1911. Кн. 2. Вып. 5. С. 27-104; Вып. 6. С. 161-204.
Краснобаев 1983 — Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVIII и начала XIX века. М., 1983.
Кросс 1996 — Кросс Э. У темзских берегов. Россияне в Британии в XVHI в. / Пер. с англ. Н.Л. Лужецкой. СПб., 1996.
Крючков 1996 — Крючков Ю.С. История Николаева. Николаев, 1996.
Кутузов. Документы — Кутузов М.И. Документы: В 5 т. М., 1950-1956.
КФЖ — Камер-фурьерский журнал.
Лавренев 1991 — Лавренев Б.А. Вторые похороны Потемкина // Памятники Отечества. 1991. № 2.
Ланжерон 1895 — Ланжерон А.Ф. Русская армия в год смерти Екатерины II: Состав и устройство русской армии // PC. 1895. Т. 83. № 3. С. 147-166; № 4. С. 145-177; № 5. С. 185-202.
Лопатин 1992 — Лопатин B.C. Потемкин и Суворов. М., 1992.
Мавродин — Мавродин В.В. Крестьянская война в России: В 3 т. Л. Т. 1, 1961; Т. 2,1966; Т. 3,1970.
Маркова 1958 — Маркова О.П. О происхождении так называемого греческого проекта (80-е годы XVIII в.) // История СССР. 1958. № 4.
Маркова 1970 — Маркова О.П. О нейтральной системе и франко-русских отношениях (вторая половина XVIII в.) // История СССР. 1970. № 6.
Масловский 1894 — Масловский Д.Ф. Записки по истории военного искусства в России в царствование Екатерины Великой, 1762-1794 гг. СПб., 1894.
Массон 1996 — Массон Ш. Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I / Тексты подготовили Е.Е. Давыдова и Е.Э. Лямина. М., 1996.
Миранда — Миранда Ф. де. Путешествие по Российской империи / Пер. с исп. М.С. Альперовича, В.А. Капанадзе, Е.Ф. Толстой. М., 2001.
МИРФ — Материалы для истории Российского флота.
О приватной жизни Потемкина — О приватной жизни князя Потемкина, о некоторых чертах его характера и анекдотах: Из современной рукописи. // Москвитянин. 1852. Т 1. № 2. Январь. Кн. 2. Отд. 4. С. 4-22; № 3. Февраль. Кн. 1. Отд. 4. С. 23-30.03 — Отечественные записки.
Парело 1879 — Донесение сардинского посланника [...] маркиза де Паре-ло//Сб. РИО. Т. 26.
Переписка — Екатерины II и Г.А. Потемкин. Личная переписка: 1769-1791 / Тексты подготовил B.C. Лопатин. М., 1997.
Переписка 1787-1791 гг. — Переписка Екатерины II и Г.А. Потемкина периода второй русско-турецкой войны 1787-1791 гг.: источниковедческие исследования. Ред. Елисеева О.Е. М., 1997.
Петров 1880 — Петров А.Н. Вторая турецкая война в царствование императрицы Екатерины И. 1787-1791 гг.: В 2 т. СПб., 1880.
Петрушевский 1884 — Петрушевский А.Ф. Генералисимус князь Суворов: В 3 т. СПб., 1884.
Пшцевич 1885 — Пюцевич АА Жизнь АС. Пищевича (1764-1805). М., 1885.
Понятовский 1995 — Станислав Понятовский. Мемуары / Пер. с франц. В. Савицкого. М., 1995.
Пушкин. Ак. — Пушкин. [Академическое] Поли. собр. соч.: В 17 т. М., Л. 1937-1949.
РА — Русский архив.
РВ -- Русский вестник.
РГАДА — Российский государственный архив древних актов.
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив.
Решетиловский архив — Попов B.C. (Бумаги Решетиловского имения) // РА. 1865 и 1878.
Рибопьер 1877 — Рибопьер А.И. Записки / Предисл. и примеч. АА. Васильчикова // РА. 1877. Кн. 1. Вып. 4. С. 460-506.
Ротиков 1998 — Ротиков К.К. Другой Петербург. СПб., 1998.
РП — Русские портреты XVIII и XIX столетий: В 5 т. СПб., 1905-1909.
PC — Русская старина.
Румянцев 1826 — Отзыв Румянцева о Потемкине в 1775 году // СА. 1826. Ч. 24. № 23-24. С. 164-171 [донесение П.А. Румянцева-Задунайского Екатерине II14 нояб. 1775].
Румянцева 1888 — Письма графини Е.М. Румянцевой к ее мужу графу П.А. Румянцеву-Задунайскому. 1762-1779 гг. СПб., 1888.
СА — Северный архив.
Самойлов 1867 — Самойлов А.Н. Жизнь и деяния генерала-фельдмар-шала князя Григория Александровича Потемкина-Таврического // РА. 1867.
Сб. ВИМ — Сборник военно-исторических материалов.
Сб. РИО — Сборник императорского Русского исторического общества. СПб. Т. 11, 12. 1873; Т. 13. 1874; Т. 16.1875; Т. 19. 1876; Т. 23. 1878; Т. 27.1880; Т. 54.1886; Т. 135.1911.
Сегюр 1989 — Сегюр Л.-Ф. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II // Россия XVIII века глазами иностранцев Издание подготовил Ю.А. Лимонов. Л., 1989.
Семевский 1867 —Семевский М. Шесть месяцев из русской истории XVIII века: Очерк царствования императора Петра III. 1761-1762 гг. // ОЗ. 1867. № 13.
Семевский 1875 — Семевский М.И. Григорий Александрович Потем-кин-Таврический // PC. 1875. Кн. 3.
СИМПИК КВ — Сборник исторических материалов по истории кубанского казачьего войска.
Скальковский 1836-1838 — Скальковский А.А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края. Одесса, 1836-1838.
Скальковский 1885-1886 — Скальковский А.А. История Новой сечи, или последнего Коша Запорожского: В 3 частях. Одесса, 1885-1886.
СН — Старина и новизна.
Соловьев — Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1959-1966.
Соловьев 1863 — Соловьев С.М. История падения Польши. М., 1863.
Соловьев. Кн. 13 — Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Книга XIII. Тома 25-26. М., 1994.
Суворов. Документы — Суворов А.В. Документы: В 4 т. / Издание подготовил B.C. Лопатин. М., 1949-1953.
Суворов. Письма — Суворов А.В. Письма. М., 1986.
Сумароков 1800 — Сумароков П.И. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году, Павлом Сумароковым. С историческим и топографическим описанием всех тех мест. М., 1800.
Трегубов 1908 — Трегубое Н.Я. Записки // PC. 1908. Т. 136.
Устинов 1991 — Устинов В.И. Могучий великоросс / Военно-исторический журнал. 1991. № 12.
Фельдман 2000 — Фельдман Д.З. Светлейший князь Г.А. Потсмкин-Таврический и российские евреи // Материалы VII Международной еврейской конференции. М., 2000.
Фонвизин 1959 — Фонвизин Д.И. Собрание сочинений: В 2 т. М.» 1939.
Храповицкий — Памятные записки А.В. Храповицкого, статс-секретаря императрицы Екатерины Второй / Издание подготовил Т.Н. Геннади. М., 1862 (репринт: М., 1990).
Цебриков 1895 — Цебриков P.M. Вокруг Очакова. 1788 год (Дневник очевидца) // PC. 1895. Т. 84. № 9.
Чечулин 1924 — Чечулин Н.Д. Екатерина II в борьбе за престол. Л.» 1924.
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских.
Шахмагонов 1991 — Шахмагонов Н.Р. Храни Господь Потемкина. М., 1991.
Шильдер 1897 — Шильдер Н.К. Император Александр I. Т. 1. СПб.» 1897.
Щербатов 1858 — 0 повреждении нравов в России князя М. Щербатова и Путешествие А. Радищева. Лондон, 1858 (факсимильное переиздание: М., 1985.).
Энгельгардт 1997 — Энгельгардт Л.Н. Записки / Издание подготовил И.И. Федюкин. М., 1997.
ААЕ — Archive des Affaires Etrangeres, Paris.
AGAD — Archiwum Glowne Akt Dawnych w Warszawie.
Alexander 1969 — Alexander, J.T. Autocratic Politics in a National Crisis: The Imperial Russian Government and Pugachev’s Revolt 1773-1775. Bloomington 1969.
Alexander 1973 — Alexander, J.T. Emperor of the Cossacks: Pugachev and the Frontier Jacquerie of 1773-1775. Lawrence, 1973.
Alexander 1989 — Alexander, J.T. Catherine the Great: Life and Legend. Oxford, 1989.
Anderson 1966 — Anderson M.S. The Eastern Question 1774-1923. New York, 1966.
Anderson 1961 — Anderson M.S. Europe in the Eighteenth Century 1713-1783. London, 1961.
Anonymous 1787 — General Observations Regarding the Present State of the Russian Empire. London, 1787.
Anspach — Anspach, Margravine of (Lady Craven). Journey through the Crimea to Constantinople. London, 1826.
Antoine 1820 — Antoine M. (Baron de Saint-Joseph). Essai Historique sur le commerce et la navigation de la Mer Noire. Paris, 1820.
Aragon 1893 — Aragon L. A. C., marquis d\ Un Paladin au XVIII siecle: Le Prince Charles de Nassau-Siegen. Paris, 1893.
Ascherson 1996 — Ascherson N. Black Sea: The Birthplace of Civilisation and Barbarism. London, 1996.
Asprey 1986 — Asprey R.B. Frederick the Great: The Magnificent Enigma. New York, 1986.
Asseburg 1842 — Asseburg, A.F. von der. Denkwurdigkeiten. Berlin, 1842. 39.
Joseph II — Cobenzl — Joseph II und Graf Ludwig Cobenzl: Ihr briefweehsel Fontes Rerum Austriacarum. Ed. A. Beer and J. Fiedler. Vienna, 1873.
Baddeley 1908 — Baddeley J.F.The Russian Co№uest of the Caucasus. London, 1908.
Bain 1902 — Bain, R. Nisbet. Peter III: Emperor of Russia. London, 1902.
Bartlett 1979 — Bartlett R.P. Human Capital: The settlement of foreigners in Russia 1762-1804. Cambridge, 1979.
Batalden 1982 — Batalden S.K. Catherine II’s Greek Prelate: Eugenios \bulgaris in Russia 1771-1806. New York, 1982.
Baylen, Wxxlward 1950 — Baylen J.O., Woodward D. Francisco Miranda and Russia // Historian. Vol. XIII. 1950.
Beales 1987 — Beales D. Joseph II: In the Shadow of Maria Theresa 1741-1780. Cambridge, 1987.
Bentham 1862 — Bentham M.S. The Life of Brigadier-General Sir Samuel Bentham. London, 1862.
Bentham. Collected Works — Bentham J. Collected Works. Edinbuigh, 1838-1843.
Bentham. Correspondence — Correspondence of Jeremy Bentham. Volumes 2-4. London, 1968-1981.
Blanning 1970 — Blanning T.C.W. Joseph II and Enlightened Despotism. London, 1970.
Blanning 1994 — Blanning T.C.W. Joseph II: Profiles in Power. London, 1994.
Blum 1857 — Blum K.L. Ein Russische Staatsman: Des Grafen Sievers Denkwurdigkeiten zur Geschichte Russlands. Leipzig; Heidelberg, 1857.
BM — British Museum, London.
Bruess 1997 — Bruess G.L Religion, Identity and Empire: A Greek Archbishop in the Russia of Catherine the Great. New York, 1997.
Buckinghamshire 1900-1902 — The Despatches and Correspondence of John, Second Eari of Buckinghamshire, Ambassador to the Court of Catherine II of Russia 1762-1765. London, 1900-1902.
CASS — Canadian American Slavic Studies.
Castera 1798 — Castera J.H. The Life of Catherine II, Empress of Russia. London, 1798.
Cerenville 1808 — Cerenville J.E. La Vie de Prince Potemkine, redigee par un officier fransais d’apres les meilleurs ouvrages allemands et fransais, qui ont paru sur la Russie a cette epoque. Paris, 1808.
Christie 1970 — Christie I.R. Samuel Bentham and the lAfestem Colony at Krichev 1784-1787// SEER. Vol. 48. № 111 (April 1970).
Christie 1972 — Christie I.R. Samuel Bentham and the Russian Dnieper Flotilla / SEER. April 1972. Vol. 50. № 119.
Christie 1993 — Christie I.R. The Benthams in Russia. Oxford-Providence, 1993.
Catherine II — Ligne — Lettres de Catherine II au prince de Ligne, 1780-1796. Paris, 1924.
CMRS — Cahiers du Monde Russe et Sovietique.
Corberon 1904 — Corberon, Marie-Daniel Воиггёе, Chevalier de. Un Diplomate fransais a la cour de Catherine II. 1775-1780. Journal intime. Ed. L.H. Labande. Paris, 1904.
Coxe 1874 — Coxe W. Travels into Poland, Russia, Sweden and Denmark. London, 1874.
Crankshaw 1969 — Crankshaw E. Maria Theresa. London, 1969.
Cronin 1978 — Cronin V. Catherine, Empress of All the Russias. London, 1978.
Cross 1977 — Cross A Dushess Kingston in Russia// History Today. 1977. № 27. Cross 1997 — Cross A By the Banks of the Neva: Chapters from the Lives and Careers of the British in Eighteenth-Century Russia. Cambridge, 1997.
CSS — Canadian Slavic Studies.
Czartoryski 1888 — Czartoryski, Adam. Memoirs. London, 1888.
Damas 1912 — Damas d’Antigny, J.E.R. Memoires du comtfe Roger de Damas. Paris, 1912.
Davies 1996 — Davies N. Europe: A History. Oxford, 1996.
Davis 1961 — Davis C.C. The King’s Chevalier A Biography of Lewis Littlepage. Indianopoiis, 1961.
Dimsdale — Dimsdale, Baroness Elizabeth. English Lady at the Court of Catherine the Great / Ed. by A. Cross. Cambridge, 1989.
Duffy 1981 — Duffy C. Russia’s Military Way to the West: Origins and Nature of Russian Military Power 1700-1800. London, 1981.
Dumas 1967 — Dumas F.R. Cagliostro. London, 1967.
Dvoichenko-Markov 1963 — Dvoichenko-Markov D. Russia and the First Accredited Diplomat in the Danubian Principalities 1779-1808 // Slavic and East European Studies. 1963. № 8.
Ehrman 1983 — Ehrman J. The Younger Pitt. Vol. 2: The Reluctant Transition. London, 1983.
Eighteenth Century StudiesEighteenth Century Studies in Honour of
D.F. Hyde. New York, 1970.
Encyclopaedia of Gardening — Loudon J.C. An Encyclopaedia of Gardening. London, 1822.
Esterhazy 1909 — Esterhazy V.L. Nouvelles lettres du comte Valentin L. Esterhazy a sa femme 1791-1995. Paris, 1909.
Fisher 1970 — Fisher A.W. The Russian Annexation of the Crimea 1772-1783. Cambridge, 1970.
Fisher 1978 — Fisher A.W. The Crimean Tartars. Studies in Nationalities of USSR. Stanford, 1978.
Fishman 1996 — Fishman D.E. Russia’s First Modem Jews. The Jews of Shklov. New York — London, 1996.
Fothergill 1969 — Fotheigill B. Sir William Hamilton, Envoy Extraodinary. London 1969.
Fraser 2000 — Fraser D. Frederick the Great. London 2000.
Friedrich der Grosse. Politische Correspondenz — Friedrich der Grosse. Politische Correspondenz. Berlin, 1879-1939.
Goertz 1969 — Goertz, J.E. von der. Memoire sur la Russie. Wiesbaden, 1969. Golitsyn 1855 — Golitsyn, prince Emmanuel. Recit du voyage de Pierre Potemkin; La Russie du XVIII siecle dans ses rapports avec l’Europe Occidentale. Paris, 1855.
Greenberg 1944 — Greenbeig L. The Jews in Russia. Vol. 1: The Struggle for Emancipation. New Haven, 1944.
Griffits 1970 — Griffits D.M. The Rise and Fall of the Northern System: Court Politics in the First Half of Catherine’s Reign // CSS. 1970. P. 547-569.
Grundy 1999 — Grundy I. Lady Mary Wbrtley Montagu: Comet of the Enlightenment. Oxford, 1999.
Guthrie 1802 — Guthrie M. A Tour performed in the years 1795-1796 through the Taurida or Crimea. London, 1802.
Harris 1844 — Diaries and Correspondence of James Harris, First Earl of Malmesbury. London, 1844.
Haupt 1966 — Haupt G. La Russie et les Principautes Danubiennes en 1790: Le Prince Potemkin-Tavrichesky et le Courrier de Moldavie // CMRS. Vol. 7 (Jan-Mars 1966). № 1. P. 58-63.)
Helbig 1779-1800 — Helbig, Georg von. Potemkin der Taurier: Anecdoten zur Geschichte seines Lebens und seiner Zeit // Minerva, ein Journal historischen und politischen Inhalts herausgegeben von J.M. von Archenholtz. Hamburg, 1779-1800.
Hughes 1998 — Hughes L. Russia in the Age of Peter the Great. New Haven; London, 1998.
Joseph II und Katarina — Joseph II und Katarina von Russland. Vienna, 1869. Joseph II und Leopold von Toscana — Joseph II und Leopold von Toscana. Irh Briefwechsel 1781 bis 1790. Vienna, 1872.
Keen, W&sserman 1998 — Keen B., W&sserman M. A History of Latin America. Boston, 1998.
Kinross 1979 — Kinross, Lord. The Ottoman Centuries: The Rise and Fall of the Turkish Empire. New York, 1979.
Klier 1986 — Klier J.D. Russia Gathers her Jews: The Origins of the Jewish Question in Russia, 1772-1825. Dekalb, 111. 1986.
Kramer, McGrew 1974 — Kramer G.F., McGrew R.E. Potemkin, the Porte and the Road to Tsargrad: The Shumla Negotiations 1789-1790 // Canadian American Slavic Studies. Vol. 8 (Winter 1974).
Kukiel 1955 — Kukiel M. Czartoryski and European Unity 1770-1861. Princeton Wfestport, Conn. 1955.
Langeron. Des armees — Langeron A., de. Des armees russes et turques // AAE.
Langeron. Evenements de 1790-1791 — Langeron A., de. Evenements poli-tiques de l’hiver de 1790-1791 en Russie et fetes de Petersbourg // AAE.
Langeron. Resume des campagnes — Langeron A., de. Resume des campagnes del787,1788, 1789//AAE.
LeDonne 1984 — LeDonne J.P. Ruling Russia: Politics and Administration in the Age of Absolutism 1762-1796. Princeton, 1984.
Ligne 1808 — Ligne C.J.E., prince de. Lettres et pensees. London, 1808.
Ligne 1809 — Ligne C.J.E., prince de. Letters and Reflections of the Austrian Field Marshal, ed. Baroness de Staei-Holstein. Philadelphia, 1809.
Ligne 1827-1829 — Ligne C.J.E., prince de. Memoires et melanges historiques et litteraires. Paris, 1827-1829.
Ligne 1880 — Ligne C.J.E., prince de. Fragments des memoires de prince de Ligne. Paris, 1880.
Lincoln 1981 — Lincoln W. Bruce. The Romanovs: Autocrats of All the Russias. New York, 1981.
Lojek 1970 — Lojek J. Catherine’s Armed Intervention in Poland // CSS. Fall 1970. Mti. 4. № 3.
Lojek 1979 — Lojek J. Stanislas Poniatowski: Pamietniki synowca Stanislawa Augusta przekl. Institut Wydawniczy PAX. 1979.
Longworth 1965 — Longworth P. The Art of Victory: The Life and Achievements of Field Marshal Suvorov 1729-1800. New York, 1965.
Lord 1915 — Lord R.H. The Second Partition of Polahd. Cambridge, Mass. 1915.
Louis XVI — Vergennes — Louis XVI and the Comte de \fergennes: Correspondence. Oxford, 1998.
Lukowski 1999 — Lukowski J. The Partitions of Poland 1772, 1793, 1795. London, 1999.
MacDonogh 1999 — MacDonogh G. Frederick the Great. London, 1999.
Madariaga 1950 — Madariaga I. de. The Travels of General Francisco de Miranda. London, 1950.
Madariaga 1954 — Madariaga I. de. The Use of British Secret Service Funds at St.Petersbuig. 1777-1782//SEER. 1954. № 79.
Madariaga 1959 — Madariaga I. de. The Secret Austro-Russian Treaty of 1781 // SEER. 1959. Ш. 38. P. 114-145.
Madariaga 1962 — Madariaga I. de. Britain, Russia and the Armed Neutrality of 1780: Sit James Harris’s Mission to St. Petersburg during the American Revolution. New Haven, 1962.
Madariaga 1981 — Madariaga I. de. Russia in the Age of Catherine the Great. London, 1981. Русский перевод: Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой / Пер. с англ. H.Л. Лужецкой. М., 2002.
Madariaga 1990 — Madariaga I. de. Catherine the Great: A Short History. New Haven; London, 1990.
Madariaga 1998 — Madariaga I. de. Politics and Culture in Eighteenth-Century Russia: Collected Essays. London/New York, 1998.
Mansel 1984 — Mansel Ph. Pillars of Monarchy. London, 1984.
Mansel 1992 — Mansel Ph. Le Charmeur de l’Europe: Charles-Joseph de Ligne, 1735-1814. Paris, 1992.
Mansel 1995 — Mansel Ph. Constantinople: City of the World’s Desire. 1453-1924. London, 1995.
Maria Theresa und Joseph II — Maria Theresa und Joseph II. Ihre Correspondenz. Vienna, 1867.
Masson 1800 — Masson Ch. F. P. Secret Memoirs of the Court of Petersburg. London, 1800.
Masters 1969 — Masters J. Casanova. London, 1969.
Mavor — Mavor E. Virgin Mistress: The Life of the Duchess of Kingston.
McGrew 1992 — McGrew R.E. Paul I of Russia 1754-1801. Oxford, 1992.
McKay, Scott 1983 — McKay D., Scott H.M. The Rise of the Great Powers, 1648-1815. London, 1983.
McNeill 1964 — McNeill W.H. Europe’s Steppe Frontier 1500-1800. Chicago, 1964.
Memoirs — The Memoirs of the Life of Prince Potemkin, comprehending original anecdotes of Catherine II and of the Russian Court, translated from the German. London, 1812.
Miranda 1929 — Miranda, F. de. Archivo del General Miranda. Caracas, 1929.
Mitford 1970 — Mitford N. Frederick the Great. London, 1970.
Mniszech 1866 — Mniszeck U. Listy pani Mniszchowej, zony marszalka w. koronnego // Rocznik towarzystwa historyczno literackiego. Paris, 1866.
Morane 1907 — Morane P. Paul I de Russie. P., 1907.
Murray 1998 — Murray V. High Society in the Regency Period. London, 1998.
Nicolson 1948 — Nicolson H. The Congress of Vienna. London, 1948.
Niemcewicz 1848 — Niemcewicz J.U. Pamietniki czasow moich. Paris, 1848.
Oginski 1826 — Oginski M. Memoires sur la Pologne et les Polonais. Paris, Geneve, 1826.
Otis 1900 — Otis J. The Life of John Paul Jones. New York, 1900.
Palmer 1972 — Palmer A. Mettemich, Councillor of Europe. London, 1972.
Parkinson 1971 — Parkinson J. A Tour of Russia, Siberia and the Crimea 1792-1794. London, 1971.
Pevitt 1997 — Pevitt C. The Man Who Wbuld Be King: The Life of Philippe d’Orieans, Regent of France. London, 1997.
Plumb 1956 — Plumb J.H. Sir Robert Walpole. London, 1956.
Pole Carew — Pole Carew, Sir Reginald. Unpublished archives on Russia. CO/r-2; CAD 50; CO/r/3/92, 93, 95, 101, 195, 210.
Poniatowski 1914 — Memoires du roi Stanislas-Auguste Poniatowski. St. Petersbourg, 1914.
PRO — Public Record Office, London
PRO FO — Public Record Office, Foreign Office, Secretary of State, State Papers, Foreign.
RaefF 1967 — Raeff M. The Style of Russia’s Imperial Policy and Prince
G.A. Potemkin // Statesmen and Statecraft of the Modem west. Barr, Mass., 1967.
Raeff 1972 — Raeff M. (ed.) Catherine the Great: A Profile. New York, 1972.
Ransel 1975 — Ransel D. L. The Politics of Catherinian Russia: The Panin Party. New Haven, 1975.
Rhinelander 1990 — Rhinelander A.L.H. Prince Michael Vorontsov, Viceroy to the Tsar. Montreal, 1990.
Richardson 1784—Richardson W. Anecdotes of the Russian Empire. London, 1784.
Richelieu 1886 — Richelieu A., due de Plessy. Journal de mon voyage en Allemagne // Сб. РИО. Т. 54. С. 111-197.
Rostoptchin 1823 — Rostopchin F. La Verite sur l’incendie de Moscou. Paris, 1823.
Saint-Jean 1888 — Saint-Jean, Sekretar des Fuisten Potemkin. Lebensbeschreibug des Gregor Alexandrowitsch Potemkin des Tauriers. Karlsruhe, 1888.
SEER — Slavonic and East European Review.
Segur 1824-1826 — CEuvres Completes de Monsieur le comte de Segur. Memoires et souvenirs et anecdotes. Paris, 1824-1826.
Segur 1825-1827 — Segur L. P., comte de. Memoirs and Recollections of Count Segur, ambassador from France to the Courts of Russia and Prussia etc., written by himself. London, 1825-1827.
Segur 1859 — Segur L. P., comte de. Mdmoires et souvenirs et anecdotes. Paris, 1859.
Segur 1925 — Segur L. P., comte de. Memoirs of the Comte de Segur. New York, 1925.
Shvidkovsky 1996 — Shvidkovsky D. The Empress and the Architect: British Architecture and Gardens at the Court of Catherine the Great. New Haven; London, 1996.
Soloveytchik 1938 — Soloveytchik G. Potemkin: A Picture of Catherine’s Russia. London, 1938.
Soloveytchik 1947 — Soloveytchik G. Potemkin: Soldier, Statesman, Lover and Consort of Catherine of Russia. New York, 1947.
Stedingk 1919 — Stedingk C.B.C, comte de. Un Ambassadeur de Su£de a la cour de Catherine II; field-marechal comte de Stedingk; choix de depeches diplomatiques, rapports secrets et lettres particulieres de 1790 a 1796. Stockholm, 1919.
Temperley 1968 — Temperley H. Frederick the Great and Kaiser Joseph. London, 1968.
The North Caucasus Barrier — The North Caucasus Barrier: Russian Advance Towards the Moslem Wforld. London, 1992.
Thiebault 1804 — Thiebault D. Mes souvenirs de vingt ans de sejour a Berlin. Paris, 1804.
Tott 1786 — Tott, baron de. Memoirs of the Turks and the Tatars. London, 1786. Trowbridge 1910 — Trowbridge W.R.H. Cagliostro: The Splendour and Misery of a Master of Magic. London, 1910.
Troyat 1970 — Troyat H. Pushkin. New York, 1970.
Troyat 1977 — Troyat H. Catherine the Great. London, 1977.
Wlentin 1948 — Wlentin A. Mirabeau: \bice of the Revolution. London, 1948. Vigee Lebrun 1879 — Vigee Lebrun E. Souvenirs. Paris, 1879.
Voltaire 1821 — Voltaire. Oeuvres completes de Voltaire. Vol. 58: Correspondance avec l’imperatrice de Russie. Paris, 1821.
Waliszewski 1894 — Whliszewski, K. Autour d’un trone. P., 1894.
Wheatcroft 1995 — Wheatcroft A. The Habsbuigs. London, 1995.
White 1950 — White Т.Н. The Age of Scandal. London, 1950.
Wilson 1972 - Wilson A.M. Diderot. New York, 1972.
Wraxall 1776 — Wraxall N. A Tour through Some of the Northern Parts of Europe. London, 1776.
Yusupov 1953 — Yusupov, prince Felix. Lost Splendour. London, 1953. Zamoyski 1992 — Zamoyski A. The Last King of Poland. London, 1992 Zamoyski 1999 — Zamoyski A. Holy Madness: Romantics, Patriots and Revolutionaries 1776-1871. London, 1999.
Комментарии
1
«Су git Bauer sous се rocher, Fouette, cocher!»
(обратно)2
Год рождения, как и многие другие обстоятельства его жизни, точно неизвестен. Когда он приехал в Москву и позже, когда поступал в гвардию, свой истинный возраст он намеренно скрывал. Племянник Потемкина Александр Самойлов утверждал, что он родился в 1842 году; даты в военных архивах противоречивы. 1739 год — наиболее вероятная дата.
(обратно)3
Юный император, при котором двор переехал снова в Москву, умер в своем загородном дворце. Теперь здесь размещается Военно-исторический архив (РГВИА), где хранится значительная часть потемкинских документов.
(обратно)4
Потемкина иностранцы тоже описывали как гиганта. В гвардию отбирали, разумеется, самых высоких и статных молодых людей, но по запискам путешественников того времени можно составить впечатление, что Россия переживала какой-то великанский период: «Русский крестьянин — это высокий, могучий красавец», — восхищалась леди Крейвен.
(обратно)5
Баронесса Димсдейл сообщает, что в 1781 году, когда императрица каталась на качелях «Летающая гора» и ее коляска соскочила с деревянных рельсов, Орлов удержал коляску и вправил ее на место ногой.
(обратно)6
Панины приблизились ко двору через брак Ивана Васильевича, отца Н.Й. и П.И. Паниных, с племянницей фаворита Петра I — Александра Меншикова, который в юности торговал пирогами.
(обратно)7
Это тот ребенок, которым она была беременна в момент смерти Елизаветы: Алексей Григорьевич Бобринский (1762-1813). Не признавая его официально, Екатерина следила за его воспитанием. Потом, когда он вел разгульную жизнь в Париже, императрица платила его долги. На некоторое время он вернулся в Россию, а затем снова уехал путешествовать. Павел I признал его своим сводным братом и произвел в графское достоинство.
(обратно)8
Петр I жаловал князем своего фаворита Меншикова, но это было исключением. Император Павел, вступивший на престол в 1796 году, а затем и его преемники, стали так щедро даровать этот титул, что значительно обесценили его.
(обратно)9
Успокойся (фр.)
(обратно)10
Когда император Александр I скончался в 1825 году, многие верили, что он на самом деле принял постриг и отправился странствовать по России.
(обратно)11
Мой друг (фр.)
(обратно)12
Мой дорогой друг (фр.)
(обратно)13
Толстяк (фр.)
(обратно)14
Умница (фр.)
(обратно)15
Тем лучше (фр.)
(обратно)16
Двери будут открыты... Что до меня, то я иду спать (фр.)
(обратно)17
О, господин Потемкин, что за странное чудо вы содеяли, расстроив так голову, которая доселе слыла одной из лучших в Европе? (фр.)
(обратно)18
Я стала сомнамбулой (фр.).
(обратно)19
О. Ремизов, автор книги «Другой Петербург», рассказывает, как в конце XIX века художник Константин Сомов, сын хранителя Эрмитажа, принимал у себя своих друзей — М.А. Кузмина, возможно, С.П. Дягилева, А.А. Ахматову и других. Сомов рассказал, что его отец обнаружил в екатерининской коллекции великолепный слепок члена Потемкина. Когда гости не поверили, он пригласил их в другую комнату и продемонстрировал фарфоровый слепок. Позже драгоценность была возвращена в Эрмитаж — где, нужно добавить, ее больше никто не видел. Когда автор этих строк посещал Эрмитаж в поисках потемкинской коллекции, никто ничего не знал о таком экспонате. Но это очень большой музей.
(обратно)20
Теперь баня, как и их апартаменты, не существует: они сгорели во время пожара 1837 г. Но снаружи видны позолоченный купол часовни и крест. Сейчас на месте бани располагается отдел египетского искусства Эрмитажа.
(обратно)21
Когда Вы лучше узнаете меня, Вы будете уважать меня, ибо клянусь Вам, что я достойна уважения. Я чрезвычайно правдива, люблю правду, ненавижу перемены, я ужасно страдала в течение двух лет, обожгла себе пальцы, я к этому больше не вернусь. Сейчас мне вполне хорошо... Если же вы будете продолжать тревожиться сплетнями кумушек, то знаете, что я сделаю? Я запрусь в своей комнате и не буду видеть никого, кроме вас. Если нужно, я смогу принять чрезвычайные меры и люблю вас больше самой себя (фр.)
(обратно)22
Сумасшедший, сумасброд (фр.)
(обратно)23
События в Поволжье начинали отдаваться эхом и в сердце империи: еще один беглый крепостной, назвавшийся Петром III, захватил подмосковный Троицк.
(обратно)24
Дорогой супруг (фр.)
(обратно)25
Есть и еще одна московская легенда. В XIX веке коллекционер князь С. Голицын показывал посетителям своего дворца на Волконской улице, где, как считается, Екатерина останавливалась в 1775 году, две иконы, которые императрица подарила в дворцовую часовню, где якобы венчалась с Потемкиным.
(обратно)26
Дорогой супруг (фр.)
(обратно)27
По сопоставлению (фр.)
(обратно)28
Екатерина подарила Дарье Васильевне дом на Пречистенке, в котором та жила до самой смерти.
(обратно)29
Воодушевил (encourager, фр. — воодушевлять).
(обратно)30
Мой муж сказал мне недавно... Мой дорогой и горячо любимый супруг, придите ко мне: вас встретят с распростертыми объятиями (фр.).
(обратно)31
Так проходит слава мира (лат.)
(обратно)32
Говорили, что Потемкин посещал акушерку великой княгини и передал ей роковой приказ. Вообще врачебное убийство — сквозной мотив политической паранойи российских руководителей. Сталинское «дело врачей» 1952-1953 гг. снова вызвало к жизни образ «убийц в белых халатах». В екатерининские времена докторам приписывали смерть князя Орлова, великой княгини Натальи Алексеевны, любовника Екатерины Александра Ланского и, наконец, самого Потемкина, а Потемкина считали причастным к первым трем случаям.
(обратно)33
Смутил (embarasser, фр. - смущать)
(обратно)34
Друг мой, ваше воображение вас обманывает (фр.)
(обратно)35
Испытательница (фр.)
(обратно)36
Брак втроем (фр.)
(обратно)37
От фр. eruption - извержение вулкана
(обратно)38
И устроить его судьбу (фр.)
(обратно)39
Истинный дикарь (фр.)
(обратно)40
Александр I назначил его первым российским министром образования.
(обратно)41
Вы послали ему превосходную трость. Он похож на шведского короля, но превосходит его в благодарности к вам (фр.).
(обратно)42
И это все... об остальном переговорим при встрече... (фр.)
(обратно)43
Attracion - притяжение, влечение (фр.)
(обратно)44
Черт возьми, сказано ясно как день (фр.)
(обратно)45
Генерал-адъютантами Екатерины числились ее фаворит, несколько сыновей знатных вельмож и несколько племянников Потемкина. Штат увеличился, когда в июне 1776 года Потемкин создал должность флигель-адъютантов императрицы, в обязанности которых входило помогать генерал-адъютантам. У князя, разумеется, были свои адъютанты, которые часто переходили к Екатерине.
(обратно)46
Если тому причиною Ваш отъезд, Вы неправы (фр.)
(обратно)47
Слух этот связан также с персоной великого князя Павла. Дело в том, что Александра Энгельгардт родилась в том же 1754 году, что и великий князь. По преданию, Екатерина родила не мальчика, а девочку, которую подменили сыном служанки-калмычки.
(обратно)48
Скажите мне по крайней мере, любите ли вы меня (фр.)
(обратно)49
Только это одно может примирить меня саму с собой (фр.)
(обратно)50
Пишу вам перед зеркалом (фр.)
(обратно)51
И говорю вам все, что на ум взбредет (фр.)
(обратно)52
Некоторые сокровища Кингстон Потемкин продемонстрировал на своем знаменитом празднике 1791 года, описанном нами в 32-й главе. Сегодня многочисленные картины и предметы искусства, принадлежавшие герцогине, можно видеть на стенах и витринах петербургского Эрмитажа, где хранится значительная часть потемкинских коллекций. Гарновский поплатился за свою алчность: император Павел посадил его в долговую тюрьму, а в 1810 г. он умер в нищете.
(обратно)53
Особенно везло в России шотландцам, многие из которых здесь осели и положили начало знаменитым родам. Елизаветинский канцлер Бестужев и граф Яков Брюс были потомками шотландцев Беста и Брюса, а поэт Михаил Лермонтов вел свой род от Лермонта, прозванного Томасом Рифмачом, легендарного зачинателя шотландской литературы.
(обратно)54
Один из кузенов Браунов был фельдмаршалом австрийской армии, а Джордж Браун вступил в русскую службу, попал в плен к туркам, был трижды перепродан в Стамбуле, а затем был губернатором Ливонии почти на протяжении всего екатерининского царствования и умер в возрасте более 90 лет. Фельдмаршал граф Лейси (Ласси) стал самым доверенным военным советником и корреспондентом Иосифа II, а граф Фрэнсис Энтони Лейси исполнял должность испанского посла в Петербурге и главнокомандующего Каталонии.
(обратно)55
Дипломаты очень опасались также английского «черного кабинета», расположеного в Ганновере, курфюршестве Герцога III, на перекрестке европейских дорог.
(обратно)56
Популярное тогда выражение «travailler pour le roi de Prusse» (работать на прусского короля) (фр.) означало «трудиться без вознаграждения».
(обратно)57
Ужин с танцами (фр.)
(обратно)58
Покинув Петербург, Калиостро стал колесить по Европе, вызывая сенсацию всюду, где появлялся, но в Париже через своего покровителя кардинала де Роана оказался замешан в дело об ожерелье королевы, сильно повредившем Марии Антуанетте (Наполеон даже называл его одной из причин революции). Суд, которого так сумасбродно потребовала королева и который так неосмотрительно разрешил Людовик XVI, оправдал Калиостро, но погубил его карьеру. Арестованный в Риме судом инквизиции, он умер в 1795 г. в папской тюрьме Сан-Леоне.
(обратно)59
Самая знаменитая взятка столетия, 2 миллиона франков, была предложена герцогу Мальборо в мае 1709 года послом Людовика XVI в Гааге.
(обратно)60
От. лат. porta - ворота
(обратно)61
Bush - куст (англ.)
(обратно)62
Почти в то же самое время четвертая сестра, «безнадежная» Надежда, в 1779 году в более скромной обстановке вышедшая за полковника П.А.Измайлова, потеряла своего мужа, а затем сочеталась браком с еще одним союзником Потемкина — сенатором П.А.Шепелевым. Последняя племянница, Татьяна, в 1785 году вышла замуж за своего дальнего родственника генерал-поручика Михаила Сергеевича Потемкина, старше ее на 25 лет. За добрый нрав светлейший прозвал его «Святым»; брак их был счастлив, но Михаил Сергеевич скоро умер.
Есть легенда, что брак с Надеждой Энгельгардт был наградой Шепелеву за убийство кн. П.М. Голицына на дуэли в 1775 г. по поручению Потемкина, за то, что Голицын оказывал особенные знаки внимания императрице. Никаких подтверждений этой версии нет: на самом деле убийцу Голицына звали Лавров. Брак состоялся лишь спустя пять лет. Кроме того, месть через дуэль — совершенно не в стиле Потемкина. См.: Переписка. № 353 и коммент.
(обратно)63
Аппетит к ним пришел во время еды (фр.)
(обратно)64
Прелестное выражение (фр.)
(обратно)65
Иван Ганнибал был сыном петровского арапа, Абрама Ганнибала, по преданию — абиссинского принца, купленного в Стамбуле для русского царя и усыновленного им. Назвав своего приемного сына именем соперника Сципиона, Петр дал ему воспитание и крестил его сына Ивана; Пушкин приходился Ивану Абрамовичу внучатным племянником. Дед Пушкина, Осип Абрамович, был беден, и мать поэта воспитывалась в семействе первого губернатора Херсона.
(обратно)66
Екатеринослав был переименован в Днепропетровск в 1926 году. Из Днепропетровска вышли руководители СССР, правившие страной в 1970-х годах. В 1938 г. 32-летний аппаратчик Леонид Брежнев, перешагнув через головы своих начальников, ликвидированных в ходе Большой Сталинской чистки, возглавил коммунистическую пропаганду Днепропетровска. Там же он собрал команду, которая возглавляла Советский Союз с 1964 по 1980 год: «днепропетровскую мафию». Сегодня жители города вспоминают, что Брежнев особенно любил веселиться в Потемкинском дворце.
(обратно)67
В советских учебниках истории Суворов, руководивший строительством некоторых из фортов Кубанской линии, называется их основателем, но на самом деле приказы об их постройке отдавал Потемкин.
(обратно)68
Шейх Мансур и аварец имам Шамиль, предводитель войны с Россией в XIX веке, — герои сегодняшних чеченских повстанцев. Когда автор посетил Грозный в 1994 году, перед началом чеченской войны, портреты Шейха Мансура украшали кабинеты президента и министров. В короткий период независимости Чечни в 1990-х годах его именем назывался грозненский аэропорт.
(обратно)69
Этот дворец был разрушен во время Гражданской войны.
(обратно)70
К моменту смерти Потемкина был закончен только один этаж; остальное было возведено по планам Старова в 1830-е гг.; в здании разместилось дворянское собрание. В 1917 г. оно стало Домом отдыха рабочих, сейчас здесь Дом студентов. Разрушенный во время войны, дворец был восстановлен в 1951 г. Парк Гульда (парк культуры) называется сегодня «Потемкинским парком» и сохраняет английский колорит.
(обратно)71
В 1781 году он показывал Реджинадду Полу Кери свои промышленные предприятия в окрестностях Петербурга: зеркальные и кирпичные заводы под Шлиссельбургом, зеркальный завод рядом с Александро-Невской Лаврой и чугунно-плавильную фабрику в имении Осиновая роща, которым управлял англичанин Хилл. Кери посетил также Кричев и другие имения Потемкина на Днепре и предложил основать английскую колонию на острове, раньше принадлежавшем запорожцам; позднее Потемкин действительно поселил там колонистов из Европы.
(обратно)72
Желчный Гораций Уолпол потешался уместности сюжета: чтобы Екатерина смогла взойти на трон, двое императоров были убиты, причем один из них задушен.
(обратно)73
Архитектору Старову он поручил надстроить четвертый этаж и добавить на фасад его любимые дорические колонны. Потом, нуждаясь в деньгах, Потемкин отдал дворец за долги своему другу купцу Никите Шемякину, но Екатерина выкупила для него Аничков. Такая торговля дворцами происходила не однажды — и каждый раз Екатерина выручала Потемкина.
(обратно)74
Легенда гласила, что здесь некоторое время провела в заключении княжна Тараканова с ребенком от Алексея Орлова-Чесменского, но никаких подтверждений этому рассказу нет. Усадьба Островки была разрушена немцами во время Второй мировой войны; к счастью, сохранились ее фотографии 1930-х годов.
(обратно)75
Напомним, что, например, великие фавориты прошлого герцог Оливарес и кардинал Ришелье страдали нервными припадками.
(обратно)76
В истории Англии среди многих талантливых лидеров ярко выраженными циклотимическими чертами отличались Оливер Кромвель, герцог Мальборо и Роберт Клайв.
(обратно)77
Путешествие императрицы стало причиной еще одной размолвки с цесаревичем Павлом Петровичем: она хотела взять с собой внуков, Александра и Константина. Павел тоже хотел ехать, но Екатерина совсем не желала брать с собой «тяжелый багаж». Чтобы оставить дома детей, Павел унизился даже до того, что обратился к Потемкину. Дело решила болезнь Александра, и Екатерина отправилась в путь без внуков.
(обратно)78
Собранные вместе, баржи насчитывали 252 фута в длину и почти 17 в ширину и приводились в движение 120 гребцами.
(обратно)79
Амазонок описал Геродот: под предводительством царицы Пентесилеи они пересекли Черное море, победили скифов и поселились с ними в Приазовье.
(обратно)80
Им оказался калмыцкий мальчик по имени Нагу. Сегюр обучил его французскому языку, а потом препоручил заботам графини Кобенцль.
(обратно)81
Точное местоположение имения неизвестно, но, посетив в 1998 году Белогорск (современное название Карасубазара), автор нашел расположенный над рекой сад, соответствующий описанию Марии Гатри.
(обратно)82
Несмотря на свое отвращение к азиатскому рабству, западные монархи нередко приобретали восточных рабынь, которых либо захватывали во время войны, либо покупали послы в Турции.
(обратно)83
Впрочем, даже здесь не все было декорацией: посетив греческие поселения в апреле 1786 г., леди Крейвен отметила, что греки носят «подобие римского военного платья», «восточные или итальянские кинжалы», а казаки точно так же развлекали ее своим гарцеванием.
(обратно)84
В Европе Суворов стал знаменит позднее — после побед над французской армией в Италии в 1799 году. Советские историки сделали из него народного героя, и сегодня Суворову приписывается многое из того, что на самом деле совершил Потемкин.
(обратно)85
Рассказы де Линя о его пребывании при штабе Потемкина в 1788 году стали широко известны в Европе и приняты многими историками за чистую правду, но нельзя забывать, что де Линь принадлежал австрийской стороне. Его знаменитые описания действий Потемкина во время войны с Турцией, сделанные в письмах к Иосифу II, Сегюру и маркизе де Куаньи (и, соответственно, ставшие известными всей Европе) не содержат прямой лжи, и тем не менее, читая их, нельзя забывать, что их автор имел поручение следить за своим другом и должен был успокаивать своего императора. Кроме того, де Линь был сильно уязвлен тем, что ему не поручают военного командования.
(обратно)86
Против штурма имелись и веские военные аргументы: надо было, чтобы флот получил контроль над Лиманом и подошла артиллерия, что случилось только в августе 1788 года.
(обратно)87
Полковник Бентам командовал двумя батальонами на китайско-монгольской границе, создал полковую школу, открыл новые земли, заключил союзы с монголами, калмыками и киргизами и открыл торговлю с Японией и Аляской. Кроме того, он разработал вполне «потемкинский» план завоевания Китая силами 100-тысячной армии. В 1790 году Бентам вернулся через Петербург в штаб Потемкина в Бендеры, чтобы дать отчет о своей экспедиции, и отбыл в Англию. Так была дописана уникальная страница в истории русско-английских связей.
(обратно)88
Старый город сегодня не существует, за исключением одного здания, бывшей мечети, где помещается музей. Музей посвящен Суворову, который даже не присутствовал при штурме Очакова. Тем не менее экспозиция прославляет его как победителя, а имя Потемкина упомянуто лишь вскользь. Таковы плоды государственного планирования правды.
(обратно)89
Черноголовый (фр.)
(обратно)90
У этого Нуаро прекрасные глаза, и он неплохо начитан (фр.)
(обратно)91
Мы взяли девять баркасов, не потеряв ни одного парня, и Бендеры с тремя пашами, не потеряв даже кошки (фр.).
(обратно)92
Дворец Гики сохранился: теперь в нем размещается медицинский факультет Ясского университета.
(обратно)93
Имеются в виду великие полководцы XVIII века Евгений Савойский и Фридрих Великий.
(обратно)94
Рассказывали, что отец Мирабо как-то сказал о своем сыне: «Я не знаю никого, кто мог бы составить ему пару, кроме императрицы Российской».
(обратно)95
Камердинер императрицы
(обратно)96
Некоторые польские историки утверждали, что, поставив это условие, Екатерина обманывала Потемкина, так как сама уже знала, что войны с Пруссией не будет. Разумеется, это не так. Англия дрогнула — но еще не отказалась от своих намерений. Условия, при которых Потемкин должен был начать военные действия, совершенно логичны. Документы, касающиеся создания польских сил для поддержки конфедерации, показывают, что императрица и светлейший работали вместе так же, как прежде: он составил проект указа о наборе войска на польских землях, она сделала свои пометки на полях.
(обратно)97
Мансур был отправлен в Петербург и через три года умер в Шлиссель-бургской крепости.
(обратно)98
супруга его очаровательна, но вы решительно ничего не выиграете, ухаживая за ней (фр.)
(обратно)99
Заключите мир, после чего приезжайте сюда и забавляйтесь, сколько вам угодно (фр.).
(обратно)100
Возможно, хотя и маловероятно, что приведенные выше письма Потемкина к «Прасковье» адресованы Прасковье Голицыной, а не Прасковье Потемкиной.
(обратно)101
Моцарту также не суждено было еще долго прожить: он умер 24 ноября (5 декабря) того же 1791 года.
(обратно)102
М.С. Потемкин умер загадочной смертью, в своей карете, по дороге из Ясс.
(обратно)103
4 миллиона «личного» дохода кажутся заниженной цифрой, поскольку Екатерина неоднократно выкупала его дворцы за сотни тысяч рублей.
(обратно)104
Доска исчезла через несколько лет после похорон Потемкина. А двести лет спустя автор этих строк обнаружил ее в церкви монастыря ГЬлия за пианино, под стопкой богослужебных книг.
(обратно)105
Все было прелестно (фр.)
(обратно)106
Король Георг V запретил показывать фильм ученикам Итонской школы, объявив, что «мальчикам вредно смотреть на мятежи, особенно на флоте».
(обратно)107
Считалось, что эти памятники не сохранились, но они целы: в 1998 году местные крестьяне отвели меня на «потемкинское место» на склоне холма.
(обратно)Примечания
1
Брикнер 1891. С. 222. Основной источник нашего рассказа о смерти Потемкина — рапорт B.C. Попова Екатерине II (РА. 1878. Ns I. С. 20-25); см. также: РГВИА 52.2.94.3-26.
(обратно)2
Ligne 1809. Р. 97 (де Линь Кауницу, нояб. 1788).
(обратно)3
Гравюра М.М. Иванова, Эрмитаж (Е: 22158). B.C. Попов, который в момент смерти Потемкина находился в Яссах, представлен на гравюре, вероятно, по его собственному указанию. Иванов был личным художником Потемкина и путешествовал в его свите (см. главу 23). Это не единственное изображение кончины Потемкина: см. также гравюру Г.И. Скородумова «Смерть Г.А. Потемкина 5 октября 1791 г.»
(обратно)4
Переписка. № 1161 (Екатерина II Потемкину 3 окт. 1791).
(обратно)5
Переписка. № 1159 (Екатерина II Потемкину 30 сен. 1791).
(обратно)6
Переписка. № 1162 (Потемкин Екатерине II4 окт. 1791).
(обратно)7
Массон 1996. С. 68.
(обратно)8
Самойлов 1867. Стб. 1558; АКВ. Т. 13. С. 216-222 (Безбородко Завадовскому 5 дек. 1791).
(обратно)9
Массон 1996. С. 68; ВМ. 33540. F. 296 (И. Бентам П.М. Дашкову 19/30 июля 1786).
(обратно)10
Ligne 1809. Vol. 2. Р.6 (де Линь Сегюру 1 авг. 1788).
(обратно)11
Сегюр 1989. С. 338; Davis 1961. Р. 148;
(обратно)12
Пушкин. Ак. Т. 12. С. 177.
(обратно)13
Солдатский А. Секрет князя // ЗООИД. Т. 9. С. 360-363.
(обратно)14
Переписка. С. 963 (B.C. Попов Екатерине И).
(обратно)15
Храповицкий. 11 окт. 1791.
(обратно)16
Массон 1996. С. 69.
(обратно)17
Сб. РИО. Т. 23. С. 561 (Екатерина II Гримму).
(обратно)18
Храповицкий. 6 и 12 янв. 1791.
(обратно)19
Семевский 1875. С. 486.
(обратно)20
Карабанов 1872. С. 463; Рассказ жителя Санкт-Петербурга С А Медведева, потомка Михаила Потемкина (О семье Потемкина // Дворянская ассамблея. Вып. 1998-2000); Болотина 1995а. С. 16-25; Самойлов 1867. Стб. 558; Список военным чинам первой половины XVIII столетия // Сенатский архив. 1895. Т. 7.
(обратно)21
Карабанов 1872. С. 463; Болотина 1995а. С. 16-25; Golitsyn 1855. P. XXVIII-XXXI, 253, 255, 262-263, 305, 370.
(обратно)22
Энгельгардт 1997. С. 16.
(обратно)23
Марфа (Елена) вышла замуж за полковника В.А. Энгельгардта, Пелагея — за П.Е. Высоцкого, Дарья — за А.А. Лихачева, Мария — за Н.Б. Самойлова, Надежда умерла девицей в 19 лет в 1757 г.
(обратно)24
Anspach. 9 марта 1786; Ligne 1809. Р. 69 (де Линь маркизе де Куаньи, письмо IX, 1787).
(обратно)25
Семевский 1875. С. 486-488; Карабанов 1872. С. 463; Бумаги графа А.Н. Самойлова // РА. 1882. № 2. С. 91-95 (митрополит Платон графу А.Н. Самойлову 26 фев. 1792); С. 93 (Потемкин митрополиту Платону; священник Антип Матвеев П.В. Лопухину).
(обратно)26
Фонвизин 1959. Т. 2. С. 91.
(обратно)27
Жизнь Потемкина 1812. С. 7.
(обратно)28
Anspach. 18 фев. 1786.
(обратно)29
Сегюр 1989. С. 327.
(обратно)30
Екатерина 1990. С. 338.
(обратно)31
Пушкин. Ак. Т. 8. Ч. 1. С. 42.
(обратно)32
Пушкин. Ак. Т. 8. Ч. 1. С. 190.
(обратно)33
Czartoryski 1888. Р. 87.
(обратно)34
Екатерина 1990. С. 422.
(обратно)35
Poniatowski 1914. Р. 156-157; ср. Понятовский 1995. С. 104-105.
(обратно)36
Рассказ о жизни Екатерины до переворота основан на ее «Собственноручных записках» (Екатерина 1907. С. 251-460; Екатерина 1990); см. также: Madariaga 1981. Р. 1-30; Alexander 1989. Р. 17-60; Анисимов 1999. С. 383-405.
(обратно)37
PRO FO 19/82. Charles, Lord Cathcart (29 дек. 1769); Anspach. 29 фев. 1786; Кросс 1996. С. 266.
(обратно)38
Валишевский 1911. С. 125.
(обратно)39
Там же.
(обратно)40
Екатерина 1990. С. 430.
(обратно)41
Чечулин 1924. С. 101.
(обратно)42
Семевский 1867. С. 161; Дашкова 1987. С. 51.
(обратно)43
Екатерина 1990. С. 463 [О смерти императрицы Елизаветы Петровны].
(обратно)44
РА. 1907. № 11. С. 130-132; Краснобаев 1983. С. 488-489.
(обратно)45
Массон 1996. С. 83.
(обратно)46
Главные источники описания переворота — «Собственноручные записки» Екатерины; ее письмо Понятовскому от 2 авг. 1762; письмо Роберта Кейта к лорду Гренвиллу, 1 (12) июля 1762 // Сб. РИО. Т. 12. С. 2-4; Madariaga 1981. Р. 21-37; Alexander 1989. Р. 5-16.
(обратно)47
Дашкова 1987. С. 54-55.
(обратно)48
Там же. С. 66, 68.
(обратно)49
Carew, Reginald Pole. Russian anecdotes. The Antony Archive CO/R/3/92. Эти истории основаны на разговорах путешественника с выдающимися русскими, с которыми он познакомился во время своего пребывания в России в 1781 г. Скорее всего, эти рассказы о перевороте он слышал от самого Потемкина. История о том, что Потемкин вместе с В. Бибиковым сопровождал карету Екатерины — первое упоминание в мемуарах современников о местонахождении Потемкина в эти часы.
(обратно)50
Екатерина 1990. С. 498 (письмо Понятовскому 2 авг. 1762); Самойлов 1867. Стр. 482-486.
(обратно)51
Дашкова 1987. С. 68
(обратно)52
Там же. С. 69.
(обратно)53
Сегюр 1989. С. 338-339.
(обратно)54
Memoirs. Р. 16-17 (это издание представляет собой перевод книги Cerenville 1808 и адаптацию Helbig 1779-1780 и содержит легенды о Потемкине, ходившие о нем при его жизни; см. прим. 8 к гл. 25); Segur 1859. Vol. 1. Р. 292.
(обратно)55
Asseburg 1842. Р. 315; Бильбасов 1900. Т. 2. С. 74; Екатерина 1907. С. 567 (письмо Понятовскому 2 авг. 1762).
(обратно)56
Дашкова 1987. С. 72.
(обратно)57
Сб. РИО. Т. 7. С. 108-120; Т. 42. С. 475,480; Самойлов 1867. Стб. 482-486.
(обратно)58
Иванов 1995. С. 15. Иванов подвергает серьезному сомнению знаменитое «третье письмо» от А.Г. Орлова к Екатерине II, содержащее признание в убийстве Петра III во время пьяной драки и называющее виновником кн. Федора Барятинского. См. также: Екатерина 1907. С. 568; АКВ. Т. 21. С. 89.
(обратно)59
Дашкова 1987. С. 78.
(обратно)60
Alexander 1989. Р. 14.
(обратно)61
РГАДА 268.890.291-294 (Герольдмейстерская контора); РА. 1867. Кн. 4. Стб. 482-486; см. также: Анненков 1849.
(обратно)62
Thiebault 1804. Vol. 2. Р. 78; РА. 1907.11. С. 130-131; о таланте Потемкина-мима см.: Парело 1879. С. 315.
(обратно)63
Екатерина 1907. С. 546-563 (письма Понятовскому 9 авг., 12 сент., 27 дек. 1762); см. также «Записки».
(обратно)64
Екатерина 1907. С. 559 (письмо Понятовскому)
(обратно)65
Массон 1996. С. 142.
(обратно)66
Zamoyski 1992. Р. 86; АХС 798 f.527 (Понятовский Екатерине II 2 нояб. 1763); Poniatowski 1914. Р. 33.
(обратно)67
Валишевский 1911. С. 95-96.
(обратно)68
Анисимов 1999. С. 199.
(обратно)69
Troyat 1977. Р. 175.
(обратно)70
ВМ. Add MS 15,875 (сэр Джордж Макартни леди Холланд, фев. 1766); Mansel 1992. Р. 141.
(обратно)71
Richardson 1784.
(обратно)72
Казанова 1990. С. 582, 584; Mansel 1992. Р. 96.
(обратно)73
ВМ. Add MS 15,875 (сэр Джордж Макартни леди Холланд, фев. 1766).
(обратно)74
Казанова 1990. С. 584.
(обратно)75
Corberon 1904.Vol. 2. Р. 95 (13 янв. 1777).
(обратно)76
Макартни леди Холланд (см. прим. 18); Ligne 1880. Vol. 1. Р. 101-102.
(обратно)77
Екатерина II Завадовскому. С. 244.
(обратно)78
Рибопьер 1877. С. 476; Ligne 1809. Vol. 2. Р. 45.
(обратно)79
Damas 1912. Р. 99.
(обратно)80
Щербатов 1858. С. 93
(обратно)81
Пушкин. Ак. Т. 12. С. 177; см. также: Гельбиг 1887. С. 24.
(обратно)82
Переписка. № 10 (Екатерина II Потемкину 21 фев. 1774).
(обратно)83
Казанова 1990. С. 581, 553.
(обратно)84
Екатерина 1907. С. 573-574 [Отрывки].
(обратно)85
Parkinson 1971. Р. 211.
(обратно)86
Щербатов 1858. С. 93.
(обратно)87
Сб. РИО. Т. 19. С. 297 (Ганнинг Саффолку, 28 июля/8 авг. 1772).
(обратно)88
Ransel 1975. Р. 76. Сб. РИО. 12. С. 202-203 (Макартни Сэндвичу, 18 мар. 1765).
(обратно)89
Краснобаев 1983. С. 490.
(обратно)90
Самойлов 1867. Стб. 598.
(обратно)91
Семевский 1875. С. 490-491.
(обратно)92
Самойлов 1867. Стб. 601-602; Saint-Jean 1888. Ch. 1-12; PC. 1872. Т. 5. С. 466; Семевский 1875. С. 493.
(обратно)93
Memoirs. Р. 20.
(обратно)94
Семевский 1875. С. 492-493; ГАРФ 728.1.425.1-5. Екатерина 1907. С. 697-699 (Потемкину, март 1774); Парело 1879. С. 309-310; Самойлов 1867. Стб. 601-604.
(обратно)95
PC. 1872. № 5. С. 466; Saint-Jean 1888. Ch. 1-12.
(обратно)96
Валишевский 1911. С. 45.
(обратно)97
Saint-Jean 1888. Ch. 1-12. Графиня Елизавета Разумовская позже была помещена отцом в монастырь за тайный брак с гр. Петром Апраксиным. Потемкин заступался за нее перед К. Г. Разумовским; Семевский 1875. С. 492-493.
(обратно)98
Buckinghamshire 1900-1902. Vol. 2. Р. 232.
(обратно)99
Переписка. № 1 (Потемкин Екатерине II 24 мая 1769).
(обратно)100
Дубровин 1884. Т. 2. С. 403 (Екатерина II З.Г. Чернышеву 23 июня 1769).
(обратно)101
Екатерина II — Вольтер. Т. 1. С. 59 (4/15 авг. 1769).
(обратно)102
Ланжерон 1895. С. 199-200.
(обратно)103
Memoirs. Р. 25.
(обратно)104
Бартенев 1911. Т. 4. С. 14.
(обратно)105
Langeron // ААЕ 20:14-15.
(обратно)106
Переписка. С. 545 (Потемкин Румянцеву 21 дек. 1769).
(обратно)107
Румянцев 1826. С. 164-171.
(обратно)108
Там же.
(обратно)109
Там же.
(обратно)110
Ligne 1809. Vol. 2. Р. 8 (де Линь Сегюру 1 авг. 1788).
(обратно)111
Ligne 1809. Vol. 2. Р. 10-13 (сент. 1788);
(обратно)112
Там же.
(обратно)113
Румянцев 1826. С. 164-171; Переписка. № 2 (Потемкин Екатерине II 21 авг. 1770).
(обратно)114
Семевский 1875. С. 495
(обратно)115
Kinross 1979. Р. 400.
(обратно)116
Kinross 1979. Р. 401.
(обратно)117
ЧОИДР. 1865. Кн. 2. С. 111-113 (Румянцев Екатерине II, 1771).
(обратно)118
КФЖ. Январь-апрель 1771; Семевский 1875. С. 494; Переписка. № 12 (Екатерина II Потемкину; традиционно это письмо, где императрица описывает, как она пошла в библиотеку «к дверям, чтоб Вас дождаться, где в сквозном ветре простояла два часа», датируется февралем 1774, но оно могло быть написано и в 1771-1772).
(обратно)119
СН. 1879. Т. 1. С. 244, 283 (Г.Г. Орлов П.А. Румянцеву).
(обратно)120
Румянцев 1826. С. 164-171.
(обратно)121
Самойлов 1867. Стб. 1002; Скальковский 1885-1886. Т. 3. С. 127-129 (Потемкин Запорожскому атаману от 15 апр. и 25 мая 1772);
(обратно)122
АКВ. Т. 8. С. 11 (С.Р. Воронцов Ф.В. Ростопчину 18/29 окт. 1796; пер. с франц.).
(обратно)123
Сб. РИО. Т. 13. С. 258-261.
(обратно)124
Ransel 1975. Р. 293 (Риббинг президенту шведской канцелярии 13 июля
(обратно)125
Переписка. № 10 (Екатерина II Потемкину 21 фев. 1774, «Чистосердечная исповедь»); № 9 (Екатерина II Потемкину, февраль 1774). Письмо, упомянутое в прим. 20, может относиться и к этому приезду Потемкина в 1772.
(обратно)126
Самойлов 1867. Стб. 1004-1016.
(обратно)127
Переписка. № 10 (Екатерина II Потемкину 21 фев. 1774); Валишевский 1911. С. 110.
(обратно)128
Сб. РИО. Т. 13. С. 270-272; Сб. РИО. Т. 19. С. 3
(обратно)129
АКВ. Т. 32. С. 165 (С.Р. Воронцов А.Р. Воронцову 9 фев. 1774 и 11 июня
(обратно)130
Румянцев 1826. С. 164-171; Долгорукий 1889. С. 481-517. Записки Ю.В. Долгорукого содержат известную долю вымысла. Об отношении к Потемкину в армии см. статью B.C. Лопатина в «Переписке» (с. 500-502) и письмо М.В. Муромцева к А.И. Бибикову из Силистрии: Бибиков 1865.
(обратно)131
Румянцев 1826. С. 164-171 (Румянцев Екатерине II14 нояб. 1775); Екатерина II — Вольтер. Т. 2. С. 158 (Екатерина II Вольтеру 19/30 июня 1773).
(обратно)132
Румянцев 1826. С. 164-171 (Румянцев Екатерине II 14 нояб. 1775).
(обратно)133
Переписка. № 3 (Екатерина II Потемкину 4 дек. 1773)
(обратно)134
Alexander 1969. Р. 85 (П. Любасый Н.Н. Бантыш-Каменскому 18 дек.
(обратно)135
Валишевский 1911. С. 143; Переписка. № 10 (Екатерина II Потемкину 21 фев. 1774).
(обратно)136
Saint-Jean 1888. P. 1-10.
(обратно)137
Документы ставки Пугачева. N° 7 (1 октября 1773. Именной указ башкирам Оренбургской губернии).
(обратно)138
Сб. РИО. Т. 19. С. 399-401 (Ганнинг Саффолку 4/25 фев. 1774).
(обратно)139
Alexander 1989. Р. 173.
(обратно)140
Сегюр 1989. С. 413 (письмо Екатерины II, предположительно г-же Жоффрен; многократно публиковалось, хотя оригинал неизвестен).
(обратно)141
Asprey 1986. Р. 600.
(обратно)142
Энгельгардт 1997. С. 42; Memoirs. Р. 27; Saint-Jean 1888. Р. 1-12.
(обратно)143
Екатерина 1907. С. 697-699 (Екатерина II Потемкину, март 1774); Массон 1996. С. 68; Memoirs. Р. 27; Энгельгардт 1997. С. 42.
(обратно)144
Memoirs. Р. 27.
(обратно)145
Переписка. № 10 (Екатерина II Потемкину 21 фев. 1774).
(обратно)146
Переписка. № 5 (Екатерина II Потемкину, фев. 1774).
(обратно)147
Переписка. № 7 (Екатерина II Потемкину 15 фев. 1774).
(обратно)148
Переписка. № 9 {Екатерина II Потемкину 18 фев. 1774).
(обратно)149
Переписка. № 20,199 (Екатерина II Потемкину март 1774).
(обратно)150
Переписка. № 9, 11 (Екатерина II Потемкину 18 фев. и после 21 фев.1774).
(обратно)151
Валишевский 1911. С. 136 (слова Васильчикова, записанные Дюраном де Дистрофом).
(обратно)152
Переписка. № 13 (Потемкин Екатерине II 27 фев. 1774).
(обратно)153
Переписка. № 17 (Екатерина II Потемкину 28 фев. 1774).
(обратно)154
Сб. РИО. Т. 19. С. 405 (Ганнинг Саффолку 4/15 мар. 1774); Барсуков 1873. Стб. 123-125 (Сольмс Фридриху II 7 мар. 1774).
(обратно)155
Friedrich der Grosse. Politische Correspondenz. Vol. 35. P. 215 (30 мар. 1774)
(обратно)156
PC. 1873. Вып. 8-9. С. 342 (П.И. Панин А.Б. Куракину 7 мар. 1774); Брикнер 1891. С. 26-27; Румянцева 1888. С. 179-181. Восторженную реакцию генерала А.И. Бибикова на возвышение Потемкина см.: РА. 1866. Стб. 396.
(обратно)157
Сб. РИО. Т. 27. С. 52 (Екатерина II Гримму 14 июля 1774).
(обратно)158
Это описание внешности Потемкина основано на неоконченном портрете Лампи (Эрмитаж); Stedingk 1919. Р. 98 (Я.Я.Йеннингс Фронсу 17 мар. н.с. 1791).
(обратно)159
Сб. РИО. 1876. Т. 19. С. 405 (Ганнинг Саффолку 4/15 мар. 1774).
(обратно)160
Барсуков 1873. Стб. 123,125 (Сольмс Фридриху II 4 и 7 мар. 1774).
(обратно)161
Сегюр 1989. С. 318; Wraxall 1776. Р. 201; ААЕ И: 297 (1773).
(обратно)162
Переписка. № 27 (Екатерина II Потемкину, март 1774).
(обратно)163
Брикнер 1891. С. 25-26 (Е.К. Сивере Я.Е. Сиверсу 28 апр. 1774).
(обратно)164
Переписка. № 141 (Екатерина II Потемкину 8 дек. 1774).
(обратно)165
Niemcewicz 1848. Р. 80.
(обратно)166
Сб. РИО. Т. 23. С. 84 (Екатерина II Гримму 2/4 мар. 1774).
(обратно)167
Сб. РИО. Т. 23. С. 7 (Екатерина II Гримму 30 авг. 1774); Переписка. № 231 (Екатерина II Потемкину, 1774).
(обратно)168
Сб. РИО. Т. 23. С. 3 (Екатерина II Гримму 19 июня 1774); Переписка. № 20 (Екатерина II Потемкину, март 1774).
(обратно)169
Сб. РИО. Т.23. С.4 (Екатерина II Гримму 3 авг. 1774).
(обратно)170
Переписка. №15 (Екатерина II Потемкину 28 фев. 1774).
(обратно)171
Переписка. № 32 (Екатерина II Потемкину после 19 мар. 1774).
(обратно)172
Переписка. № 50 (Екатерина II Потемкину 16 апр. 1774).
(обратно)173
Переписка. № 12 (Екатерина II Потемкину 26 фев. 1774 ?).
(обратно)174
Переписка. № 238, 241 (Екатерина II Потемкину, 1774), № 46 (Екатерина II Потемкину после 10 апр. 1774).
(обратно)175
Переписка. № 15 (28 фев. 1774); № 34 (после 23 мар. 1774).
(обратно)176
Ротиков 1998. С. 103-104.
(обратно)177
Переписка. № 14 (Екатерина II Потемкину 27 фев. 1774).
(обратно)178
Переписка. № 15, 27 (Екатерина II Потемкину 28 фев., после 15 мар. 1774).
(обратно)179
Переписка. № 429 (Екатерина II Потемкину, фев.-март 1776), № 212 (мар.-дек. 1774).
(обратно)180
Переписка. № 97 (Екатерина II Потемкину 18 авг. 1774), № 400 (1775), № 165 (1774), № 168(1774).
(обратно)181
Переписка. № 391, 390 (Екатерина II Потемкину, 1775).
(обратно)182
Переписка. № 399, 58 (Екатерина II Потемкину, 1775, 8 мая 1774).
(обратно)183
Переписка. № 30 (Екатерина II Потемкину до 19 мар. 1774).
(обратно)184
Переписка. № 31 (Екатерина II Потемкину, после 19 мар. 1774).
(обратно)185
Переписка. № 428 (Екатерина II Потемкину, фев.-март 1776).
(обратно)186
Переписка. № 54 (Екатерина II Потемкину после 22 апр. 1774).
(обратно)187
Переписка. № 10 (Екатерина II Потемкину 21 фев. 1774).
(обратно)188
Массон 1996. С. 68.
(обратно)189
Переписка. № 19 (Екатерина II Потемкину 1 мар. 1774).
(обратно)190
Переписка. № 20 (Екатерина II Потемкину после 1 мар. 1774).
(обратно)191
Переписка. № 12 (Екатерина II Потемкину 26 фев. 1774 (?)).
(обратно)192
Переписка. № 15 (Екатерина II Потемкину 28 фев. 1774).
(обратно)193
РГВИА 52.1.72.336.
(обратно)194
Румянцева 1888. С. 179-180; Энгельгардт 1997. С. 39.
(обратно)195
Румянцева 1888. С. 179-180; Брикнер 1891. С. 26 (Е.К. Сиверс Я.Е. Сиверсу 17 апр. 1774); Барсуков 1873. № 2. С. 125 (Сольмс Фридриху II 7 мар. 1774).
(обратно)196
Переписка. № 21 (Екатерина II Потемкину после 1 мар. 1774)
(обратно)197
Румянцева 1888. С. 179-181.
(обратно)198
Переписка. № 28 (Екатерина II Потемкину до 17 мар. 1774).
(обратно)199
Переписка. № 44 (Екатерина II Потемкину до 9 апр. 1774); Барсуков 1873.Стб. 126 (Сольмс Фридриху II18 мар. 1774); Румянцева 1888. С. 183 (8 апр. 1774).
(обратно)200
Храповицкий. 30 мая 1786.
(обратно)201
Валишевский 1911. С. 136.
(обратно)202
Там же.
(обратно)203
Переписка. № 57 (Екатерина II Потемкину 5 мая 1774); Сб. РИО. Т. 5. С. 413.
(обратно)204
Переписка. № 64 (Екатерина II Потемкину 22 мая 1774; пер. с франц.).
(обратно)205
Переписка. № 68 (Екатерина II Потемкину 30 мая 1774; пер. с франц.).
(обратно)206
Карнович 1885. С. 265-267.
(обратно)207
Переписка. № 52 (Екатерина II Потемкину 21 апр. 1774).
(обратно)208
АКВ. Т. 10. С. 110 (С.Р. Воронцов 24/12 июля 1801, Лондон). Об орденах ходатайствовали либо Екатерина лично, либо ее послы. Так, императрица сама писала Густаву III шведскому об ордене Серафима для Потемкина (см. Сб. РИО. Т. 145. С. 96), а 12 марта 1774 Н И. Панин приказывал Штакельбергу, русскому послу в Польше, просить Станислава Августа о пожаловании Потемкину польского Белого Орла (см.: Сб. РИО. 1911. Т. 135. С.68).
(обратно)209
Сб. РИО. Т. 19. С. 416 (Ганнинг Саффолку).
(обратно)210
Там же; Переписка. № 70 (Екатерина II Потемкину 2 июня 1774; пер. с франц.).
(обратно)211
Переписка. № 84 (Екатерина II Потемкину 8 июля 1774).
(обратно)212
АГС. Т.1. С. 454.
(обратно)213
Там же.
(обратно)214
Сб. РИО. Т. 6. С. 74-76 (22 июля 1774).
(обратно)215
Переписка. № 91 (Екатерина II Потемкину 29 июля 1774).
(обратно)216
Осмнадцатый век. М., 1868. Кн. 1. С. 112.
(обратно)217
Переписка. № 127 (Екатерина II Потемкину 10-12 окт. 1774).
(обратно)218
Там же.
(обратно)219
Сб. РИО. Т. 6. С. 117 (П.И. Панин Екатерине И).
(обратно)220
Мавродин 1970. Т. 3. С. 403.
(обратно)221
Переписка. № 151,158 (Екатерина II Потемкину, декабрь 1774).
(обратно)222
Сб. РИО. Т. 23. С. 11 (Екатерина II Гримму 21 дек. 1774).
(обратно)223
Болотов 1931. Т. 3. С. 192.
(обратно)224
Переписка. № 87 (Екатерина II Потемкину 22 июля 1774).
(обратно)225
Переписка. № 71 (Екатерина II Потемкину 4 июня 1774); КФЖ. С. 281 (8 июня 1774).
(обратно)226
Это описание бракосочетания Екатерины и Потемкина основано на: КФЖ от 8 июня 1774; Переписка 1997. №№ 71-79 (Екатерина II Потемкину, июнь 1774); С. 478-481,513-515; Переписка 1787-1791 гг. С. 28; РА. 1906. № 12. С. 613 (в этой публикации П.И. Бартенева использованы свидетельства Д.Н. Блудова, А.В. Браницкой, М.С. и Е.К. Воронцовых, А.Г. Строганова, А.А. Бобринского, В.П. Орлова-Давыдова и «Записки» князя Ф.Н. Голицына).
(обратно)227
РА. 1906. № 2. С. 613. П.И. Бартенев утверждает, что это предание рассказано графом А.А. Бобринским, внукам А.Н. Самойлова.
(обратно)228
Castera 1798. Vol. 3. Р. 90.
(обратно)229
Переписка. № 76, 147, 33 (Екатерина II Потемкину 12 июня, после 9 дек., после 23 марта 1774).
(обратно)230
Kukiel 1955. Р. 17-18.
(обратно)231
Переписка. № 434 (Екатерина II Потемкину, фев.-март 1776).
(обратно)232
Castera 1798. Vol. 3. Р. 90.
(обратно)233
Валишевский 1911. С. 173. Во втором томе своих мемуаров Сегюр писал, что практически все допускали существование «прочных и неразрывных уз» между Екатериной и Потемкиным.
(обратно)234
Louis XVI — Vergennes. Р. 162 (Людовик XVI Верженну, сент. 1774).
(обратно)235
Temperley 1968. Р. 224; PRO FO Secretary of State. SP 106/67. № 33 (Уитворт Гренвиллу 1 июля 1791).
(обратно)236
Ligne 1795-1811. Vol. 24. P. 181 (де Линь Кауницу 15 дек. 1788, Яссы).
(обратно)237
Переписка. № 94 (Екатерина II Потемкину до 1 авг. 1774).
(обратно)238
Сб. РИО. Т. 19 С. 448 (Ганнинг Саффолку 26 янв. / 6 фев. 1774).
(обратно)239
РА. 1906. № 12. С. 616.
(обратно)240
Переписка. № 295, 297, 299 (Екатерина II Потемкину март 1775).
(обратно)241
Сб. РИО. Т. 23. С. 13; Переписка. № 355, 356 (Екатерина II Потемкину до 7 нояб. 1775).
(обратно)242
Fothergill 1969. P. 157-162; см. также переписку Ганнинга с Саффолком за июнь 1775: Сб. РИО. Т. 19. С. 460-462.
(обратно)243
Сб. РИО. Т. 1. С. 105.
(обратно)244
Переписка. № 293,304 (Екатерина II Потемкину, март-апр. 1775); Русская беседа. 1858. Т. 6. С. 73; Сб. РИО. Т. 19. С. 460-462 (Саффолк Ганнингу 26 мая 1775 и Ганнинг Саффолку 19/30 июня 1775).
(обратно)245
Сб. РИО. Т. 19. С. 461 (Саффолк Ганнингу 26 мая 1775); Переписка. № 293 (Екатерина II Потемкину, март 1775); РА. 1875. Кн. 2. № 5. С. 6 (А.Г.Орлов Потемкину); Сб. РИО. Т. 1. С. 105,169-196; Васильчиков 1880. С. 280-288; Сб. РИО. Т. 19. С. 466-467 (Ганнинг Саффолку 19/30 июня 1775); РП. 4:1. С. 109; Сб. РИО. Т. 1. С. 170-193.
(обратно)246
РГАДА 5.85.1.259; АКВ. Т. 8. С. 14-15 (С.Р. Воронцов Ф.В. Ростопчину 18/29 нояб. 1796; пер. с франц.)
(обратно)247
Болотов 1931. Т. 3. С. 208-213.
(обратно)248
Переписка. № 339 (Екатерина II Потемкину после 10 июля 1775; пер. с франц.); Сб. РИО. 1876. Т. 19. С. 470 (Ганнинг Саффолку 13/24 июля 1775); Сб. РИО. Т. 23. С. 4 (Екатерина II Гримму 3 авг. 1774); Переписка. № 314 (Екатерина II Потемкину 22 апр. 1775)
(обратно)249
Болотов 1931. Т. 3. С. 207-224; Shvidkovsky 1996. Р. 192-193; Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 47 (Екатерина II г-же Бьельке 24 июля 1775).
(обратно)250
Louis XVI — Vergennes. P. 162 (Людовик XVI Верженну, сент. 1774).
(обратно)251
Аргументы в доказательство тому, что Темкина являлась дочерью Екатерины, см: Алексеева 1975; .Переписка. С. 638-639. Портрет Елизаветы Григорьевны Темкиной кисти Боровиковского (1798) хранится в Третьяковской галерее. Она действительно чем-то напоминает мать Потемкина Дарью Васильевну. Однако она не была наследницей светлейшего; нам не удалось обнаружить ни одного упоминания о ней в его переписке. О ней заговорили гораздо позже. Поскольку нет и других известных детей Потемкина, можно предположить, что он был бесплоден. Согласно другому мнению отцом Темкиной считается Павел или Михаил Потемкин — но откуда тогда ее отчество? Темкина вышла замуж за И Х. Карагеорги, грека на русской службе, губернатора первого построенного Потемкиным города, Херсона. Можно вспомнить также, что племянник Потемкина, Василий Энгельгардт, имел пятерых внебрачных детей от разных любовниц, и все они получили дворянство и фамилию отца.
(обратно)252
РГАДА 11.1.946.595 (В.А. Энгельгардт Потемкину 5 июля 1775).
(обратно)253
Переписка. № 331,338 (Екатерина II Потемкину, июнь, 10 июля 1775).
(обратно)254
Сб. РИО. Т. 19. С. 463-464 (Саффолк Ганнингу 30 июня 1775); С. 476-502 (Саффолк Ганнингу 1 и 8 сен. 1775; Ганнинг Саффолку 20 сен. 1775; Георг III Екатерине II 1 сен. 1775; Екатерина II Георгу III 23 сен. 1775).
(обратно)255
Переписка. № 15, 396, 400 (Екатерина II Потемкину 28 фев. 1774;
(обратно)256
Сб. РИО. Т. 19. С. 506 (Ганнинг Саффолку 5/16 окт. 1775).
(обратно)257
Переписка. № 328 (Екатерина II Потемкину после 15 июня 1775).
(обратно)258
Переписка. № 435 (Потемкин Екатерине II, фев.-март 1776).
(обратно)259
Castera 1798. Vol. 2. P. 314-315; Валишевский 1911. С. 149.
(обратно)260
Переписка. № 430 (Екатерина II Потемкину, фев.-март 1776).
(обратно)261
Сб. РИО. Т. 19. С. 509 (Ганнинг Саффолку 1/12 янв. 1776); С. 511 (Оукс Идену 16/27 фев. и 26 фев./8 мар. 1776);
(обратно)262
Corberon 1904. Р.164 (27янв. 1776); Р. 190 (11 фев. 1776); Р. 194(30 мар. 1776).
(обратно)263
Переписка. № 434 (Екатерина II Потемкину, фев.-март 1776).
(обратно)264
Переписка. № 420 (Екатерина II Потемкину, фев.-март 1776).
(обратно)265
Переписка. № 436 (Екатерина II Потемкину, фев.-март 1776).
(обратно)266
Переписка. № 417,452 (Екатерина II Потемкину, фев.-март 1776).
(обратно)267
Переписка. № 421 (Екатерина II Потемкину, май 1776).
(обратно)268
Переписка. № 425 (Екатерина II Потемкину, фев.-мар. 1776).
(обратно)269
Там же.
(обратно)270
Переписка. № 426 (Екатерина II Потемкину, фев.-март 1776; пер. с франц.).
(обратно)271
РА. 1878. Вып. 1. С. 18 (Екатерина II Д.М. Голицыну 13 янв. 1776; Corberon 1904. Р. 188 (22 мар. 1776).
(обратно)272
Переписка. № 438 (Екатерина II Потемкину 21 мар. 1776); Corberon 1904. Р. 190 (24 мар. 1776).
(обратно)273
Corberon 1904. Р. 190 (24 мар. 1776).
(обратно)274
Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. P. 18 (Кобенцль Иосифу II 5 мая 1780).
(обратно)275
PC. 1895. Т. 83. С. 31. Екатерина II Штакельбергу 2/13 мая и 12/23 мая 1776; Бильбасов 1895. С. 30-34; прусский посланник информировал Фридриха II об этом деле в депешах от 23 апр. и 8 сен. 1776 и 4 мая 1781; РГИА. 1640.1.32 (Фридрих II Потемкину 29 мая н.ст. 1776).
(обратно)276
Переписка. № 443 (Екатерина II Потемкину после 21 мар. 1776).
(обратно)277
РГВИА 271.1.28.6-7 (принц Генрих Прусский Потемкину 2 сен. и 6 окт.
(обратно)278
Рассказ о смерти великой княгини основан на переписке Екатерины с Потемкиным и др. лицами; см. также: КФЖ (апрель-май 1776); Corberon 1904. Р. 229-250; Madariaga 1981. Р. 344-346; Alexander 1989. Р. 228-231.
(обратно)279
КФЖ. 9-15 апр. 1776.
(обратно)280
Сб. РИО. Т. 42. С. 346 (Екатерина II Козмину).
(обратно)281
Corberon 1904. Р. 229 (26 апр. 1776).
(обратно)282
Сб. РИО. Т. 27. С. 78-79; Corberon 1904. Р. 230.
(обратно)283
Сб. РИО. Т. 19. С. 519 (Оукс Идену 15/26 апр. 1776).
(обратно)284
Corberon 1904. Р. 244 (5 мая 1776).
(обратно)285
Там же.
(обратно)286
Сб. РИО. Т. 19. С. 519 (Оукс Идену 15/26 апр., 3/14 мая, 10/21 мая и 14/25 июня 1776); Васильчиков 1880. Т. 1. С. 363 (К.Г. Разумовский М.В. Ковалинскому); Corberon 1904. Р. 248 (7 мая 1776).
(обратно)287
Переписка. № 452,418 (Екатерина II Потемкину, май-июнь, фев.-март 1776).
(обратно)288
Переписка. № 457 (Екатерина II Потемкину, май-июнь 1776).
(обратно)289
Переписка. № 458 (Потемкин Екатерине II после 2 июня 1776).
(обратно)290
Там же.
(обратно)291
Переписка. № 464 (Екатерина II Потемкину до 21 июня 1776).
(обратно)292
Сб. РИО. Т. 19. С. 519 (Оукс Идену 1/12 июля 1776); Румянцева 1888. С. 204.
(обратно)293
Переписка. № 467 (Екатерина II Потемкину 22 июня 1776); Карнович 1885. С. 266; Самойлов 1867. Стб. 1205. Цифру 9 миллионов рублей называет Харрис (с. 528); она кажется слишком высокой и может быть неточна, но, учитывая разнообразие подарков и ту беспорядочную щедрость, с которой делала их Екатерина, проверить ее невозможно. Может бьггь, сам Потемкин хвастался перед Харрисом таким богатством. Количество крестьян и Кричевское поместье, напротив, подлежат проверке по бумагам С.Бентама, Самойлова и другим источникам: см. главу 20. Особенного доверия заслуживают сведения Самойлова как близкого к Потемкину человека и наследника его имения.
(обратно)294
Сб. РИО. Т. 19. С. 521 (Оукс Идену 26 июля/6 авг. 1776); Castera 1798. Vol. 2. Р. 308.
(обратно)295
Екатерина II Завадовскому. С. 244-257.
(обратно)296
АКВ. Т. 12. С. 9-10 (Завадовский С.Р. Воронцову); Екатерина II Завадовскому. С. 256.
(обратно)297
Parkinson 1971. Р. 76.
(обратно)298
Екатерина II Завадовскому. С. 257; Переписка. № 496 (Екатерина II Потемкину до 14 мая 1777).
(обратно)299
Переписка. № 495 (Екатерина II Потемкину до 14 мая 1777); Массон. С. 66.
(обратно)300
Екатерина II Завадовскому. С. 257; АКВ. Т. 24. С. 156 (Завадовский С.Р. Воронцову).
(обратно)301
Переписка. № 497 (Екатерина II Потемкину 22 мая 1777).
(обратно)302
АКВ. Т. 12. С. 16-19 (Завадовский С.Р. Воронцову).
(обратно)303
Alexander 1989. Р. 213.
(обратно)304
Переписка. № 502 (Екатерина II Потемкину 24 июня 1777).
(обратно)305
Harris 1844. Р. 149 (Харрис Идену, 2/13 фев. 1778; Харрис Саффолку 2/13 фев. 1778).
(обратно)306
Harris 1844. Р. 170 (Харрис Фрейзеру 16/27 мая 1778).
(обратно)307
Там же.
(обратно)308
Harris 1844. Р. 172 (Харрис к Саффолку 22 мая/2 июня 1778); Р. 173 (Харрис Саффолку 29 мая/9 июня 1778); Переписка. № 537 (Екатерина II Потемкину 25 мая 1778).
(обратно)309
Сб. РИО. Т. 23. С. 89-90 (Екатерина II Гримму 16 мая 1778).
(обратно)310
Переписка. № 538 (Екатерина II Потемкину до 1 июня 1778).
(обратно)311
Сб. РИО. Т. 23. С. 107; Harris 1844 (Харрис Саффолку 20/31 дек. 1778.
(обратно)312
Переписка. № 544 (Екатерина II Потемкину до 28 июня 1778); Завадовский Румянцеву. С. 23-24.
(обратно)313
РА. 1881. Кн. 3. С. 402-403 (Екатерина II Корсакову); КФЖ. 1,28 июня 1778; РП 5.1. С. 119.
(обратно)314
РА. 1881. Кн. 3. С. 402-403 (Екатерина II Корсакову).
(обратно)315
Harris 1844. Р. 179-180 (Харрис Саффолку 14/25 сен. 1778).
(обратно)316
Harris 1844. Р. 224 (Харрис виконту Веймуту 9/20 сен. 1778).
(обратно)317
Корберон. Вып. 6. С. 190-194 (Корберон о ссоре Потемкина с Екатериной); Переписка. С. 702-703 (Екатерина II Корсакову 10 окт. 1779); Harris 1844 (Харрис Веймуту 11/22 окт. 1779).
(обратно)318
Pole Carew. CO/R/3/195; АКВ. Т. 13. С. 163-164 (А.А. Безбородко С.Р. Воронцову 5 июля 1789).
(обратно)319
Harris 1844. Харрис Веймуту 11/22 окт. 1779; Р. 366 (Харрис Стормонту 14/25 мая 1781).
(обратно)320
Щербатов 1858. С. 83.
(обратно)321
Parkinson 1971. Р. 49; Alexander 1989. Р. 215.
(обратно)322
Ligne 1880. Vol. 1. P. 275.
(обратно)323
Corberon 1904. Vol. 2. P. 137-138; Segur 1859. Vol. 3. P. 18; Храповицкий. 12 июля 1789, 7 дек. 1791.
(обратно)324
Сб. РИО. Т. 27. С. 131-131 (указ Потемкина об учреждении должности флигель-адъютанта императрицы от 16 июня 1776).
(обратно)325
Saint-Jean 1888. Р. 40-48.
(обратно)326
Переписка. С. 675.
(обратно)327
Переписка. № 539 (Екатерина II Потемкину до 1 июня 1778; пер. с франц.).
(обратно)328
Saint-Jean 1888. Р. 12-21.
(обратно)329
Corberon. Vol. 2. Р. 154 (19 июня 1776); Harris 1844. Р. 430, 528 (Харрис Стормонту 25 мар./5 апр. 1782).
(обратно)330
Энгельгардт 1997. С. 49.
(обратно)331
Храповицкий. 16 фев. 1789; Гарновский 1876. Т. 15. С. 16 (Гарновский Попову, дек. 1786.)
(обратно)332
Гарновский 1876. Т. 16. С. 406 (Гарновский Попову).
(обратно)333
Переписка. С. 721, 748 (Ланской Потемкину без даты, 29 сен. 1783).
(обратно)334
AGAD 172.79 (Потемкин Станиславу Августу 29 сен. 1779).
(обратно)335
Goertz 1969. Р. 43.
(обратно)336
Damas 1912. Р. 97; Harris 1844. Р. 210 (Харрис Веймуту 7/18 авг. 1779).
(обратно)337
Harris 1844. Р. 366 (Харрис Стормонту 7/18 мая 1781).
(обратно)338
Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. P. 17 (Кобенцль Иосифу II 5 мая 1780); Saint-Jean 1888. Ch. 2. P. 12-21.
(обратно)339
Harris 1844. Харрис Веймуту 11/22 окт. 1779; то же: PC. 1908. Июнь. С. 627.
(обратно)340
Рибопьер 1877. С. 479.
(обратно)341
АКВ. Т. 11. С. 361 (С.Р. Воронцов Кочубею 17/29 янв. 1802; пер. с франц.).
(обратно)342
Вигель 2000. С. 17.
(обратно)343
PC. 1875. № 3. С. 519-520.
(обратно)344
Там же.
(обратно)345
Там же. С. 521
(обратно)346
Там же. С. 521.
(обратно)347
Там же. С. 521.
(обратно)348
Переписка. № 503 (Потемкин Екатерине II после 28 июня 1777).
(обратно)349
Переписка. № 522 (Екатерина II Потемкину, 1777).
(обратно)350
PC. 1875. № 3. С. 519.
(обратно)351
Там же. С. 521.
(обратно)352
Harris. Р. 180 (Харрис Саффолку 14/25 сен. 1778); PC. 1875. № 3. С. 521.
(обратно)353
Kukiel 1955. Р. 17-18.
(обратно)354
Harris 1844. Р. 224 (Харрис Веймуту 9/20 сен. 1779); PRO FO SP 103/63 (Фицгерберт Фоксу 26 апр. 1783).
(обратно)355
Aragon 1893. Р. 133.
(обратно)356
Vigee Lebrun 1879. Vol. 1. Р. 192-194; Мемуары князя Ю.Долгорукого, цит. по: РП. Т. 1. Вып. 1. № 30.
(обратно)357
Переписка. № 576-579 (Екатерина II Потемкину, дек. 1779); РА. 1911. № 6. С. 202-203.
(обратно)358
Письма Т.В. Энгельгардт Потемкину: РГАДА 11.858.6 (3 июня 1785); РГАДА 11.858.5 (8 апр. 1784); РГАДА 11.858.4 (20 мар. 1784); РГАДА 11.858.3 (14 мар. 1784); Corberon 1904. Vol. 2. Р. 363 (17 сен. 1780); РП. Т. 1. Вып. 1. С. 10; РП. Т. 4. Вып. 2. С. 206.)
(обратно)359
РГАДА 11.858.4 (Т.В. Энгельгардт Потемкину 29 мар. 1784).
(обратно)360
Beales 1987. Р. 20; Previtt 1997. Р. 249; Mitford 1970. Р. 35; Fraser 2000. Р. 22,42.
(обратно)361
PC. 1875. № 4. С. 681-682 (пер. с франц.).
(обратно)362
Там же.
(обратно)363
Там же. С. 683.
(обратно)364
Там же. С. 682 (пер. с франц.).
(обратно)365
В рассказе о герцогине Кингстон учтены сведения из следующих исследований и документов: Grundy 1999. Р. 1-10, 526; Corberon 1904. Vol. 2. Р. 179 (22 сен. 1777); РГВИА 52.33.539 (С. Бентам отцу 17 мая 1780); РГАДА 39.33.539 (8 апр. 1780); ВМ 120.33555 (8 апр. 1780); Mavor. Р. 157, 175, 184;Cross 1977. P. 390; Cross 1997. P. 363-367; Валишевский 1911. С. 132; White 1950. P. 147-149; Yusupov 1953. P. 6-9.
(обратно)366
The Northern Hero: The Life of Major S-le The Celebrated Twindler (British Library 1493 r35, 1786); Castera 1798. Vol. 2. P. 399, 445. Mavor. P. 184; Cross 1977. P. 394-395.
(обратно)367
Валишевский 1911. С. 132; Corberon 1904. Vol. 2. P. 227 (10 мая 1779).
(обратно)368
Mansel 1992. P. 9; Ligne 1809. P. 71.
(обратно)369
Mansel 1995. P. 202; MacDonogh 1999. P. 193-194; Fraser 2000. P. 248; Harris 1844. P. 181 (Харрис Саффолку 21 сен./2 окт. 1778); P. 184 (Харрис Саффолку 5/16 окт. 1778).
(обратно)370
Harris 1844. Р. 321. (Харрис Стормонту 13/24 дек. 1780).
(обратно)371
Румянцева 1888. С. 197 (2 фев. 1776).
(обратно)372
Harris 1844. Р. 136-137 (Саффолк Харрису 9 янв. 1778); Р. 140 (Харрис Саффолку 26 янв./б фев. 1778); Р. 170 (Харрис У. Фрейзеру 16/27 мая 1778); Валишевский 1911. С. 22; Castera 1798. Vol 2. P. 282.
(обратно)373
Stanislas-August 1914. Vol. 2. P. 233.
(обратно)374
Сб. РИО. Т. 19. С. 407 (Ганнинг Саффолку 7/18 мар. 1774).
(обратно)375
Переписка. № 537 (Екатерина II Потемкину 25 мая 1778); Memoirs. Р. 48-49.
(обратно)376
РГАДА 5.167.1 (принц Генрих Потемкину 25 окт. 1778).
(обратно)377
Harris 1844. Р. 210 (Харрис Веймуту 7/18 авг. 1779).
(обратно)378
Harris 1844. Р. 212 (Харрис Веймуту 9/20 сен. 1779)
(обратно)379
Harris 1844. Р. 146 (Харрис Саффолку 30 янв./10 фев. 1778).
(обратно)380
Goerts 1969. Section 3. P. 41 (Меморандум Герца Фридриху II).
(обратно)381
Harris 1844. Р. 210, 214 (Харрис Веймуту 7/18 авг. и 9/20 сен. 1779).
(обратно)382
РГВИА 271.1.66.1 (Харрис Потемкину б/даты); Harris 1844. Р. 268 (Харрис отцу 26 мая 1780); РГАДА 11.923.2 (Харрис Потемкину); Harris 1844. Р. 216 (Харрис Веймуту 9/20 сен. 1779).
(обратно)383
Письмо Харриса сестре цит. по: Madariaga 1954. Р. 466-467.
(обратно)384
Corberon 1904. Vol. 2. P. 313; PRO FO SF 91/103. № 59 (Дж. Харрис, граф Малмсбери, 9/20 сен. 1779).
(обратно)385
Memoirs. P. 50; Castera 1798. Vol. 2. P. 442; РГАДА 11.858.6 (T.B. Энгельгардт Потемкину 3 июня 1785); Pole Carew CO/R/3/203; Harris 1844. P. 338 (Харрис Стормонту 16/27 фев. 1781).
(обратно)386
Сб. РИО. Т. 23 (Екатерина II Гримму 9 июля 1781); Зотов 1875. С. 50-83; Dumas 1967. Р. 65-73; Trowbridge 1910. Р. 142-147, 74-110; Corberon 1904. Vol. 1. P. 195; Vol. 2. P. 395-396; Madariaga 1998. P. 150-167.
(обратно)387
Зотов 1875. С. 50-83; Сб. РИО. Т. 23 (Екатерина II Гримму 9 июля 1781).
(обратно)388
Harris 1844. Р. 239-240 (Харрис Стормонту 15/26 фев. 1780).
(обратно)389
Harris 1844. Р. 225-226 (Харрис Веймуту 9/20 сен. и 23 окт./5 нояб. 1779).
(обратно)390
Harris 1844. Р. 252 (Харрис Стормонту 31 мар. /11 апр. 1780); Madariaga 1954. Р. 466; Torcy. Memoirs. Vol. 2. P. 99; Corberon 1904. Vol. 1. P. 370; Harris 1844. P. 255 (Харрис Стормонту 7/18 апр. 1780).
(обратно)391
Harris 1844. P. 275 (Харрис Стормонту 15/26 июня 1780); PRO FO 65/1 № 170 (Харрис Стормонту 29 дек. 1780/9 янв. 1781); Goerts 1969. Section 3 (Герц Фридриху И).
(обратно)392
Corberon 1904. Vol. 1. Р. 370 (23 сен. 1780).
(обратно)393
Harris 1844. Р. 256 (Харрис Стормонту 15/26 мая 1780); PRO FO 91/104, б/номера (Харрис Стормонту 15/26 фев. 1780); SP 91/104, № 19 (Стормонт Харрису 11 апр. 1780).
(обратно)394
Harris 1844. Р. 203 (Харрис Веймуту 24 мая/4 июня 1779); Corberon 1904. Vol. 2. Р. 226.
(обратно)395
Источники описания Османской империи: Tott 1786. Т. 1; неопубликованные депеши Н. Пизани, Я.И. Булгакова и др. (архив канцелярии Потемкина в РГВИАФ. 52); см. также: Kinross 1979. Р. 362-406; Mansel 1995. Р. 57-132.
(обратно)396
РГВИА 52.11.53.31 (Пизани Булгакову 1/12 мая 1787).
(обратно)397
Kramer, McGrew 1974. P. 267, 210В (Бароцци Потемкину, янв. 1790).
(обратно)398
Переписка. № 695 (Потемкин Екатерине И, начало 1784).
(обратно)399
Batalden 1982. Р. 71-72; Bruess 1997. Р. 85-86, 117, 128, 176.
(обратно)400
Мемориал бригадира Александра Андреевича Безбородка по делам политическим // Сб. РИО. Т. 27. (1879). С. 385; Безбородко А.А. Картина или краткое известие о российских с татарами войнах и делах, наченшихся в половине десятого века и почти безпрерывно чрез восемьсот лет продолжающихся // Сб. РИО. Т. 26. С. 339-369. О греческом проекте см.: Маркова 1958. Р. 75-103; Batalden 1982. Р. 96-97; Елисеева 1997. С. 26-31; Елисеева О.И. Балканский вопрос во внешнеполитических проектах Г.А. Потемкина // Век Екатерины И. С. 63-68; Зорин 2001. С. 31-39.
(обратно)401
АКВ. Т. 13. С. 223-228 (Безбородко С.Р. Воронцову 17 нояб. 1791).
(обратно)402
Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. P. 6 (Кауниц Кобенцлю 14 апр. 1780).
(обратно)403
Переписка. № 590 (Екатерина II Потемкину после 22 мая 1780).
(обратно)404
Maria Theresa — Joseph II. Vol. 3. P. 246 (Иосиф II Марии Терезии 2 июня н.с. 1780).
(обратно)405
Joseph II und Katarina. Письмо 3 (Екатерина II Иосифу II 19 мая 1780); Переписка. № 591 (Екатерина II Потемкину 23 мая 1780).
(обратно)406
Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. P. 1 (Иосиф II Кобенцлю) 13 апр. 1780).
(обратно)407
Mansel 1992. Р. 80; Ligne 1880. Vol. 1. P. 310; Ligne 1795-1811. Vol. 20. P. 79; Ligne 1809. Vol. 2. P. 34; Сб. РИО. Т. 23. С. 440 (Екатерина II Гримму 19 апр. 1788); Crankshaw 1969. Р. 254-268; Wheatcroft 1995. Р. 226-236; Blanning 1970. Р. 47-67,151-155; Beales 1987. Р. 31-89, 306-337, 431-438.
(обратно)408
Maria Theresa—Joseph II. Vol. 3. Р. 246 (Иосиф II Марии Терезии 2 июня 1780).
(обратно)409
Сб. РИО. С. 175-182 (Екатерина II Гримму).
(обратно)410
Энгельгардт 1997. С. 26-30.
(обратно)411
Lojek 1979. Р. 58.
(обратно)412
Maria Theresa — Joseph II. Vol. 3. P. 250, 260 (Иосиф II Марии Терезии 8 и 19 июня 1780).
(обратно)413
Dimsdale. 7 сен. н.с. 1781.
(обратно)414
Corberon 1904. Vol. 2. Р. 274-275 (8 авг. 1780).
(обратно)415
Основные источники для портрета принца де Линя — Mansel 1992 и сочинения самого Ш.Ж. де Линя, а также неопубликованные письма его Потемкину в РГАДА и РГВИА, приводимые ниже. См. также: Miranda 1929. Р. 294; Ligne 1809. Vol. 2. Р. 71 (Линь Куаньи 8 авг. 1780); Mansel 1992. Р. 21, 29, 65, 93; Сб. РИО. Т. 23. С. 185 (Екатерина II Гримму 7 сен. 1780); Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. Р. 53 (Кобенцль Иосифу II 17 сен. н.с. 1780); Harris 1844. Р. 287 (Харрис Стормонту 22 сен./З окт. 1780).
(обратно)416
РГАДА 11.893.9 (Линь Потемкину 6 дек. н.с. 1780).
(обратно)417
Переписка. № 604 (Екатерина II Потемкину после 14 янв. 1781).
(обратно)418
Corberon 1904. Vol. 2. Р. 287 (18 авг. 1780).
(обратно)419
Harris 1844. Р. 321 (Харрис Стормонту 13/24 дек. 1780).
(обратно)420
Harris 1844. Р. 314 (Харрис Стормонту 13/24 дек. 1780); Р. 380-381 (Харрис Стормонту 14/25 июля 1781); Сб. РИО. Т. 23. С. 341 (Екатерина II Гримму 30 нояб. 1787); Harris 1844. Р. 275 (Харрис Стормонту 15/26 июня, 6/17 окт., 24 нояб./5 дек., 13/24 дек. 1780); Madariaga 1981. Р. 385-387; АКБ. Т. 13. С. 75-83 (АА Безбородко С.Р. Воронцову, июль 1785); PRO FO, SP 106/67 (Ч.Дж. Фокс лорду Гренвиллу 18 июня 1791); Harris 1844. Р. 431-432 (Ч.Дж. Фокс Харрису и Харрис Фоксу 19/30 апр. 1782); Р. 342-350 (Харрис Стормонту 13/24 мар. 1781,30 апр./11 мая 1781).
(обратно)421
Переписка. № 608,610 (Екатерина II Потемкину, фев.-мар., апр. 1781).
(обратно)422
Pole Carew CO/R/3/96 (май 1781); о персидской экспедиции: ААЕ. Memoires et Documents Russie. Vol. 10. P. 113-224 (здесь же отчет Габлица и Сегюра Верженну от 15 окт. 1786); Описание дел Архива Морского министерства за время с половины XVIII до начала XIX столетия. СПб., 1877-1882. Т. 3. С. 629; «армянский проект» Потемкин хотел вести параллельно с греческим, покровительствуя армянским священникам так же, как греческим; Bruess 1997. Р. 196-197.
(обратно)423
Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. Р. 154-158 (Кобенцль Иосифу II 23 мая 1781); Р. 207 (Кобенцль Иосифу II 26 авг. 1781); Joseph II und Katarina. Письмо 32 (Иосиф II Екатерине II); письмо 84 (Екатерина II Иосифу II); Переписка. № 820 (Екатерина II Потемкину 23 нояб. 1787).
(обратно)424
Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. Р. 141 (Кобенцль Иосифу II 5 апр. 1781); Harris 1844. Р. 367 (Харрис Стормонту 8/19 июня и 25 июня/6 июля 1781).
(обратно)425
Joseph II - Cobenzl. Vol. 1. Р. 197 (Иосиф II Кобенцлю 19 авг. 1781); Р. 207 (Кобенцль Иосифу II 26 авг. 1781); PRO FO, cyphers SP 65/3, no 94 (Харрис Стормонту 25 июня/6 июля 1781).
(обратно)426
Harris 1844. P. 382 (Харрис Стормонту 14/25 июля 1781).
(обратно)427
Joseph II und Katarina. Письмо 49 (Екатерина II Иосифу II 7/18 дек. 1781).
(обратно)428
Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. P. 170 (Кобенцль Иосифу II 5 июля 1781); Harris 1844. P. 391 (Харрис Стормонту 10/21 и 17/28 сен. 1781); Р. 399-408 (21 ОКТ./1 нояб. 1781); Р. 394 (21 сен./2 окт. 1781); Joseph II - Cobenzl. Vol. 1. Р. 209 (Кобенцль Иосифу II 26 авг. 1781).
(обратно)429
Joseph II - Cobenzl. Vol. 1. Р. 226 (Кобенцль Иосифу II 12 сен. 1781); Р. 291 (18 янв. 1782); Vol. 2. Р. 75 (1 нояб. 1786); Вигель 2000. С. 231; Переписка. № 616 (Екатерина II Потемкину, до нояб. 1781).
(обратно)430
Казанова 1990. С. 604-609; Segur 1925. Р. 189; РГАДА 11.687.2 (великий гетман Браницкий Потемкину 9 апр. н.с. 1775). Переписка Браницкого с Потемкиным (РГАДА 11.867.1 -60) — это история русско-польских отношений с 1775 по 1791. Уже в 1775 при дворе было известно, что Потемкин протежирует Браницкому, создавая собственную польскую партию; см., напр., Сб. РИО. Т. 135. С. 68 (И.А. Остерман О.М. Штакельбергу 7 дек. 1775).
(обратно)431
Dimsdale. 27 авг. 1781.
(обратно)432
Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. P. 291 (Кобенцль Иосифу II18 янв. 1782); Vol.2. Р. 75 (1 нояб. 1786); Vol. 1. Р. 93 (13 дек. 1780); РГАДА 11.901.5 (Скавронский Потемкину 20 июня 1784); РГАДА 11.901.19 (Скавронский Потемкину 4/15 июня 1785); Vigee Lebrun 1879. Vol. 1. P. 192-194.
(обратно)433
РГАДА 11.857.8; РГАДА 11.857.40; Вигель 2000. С. 17.
(обратно)434
Harris 1844. Р. 391, 408, 412; Joseph II - Cobenzl. Vol. 1. Р. 282; Joseph II und Leopold von Toscana. Vol. 1. P. 114-124; Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. P. 301; McGrew 1992. P. 129; Сб. РИО. Т. 23. С. 145, 157-159; Grifflts 1970. P. 565; Ransel 1975. P. 211; Сб. РИО. Т. 9. С. 64; Joseph II - Cobenzl. Vol. 1. P. 342.
(обратно)435
Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. P. 262, 318; Переписка, hfebfe 620, 621 (Потемкин Екатерине II15 и 19 апр. 1782); Сб. РИО. Т. 23. С. 621.
(обратно)436
Переписка. № 622 (Екатерина II Потемкину 3 июня 1782).
(обратно)437
Joseph II und Katarina. P. 136,169 (Иосиф II Екатерине II и Екатерина II Иосифу II 13 нояб. 1782; Екатерина II Иосифу II 10 сен. 1782); Joseph II — Cobenzl. Vol.1. Р. 344 (Кобенцль Иосифу II 4 дек. 1782); Harris 1844. (Харрис Грэнтаму 23 дек./3 янв. 1783).
(обратно)438
Segur 1825-1827. Vol. 2. P. 382-383,401; Castera 1798. Vol. 3. P. 307.
(обратно)439
Рассказ о Крымском ханстве и его присоединении России опирается на мемуары барона де Тота (Tott 1786); Дубровин 1885-1889. Т. 2; «Бумаги князя Г.А. Потемкина-Таврического 1774-1788» (Сб. ВИМ. Т. 1, 6), а также Fisher 1970; Fisher 1978.
(обратно)440
Tott 1786. Vol. 2. P. 98; Fisher 1970. P. 6-21.
(обратно)441
Сб. РИО. Т. 8. С. 227 (Екатерина II Вольтеру).
(обратно)442
Fisher 1970. Р. 95.
(обратно)443
Переписка. № 630 (Екатерина II Потемкину до 30 сен. 1782).
(обратно)444
Переписка. № 633, 631 (Екатерина II Потемкину ок. 14 окт., 30 сен. 1782); Дубровин 1885-1889. Т. 2. С. 98, 313-319, 322, 550, 558, 752-753 (переписка Потемкина с Прозоровским, Румянцевым и Суворовым); ПСЗ № 14879 (21 мая 1779, хартия грекам); ПСЗ № 14942 (14 нояб. 1779, хартия армянам); ЗООИД. Т. 2. С. 660; Т. 1. С. 197-204; Т. 4. С. 359-362.
(обратно)445
Harris 1844. Р. 483 (Харрис Грэнтаму 8/19 нояб. 1782).
(обратно)446
Сб. РИО. Т. 23. С. 274-275 (Екатерина II Гримму 20 апр. 1783).
(обратно)447
Переписка. № 635 (Потемкин Екатерине II до 14 дек. 1782).
(обратно)448
Harris 1844. Р. 498 (Харрис Грэнтаму 20/31 янв. 1783); Madariaga 1959. Р. 135.
(обратно)449
РГАДА 5.85.3.158-180 (рескрипты Екатерины II Потемкину о Крыме, дек. 1782-апр. 1783).
(обратно)450
Harris 1844. Р. 487, 492 (Харрис Грэнтаму 6/17 дек. 1782 и 27 дек. 1782 / 7 янв. 1783).
(обратно)451
Harris 1844. Р. 380-381 (Харрис Стормонту 14/25 июля 1781); Сб. РИО. Т. 23. С. 431 (Екатерина II Гримму 30 нояб. 1787); Harris 1844. Р. 275 (Харрис Стормонту 15/26 июня, 6/17 окт., 24 нояб./5 дек., 13/24 дек. 1780); АКВ. Т.13.С. 77 (Безбородко С.Р. Воронцову 8 июля 1785); PRO FO SP106/67, У. Фокнер лорду Грэнвиллу 18 июня 1791; Harris 1844. Р. 431-432 (Ч.Дж. Фокс Харрису и Харрис Фоксу 19/30 апр. 1782); Р. 342-350 (Харрис Стормонту 13/24 марта, 30 апр. / 11 мая 1781).
(обратно)452
Переписка. № 642 (Потемкин Екатерине И, март 1783).
(обратно)453
Masson 1800. Vol. 1. P. 103; РГАДА 5.85.3.81 (указ Екатерины II Потемкину о преобразовании драгунских и гусарских полков и иррегулярных войск 15 дек. 1774); Сб. ВИМ. Т. 1. С. 74-78; см. также: PC. 1873. Т. 7. С. 722-727; РА. 1888. Кн.2. С. 364-367; Трегубов 1908. С. 101; Бегунова 1988. С. 86-87. Стоит также отметить, что в британской армии пудру и помаду отменили только в XIX веке.
(обратно)454
Harris 1844. Р. 498 (Харрис Грэнтаму 20/31 янв. 1783).
(обратно)455
Переписка. С. 730.
(обратно)456
Переписка. № 645 (Екатерина II Потемкину 14 апр. 1783; пер. с франц.), № 648 (Потемкин Екатерине II 22 апр. 1783).
(обратно)457
Переписка. № 653 (Потемкин Екатерине II 11 мая 1783).
(обратно)458
ЗООИД. Т. 12. С. 265, 266, 277, 279 (Потемкин де Бальмену, Суворову и Рахманову).
(обратно)459
Переписка. С. 739 (Потемкин Безбородко); №N2 662, 654 (Потемкин Екатерине II, 13 июня, 16 мая 1783).
(обратно)460
Переписка. № 654 (Потемкин Екатерине II 16 мая 1783), № 664 (Екатерина II Потемкину 13 июня 1783).
(обратно)461
Louis XVI — Vergennes. P. 131-134; Harris 1844. P. 504 (Грэнтам Харрису 22 фев. 1783).
(обратно)462
Переписка. № 658 (Екатерина II Потемкину 30 мая 1783).
(обратно)463
Переписка. № 656 (Екатерина II Потемкину 26 мая 1783).
(обратно)464
Переписка. № 657 (Потемкин Екатерине II 28 мая 1783).
(обратно)465
Переписка. № 661,668, (Екатерина II Потемкину 9 июня, 15 июля 1783).
(обратно)466
Переписка. № 666 (Потемкин Екатерине II 10 июля 1783); № 670 (Екатерина II Потемкину 20 июля 1783).
(обратно)467
Переписка. № 674 (Потемкин Екатерине II 5 авг. 1783).
(обратно)468
РГАДА 5.85.3.175-180 (рескрипт Екатерины II Потемкину 8 апр. 1783 о действиях в отношении Тамани и Кубани после принятия решения об аннексии Крыма); Переписка. № 676 (Екатерина II Потемкину 13 авг. 1783).
(обратно)469
Переписка. № 681 (Екатерина II Потемкину 17 сен. 1783).
(обратно)470
Переписка. № 677, 678 (Екатерина II Потемкину 18 и 31 авг. 1783).
(обратно)471
РА. 1905. Кн. 2. С. 349 (Булгаков Потемкину 1 окт. 1783).
(обратно)472
Переписка. № 684 (Екатерина II Потемкину 26 сен. 1783); Joseph II und Katarina. Письмо 94 (Иосиф II Екатерине II 12 нояб. 1783).
(обратно)473
Переписка. № 687 (Екатерина II Потемкину 16 окт. 1783), № 689 (Потемкин Екатерине II 22 окт. 1783).
(обратно)474
АКБ. Т. 13. С. 45-46 (Безбородко С.Р. Воронцову 7 фев. 1784); о борьбе Потемкина с эпидемией см.: ЗООИД. Т. 11. С. 335, 342-344: рескрипты полковнику Гаксу и Муромцеву.
(обратно)475
Энгельгардт 1997. С. 41.
(обратно)476
РА. 1905. Кн.2. С. 352 (Потемкин Булгакову 8 фев. 1784); РА. 1866.№ 11-12. Стб. 1574 (Булгаков Потемкину 15 мар. 1784).
(обратно)477
АКВ. Т. 13. С. 47-48 (Безбородко С.Р. Воронцову 15 мар. 1784).
(обратно)478
Damas 1912. Р. 89-90.
(обратно)479
Memoirs. Р. 66-67.
(обратно)480
ЗООИД. Т. 11. С. 506-508; Загоровский 1913. С. 1-33; Гарновский 1876. Т. 15. С. 33; Самойлов 1867. Стб. 1234-1235.
(обратно)481
Переписка. № 318 (Екатерина II Потемкину, после 7 мая 1775); Сб. ВИМ. Т. 1. С. 46-52; Переписка. № 449 (Потемкин Екатерине II 21 апр. 1776); Скальковский 1886. Часть За. С. 148,158-163.
(обратно)482
Сб. ВИМ. Т. 1. С. 20-21, 74-88; ПСЗ. Т. 20. № 14251 (15 фев. 1775); № 14464 (9 мая 1775); Сб. РИО. Т. 27. С. 37; Переписка. № 482,483 (Потемкин Екатерине II и Екатерина II Потемкину, вторая пол. 1776). McNeill 1964. Р. 200-202; Переписка. № 359 (Екатерина II Потемкину, конец 1775); Сб. ВИМ. Т. 1. С. 65-67 (8 сен. 1775); Дружинина 1959. С. 64-75.
(обратно)483
Переписка. № 544 (Екатерина II Потемкину, июнь 1778); Сб. РИО. Т. 27. С. 50-51.
(обратно)484
Сб. ВИМ. Т. 1. С. 110,112 (указ Екатерины и письмо Потемкина 25 июля 1778); РГВИА 143.1.6-7 (Потемкин о расходах на основание Херсона: 460103 рубля).
(обратно)485
Завадовский Румянцеву. С. 23-25); Переписка. № 547 (Екатерина II Потемкину, после 29 июля 1778).
(обратно)486
Самойлов 1867. Стб. 1215-1218; РГАДА 5.85.3.109 (Екатерина II Потемкину о присылке рабочих для постройки адмиралтейства, 31 мая 1778); РГВИА 1.194.54.10.52 (рапорты И.А. Ганнибала Потемкину, 11 нояб. 1779); ЗООИД. Т. 11. С. 324-326 (Потемкин Ганнибалу, 1781, 1782); Дружинина. С. 64-83; Самойлов 1867. Стб. 1215-1218.
(обратно)487
Bentham 1862. Р. 17-18 (10 авг. 1780); Cornwall Archive, Antony. CAD/50. Pole Carew Papers. 1,3,4,8,9,13-18,20; РГАДА 11.900.1 (Кери Потемкину 24 окт. 1781, Херсон).
(обратно)488
Cornwall Archive, Antony. CAD/50. Pole Carew Papers. 25-27; РГАДА
(обратно)489
Antoine 1820. P. 112; ЗООИД. Т. 8. С. 210 (Потемкин Екатерине II); ЗООИД. Т. 13. С. 162 (Антуан Потемкину 11 янв. 1786).
(обратно)490
ЗООИД. Т. 11.С. 342 (Потемкин Гаксу 22 окт. 1783); С. 354 (Потемкин Корсакову 1 фев. 1784); С. 343 (Потемкин Муромцеву); РГВИА 271.1.35. Л. 4-5.
(обратно)491
Antoine 1820. Р. 228; Маркова 1970. С. 47; РГАДА 11.946.152 (Бер Потемкину, 1787).
(обратно)492
Переписка. № 654, 657 (Потемкин Екатерине II 16 и 28 мая 1783).
(обратно)493
Миранда. 15 дек. 1786; Сумароков 1800. С. 21-24; Guthrie 1802. Р. 32 (письмо 9); РГАДА 1355.1.2064.
(обратно)494
Переписка. № 662 (Потемкин Екатерине II 13 июня 1783).
(обратно)495
Там же; ЗООИД. Т. 12. С. 308 (Потемкин Н.И. Корсакову); РГВИА Л. 57 (Н.И. Корсаков Потемкину, 14 фев. 1786); Миранда. 1 янв. 1787; Guthrie 1802. Р. 91 (письмо 27).
(обратно)496
Переписка. № 662, 675 (Потемкин Екатерине II 13 июня и 9 авг. 1783).
(обратно)497
ЗООИД. Т. 12. С. 265 (Потемкин де Бальмену, 1783); С. 281,272 (Потемкин Игельстрому 16 авг. 1783); Миранда. 28 дек. 1786; ЗООИД. Т. 23. (1901) С. 41-43; Сб. РИО. Т. 27. С. 300; Fisher 1970. Р. 142-143; Fisher 1978. Р. 87; ИТУАК. Т. 30 (1899). С. 1-2 (Очерк военной службы крымских татар с 1783 по 1889 г.); Дружинина 1959. С. 64-67, 69,161-162).
(обратно)498
Переписка. № 672 (Потемкин Екатерине II 29 июля 1783); Миранда. 25 дек. 1786.
(обратно)499
Переписка. № 672 (Потемкин Екатерине II 29 июля 1783).
(обратно)500
Переписка. № 747 (Потемкин Екатерине II 6 окт. 1786); Дружинина 1959. С. 176.
(обратно)501
Миранда. 8 янв. 1787.
(обратно)502
Дружинина 1959. С. 89; Переписка. № 747 (Потемкин Екатерине II 6 окт. 1786); Segur 1859. Vol. 3. Р. 173.
(обратно)503
Переписка. № 723 (Потемкин Екатерине II, 1785); Joseph II — Cobenzl. Vol, 2. P. 86 (Кобенцль Иосифу II 1 нояб. 1786); РГАДА 11.946.270 (Кастелли Потемкину 21 мар. 1787, Милан).
(обратно)504
ЗООИД. Т. 9. С. 276 (Синельников Попову 19 апр. 1784); ЗООИД. Т. 4. С. 376 (Потемкин Синельникову 15 янв. 1786); С. 377 (Потемкин Каховскому); С. 375 (Потемкин Синельникову 14 мар. 1786); ЗООИД. Т. 2. С. 742-743 (Потемкин Синельникову 28 сен. 1784).
(обратно)505
Переписка. № 748 (Потемкин Екатерине II до 13 окт. 1786).
(обратно)506
Bartlett 1979. Р. 133; Фадеев В. Воспоминания 1790-1867. Одесса, 1897. Т. 1. С. 42.
(обратно)507
Shvidkovsky 1996. Р. 250-251.
(обратно)508
ЗООИД. Т. 13. С. 184-187 (Потемкин Фалееву 1791); ЗООИД. Т. 13. С. 182-182 (Фалеев Потемкину (1791?)).
(обратно)509
Guthrie 1802. Р. 6-8 (письма 1-2).
(обратно)510
Сб. ВИМ. Т. 7. С. 371; Langeron. ААЕ 20: 24.
(обратно)511
Переписка. № 659 (Потемкин Екатерине II 1 июня 1783); № 664 (Екатерина II Потемкину 13 июня 1783; пер. с франц.).
(обратно)512
Переписка. № 683 (Потемкин Екатерине II 23 сен. 1783); Е.В. Анисимов, цит. по: Hughes 1998. Р. 88; Миранда. 22 нояб. 1786; Сб. РИО. Т. 27. С. 369 (Екатерина II Потемкину о средствах на флот, 26 июня 1786).
(обратно)513
Anspach. 12 мар. 1786.
(обратно)514
PRO FO SP 106/107 (Фокнер Гренвиллу 18 июня 1791; Ч. Уитворт, Описание русского Черноморского флота (11 января 1787)); Joseph II und Katarina. P. 353 (Иосиф II фельдмаршалу Ласси 19/30 мая s787); Anderson 1961. Р. 144-145; Сб. РИО. Т. 27. С. 354-355 (указ Екатерины II о препоручении Черноморского флота под командование Потемкина, 13 авг. 1785).
(обратно)515
PRO FO SP 106/107 (У. Фокнер лорду Гренвиллу 18 июня 1791).
(обратно)516
ПСЗ. Т. 10. № 520-521 (24 апр. 1777); РГАДА 16.588.1.12, 16.799,1.141-142 и 95; Сб. ВИМ. Т. 7. С. 85 (Потемкин генерал-губернатору Азова В.А. Черткову 14 июня 1776); С. 94 (Потемкин А.И. фрн Медеру 27 авг. 1776). Потемкин заботился об устройстве армянского поселения (см.: Мелликсет-Беков Л. Из материалов по истории армян на юге России. Одесса, 1911. С. 14: Потемкин М.В. Каховскому).
(обратно)517
CAD/51. Pole Carew Papers; ЗООИД. Т. 8. С. 212 (Потемкин Екатерине II 10 авг. 1785); ЗООИД. Т. 9. С. 284. Потемкин митрополиту Гавриилу С.-Петербургскому 26 авг. 1785); ПСЗ. Т. 22. № 280 (14 янв. 1785); ЗООИД. Т. 8. С. 212 (Потемкин Екатерине II 10 авг. 1785); ПСЗ. Т. 20. №№ 14870,15006; Сб.ВИМ. Т. 7. С. 54 (Потемкин Муромцеву 31 авг. 1775); РГАДА 11.869.114 (А.А. Вяземский Потемкину 5 авг. 1786).
(обратно)518
Зуев 1782-1783. С. 144; Сб. РИО. Т. 27. С. 275; ПСЗ. Т. 22. С. 438-440 (16239, 13 авг. 1785); Сб. ВИМ. Т. 7. С. 119-124; РГАДА 248.4402.374-375; РГАДА 11.946.273, 275 (М. Кантакузин Потемкину 6 фев. 1787 и 25 янв. 1787).
(обратно)519
Скальковский 1836-1838. Часть 1. С. 146-147; РГАДА 11.946.32 (Панаио и Алексиано Потемкину 11 дек. 1784, Севастополь); Дружинина 1959. С. 159; ЗООИД. Т. 11. С. 330-331 (Потемкин Остерману 25 мар. 1783).
(обратно)520
РГАДА 11.895.25 (Потемкин Сутерланду, 1787).
(обратно)521
ЗООИД. Т. 9. С. 265 (Синельников Попову); Кабузан 1976. С. 154; ЗООИД. Т. 11. С. 331 (Потемкин Таксу 26 мая 1783).
(обратно)522
Екатерина 1907. С. 570; Madariaga 1981. Р. 505; Фельдман 2000. С. 186-192; Fishman 1996. Р. 46-59,91-93; Klier 1986. Р. 35-80,95,125; Greenbeig 1944. Р. 23-24; РГАДА 16.696.1.179 (реестр населения г. Екатеринослава 30 янв. 1792).
(обратно)523
Klier 1986. Р. 95; Greenberg 1944. Р. 23-24; Фельдман 2000. С. 186-192; Fishman 1996. Р. 46-59, 91-93; ЗООИД. Т. 12. С. 295 (ордер Потемкина о назначении Цейтлина управляющим монетного двора в Кафе, 6 мар. 1784); ПСЗ. Т. XXII. № 16146 (приказ Екатерины II об именовании евреев); об отношениях между Потемкиным, Цейтлиным и Сутерландом см.: РГВИА, ф. 52, а также РГАДА 11.895.3-5 (Сутерланд Потемкину 10 авг. и 13 сен. 1783); РГАДА 11.895.7 (Сутерланд Потемкину 2 мар. 1784); Иванов П.А. Управление еврейской иммиграцией в Новороссийскую область // ЗООИД. Т. 17. С. 163-188; ЗООИД. Т. 11. С. 330 (Потемкин Остерману 25 мар. 1783); Энгельгардт 1997. С. 42; Миранда. 30 дек. 1786; Fishman 1996. Р. 46-59, 91-93.
(обратно)524
АКВ. Т. 13. С. 101-102 (Безбородко С.Р. Воронцову 28 окт. 1785.)
(обратно)525
АКВ. Т. 11. С. 177-179 (С.Р. Воронцов Н.И. Панину 6/18 мая 1801; пер. с франц.)
(обратно)526
ВМ 33540. Ff. 64-65 (С. Бентам И. Бентаму); Bartlett 1979. Р. 127-128.
(обратно)527
ЗООИД. Т. 12. С. 324 (Потемкин В.В. Каховскому); ЗООИД. Т. 15. С. 607-608 (Потемкин И.М. Синельникову 1 июля 1784); ИТУАК. Т. 8. С. 10.
(обратно)528
РГВИА 52.1.2.461.40.
(обратно)529
РГАДД 16.788.1.149.
(обратно)530
РГВИА 52.1.2.496.44-45 (Потемкин В.В. Каховскому 20 янв. 1787); РГВИА 52.1.2.461.1.13-14 (Потемкин профессорам В. (?) Ливанову, М. Прокоповичу и К. Таблицу 5 янв. 1787); Сб. РИО. Т. 27. С. 357 (Екатерина II Потемкину о Ливанове и Прокоповиче, вернувшихся из Англии 1 сен. 1785).
(обратно)531
PRO FO, cyphers SP 106/67 (Фокнер Гренвиллу 18 июня 1791);
(обратно)532
АКВ. Т. 13. С. 59-60 (Безбородко С.Р. Воронцову 20 авг. 1784); Дружинина 1959. С. 119-120.
(обратно)533
РГВИА 52.1.2.461.1.64.
(обратно)534
Murray 1998. P. 145-147.
(обратно)535
РГАДА 11.939.2 (леди Крейвен Потемкину 5 апр. 1786); Cross 1997. Р. 358.
(обратно)536
Философская и политическая переписка императрицы Екатерины II с доктором Циммерманом: 1785-1792. СПб., 1803. С. 47.
(обратно)537
ЗООИД. Т. 12. С. 313 (Потемкин В.В. Каховскому 3 дек. 1784); РГАДА 16.799.1.35 (Потемкин Екатерине II).
(обратно)538
Guthrie 1802. Письмо LXI. Р. 195.
(обратно)539
Переписка. № 730 (Потемкин Екатерине II, 1785-1786).
(обратно)540
РГАДА 11.946.201, 207, 208, 203, 204, 220, 226 (Банк Потемкину, 1781-1787); ЗООИД. Т. 9. С. 254.
(обратно)541
РГВИА 271.1.33.1 (Банк Потемкину 25 сен. 1783); Таврические ГУб. Ведомости. № 5; ГАОО. 150.1.23.10 (Потемкин В.В. Каховскому, о Банке); РГАДА 11.946.226 (Банк Потемкину 15 янв. 1787).
(обратно)542
ААЕ 10: 206 (Сегюр Верженну).
(обратно)543
ЗООИД. Т. 4. С. 369 (Потемкин Фалееву 13 окт. 1789).
(обратно)544
ПСЗ. Т. 20. № 520-521 (24 апр. 1777); Т. 21. № 784 (22 дек. 1782); Bartlett 1979. Р. 120; РГАДА 11.869.73 (Вяземский Потемкину 5 авг. 1786, с предложением 30307 поселенцев для Кавказа (или Екатеринослава).
(обратно)545
Henze P. Circassien Resistance to Russia // The North Caucasus Barrier. P. 75; Baddeley 1908. P. 40-50; Segur 1824-1826. Vol. 2.
(обратно)546
Anspach. 9 мар. 1786; Миранда. 27 янв. 1787; Encyclopaedia of Gardening. P. 52; РГАДА 11.950.5.234 (Гульд Потемкину).
(обратно)547
Миранда. 9 янв. 1787; Крючков 1996. С. 164.
(обратно)548
РГВИА 52.2.2.22-33 (Потемкин И.Е. Старову 26 мая 1790).
(обратно)549
PRO FO SP 106/107 (Фокнер Гренвиллу 18 июня 1791).
(обратно)550
Кабузан 1976. С. 164; Дружинина 1959. С. 150-155,160-165,200; McNeill 1964. Р. 200.
(обратно)551
Segur 1859. Vol. 2. P. 43.
(обратно)552
McNeill 1964. P. 202.
(обратно)553
Bentham. Collected Works. Vol. 10. P. 171 (Дж. Уилсон И. Бентаму 26 фев. 1787).
(обратно)554
Christie 1993. P. 1-10; ВМ 33558. F. 3 (С. Бентам неизвестному 1 авг. 1780); Bentham 1862. Р. 67-68; ВМ 33555. F. 65 (С. Бентам И. Бентаму 7 янв. 1783).
(обратно)555
ВМ 33539. F. 289-294 (С. Бентам И. Бентаму 16 июня 1782).
(обратно)556
ВМ 33558. F. 102-104 (С. Бентам А.М. Голицыну 23 мар. 1783).
(обратно)557
ВМ 33564. F. 31 (дневник С. Бентама за 1783-1784).
(обратно)558
ВМ 33540. F. 6 (С. Бентам И. Бентаму 20 янв. 1784), 17-18 (С. Бентам И. Бентаму 20 янв. ст. ст. 1784); 7-12 (С. Бентам И. Бентаму 20/31 янв. — 2 фев. 1784 и 6/17-9/20 мар. 1784).
(обратно)559
ВМ 33564. F. 30 (дневник С. Бентама, март 1784); Bentham. Correspondence. Р. 279 (С. Бентам И. Бентаму 10/21 июня — 20 июня / 1 июля 1784); ВМ 33540. 88 (С. Бентам неизвестному 18 июля 1784); Bentham 1862. Р. 74-77 (С. Бентам отцу 18 июля 1784); Christie 1993. Р. 122-126; Дружинина 1959. С. 148.
(обратно)560
ВМ 33540. F. 87-89 (С. Бентам отцу (?) 18 июля 1784).
(обратно)561
Cornwall Archives. CO/R/3/93 (Пол Кери 4/15 июня 1781); РГАДА 11.900.3/4/5 (составленные Кери планы устройства поместья Потемкина на Днепре: Кери Потемкину 13/24 авг. 1781 и 30 мар. 1782); ВМ 33540. F. 87-89 (С. Бентам отцу (?) 18 июля 1784).
(обратно)562
ВМ 33540. F. 237 (С. Бентам отцу 6 янв. 1786).
(обратно)563
ВМ 33540. F. 380-382 (И. Бентам отцу 2/14 июня 1787), 87-89 (С. Бентам отцу (?) 18 июля 1784).
(обратно)564
ВМ 33540 (Потемкин С. Бентаму 10 сен. 1785); Bentham 1862. Р. 79.
(обратно)565
Christie 1993. Р. 132; РГАДА 11.946.132-134 (С. Бентам Потемкину 18 июля 1784).
(обратно)566
ВМ 33540. F. 70-78 (С. Бентам И. Бентаму 10/12 июня — 20 июня/1 июля 1784).
(обратно)567
ВМ 33540. F. 147 (С. Бентам И. Бентаму 30 мар./10 апр. 1785); ВМ 33540 (С. Бентам И. Бентаму, июнь 1784).
(обратно)568
ВМ 33540. F. 68 (С. Бентам И. Бентаму 19 июня 1784); ВМ 33540. F. 94 (С. Бентам И. Бентаму 18 июля 1784).
(обратно)569
ВМ 33540. F. 235 (Джеремайя Бентам 2 нояб. 1784); ВМ 33540. F. 306 (маркиз Лэнсдоун Джеремайе Бентаму 1 сен. 1788).
(обратно)570
РГАДА 11.946.141-142 (И. Бентам Потемкину 27 авг. 1785); РГАДА 11.946.186-210 (И. Бентам Потемкину, фев. 1785); ВМ 33540. F. 151-152 (С. Бентам И. Бентаму 27 мар. 1785); ВМ 33540. F. 160 (Р. Хайнем И. Бентаму 10 мая 1786).
(обратно)571
ВМ 33540. F. 258 (И. Бентам к неизвестному лицу 9 мая/28 апр. 1786).
(обратно)572
Сб. РИО. Т. 23. С. 157.
(обратно)573
Dimsdale. 7 сен. н. с. 1781; Cross 1997. Р. 267-270, 274-276, 284,410.)
(обратно)574
РГИА. 1146.1.33; Cross 1997. Р. 275, 285; Vigee Lebrun. P. 23-24.
(обратно)575
РГАДА 11.891.1 (кн. Белозерский Потемкину 9/20 июля 1780).
(обратно)576
РГАДА 11.923.8 (Харрис Потемкину 15 июня 1784); РГАДА 11.923.5 (Харрис Потемкину 4 июня 1784); РГВИА 52.2.89.91 (лорд Кэрисфорт Потемкину 12 июля 1789, Лондон); Hilles F.W. Sir Joshua and the Empress Catherine // Eighteenth Century Studies. P. 270-273; Crossl997. P. 321.
(обратно)577
Благодарю за помощь сотрудницу Государственного Эрмитажа М.П. Гарнову.
(обратно)578
Joseph II — Cobenzl. Vol. 1/Р. 115 (Кобенцль Иосифу II 4 фев. 1781), 265 (Кобенцль Иосифу II 4 дек. 1781), 278 (Иосиф II Кобенцлю 27 дек. 1781); РГАДА 11.946.119-123 (Р. Бромтон Потемкину 21 июня 1782); Cross 1997. Р. 309-310.
(обратно)579
Segur 1824-1826. Vol. 2. P. 341; Cross 1997. P. 357-358.
(обратно)580
BM 33540. F. 168 (Лэнсдоун И. Бентаму б/даты).
(обратно)581
Миранда. 9 янв. 1787.
(обратно)582
ВМ 33540. F. 163 (С. Бентам И. Бентаму 10 июня 1785); ВМ 33540. F. 318-321 (И. Бентам К. Тромповскому 18/29 дек. 1786).
(обратно)583
ВМ 33540. F. 31 (И. Бентам 19/30 дек. 1786).
(обратно)584
ВМ 33540. F. 151 (И. Бентам отцу 27 мар. 1785); ВМ 33540. F. 64 (С. Бентам Полу Кери 18 июня 1784).
(обратно)585
Bentham. Correspondence. Vol. 3. P. 443 (И. Бентам отцу 28 апр./9 мая 1785); ВМ 33540. F. 296 (И. Бентам Дашкову 19 июля 1786); Soloveytchik 1947.
(обратно)586
Закалинская 1958. С. 37,41-43; Christie 1993. Р. 206; Christie 1970. Р. 197; Cross 1993. Р. 357-358.
(обратно)587
Сб. РИО. Т. 23. С. 319 (Екатерина II Гримму 14 сен. 1784); Parkinson 1971. Р. 45-49; РА. 1886. № 3. С. 244-245: Из записок доктора Вейкарта; Массон 1996. С. 71.
(обратно)588
Сб. РИО. Т. 26. С. 281-281 (Безбородко Потемкину 29 июня 1784).
(обратно)589
Массон 1996. С. 71; Сб. РИО. Т. 23. С. 244 (Екатерина II Гримму 29 июня 1782).
(обратно)590
Сб. РИО. Т. 23. С. 316-317 (Екатерина II Гримму 7/18 июня 1784).
(обратно)591
Сб. РИО. Т. 23. С. 344 (Екатерина II Гримму).
(обратно)592
Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. P. 17 (Кобенцль Иосифу II 5 мая н.с. 1780); Harris 1844. Р. 366 (Харрис Стормонту 14/25 мая 1781, 21 июля/1 авг. 1780).
(обратно)593
Переписка. № 729 (Екатерина II Потемкину), № 730 (Потемкин Екатерине II, 1785-1786)
(обратно)594
Переписка. № 731 (Екатерина II Потемкину и Потемкин Екатерине II, 1785-1786).
(обратно)595
Энгельгардт 1997. С. 49; Saint-Jean 1888. Ch. 6. P. 40-48.
(обратно)596
Сб. РИО. Т. 23 (Екатерина II Гримму 31 авг. 1781). Именно к этому времени относят якобы имевшее место увлечение Екатерины Семеном Федоровичем Уваровым, гвардейским офицером, который развлекал Потемкина пляской и игрой на бандуре.
(обратно)597
Дашкова 1987. С. 106.
(обратно)598
Там же. С. 159.
(обратно)599
Энгельгардт 1997. С. 50.
(обратно)600
Joseph II — Cobenzl. Vol. 2. Р. 37 (Кобенцль Иосифу II 14 мая 1785).
(обратно)601
Там же.
(обратно)602
Damas 1912. Р. 97; Сб. РИО. Т. 42. С. 123 (Екатерина II, ноябрь 1790).
(обратно)603
Dimsdale. 27 сен. ст. ст. 1781; Anspach. 18 фев. 1786.
(обратно)604
Dimsdale. 27 авг. 1781.
(обратно)605
Сб. РИО. Т. 23. С. 89 (Екатерина II Гримму 16 мая 1778).
(обратно)606
Damas 1912. Р. 95; ВМ 33539. F. 39 (С. Бентам 8 апр. 1780).
(обратно)607
Сб. РИО. Т. 23. С. 438 (Екатерина II Гримму 23 фев. 1788).
(обратно)608
Damas 1912. P. 97; Harris 1844. P. 304 (Харрис Стормонту 13/24 дек, 1780).
(обратно)609
Переписка. № 842 (Екатерина II Потемкину 8 марта 1788); Harris 1844. Р. 413 (Харрис Стормонту 16/27 нояб. 1781).
(обратно)610
Сб. РИО. Т. 23 (Екатерина II Гримму 30 июня 1785, Петергоф).
(обратно)611
Гарновский 1876. Т. 15. С. 226 (3 фев. 1789); Т. 16. С. 9.
(обратно)612
Дашкова 1987. С. 143.
(обратно)613
Segur 1825-1827. Vol. 3. P. 46; Vol. 2. P. 359; Сб. РИО. Т. 23. С. 353 (Екатерина II Гримму 1 июня 1785).
(обратно)614
Сегюр 1989. С. 393-401.
(обратно)615
Segur 1825-1827. Vol. 2. P. 418; Memoirs. P. 98-103.
(обратно)616
Храповицкий. 30 мая 1786.
(обратно)617
Сегюр 1989. С. 392-393.
(обратно)618
Переписка. № 737 (Екатерина II Потемкину после 28 июня 1786); КФЖ. 17-28 июня 1786; Joseph II — Cobenzl Vol. 2. P. 75 (Кобенцль Иосифу II 1 нояб. 1786); Memoirs. P. 103-104.
(обратно)619
Храповицкий. 17, 18 июля 1786.
(обратно)620
Переписка. № 739 (Потемкин Екатерине II 20 июля 1786).
(обратно)621
Храповицкий. 20 июля 1786.
(обратно)622
Сегюр 1989. С. 394.
(обратно)623
Davis 1961. Р. 148.
(обратно)624
Saint-Jean 1888. Ch. 6. P. 40.
(обратно)625
[Алексеев Г.П.] Эпизод из жизни князя Потемкина // ИВ. 1889. № 9. С. 683-684.
(обратно)626
Рибопьер 1877. С. 479; Castera 1798. Vol. 3. P. 296.
(обратно)627
б. РИО. Т. 23. С. 300 (Екатерина II Гримму 5 апр. 1784);
(обратно)628
Сегюр о Потемкине (цит. по: Castera 1798. Vol. 2. P. 333).
(обратно)629
Массон 1996. С. 68; Davis 1961. P. 148; Richelieu 1886. С. 148.
(обратно)630
Castera 1798. Vol. 2. P. 333.
(обратно)631
Richelieu 1886. С. 148-149.
(обратно)632
Castera 1798. Vol. 2. P. 333.
(обратно)633
Davis 1961. P. 148.
(обратно)634
Anspach. 18 фев. 1786.
(обратно)635
РГИА. 1146.1.33.
(обратно)636
РГАДА 11.889.2 (Любомирский Потемкину 15 авг. 1787); Joseph II — Cobenzl. Vol. 2. P. 194 (Иосиф II Кобенцлю 12 сен. 1787; РГАДД 11.928.8 (Кобенцль Потемкину 26 мар. 1786); РГВИА 52.2.61.7 (Ф.М. Голицын Потемкину 26 авг./б сен. 1781).
(обратно)637
Миранда. 6 мар. 1787.
(обратно)638
Сб. РИО. Т. 23. С. 333 (Екатерина II Гримму 15 апр. 1785).
(обратно)639
Damas 1912. Р. 109.
(обратно)640
Парело 1879. С. 315.
(обратно)641
Сегюр 1989. С. 345, 424.
(обратно)642
Опись гардероба Потемкина, сделанную по его кончине, см.: ЧОИДР. Кн. IV. С. 15-53 (Список домов и движимого имущества Г.А. ПотемкинаТаврического, купленного у наследников его императрицей Екатериной II).
(обратно)643
Richelieu 1886. С. 148.
(обратно)644
Сегюр 1989. С. 345.
(обратно)645
Сегюр 1989. С. 351.
(обратно)646
Ligne 1809. Vol. 2. Р. 6; отсюда же взяты остальные цитаты из де Линя, приведенные в этой главе, за исключением отрывков, приведенных в мемуарах Л.Н. Энгельгардта.
(обратно)647
Anspach. 18 фев. 1786.
(обратно)648
Сегюр 1989. С. 387-388.
(обратно)649
О приватной жизни Потемкина. № 2. С. 88.
(обратно)650
Энгельгардт 1997. С. 61-62.
(обратно)651
О приватной жизни Потемкина. № 2. С. 9.
(обратно)652
Там же.
(обратно)653
Castera 1798. Vol. 3. P. 128.
(обратно)654
Миранда. 13 янв. 1787; РГАДА 5.166.8 (Станислав Август Потемкину 7 мая 1787).
(обратно)655
РГАДА 11.946.229 (проф. Батай Потемкину б/даты, 1784).
(обратно)656
РГАДА 11.918.1 (Г. Головчин Потемкину 22 авг. 1784); РГВИА 52.2.89.145, 146 (княгиня Барятинская Потемкину 2 сен. 1790 и 11 мар. 1791, Турин); РГАДА 11.937.3 (граф Зайн-Витгенштейн Потемкину 1 авг. 1780; РГАДА 11.946.303, 315 (Николай Карпов Потемкину 27 мая и 25 сен. 1786, Херсон); РГАДА 11.946.430-434 (Элиас Абез, принц Палестинский (?) Потемкину, авг. 1780.
(обратно)657
Ligne 1809. Р. 75; РГАДА 11.867.11 (Браницкий Потемкину б/даты); РГАДА 11.946.385 (А. Деуза Потемкину 24 авг. 1784).
(обратно)658
РГАДА 11.902а (реестр долгов Потемкина); РГАДА 11.946.378 (К.Д. Дюваль Потемкину, фев. 1784).
(обратно)659
РГАДА 52.2.35.7 (П. Теппер Потемкину 25 сен. 1788, Варшава); Карнович 1885. С. 265-269; Валишевский 1911. С. 145.
(обратно)660
Сегюр 1989. С. 352; Richelieu 1886. С. 148-149 (пер. с франц.); Миранда. 1 янв. 1787.
(обратно)661
Державин 1864-1972. Т. 6. С. 444; ВМ. 33540. F. 64 (С. Бентам Кери 18 июня 1784).
(обратно)662
Вигель 2000. С. 13.
(обратно)663
Щербатов 1858. С. 83.
(обратно)664
Pole Carew. CO/R/3/95.
(обратно)665
Энгельгардт 1997. С. 89.
(обратно)666
Там же.
(обратно)667
РГАДД 11.864.36-77; 11.864.1.12, 13, 16, 29; 11.864.2.68, 73, 86; некоторые отрывки из этих писем опубл. в PC. 1875. Т. 7.
(обратно)668
Самойлов 1867. Стб. 1574; Вигель 2000. С. 13.
(обратно)669
Сегюр 1989. С. 347; Joseph II — Cobenzl. Vol. 1. Р. 484 (Кобенцль Иосифу II 3 нояб. 1784).
(обратно)670
Энгельгардт 1997. С. 43.
(обратно)671
Harris 1844. Р. 281 (Харрис Стормонту 21 июля/1 авг. 1780).
(обратно)672
Richelieu 1886. С. 148 (пер. с франц.).
(обратно)673
АКВ. Т. 9. С. 86 (С.Р. Воронцов А.Р. Воронцову 4/15 нояб. 1786); Энгельгардт 1997. С. 43.
(обратно)674
Миранда. 8 янв. 1787; Damas 1912. Р. 89-90.
(обратно)675
Сб. РИО. Т. 42. С. 173 (Екатерина II С. де Мейлану 11 июня 1791).
(обратно)676
Грахов 1858. С. 470-471.
(обратно)677
Pole Carew. CO/R/3/95; Болотина 1995.
(обратно)678
Segur 1925. P. 359; AAE 20:330-335; Harris 1844. P. 239 (Харрис Стормонту 15/26 фев. 1780).
(обратно)679
Энгельгардт 1997. С. 42.
(обратно)680
Пушкин. Ак. Т. 12. С. 156, 171; Переписка. № 833, 1021 (Потемкин Екатерине II 5 фев. 1788 и 5 дек. 1789); Энгельгардт 1997. С. 42.
(обратно)681
Пушкин. Ак. Т. 12. С. 811.
(обратно)682
О приватной жизни Потемкина. № 2. С. 17-18.
(обратно)683
Castera 1798. Vol. 2. Р. 279.
(обратно)684
Миранда. 28-31 дек. 1786, 1 янв. 1787; Переписка. № 954 (Екатерина II Потемкину 13 мая 1789).
(обратно)685
Миранда. 28-31 дек. 1786.
(обратно)686
Memoires du duс de Cars. Vol. 1. P. 268-279; Davis 1961. P. 88; Madariaga 1950; Keen, Wasserman 1998. P. 154-158; Zamoyski 1999. P. 136-143, 152-153; Zamoyski 1992. P. 260.
(обратно)687
Миранда. 3, 5 янв. 1787.
(обратно)688
Joseph II - Cobenzl. Vol. 2. P. 75.
(обратно)689
Anspach 1826. P. 144.
(обратно)690
Миранда. 25 дек. 1786 — 20 янв. 1787.
(обратно)691
Aragon 1893. P. 115 (Нассау-Зиген жене, янв. 1787); Joseph II — Cobenzl. Vol. 2. P. 86 (Кобенцль Иосифу II 2 нояб. 1786).
(обратно)692
Миранда. 20 янв. 1787.
(обратно)693
Сб. РИО. Т. 23. С. 392 (Екатерина II 19 янв. 1787).
(обратно)694
Bentham. Collected Works. P. 525 (И. Бентам Дж. Уилсону 9/20 фев. 1787); Сегюр 1989. С. 417.
(обратно)695
Ligne 1809. Р. 65 (де Линь маркизе де Куаньи; принц присоединился к путешествию только в Киеве); Храповицкий. 17 янв. 1787.
(обратно)696
Christie 1993. Р. 177 (И. Бентам 19/30 янв. 1787); Сб. РИО. Т. 23. С. 393 (Екатерина II Гримму 23 янв. 1787).
(обратно)697
Segur 1925. Р. 222; Mniszech 1866. Р. 192.
(обратно)698
Миранда. 26 мар. 1787; Mansel. Р. 106.
(обратно)699
Сегюр 1989. С. 419.
(обратно)700
Zamoysli 1992. Р. 260; Davis 1961. Р. 27,119, 213; Миранда. 26 мар. 1787.
(обратно)701
Сегюр 1989. С. 420.
(обратно)702
Ligne 1827-1829. Vol. 21. Р. 6; Ligne 1809. Р. 33; Миранда. 17 и 12 фев. 1787.
(обратно)703
Миранда. 14 фев. 1787.
(обратно)704
Aragon 1893. Р. 138; Baylen, Woodward 1950. P. 52-68.
(обратно)705
Миранда. 20 и 28 фев. 1878.
(обратно)706
Миранда. 14 мар., 18, 19 фев., 22 мар. 1787.
(обратно)707
Segur 1925. Р. 227-229; Сб. РИО. Т. 23. С. 399 (Екатерина II Гримму 4 апр. 1787).
(обратно)708
Переписка. № 824 (Потемкин Екатерине II 25 дек. 1787); Соловьев 1863. С. 198; Храповицкий. 16-17 мар. 1787; РГВИА 52.2.71.1-93; 52.2.35.9-35; 52.2.56.2; 52.2.74; 52.2.39 (переписка Потемкина с графом Мошинским по поводу прав на имения Смила и Мещерич).
(обратно)709
Ligne 1809. Р. 34 (де Линь маркизе де Куаньи, письмо I).
(обратно)710
Aragon 1893. Р. 126 (Нассау-Зиген жене, фев. 1787); Kukiel 1955. Р. 18; Aragon 1893. Р. 131 (Нассау-Зиген жене, фев. 1787); Zamoyski 1992. Р. 294-295; Mniszech 1866. Р. 199.
(обратно)711
Миранда. 22 фев. 1787.
(обратно)712
Zamoyski 1992. Р. 294.
(обратно)713
Миранда. 21-22 фев., 11 мар., 11, 21 апр. 1787.
(обратно)714
Ligne 1809. Р. 37; Сегюр 1989. С. 438-439. Основные описания путешествия Екатерины II — мемуары Сегюра, письма принцев де Линя и Нассау-Зигена (Aragon 1893); см. также: Madariaga 1981. Р. 393-395; Alexander 1989. Р. 256-257.
(обратно)715
Сегюр 1989. С. 439.
(обратно)716
Сегюр 1989. С. 446.
(обратно)717
РГАДА.5.166.14, 9 (Станислав Август Потемкину 16-17 фев. 1787).
(обратно)718
Zamoiski 1992. Р. 297; Сегюр 1989. С. 442; Сб. РИО. Т. 23. С. 407-408 (Екатерина II Гримму 26 апр. 1787).
(обратно)719
Ligne 1809. Р. 40 (де Линь маркизе де Куиньи); Переписка. № 758 (Екатерина II Потемкину 25 апр. 1787); Храповицкий. 26 апр. 1787.
(обратно)720
Mansel 1992. Р. 111; Переписка. № 759 (Екатерина II Потемкину 25 апр. 1787); РГАДА 5.166.9 (Станислав Август Потемкину 7 мая 1787).
(обратно)721
РГВИА 271.1.43.1 (Иосиф II Потемкину 25 нояб. 1786); этот неопубликованный архив содержит большую часть переписки Потемкина с Иосифом II, его преемником Леопольдом и канцлером Кауницем; Joseph II — Cobenzl. Vol. 2. Р.
(обратно)722
ВМ. 33540. F. 365-366 (С. Бентам И. Бентаму 16 мая 1787).
(обратно)723
Сб. РИО. Т. 23. С. 410 (Екатерина II Гримму 15 мая 1787); Joseph II und Katarina. P. 356 (Иосиф II Ласси 19 мая 1787).
(обратно)724
Там же.
(обратно)725
Ligne 1827-1829. Vol 24. Р. 4-8.
(обратно)726
Segur 1859. Vol. 2. P. 46-47.
(обратно)727
Joseph II und Katarina. P. 355, 358 (Иосиф II Ласси 19 и 30 мая 1787); Храповицкий. 15 мая 1787.
(обратно)728
Segur 1859. Vol. 2. Р. 46-47; Сб. РИО. Т. 23. С. 410 (Екатерина II Гримму 15 мая 1787).
(обратно)729
Ligne 1809. Р. 42 (де Линь маркизе де Куиньи).
(обратно)730
Segur 1859. Vol. 2. Р. 54-55.
(обратно)731
Сегюр 1989. С. 449, 453-454; Aragon 1893. Р. 154-158 (Нассау-Зиген жене, май 1787).
(обратно)732
Сегюр 1989. С. 454.
(обратно)733
Segur 1859. Vol 2. Р. 54-55.
(обратно)734
Переписка. № 762 (Екатерина II Потемкину 20-21 мая 1787).
(обратно)735
Ligne 1827-1829. Vol 24. Р. 4-7,11; Aragon 1893. Р. 158-161 (Нассау-Зиген жене 1 июня 1787), Segur 1859. Vol. 2. P. 66-67; Joseph II — Cobenzl. Vol. 2. P. 150 (Кобенцль Кауницу 3 июня 1787); Joseph II und Katarina. P. 363 Иосиф II Ласси 3 июня 1787), p. 292 (Иосиф II Кауницу 3 июня 1787).
(обратно)736
Joseph II und Katarina. P. 364 (Иосиф II Ласси 5 июня 1787).
(обратно)737
Ligne 1827-1829. Vol. 24. P. 4-8.
(обратно)738
Joseph II und Katarina. P. 364 (Иосиф II Ласси 5 июня 1787).
(обратно)739
Segur 1925. Р. 245.
(обратно)740
Guthrie 1802. Letter LXV. P. 204-206.
(обратно)741
Ligne 1809. P. 60,64; Joseph II und Katarina. P. 363-364 (Иосиф II Ласси 5 и 7 июня 1787).
(обратно)742
Joseph II und Katarina. P. 364 (Иосиф II Ласси 7 июня 1787).
(обратно)743
Segur 1925. P. 242.
(обратно)744
Segur 1859. Vol 2. P. 67-68,90; ЗООИД. T. 13. C. 268 (донесение M.B. Каховского); Joseph II und Katarina. P. 364,373 (Иосиф II Ласси 8 июня и 12 июля 1787); Wien von Maria Theresa bis zur Franzosenzeit. Vienna, 1972. P. 40; Kaталог Выставки «Osterreich zur Zeit Kaiser Josephs II mit Regent Kaiserin Maria Theresias, Kaiser und Landesfurst». Stifl Melk, 1980. P. 439.
(обратно)745
Переписка. № 763 (Екатерина II Потемкину 9 июня 1787).
(обратно)746
Helbig, Georg von. Potemkin der Taurier // Minerva. Ein Journal historischen und politischen Inhalts herausgegeben von J.M. von Archenholtz. Hamburg, 17-97-1800; Russische Gunstlinge. Tubingen, 1809; Potemkin: Ein interessanter Beitrag zur Regier ungeschichte Katarina der Zweiten. Halle/Leipzig, 1804. Эти книги были переведены на французский: Vie de Potemkine, par J.E. de C6renville (Paris, 1808) и на английский язык: Memoirs of the Life of Prince Potemkin. London 1812,1813. (Два фрагмента в русском переводе: О приватной жизни князя Потемкина // Москвитянин. 1852. № 2-3; То же. М., 1991. Указатель Керара «Литературная Франция» называет настоящим автором книги «Vie de Potemkine» французского литератора и переводчика с немецкого языка Траншана де Лаверна: Querard. La France Litteraire. Vol. 9. Paris, 1839. P. 531. — Прим. переводчика.)
(обратно)747
Васильчиков 1880-1884. Т. 1. С. 370-371.
(обратно)748
Anspach. 3 апр. 1786.
(обратно)749
Храповицкий. 4 апр. 1787.
(обратно)750
ЗООИД. Т. 12. С. 303, 309, 320 (ордера Потемкина В.В. Каховскому).
(обратно)751
Segur 1925. Р. 232.
(обратно)752
Ligne 1809. Р. 65 (де Линь маркизе де Куаньи).
(обратно)753
РГАДА 2.111.13-15 (Екатерина II московскому главнокомандующему П.Д. Еропкину); Сб. РИО. Т. 27. С. 411 (Екатерина II вел. кн. Александру 28 мая 1787); РГАДА 10.2.38.1-2 (Екатерина II Л.А. Брюсу 14 мая 1787).
(обратно)754
Гарновский 1876. Т. 15. С. 33.
(обратно)755
Ligne 1827-1829. Vol. 24. Р. 11.
(обратно)756
Переписка. № 769 (Потемкин Екатерине II 17 июля 1787); № 773 (Екатерина II Потемкину 27 июля 1787).
(обратно)757
Ligne 1827-1829. Vol. 24. Р. 4-5,11.
(обратно)758
Memoirs. Р. 117-118.
(обратно)759
РГВИА 52.11.53.31 (Пизани Булгакову 1/12 мая 1787).
(обратно)760
РГВИА 52.2.1.9 (Потемкин Булгакову).
(обратно)761
РГВИА 52.2.53. 80 (Пизани Булгакову 1 июня 1787). В депеше от 1/12 мая описываются действия английских дипломатов, подталкивавших Россию и Турцию к войне и подстрекавших дагестанцев, чеченцев и лезгин к нападениям на Россию.
(обратно)762
Переписка. № 782, 795 (Екатерина II Потемкину 24 авг., 24 сен. 1787).
(обратно)763
Переписка. № 783 (Потемкин Екатерине II 28 авг. 1787).
(обратно)764
Переписка. № 786 (Екатерина II Потемкину 6 сен. 1787).
(обратно)765
Переписка. № 789 (Потемкин Екатерине II 16 сен. 1787).
(обратно)766
Переписка. № 790 (Потемкин Екатерине II 19 сен. 1787).
(обратно)767
Переписка. № 793 (Потемкин Екатерине II 24 сен. 1787).
(обратно)768
Переписка. № 793, 794 (Потемкин Екатерине II 24 сен. 1787).
(обратно)769
Переписка. № 795 (Екатерина II Потемкину 27 сен. 1787; пер. с франц.). Основные источники описания русско-турецкой войны в главах 26-34: Петров 1880; Лопатин 1992; Суворов. Письма; Петрушевский 1884; Масловский 1894; ЗООИД. Т. 4, 8, 11; Письма и бумаги А.В. Суворова, Г.А. Потемкина-Таврического, П.А. Румянцева-Задунайского (1787-1789) // Сб. ВИМ; Письма Потемкина Суворову// PC. 1875. Июнь; 1876. Июль; РА. 1877; Christie 1972; Christie 1993; Duffy 1981; Langeron //AAE 20; Damas 1912; Ligne 1809; Ligne 1827-1829; Richelieu 1886.
(обратно)770
Переписка. № 800 (Екатерина II Потемкину 2 окт. 1787).
(обратно)771
Переписка. № 799 (Потемкин Екатерине II 2 окт. 1787).
(обратно)772
PC. 1875. Май. Т. 8. С. 21-30.
(обратно)773
Байрон. Дон Жуан. VII: 55. Пер. Т. Гнедич.
(обратно)774
PC. 1875. Май. Т. 8. С. 30-33.
(обратно)775
РГВИА 52.2.52.10 (Иосиф II де Линю 25 нояб. 1787); Переписка. № 819 (Потемкин Екатерине II12 нояб. 1787).
(обратно)776
Damas 1912. Р. 23-25.
(обратно)777
Ligne 1795-1811. Vol. 24. P. 18; РГВИА 52.2.52.3 (Потемкин принцу де Линю б/даты).
(обратно)778
Переписка. № 853, 854 (Потемкин Екатерине II до 5 мая, 5 мая 1788).
(обратно)779
Rostoptchin 1823. Р. 27; Aragon 1893. Р. 180; о миссии генерала B.C. Тамары в Средиземноморье см. также письма Потемкина Кауницу от октября 1790: РГВИА 52.2.47.11.
(обратно)780
Сб. ВИМ. Вып. 4. С. 217 (приказ Потемкина 18 дек. 1787).
(обратно)781
Ligne 1809. Р. 74 (де Линь Иосифу II, дек. 1787); Ligne 1795-1811. Vol. 24. Р. 41, 57 (де Линь Иосифу II2, 6 мар. 1788); Vol. 21. Р. 180-181 (Записка о евреях); Фельдман 2000. С. 186-192.
(обратно)782
Переписка. № 826, 833 (Потемкин Екатерине II 3 и 5 фев. 1788).
(обратно)783
ВМ 33540. Е 487 (С. Бентам И. Бентаму 12/23 окт. 1788); Переписка. № 814 (Потемкин Екатерине II 1 нояб. 1787).
(обратно)784
Damas 1912. Р. 32.
(обратно)785
Сб. РИО. Т. 23. С. 446 (Екатерина II Гримму 25 апр. 1788). Основные источники наших сведений о Дж. Пол Джонсе, помимо российских архивов и его неопубликованной переписки с Потемкиным — три его биографии: Morison 1959; Preedy 1940; Otis 1900.
(обратно)786
РГВИА 52.2.56.1 (Потемкин Симолину 5/16 мар. 1788).
(обратно)787
Aragon 1893. Р. 223 (Нассау-Зиген жене 4 июня 1788); Damas 1912. Р. 31-32.
(обратно)788
Переписка. № 859 (Екатерина II Потемкину 27 мая 1788).
(обратно)789
Ligne 1795-1811. Vol. 24. Р. 20.
(обратно)790
РГВИА 52.2.82. 13 (Потемкин Нассау-Зигену б/даты).
(обратно)791
Morison 1959. Р. 379-381.
(обратно)792
ВМ 33540. F. 489 (С. Бентам отцу 12/23 окт. 1788).
(обратно)793
Ligne 1795-1811. Vol. 24. P. 21; PC. 1875. Июнь. С. 160 (Потемкин Суворову 19 июня 1788).
(обратно)794
Переписка. № 867 (Потемкин Екатерине II 19 июня 1788).
(обратно)795
Aragon 1893. Р. 250 (Нассау-Зиген жене).
(обратно)796
Переписка. № 876 (Потемкин Екатерине II 18 июля 1788).
(обратно)797
Ligne 1795-1811. Vol. 24. P. 95 (де Линь Иосифу II 12 июля 1788).
(обратно)798
Переписка. № 874 (Екатерина II Потемкину 13 июля 1788).
(обратно)799
ВМ 33554. F. 93-94 (Генри Фэншоу, июль 1788). Основные источники описания событий Второй русско-турецкой войны см. в примечании 1 к главе 26.
(обратно)800
Энгельгардт 1997. С. 69.
(обратно)801
Цебриков 1895. С. 175-176; PC. 1875. Май. С. 38 (Потемкин Суворову 27 июля 1788).
(обратно)802
Damas 1912. Р. 56-57.
(обратно)803
Переписка. № 884 (Екатерина II Потемкину 31 авг. 1788);
(обратно)804
PC. 1875. Май. С. 21-33 (Потемкин А.В. Суворову, апр. 1788); Ligne 1809. Р. 87 (де Линь Иосифу II, авг. 1788).
(обратно)805
Langeron. Resume des campages // AAE 20: 74.
(обратно)806
Damas 1912. P. 66-69.
(обратно)807
Damas 1912. P. 63-64.
(обратно)808
Ligne 1795-1811. Vol. 7. P. 198-201 (де Линь Сегюру 1 дек. 1788); Ligne 1809. Vol. 2. P. 16 (де Линь Сегюру 1 окт. 1788).
(обратно)809
ВМ 33540. F. 489,445 (С. Бентам И. Бентаму); ВМ 33558. F. 442 (У. Ньютон Дж.Т. Эбботу 10 сен. 1789); Christie 1993. Р. 241; РГВИА 52.2.89.64-65 (Литтлпейдж Потемкину 16 сен. 1788 и Потемкин Литтлпейджу).
(обратно)810
Переписка. № 898 (Потемкин Екатерине II 17 окт. 1788); РГВИА 52.2.82.21, 23 (Потемкин Полу Джонсу б/даты и Пол Джонс Потемкину 20 окт. 1788).
(обратно)811
Там же.
(обратно)812
Переписка. № 898 (Потемкин Екатерине II 17 окт. 1788).
(обратно)813
Там же.
(обратно)814
Damas 1912. Р. 72.
(обратно)815
Joseph II — Cobenzl. Vol. 2. P. 299 (Кобенцль Иосифу II 24 окт. 1788); Langeron. Resume des campages // AAE 20: 74.
(обратно)816
BM 33540. F. 489 (С. Бентам И. Бентаму).
(обратно)817
Самойлов 1867. Стб. 1251.
(обратно)818
Damas 1912. P. 63-64; Цебриков 1875. С. 151, 172, 177 (5 июня 1788).
(обратно)819
Переписка. № 889 (Потемкин Екатерине II 15 сен. 1788).
(обратно)820
Переписка, № 901 (Екатерина II Потемкину 7 нояб. 1788).
(обратно)821
Переписка. № 902 (Потемкин Екатерине II 17 нояб. 1788).
(обратно)822
Гарновский 1876. Т. 16. С. 213 (16 авг. 1788); С. 220,229-230 (Гарновский Попову 1 окт. и 29 нояб. 1788); Переписка. № 899,903 (Екатерина II Потемкину 19 окт., 27 нояб. 1788).
(обратно)823
Damas 1912. Р. 79-83.
(обратно)824
Переписка. № 907 (Потемкин Екатерине II 26 дек. 1788).
(обратно)825
Киевская старина. 1888. Декабрь. С. 587.
(обратно)826
Переписка. № 907 (Потемкин Екатерине II 26 дек. 1788).
(обратно)827
Переписка. № 906 (Екатерина II Потемкину 16 дек. 1788).
(обратно)828
Joseph II und Katarina. P. 325 (Иосиф II Кауницу 2 фев. 1789); Davis 1961. Р. 194.
(обратно)829
Переписка. № 907 (Потемкин Екатерине II 26 дек. 1788).
(обратно)830
Переписка. № 911 (Екатерина II Потемкину 2 фев. 1789).
(обратно)831
Храповицкий. 26 янв. 1789.
(обратно)832
Гарновский 1876. Т. 16. С. 236 (Гарновский Попову 3 фев. 1789).
(обратно)833
Memoirs. Р. 195-197.
(обратно)834
КФЖ. 11 фев. и 15 апр. 1789; Завадовский Румянцеву. С. 321 (26 мар. 1789); основные источники описания русско-турецкой войны 1788-1791 годов см. в примеч. 1 к главе 26; см. также: Madariaga 1981. Р. 407-411; Alexander 1989. Р. 262-285.
(обратно)835
PC. 1876. Октябрь. С. 23; Сб. ВИМ. Т. 7. С. 127 (Потемкин Суворову 23 апр. 1789).
(обратно)836
Переписка. № 933 (Екатерина II Потемкину, апр. 1789).
(обратно)837
Joseph II — Cobenzl. Vol. 2. P. 340 (Иосиф II Кобенцлю 24 апр. 1789); Р. 344 (19 мая 1789).
(обратно)838
Переписка. №№ 912,973 (Потемкин Екатерине II, февр., 9 июля 1789).
(обратно)839
Segur 1859. Р. 152-153.
(обратно)840
Otis 1900. Р. 359 (Пол Джонс Потемкину 13 апр. 1789).
(обратно)841
РГВИА 52.2.64.12 (Сегюр Потемкину, лето 1789); Segur 1859. Р. 164-165.
(обратно)842
Otis 1900. Р. 359 (Пол Джонс Потемкину 13 апр. 1789).
(обратно)843
Потемкин получал частые отчеты о событиях во Франции от русского посла в Париже И.М. Симолина (напр., 27 апр./8 мая 1790: «Король — призрак, заключенный в Тюильри. [...] Страшная анархия» (РГВИА 52.2.56.31)). Парижские новости посылал ему и граф Штакельберг из Варшавы: «Париж превратился в огромный лагерь; все двери заперты [...] улицы полны солдат, женщины подбадривают их...» (РГВИА 52.2.39.306, 26 июля/6 авг. 1789). Сегюр, вернувшись во Францию, также продолжал писать Потемкину: «Мы бьемся в конвульсиях», — писал он 9 мая н.с. 1790 (РГВИА 52.2.64.24).
(обратно)844
Переписка. № 967 (Потемкин Екатерине II 25 июня 1789); переписка Потемкина по польским делам с Ф.К. Браницким и О.М. фон Шта-кельбергом (РГВИА 52.2.39, 52.2.70, богатейший источник по истории русско-польских отношений); СИМПИК КВ. Т. 2. С. 9 (Потемкин Белому 2 янв. 1788); С. 10 (Потемкин Головатому 10 авг. 1788); С. 24 (ему же 4 окт. 1789).
(обратно)845
Переписка. № 962 (Потемкин Екатерине II 10 июня 1789)
(обратно)846
Массон 1996. С. 42; Головина 1996. С. 165.
(обратно)847
Vigee Lebrun 1879. P. 13-14.
(обратно)848
Храповицкий. 19 июня 1789.
(обратно)849
Переписка. № 969, 975 (Екатерина II Потемкину 29 июня и 14 июля 1789).
(обратно)850
Переписка. № 976 (Потемкин Екатерине II 18 июля 1789).
(обратно)851
АКВ. Т. 12. С. 63 (Завадовский С.Р. Воронцову 1 июня1789).
(обратно)852
Переписка. № 980 (Екатерина II Потемкину 5 авг. 1789).
(обратно)853
Переписка. № 971 (Потемкин Екатерине II 5 июля 1789); № 975 (Екатерина II Потемкину 14 июля 1789).
(обратно)854
Переписка. № 972 (Екатерина II Потемкину 6 июля 1789).
(обратно)855
Переписка. № 979 (Потемкин Екатерине II 30 июля 1789); № 983 (Екатерина II Потемкину 12 авг. 1789); Массон 1996. С. 110.
(обратно)856
PRO FO, cyphers 65. SP 181 (барон Келлер из Петербурга в Берлин 26 фев. 1789); Saint-Jean 1888. Р. 137-145; этот источник сомнителен, но см. также отзыв Потемкина о В.А. Зубове в измаильском деле: Переписка. № 1097 (Потемкин Екатерине II18 дек. 1790); Damas 1912. Р. 113.
(обратно)857
Суворов. Документы. Т. 3. С. 500-510; С. 553 (Суворов Хвостову 29 авг. 1796); Лопатин 1992. С. 157-170; РГИА 1146.1.33 (рапорты Гарновского Потемкину 27 июля 1789); Долгорукий 1889. С. 512.
(обратно)858
Лопатин 1992. С. 165 (Потемкин Суворову 8 сен. 1789); РГВИА 52.2.52.8 (Потемкин де Линю 15 сен. 1789).
(обратно)859
Лопатин 1992. С. 167.
(обратно)860
Переписка. № 1015 (Потемкин Екатерине II 9 нояб. 1789).
(обратно)861
РГВИА 52.2.39.28 (Потемкин Штакельбергу 7 нояб. 1789); РГВИА 52.2.46.3, 14 (Иосиф II Потемкину 1 и 5 дек. 1789); ответные письма Потемкина Иосифу II и его переписка с Кауницем, Кобенцлем и де Линем показывают его тесные отношения с австрийцами в 1789 году.
(обратно)862
Переписка. № 1014,996,1000 (Потемкин Екатерине II 9 нояб., 22 сен., 2 окт. 1789).
(обратно)863
Лопатин 1992. С. 173 (Потемкин Суворову и Суворов Попову 8 нояб. 1789).
(обратно)864
Catherine II — Ligne. P. 114 (Екатерина II де Линю 5 нояб. 1789); Переписка. № 1008 (Екатерина II Потемкину 18 окт.).
(обратно)865
Переписка. № 1016 (Екатерина II Потемкину 15 нояб.); № 1021 (Потемкин Екатерине II 5 дек. 1789); № 1023 (Екатерина II Потемкину 20 дек. 1789; пер. с франц.).
(обратно)866
Переписка. № 1021 (Потемкин Екатерине II 5 дек. 1789).
(обратно)867
РГВИА 271.1.43.3 (Иосиф II Потемкину 7 окт. 1789).
(обратно)868
Головина 1996. С. 105.
(обратно)869
Ligne 1827-1829. Vol. 7. Р. 199 (де Линь Сегюру 1 дек. 1788).
(обратно)870
ААЕ 20: 80-10 (Langeron. Journal de la campagne de 1790).
(обратно)871
Ligne 1827-1829. Vol. 7. P. 199-210 (де Линь Сегюру 1 дек. 1788).
(обратно)872
Castera 1798. Vol. 3. P. 294; Sain-Jean 1888. P. 48-54, 137-145; AAE 20: 38: Langeron. Journal de la campagne de 1790.
(обратно)873
AAE 20: 367: Langeron. Resume 1790.
(обратно)874
РГВИА 52.11.91.11 (князь Н.Маврогени, господарь Валахии, Потемкину 5 нояб. 1789); РГВИА 52.11.91.6 (ответ Потемкина 24 окт. 1789); Dvoichenko-Markov 1963. Р. 208-218.
(обратно)875
Самойлов 1867. Стб. 1553.
(обратно)876
РГВИА 52.11.91.25-26 (кн. Кантакузин и др. Потемкину 12 фев. 1790); РГВИА 52.11.91.23-24 (молдавские бояре Потемкину б/даты и 17 нояб. 1789).
(обратно)877
ЗООИД. Т. 4. С. 470; Haupt 1966. Р. 58-63.
(обратно)878
Энгельгардт 1997. С. 82.
(обратно)879
Брикнер 1891. С. 254-255.
(обратно)880
ААЕ 20:131 (Langeron. Evenements de 1790-1791); Сб. ВИМ. Т. 8. С. 22.
(обратно)881
РГВИА 52.2.56.32-33 (Симолин Потемкину 16/26 июля 1790).
(обратно)882
РГВИА 52.2.35.35 (Потемкин Сутерланду 1/16 мар. 1787 об уплате Гримму за парижские покупки); Литературное наследство. Т. 29-30. С. 386-389.
(обратно)883
Ligne 1809. Vol. 2. Р. 5 (де Линь Сегюру 1 авг. 1788); Массон 1996. С. 70; Пушкин. Ак. Т. 12. С. 173.
(обратно)884
РГАДА 11.895.3-5, 7 (Сутерланд Потемкину 10 авг., 13 сен. 1783, 2 мар. 1784); РГВИА 52.22.35.4 и РГАДА 11.895.13 (Сутерланд Потемкину 6 и 22 окт. 1788).
(обратно)885
Храповицкий. 24 дек. 1789.
(обратно)886
Kramer, McGrew 1974. В этой работе опубликованы выдержки из дневников Бароцци, хранящихся в австрийском архиве: Haus-, Hof- und Staatsarchiv Russland II Berichte 202A-206B.
(обратно)887
РГИА 468.1.2.3904 (список драгоценностей, посланных в Яссы для переговоров с турецкими представителями.)
(обратно)888
ЗООИД. Т. 8. С. 195-196 (Потемкин Бароцци 16/27 фев. 1790).
(обратно)889
Переписка. № 1031 (Екатерина II Потемкину 6 фев. 1790); Blanning 1970. Vol. 1. Р. 189,198. Неопубликованная переписка Иосифа II с Потемкиным хранится в РГВИА.
(обратно)890
РГВИА 52.2.46.9 (Леопольд Потемкину 30 мар. 1790 и Потемкин Леопольду б/даты); 52.2.46.6 (Потемкин Леопольду б/даты).
(обратно)891
РГВИА 52.2.46.4 (Потемкин Леопольду 25 мая 1790 года).
(обратно)892
Переписка. №. 893 (Потемкин Екатерине II, ноябрь-декабрь 1789)
(обратно)893
Переписка. № 1019 (Екатерина II Потемкину 2 дек. 1789).
(обратно)894
Энгельгардт 1997. С. 82-83.
(обратно)895
Переписка. № 1034 (Потемкин Екатерине II 25 фев. 1790).
(обратно)896
Переписка. № 1021 (Потемкин Екатерине II 5 дек. 1789); № 1045,1047 (Екатерина II Потемкину 30 мар., 8 апр. 1790).
(обратно)897
Переписка. № 1030 (Потемкин Екатерине II 23 янв. 1790).
(обратно)898
Переписка. С. 920.
(обратно)899
РВ. 1842. № 7-8. С. 17-18.
(обратно)900
АКВ. Т. 5. С. 402.
(обратно)901
Переписка. № 1096 (Потемкин Екатерине II 3 дек. 1790).
(обратно)902
Лопатин 1992. С. 179.
(обратно)903
Переписка. № 1059 (Потемкин Екатерине II 19 июня 1790).
(обратно)904
Переписка. № 1072 (Екатерина II Потемкину 9 авг. 1790).
(обратно)905
Переписка. № 1073 (Потемкин Екатерине II 16 авг. 1790).
(обратно)906
Дубровин 1886. С. 120.
(обратно)907
Ришелье 1886. С. 147-149.
(обратно)908
Головина 1996. С. 106.
(обратно)909
Там же.
(обратно)910
Langeron ААЕ 20:158 (Evenements de 1790-1791).
(обратно)911
РГВИА 52.2.47.12 (Потемкин Кауницу, окт. 1790).
(обратно)912
Richelieu 1886. С. 147-149; Vigee Lebrun 1879. Vol. 1. Р. 321.
(обратно)913
Энгельгардт 1997. С. 88.
(обратно)914
ААЕ 20: 226. Langeron (Evenements de 1790-1791).
(обратно)915
ААЕ 20: 143. Langeron (Evenements de 1790-1791).
(обратно)916
Пушкин. Ак. Т. 12. С. 173.
(обратно)917
Переписка. № 1092 (Екатерина II Потемкину 1 нояб. 1790).
(обратно)918
Переписка. № 1081 (Потемкин Екатерине II 10 сен. 1790); №№ 1087, 1089 (Екатерина II Потемкину 30 сен., 1 окт. 1790).
(обратно)919
ЗООИД. Т. 8. С. 30-31.
(обратно)920
Переписка. № 1079 (Потемкин Екатерине II 4 сен. 1790); № 1085 (Екатерина II Потемкину 16 сен. 1790).
(обратно)921
Переписка. № 1079 (Потемкин Екатерине II 4 сен. 1790); № 1085 (Екатерина II Потемкину 16 сен. 1790).
(обратно)922
Суворов. Документы. Т. 2. С. 524-525; Кутузов. Документы. Т. 1. С. 113.
(обратно)923
Сб. ВИМ. Вып. 8. С. 193-194 (Потемкин Гудовичу 28 нояб. 1790).
(обратно)924
Сб. ВИМ. Вып. 8. С. 195 (Суворов Потемкину 3 дек. 1790).
(обратно)925
РВ. 1841. № 8. С. 345.
(обратно)926
Damas 1912. Р. 151.
(обратно)927
Longworth 1965. Р. 168.
(обратно)928
ААЕ 20: 235. Langeron. Evenements de 1790-1791.
(обратно)929
Damas 1912. P. 153-155.
(обратно)930
Там же. С. 153.
(обратно)931
Richelieu 1886. С. 181-183.
(обратно)932
Сб. ВИМ. Вып. 8. С. 197.
(обратно)933
Дух журналов. 1817. Ч. 8. Кн. 9. С. 429-430.
(обратно)934
Лопатин 1992. С. 198-211.
(обратно)935
Переписка. № 1102,1101 (Потемкин Екатерине II 13, 11 янв. 1791).
(обратно)936
Переписка. № 1107 (Екатерина II Потемкину 22 янв. 1791).
(обратно)937
Переписка. № 1106 (Потемкин Екатерине II, до 18 янв. 1791).
(обратно)938
McKay, Scott 1983. Р. 240-242; Ehrman 1983. Р. 12-17.
(обратно)939
Stedingk 1919. Р. 77, 87 (Стединг Густаву III 8 и 16 фев. 1791).
(обратно)940
Stedingk 1919. Р. 94 (Стединг Густаву III 11 марта 1791).
(обратно)941
Stedingk 1919. Р. 98 (Йеннингс Фронсу 17 мар. н.с. 1791).
(обратно)942
Stedingk 1919. Р. 96 (Стединг Густаву III 17 мар. н.с. 1791); автором «Оды Потемкину» был, возможно, П.П. Сумароков (см.: Болотина 1995. С. 254).
(обратно)943
AGAD 421: 12-15, 20-21 (Деболи Станиславу Августу 1 и 8 апр. 1791); Stedingk 1919. Р. 103 (Стединг Густаву III 25 мар. 1791).
(обратно)944
Stedingk 1919. Р. 98-108 (Стединг Густаву III и Йеннигс Фронсу 17,21-25 мар., 1 апр. 1791).
(обратно)945
ААЕ 20: 134-135 (Langeron. Evenements de 1790-1791).
(обратно)946
Vigee Lebrun 1879. Vol. 1. P. 325; Czartoryski 1888. P. 37.
(обратно)947
AGAD 421: 12-15 (Деболи Станиславу Августу 1 апр. 1791); Stedingk 1919. P. 108 (Йеннингс Фронсу 1 апр. 1791); ААЕ 20: 286. Langeron. Evenements 1790.
(обратно)948
Stedingk 1919. P. 107-110 (Йеннингс Фронсу 1 апр. 1791); Р. 113-116 (Стединг Густаву III 8 апр. 1791).
(обратно)949
AGAD 421: 16-19 (Деболи Станиславу Августу 5 апр. 1791).
(обратно)950
Джеджула 1972. С. 281; Литературное наследство. Т. 29-30. М., 1937. С. 448-450 (Симолин Остерману 21 мар./1 апр. 1791); Сб. РИО. Т. 23. С. 520 (Екатерина II Гримму 30 апр. 1791).
(обратно)951
Stedingk 1919. P. 1ll (Стединг Густаву III 8 апр. 1791).
(обратно)952
Храповицкий. 17 мар. 1791.
(обратно)953
Вернадский Г.В. Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг.,1917 С. 237-239 (цит. по: Лопатин 1992. С. 213).
(обратно)954
Храповицкий. 17 мар. 1791.
(обратно)955
Lord 1915. Р. 180-181; Goertz 1969. Р. 74.
(обратно)956
PC. 1892. Апрель. С. 179.
(обратно)957
Храповицкий. 7, 8, 9, 15 апр. 1791.
(обратно)958
PC. 1887. Август. С. 317.
(обратно)959
PRO FO SP 106/67, № 29 (Уитворт из Петербурга 10 июня 1791).
(обратно)960
Одесский краеведческий музей. Приглашение, адресованное графине Остерман.
(обратно)961
Описание праздника в Таврическом дворце основывается на: Сб. РИО. Т. 23. С. 517-519 (Екатерина II Гримму, 29 апр. 1791); Memoirs. Р. 243; Masson. Р. 240-244, 386-387; Дьяченко 1997. С. 1-64; О приватной жизни Потемкина. № 3. С. 21-28; Жизнь Потемкина 1811. Ч. 2. С. 108-114; Жизнь Потемкина 1812. Ч. 2. С. 93-105.
(обратно)962
Кирьяк 1867. С. 686; Державин 1864-1871. Т. 1. С. 395.
(обратно)963
В рассказе о польской революции, помимо указанных ниже источников, использованы: Alexander 1989. Р. 285-292; Madariaga 1981. Р. 409-416; Lord 1915. Р. 512-528; Zamoyski 1992. Р. 337, 346; Ehrman 1983. Р. 26-41; McKay, Scott 1983. Р. 240-247; Lojek 1970; Lukowski 1999.
(обратно)964
Сб. РИО. Т. 23. С. 519-520 (Екатерина II Гримму 29 и 30 апр. 1791).
(обратно)965
Переписка. № 1120 (Екатерина II Потемкину, май 1791).
(обратно)966
РВ. 1841. № 8. С. 366-367 (приказы Потемкина Ушакову и Репнину 11 мая 1791).
(обратно)967
РА. 1874. № 2. С. 251-252; Lojek 1970. Р. 579-581.
(обратно)968
РГВИА 52.2.68.32, 30 (Ф. Потоцкий Потемкину 12 окт. 1790 и 9 июля 1791); Lord 1915. Р. 527-528. (Потоцкий Потемкину 14 мая 1791);РГВИА 52.2.68.47, 48 (Потемкин Потоцкому 18/29 мая 1790 и 8 фев. 1791).
(обратно)969
АКВ. Т. 13. С. 227 (Безбородко С.Р. Воронцову 17 нояб. 1791); Сб. РИО. Т. 27. (1880). С. 332-333 (рескрипт Екатерины II Потемкину о запорожцах и некрасовцах от 15 апр. 1784); Сб. РИО. Т. 27. С. 338, 416; Lord 1915. Р. 513.
(обратно)970
AGAD 421. Р. 58-65 (Деболи Станиславу Августу 17 мая 1791).
(обратно)971
PRO FO № SP 106/67 (Фокнер Гренвиллу 2 июня 1791).
(обратно)972
PRO FO № 106/67 (Фокнер Гренвиллу 2,18 июня 1791).
(обратно)973
РГВИА 52.2.89.159 (С.Р. Воронцов Потемкину 3 мая 1791).
(обратно)974
PRO FO № 106/67 (Ч. Уитворт. № 41. 5 авг. 1791); Stedingk 1919. Р. 146 (Стединг Густаву III 25 июня 1791).
(обратно)975
Державин 1864-1871. Т. 6. С. 592.
(обратно)976
Там же. С. 619-620.
(обратно)977
AGAD 421. Р. 122-123 (Деболи Станиславу Августу 22 июля 1791); АКВ. Т. 8. С. 44 (Ростопчин С.Р. Воронцову 25 дек. 1791; пер. с франц.); PRO FO № 106/67 (Фокнер. № 4. 7 июня 1791; № 8. 21 июня 1791).
(обратно)978
PRO FO № 106/67 (Уитворт 8 июля 1791).
(обратно)979
Переписка. № 1123,1127 (Екатерина II Потемкину, июнь 1791); AGAD 421. Р. 122-123 (Деболи Станиславу Августу 22 июля 1791).
(обратно)980
AGAD 421. Р. 122-123 (Деболи Станиславу Августу 31 мая 1791); РГВИА 52.2.21.164 (рапорт Потемкина Екатерине II от 19 июня 1791, о рейде Кутузова через Дунай 4 июня 1791). Переписка. № 1128 (Потемкин Екатерине II 2 июля 1791); КФЖ. 2 июля 1791.
(обратно)981
PRO FO № 106/67 (ноты, подписанные Уитвортом, Фокнером и Герцем в Петербурге 11/22 и 16/27 июля 1791); КФЖ. 12 июля 1791; Переписка. №N2 ИЗО, 1131 (Екатерина II Потемкину 12 июля 1791); РГВИА 52.2.22.11-15 (рапорт Репнина Потемкину о Мачинской баталии).
(обратно)982
ААЕ 20: 312 (Langeron. Evenements de 1790-1791-1791); Stedingk 1919. P. 209 (Йеннингс Фронсу, дек. 1791); Переписка. № 1135 (Екатерина II Потемкину 22 июля 1791).
(обратно)983
Vigee Lebrun 1879. Vol. 1. P. 323.
(обратно)984
Lojek 1970. P. 579-581.
(обратно)985
PRO FO, cyphers 106/67 (Уитворт Гренвиллу. № 40. 5 авг. 1791; Уитворт. 12 июля 1791).
(обратно)986
PC. 1876. № 9. С. 43.
(обратно)987
РА. 1874. № 2. С. 281-289 (рескрипт Екатерины Потемкину о Польше от 18 июля 1791).
(обратно)988
Головина 1996. С. 108; Переписка. № 1136 (Екатерина II Потемкину 25 июля 1791; пер. с франц.); КФЖ. 24 июля 1791.)
(обратно)989
Oginski 1826. Vol. 1. Ch. 7. Р. 146-153.
(обратно)990
Массон 1996. С. 69; Ligne 1795-1811. Vol. 24. P. 67 (де Линь Иосифу II, апр. 1788).
(обратно)991
РГВИА 52.2.22.90-103 (Н.И. Репнин Потемкину, июль-авг. 1791); Переписка. № 1144 (Екатерина II Потемкину 12 авг. 1791); Сб. РИО. Т. 29, С. 220 (Безбородко Завадовскому 17 нояб. 1791); Энгельгардт 1997. С. 94; Сб. РИО. Т. 23. С. 553 (Екатерина II Гримму 27 авг. 1791); PRO FO № 106/67 (Уитворт Гренвиллу 5 авг. 1791); Самойлов. Стб. 1555-1557).
(обратно)992
АКВ. Т. 8. С. 37 (Ф.В. Ростопчин С.Р. Воронцову 7 окт. 1791); Самойлов. Стб. 1555; Переписка. № 1145 (Потемкин Екатерине II 15 авг. 1791).
(обратно)993
Переписка. С. 955 (Попов Безбородко 24 авг. 1791); № 1149 (Екатерина II Потемкину 28 авг. 1791).
(обратно)994
Храповицкий. 28 и 29 авг. 1791; Переписка. № 1147 (Потемкин Екатерине II24 авг. 1791).
(обратно)995
Переписка. № 1150,1151 (Екатерина II Потемкину 4 сен. 1791, Потемкин Екатерине II6 сен. 1791).
(обратно)996
РГВИА 52.2.89.95 (К.С. Чернизен (?) Попову, «для доклада фельдмаршалу», 9 сен. 1791); РГВИА 52.2.68.50 (Потемкин Ф. Потоцкому б/д (4 сен. 1791?) и 52.11.71.16 (Потемкин С. Ржевускому б/д); Zamoyski 1992. Р. 357; Сб. ВИМ. Т. 8. С. 254 (рапорты Потемкина о переговорах с великим визирем о возвращении флота, 29 авг. 1791).
(обратно)997
РГВИА 52.2.89.166, 271.1.65.1 (Потемкин Сенаку де Мейлану 27 авг. 1791, Сенак де Мейлан Потемкину 6 авг. 1791).
(обратно)998
Лопатин 1992. С. 239; Васильчиков 1880. Т. 3. С. 122 (А.К. Разумовский Потемкину).
(обратно)999
АКВ. Т. 25. С. 467 (Екатерина II А.В. Браницкой 16 сен. 1791); ЗООИД. Т. 3. С. 559 (митрополит Иона о посещении Потемкина).
(обратно)1000
Переписка. № 1154 (Потемкин Екатерине II 16 сен. 1791).
(обратно)1001
Переписка. С. 958 (Попов Екатерине II16 сен. 1791).
(обратно)1002
Переписка. С. 959 (Потемкин Безбородко 16 сен. 1791); РГВИА 52.2.55.253,247,268 (депеши из Вены о Потемкине и мирных переговорах от 21, 17 и 28 сен. 1791); Переписка. № 1155 (Потемкин Екатерине II 21 сен. 1791).
(обратно)1003
РА. 1878. № 1. С. 21 (Попов Екатерине II 25 сен. 1791); ЗООИД. Т. 3. С. 559.
(обратно)1004
РА. 1787. № 1. С. 21-22 (Попов Екатерине II 27 сен. 1791); № 1158 (Потемкин Екатерине II 27 сен. 1791).
(обратно)1005
РА. 1787. № 1. С. 22 (Попов Екатерине II 2 окт. 1791); Переписка. № 1159 (Екатерина II Потемкину 30 сен. 1791).
(обратно)1006
Переписка. № 1160 (Потемкин Екатерине II 2 окт. 1791).
(обратно)1007
Переписка. № 1161 (Екатерина II Потемкину 3 окт. 1791); АКВ. Т. 25. С. 467 (Екатерина II А.В. Браницкой 3 окт. 1791).
(обратно)1008
Переписка. № 1162 (Потемкин Екатерине II 4 окт. 1791).
(обратно)1009
Самойлов 1867. Стб. 1560, 1569; АКВ. Т. 13. С. 216-222 (Безбородко Завадовскому, нояб. 1791, Яссы); ААЕ 20: 360-362 (Langeron. Evenements de 1790-1791); Переписка, С. 961-964. Ходили слухи, что Потемкина отравил доктор Тиман, по приказу то ли Зубова, то ли самой Екатерины. Их опровергает, в частности, Ланжерон. Скоро появился роман-памфлет «Пансалвин — князь тьмы» (Pansalvin, Fiirst der Finstemis), принадлежавший перу масона Альбрехта — о том, как добрая царица приказала отравить своего злодея соправителя.
(обратно)1010
Энгельгардт 1997. С. 96-97.
(обратно)1011
Храповицкий. 16 окт. 1791; РА. 1878. Кн. 3. С. 198-199 (Екатерина II Гримму 13 окт. 1791).
(обратно)1012
Храповицкий. 16 окт. 1791.
(обратно)1013
Сб. РИО. Т. 23. С. 561 (Екатерина II Гримму 22 окт. 1791).
(обратно)1014
РГАДА 5.138.9 (М.С. Потемкин Екатерине II 6 дек. 1791, Яссы); ЗООИД. Т. 9. С. 222-225 (рапорт М.С. Потемкина); С. 227 (Александр I гос. казначею барону Васильеву 21 апр. 1801); ЗООИД. Т. 8. С. 226-227 (записка Попова о финансах Потемкина, 9 мая 1800); С. 225-226 (краткое изъяснение доходов и расходов экстраординарных сумм); ЗООИД. Т. 9. С. 226 (указ Екатерины II о долгах Потемкина, 20 авг. 1792); Брикнер 1891. С. 274; Карнович 1885. С. 314; Трегубов 1908. С. 101-102.
(обратно)1015
Stedingk 1919. Р. 188 (Стединг Густаву III 28 окт. 1791); Cross 1997. Р. 80-81; АКВ. Т. 13. С. 222 (Безбородко Завадовскому, нояб. 1791); РГАДА 11.902а.30 (реестр долгов Потемкина: здесь перечислены долги светлейшее го — от сумм, которые он остался должен Сутерланду, до счетов за ониксовые колонны для Таврического дворца, брильянты, шали (1880 руб.), женские платья (свыше 12 тыс. руб.), устрицы, фрукты, спаржу и шампанское).
(обратно)1016
Массон 1996. С. 69; Stedingk 1919. Р. 188 (Стединг Густаву III 4 нояб. 1791).
(обратно)1017
Stedingk 1919. Р. 196 (Йеннингс Фронсу б/даты).
(обратно)1018
Глинка 1845. С. 79; АКВ. Т. 13. С. 223-228 (Безбородко С.Р. Воронцову 17 нояб. 1791).
(обратно)1019
Энгельгардт 1997. С. 98; АКВ. Т. 8. С. 39 (Ростопчин С.Р. Воронцову 25 дек. 1791; пер. с франц.); АКВ. Т. 13. С. 223-228 (Безбородко С.Р. Воронцову 17 нояб. 1791).
(обратно)1020
Castera 1798. Vol. 3. Р. 333; Ligne 1795-1811. Vol. 22. P. 82 (де Линь Екатерине II, 1793).
(обратно)1021
Castera 1798. Vol. 3. Р. 333.
(обратно)1022
АКВ. Т. 13. С. 223-228 (Безбородко С.Р. Воронцову 17 нояб. 1791). Ср. с контекстом: «Что до войска касается, они в весьма хорошем состоянии. Отнюдь не изнурены, не босы и не нагие [...] Впрочем войско в духе, но и в своеволии. Оно не очень высоко ставит своих офицеров. Сии последний довольно хороши. Но признать надобно, что, нарядив их в куртки простого солдатского сукна, чего нигде нет, поставили их в такой вид, что их никак от нижних чинов не распознаешь. Солдаты весьма хвалят покойника и о нем сожалеют. Когда их спросишь, трудно ли им было перенести нужды под Очаковом и прочее, они обыкновенно отвечают: «Ну, тогда так нужда велела, да за то и город взяли; а после тем хорошо, что нас за ученья не бьют, как прежде били, и лишней чистоты не спрашивают». Случалось, что офицеры, видя непослушание и своевольство, жаловалися покойнику; но он любил всегда править подчиненных, и винить начальников. С другой стороны и офицерство чувствует, что уже у него не будет такого сильного предводителя, по которого словам производили и награждали всякого. Впрочем строй упал во многом, и все, что составляет основание тактики, совершенно пренебрежено. Жаль, смотря на сию прекрасную армию, что она в сей части толико упущена. [...] Я не знаю, как граф Николай Иванович [Салтыков, вице-президент Военной коллегии] выдет из всего нынешнего воинского хаоса. Названия полков и вооружение их, все не то, что мы знаём, и ни на что нет почти государевой конфирмации. Страннее всего, что покойникова страсть к казакам до того простиралася, что он все видимое превращал в сие название. В Екатеринославской губернии мещанин, однодворец, грек, раскольник, серб и волох преображены в казака. Но тяжелее всех так называемые черноморцы. Они отпускаются по билетам своих начальников, шатаются по губернии, грабят, разбойничают и людей убивают. В самом Кременчуке по ночам опасно выдги на улицы, и были примеры, что домы ограблены. Недовольно, что сии разные народы и состояния народныя учинили-ся казаками: покойник хотел всю почти регулярную конницу теми же сделать и, составя полки казачьи, хоть и регулярные, определить в них донских старшин полковниками. [...] Другое у него пристрастие было к названию Екатеринославского: имея кирасир, и егарей сего имени, учредил он полк гранодер Екатеринославских в десяти баталионах, т.е. одних рядовых до девяти тысяч. Возможно ли туг управиться полковнику, которого из городничих взял? Равная нелепость сделана и с кирасирами, которых 24 эскадрона в один полк втащил и которые приносят только пользу Энгельгарду. Легкие войска казачья, надобно отдать справедливость, в весьма хорошем состоянии. Начальники их люди предостойные, бригадиры Орлов и Платов и полковник Исаев люди знающие, скромные и такие, что нигде их показать нестыдно. [...] Корабельный флот наш в весьма почтительном количестве судов. Я думаю, что вы имеете о том ведомости, каковые нынешний начальник армии послал к государыне. Флотилия также довольно хороша. [...]» (Примечание переводчика.)
(обратно)1023
ААЕ 20: 362 (Langeron. Evenements de 1790-1791); Брикнер 1895. С. 841. Что касается управления армией — Потемкин действительно позволял полковым командирам использовать их положение для личного обогащения, но в последние годы учредил инспекцию для предотвращения злоупотреблений. Иностранцы (напр., Damas 1912. Р. 114-116) утверждают, что он полностью пренебрегал учениями, но архивы и опубликованные документы показывают, что это не так (напр., Сб. ВИМ. Т. 4. С. 217). Потемкин просто не видел смысла в жестокой и педантичной прусской муштре и опирался на татарскую, казацкую и русскую военные традиции, что оскорбляло европейцев, в частности, Ланжерона, Дама и де Линя. Если же говорить о коррупции, то можно вспомнить, что во Франции при Людовике XVI она была ничуть не меньше, а в британской армии, хотя частично и реформированной в 1798 году, должности продавались вплоть до 1871 г.
(обратно)1024
Richelieu 1886. С. 148-149.
(обратно)1025
Энгельгардт 1997. С. 97-102.
(обратно)1026
Храповицкий. 10 сен. 1792.
(обратно)1027
Otis 1900. Р. 359.
(обратно)1028
Массон 1996. С. 33; Сб. РИО. Т. 23. С. 574 (Екатерина II Гримму 14 авг. 1792; Ligne 1795-1811. Vol. 24. Р. 183 (де Линь Кауницу 15 дек. 1788, Яссы; де Линь утверждает, что отстранение Павла от престолонаследия планировалось уже в 1788).
(обратно)1029
ЗООИД. Т. 9. С. 226 (рескрипт Павла I 11 апр. 1799); Болотина 1995. С. 252-264.
(обратно)1030
ААЕ 20: 134-135 (Langeron. Evenements de 1790-1791); Вигель 2000.С. 16.
(обратно)1031
Yusupov 1953. P. 6-9.
(обратно)1032
PA. 1906. № 12. С. 614.
(обратно)1033
РП. Т. 3. Вып. 1. С. 10; РП. Т. 1. Вып. 2. С. 120; Palmer 1972. Р. 36, 136-137, 148, 322.
(обратно)1034
Фаника Унгуряну, профессор экономики Ясского университета (Румыния), показала автору это место в октябре 1998 г.
(обратно)1035
РГАДА 11.966.1-2 (Попов Екатерине II, окт. 1791 и 27 мар. 1792); ЗООИД. Т. 9. С. 390-393; Карпова 1984. С. 355-364.
(обратно)1036
ЗООИД. Т. 9. С. 390-393; Т. 5. С. 1006 (Павел I А.Б. Куракину 27 мар. 1798; А.Б. Куракин губернатору Селецкому, апр. 1798). Ланжерон, близкий ко двору Павла I, писал в 1824 году: «Комендант крепости имел мужество не повиноваться приказу, но доложил, что приказ выполнен» (ААЕ 20: 331).
(обратно)1037
Карпова 1984. С. 355-364.
(обратно)1038
ЗООИД. Т. 5. С. 1006 (Ф. Мильгоф. Письмо из Херсона).
(обратно)1039
ЗООИД. Т. 9. С. 395-396 (Н. Мурзакевич, 30 авг. 1874).
(обратно)1040
Лавренев 1991. С. 154-155.
(обратно)1041
Из письма Л.Г. Богуславского Е.В. Анисимову 15 июля 1986.
(обратно)



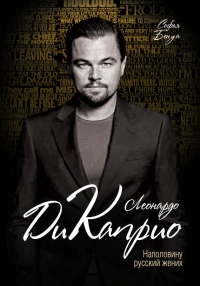

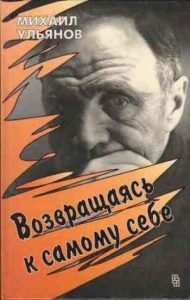
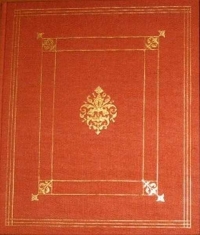
Комментарии к книге «Потемкин», Саймон Джонатан Себаг Монтефиоре
Всего 0 комментариев