Эдуард Филатьев Главная тайна горлана-главаря. Книга первая. Пришедший сам
© Э.Филатьев, 2014
© ООО «ЭФФЕКТ ФИЛЬМ», 2014
Текст печатается в авторской редакции
Пролог или Предисловие к жизни
«Я – поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Об остальном – только если это отстоялось словом».
Владимир Маяковский «Я сам», 1922 год.«Мне наплевать на то, что я поэт. Я не поэт, а прежде всего человек, поставивший своё перо в услужение – заметьте, в услужение! – сегодняшнему часу, настоящей действительности и проводнику её – Советскому правительству и партии!»
Из выступления Владимира Маяковского 15 октября 1927 года на диспуте «Пути и политика Совкино».Сначала – финал
Их было двое в комнате-лодочке. Оба – одного и того же роста и возраста, одинаково одетые и обутые, похожие друг на друга, как две капли воды, и неразлучные, как сиамские близнецы.
И им было тесно. В этой необъятной стране. И в этой сумбурно-взбудораженной жизни. Они давно мешали друг другу, и каждый понимал, что кто-то должен отойти в сторону, уступить место другому, навсегда исчезнув с лица земли.
Уже было написано прощальное письмо, в котором прямо говорилось, что выходов из сложившейся ситуации нет. Два дня это послание носилось в кармане.
И вот одна рука решительно оторвала два листочка календаря. Другая достала из ящика стола пистолет. В его обойме был только один патрон. Затем пистолетный ствол был резко повернут к сердцу.
На какое-то мгновение повисла томительная пауза.
Потом прогремел выстрел.
И высокий мужчина средних лет в жёлтой рубашке с чёрным галстуком-бабочкой, в шерстяных коричневых брюках и в жёлтых полуботинках грузно рухнул на пол.
Часы показывали четверть одиннадцатого утра.
На календаре бесстрастно застыла дата завтрашнего дня – 15 апреля 1930 года.
Через какое-то время к распластанному на полу «комнаты-лодочки» бездыханному телу примчались сотрудники ОГПУ – благо их ведомство находилось через дорогу. А на следующий день на пятой странице «Правды», главной газеты страны Советов, был помещён портрет поэта Владимира Маяковского в траурной рамке. Ниже размещался некролог «Памяти друга», подписанный двадцатью семью скорбевшими. Список начинался и заканчивался фамилиями гепеушников, занимавших в своем управлении ответственные посты.
Вот тогда-то и возник вопрос: откуда оно – столь пристальное внимание со стороны «чрезвычайных органов» к почившему поэту?
Впрочем, кто сказал, что Лубянку интересовал стихотворец Маяковский?
Да, лишивший себя жизни гражданин Советского Союза сочинял стихи, поэмы, писал пьесы и рифмованные лозунги-агитки. Но в остальное время он занимался делами, которые к литературе не имели никакого отношения. Эта («остальная») часть жизни огласке не придавалась – подобное умолчание объяснялось тем, что это, дескать, ещё не «отстоялось словом».
Лишь во вступлении к поэме «Во весь голос», написанной незадолго до рокового выстрела, поэт неожиданно признался в том, что у него, кроме поэтической, существует ещё одна сфера деятельности, которой приходится отдавать силы и время.
Вспомним эти строки, в своё время тысячи раз читанные, перечитанные и даже заученные наизусть! Они таят в себе необыкновенно откровенную информацию:
«Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный и призванный,
ушёл на фронт
из барских садоводств
поэзии —
бабы капризной».
На что намекал поэт, перечисляя свои профессии, внешне довольно схожие, но всё же не очень совместимые?
Обоими делами ему поручила заниматься революция. Но на одно он был «мобилизован», то есть брошен по принуждению, как бы насильно, а на другое – «призван», то есть пошёл исполнять его добровольно, по велению души и сердца.
Загадочная раздвоенность
В черновиках поэмы «Во весь голос» сохранился вариант: «ассенизатор и бомбовоз».
Что это за «бомбы» такие? И куда возил их «мобилизованный» и «призванный» Маяковский?
В том же вступлении к поэме без всяких обиняков сказано, что эти загадочные «бомбы» предназначались для некоего «фронта», куда он и отправился, отринув в сторону «капризную бабу» — поэзию. И пока другие стихотворцы беспечно «мандолинят из-под стен», поэт Маяковский сражается в многочисленных битвах, порою становясь (на войне, как на войне!) «на горло собственной песне».
Однако «капризная» поэтическая «баба» всё равно требовала к себе пристального внимания, и приходилось раздваиваться, то становясь «ассенизатором», то принимая облик «водовоза-бомбовоза».
От «товарищей потомков» поэт решил ничего не скрывать и предельно откровенно предстал перед ними в двух ипостасях сразу, назвав себя сдвоенным прозвищем – «горланом-главарём». Тем самым он как бы подбросил грядущим поколениям непростую головоломку: дескать, попробуйте отгадать, где и когда я – «горлан», а где и когда – «главарь»?
А современники Маяковского понимали смысл той загадочной иносказательности? Догадывались ли они, о каком таком «фронте» идёт речь в поэме, читавшейся им «во весь голос»?
Понимали. Во всяком случае, о многом догадывались. Но своими догадками делиться с другими не спешили.
Поэтесса Анна Андреевна Ахматова о странной многоликости Маяковского писала с большой осторожностью:
«… он <…> бывал и тёмен, и двуличен и неискренен».
Художник Юрий Павлович Анненков высказался чуть определённее:
«Писать о Маяковском трудно, он представлял собою редкий пример человеческой раздвоенности. Маяковский-поэт шёл рядом с Маяковским-человеком, почти не соприкасаясь друг с другом. С течением времени это ощущение становилось настолько реальным, что, разговаривая с Маяковским, я не раз искал глазами другого собеседника».
Даже в опубликованных в советское время (то есть самым тщательнейшим образом отредактированных) биографиях «лучшего, талантливейшего поэта» то и дело возникает образ «другого» Маяковского, встречаются нестыковки, несоответствия и прочие «тёмные» места и неразгаданные загадки.
Два десятилетия тому назад журналиста Валентина Ивановича Скорятина изумило утверждение кинорежиссёра Василия Васильевича Катаняна, заявившего:
«Известны все обстоятельства гибели Маяковского».
Скорятин в недоумении спрашивал:
«Неужели все? А вдруг кое-что ещё неизвестно, а то, что известно, можно прочитать сейчас иначе?.. Не лучше ли будет для дела, если мы спокойно и непредвзято разберёмся в давней трагедии?»
Предложение дельное и вполне логичное. Тем более что и Светлана Ефимовна Стрижнева, директор Государственного музея В.В.Маяковского, опубликовавшего следственное дело поэта, написала:
«… в истории самого дела много тёмных мест, высветить которые предстоит специалистам – историкам и литературоведам».
А сохранился ли ключ к этим таинственным секретам?
Должен сохраниться! Ведь в благоговейной тиши архивов лежат груды документов, способных разъяснить многое. Но знакомство с ними…
«… может оказаться шагом в бездну. Правда жестока!»
Именно так пророчески предупреждал Валентин Скорятин, один из тех, кто достаточно скрупулёзно изучал житие Маяковского.
Но какая именно «бездна» имелась в виду? Что за «жестокая правда» могла заставить чекистов бросить все дела и примчаться в комнату расставшегося с жизнью поэта?
Многие годы ища ответы на эти вопросы, неутомимый маяковсковед из Швеции Бенгт Янгфельдт в одной из своих книг высказал осторожное предположение:
«Не знал ли он слишком много, и, если да, может быть, существовали компрометирующие документы, которые следовало уничтожить?»
Российский писатель Аркадий Иосифович Ваксберг, тоже писавший о Маяковском и о времени, в котором он жил, причину внезапного появления в комнате-лодочке высокопоставленных чекистов объяснял так:
«Искали, может быть, не компромат, а сведения, не подлежащие оглашению, следы чего-то такого, откуда „выходов нет“. <…> Главное, что-то искали, притом искали торопливо. Это явствует из всех источников, которыми мы располагаем».
Желающих докопаться до истины в этой детективной истории всегда было предостаточно. И самых разных версий выдвигалось тоже немало.
Ещё в 1958 году вышел 65-ый том «Литературного наследства», целиком посвящённый Маяковскому. Но его выпуск был объявлен политической ошибкой, и книгу изъяли из магазинов и библиотек. Набор готовившегося к публикации 66-го тома, тоже составленного из документов, имевших отношение к поэту революции, было приказано рассыпать.
Что же было в тех «ошибочных» томах?
В них публиковалось подробное расследование, которое назвалось «Участие Маяковского в революционном движении». Оно и содержало коварные «ошибки», которые до широкой общественности допускать не следовало. К счастью, не все изъятые из обращения тома уничтожили. Немало новых фактов стало известно только сейчас. И если внимательно вчитаться во вновь открытое, сопоставив его с тем, что было известно раньше, то могут появиться достаточно интересные выводы.
И ещё. О многих событиях и людях 20-х и 30-х годов прошлого века в советскую пору говорить было нельзя. Видимо, поэтому в центре внимания исследователей жизни и творчества Маяковского оказались его отношения с семейством Бриков. На эту тему писались статьи, защищались диссертации, публиковались книги. Поэтому те эпизоды из жизни поэта, которые хорошо изучены и достаточно подробно освещены его многочисленными биографами, мы так и оставим в их описаниях. То есть всё, что уже опубликовано о поэте, мы с огромной благодарностью к опубликовавшим просто процитируем.
А в нашем расследовании (договоримся об этом сразу) нас в первую очередь будут интересовать не только слова, которые произносил советский гражданин Владимир Маяковский, не только стихи и пьесы поэта и драматурга Маяковского, но и дела, которые в течение своей не слишком продолжительной творческой жизни совершал наш знаменитый соотечественник.
Ведь как она складывалась – творческая составляющая прожитых им лет?
Примерно в 16 лет он стал сочинять стихи.
Через 26 лет был провозглашён «лучшим, талантливейшим поэтом… советской эпохи».
Прошло ещё 23 года, и в Москве на Триумфальной площади ему установили памятник, а площадь назвали его именем.
Но наступил XXI век, и поэта, чей монумент продолжает гордо возвышаться в центре российской столицы, тихо исключили из школьных программ и почти перестали вспоминать о нём. И теперь мало кто из нынешних молодых людей знает, что жил…
«… такой
певец кипячёной
и ярый враг воды сырой».
Впрочем, живущие ныне россияне довольно основательно подзабыли не только поэта Маяковского, но и многое из того, что происходило когда-то в царской России и в Советском Союзе. Видимо, предчувствуя, что всё произойдет именно так, поэт напрямую обратился к «товарищам потомкам» и заявил им:
«Я сам расскажу
о времени
и о себе».
Обратим внимание, рассказ о времени поставлен на первое место! Поэтому и мы, повествуя о жизненном пути нашего героя, будем время от времени добавлять в свой рассказ некоторые важные исторические факты и фрагменты биографий его соотечественников.
Итак, приступим.
Попробуем посмотреть на Владимира Маяковского взглядом, не замутнённым предвзятостями и традицией. Попытаемся разобраться в его жизни, полной неясностей и загадок, не дожидаясь появления сенсационных архивных откровений. А заодно рассмотрим, какое вообще место в жизни людей занимает поэзия, влияет ли она на эту жизнь, и меняют ли (хоть как-то) наше существование те, кто считает себя поэтами.
Часть первая Освоение бунтарства
Глава первая Начало биографии
Год рождения
Владимир Маяковский родился в удивительную эпоху – всё цивилизованное человечество находилось в озарении всполохов революционных пожаров, полыхавших во Франции и в некоторых других европейских странах. Там то и дело гремели выстрелы и взрывы, строились баррикады, свергались правительства, и рекой лилась человеческая кровь.
Сначала (в самый канун XIX века) всех изумила Франция, в которой вспыхнула революция, начавшаяся с того, что 14 июля 1789 года народ штурмом взял парижскую тюрьму Бастилию. Ровно через шесть лет – 14 июля 1795 года – революционный Конвент утвердил новый гимн страны – им стала «Марсельеза», песня, которую уже три года распевали французы:
«Вставайте, сыны Отечества!
Настал день славы!
Против нас поднят
Кровавый флаг тирании…
К оружию, граждане!
Простройтесь в батальоны!
Идём, идём!..»
В феврале 1848 года парижане с революционной «Марсельезой» на устах вновь вышли на улицы, и огонь новых бунтов стремительно распространился по Германии, Австро-Венгрии и Италии.
В марте 1871 года Париж снова потряс взрыв недовольства, опять весь город запел «Вставайте, сыны Отечества!», и власть в столице Франции на 72 дня перешла к Парижской коммуне.
Чего добивались неустрашимые повстанцы?
Они жаждали свободы, требовали установления гражданских прав и социального равенства, и потому объявляли тиранов и поработителей всех мастей вне закона. Обитатели европейских дворцов поёживались и трепетали от страшных предчувствий – ведь от любой случайной «искры», прилетевшей из объятой бунтом страны, и их родовое гнездо могло охватить всеистребляющее революционное пламя.
Но до тех краёв, где предстояло родиться нашему герою, этот могучий мятежный вихрь не долетал – Маяковские жили в тихом уголке России, в Грузии, в Кутаисской губернии, в небольшом селении, которое называлось Багдады.
Мать будущего поэта, назвав место проживания своей семьи на более поздний, советский лад – Багдади, годы спустя рассказала, что пугало тогда её и детей:
«В то время Багдади было глухим селом. Там не было ни школ, ни учителей, ни врачей…
Дома в Багдади окружены садами, виноградниками, огородами. А дальше – горы и леса. Лес был от нашего дома очень близко, а дома построены на большом расстоянии друг от друга. Соседей близко не было.
К дому подкрадывались шакалы. Они ходили большими стаями и визгливо завывали. Вой их был страшен и неприятен. Я тоже здесь впервые услышала этот дикий с надрывом вой. Дети не спали – боялись, а я их успокаивала:
– Не бойтесь, у нас хорошие собаки и близко их не подпустят».
Вот тогда в семье Маяковских и родился мальчик.
Его мать вспоминала:
«Володя родился в день рождения отца – 7 июля (по новому стилю – 19 июля) 1893 года, – поэтому его и назвали Владимиром».
29 лет спустя, начав писать автобиографию («Я сам»), Владимир Маяковский сразу же предупредил читателей:
«Лица и даты не запоминаю… Поэтому свободно плаваю по своей хронологии».
Первую дату этой «хронологии» он назвал не очень уверенно:
«Родился 7 июля 1894 года (или 93 – мнение мамы и послужного списка отца расходятся. Во всяком случае, не раньше)».
Одной из его сестёр запомнились слова отца по поводу этого «расхождения»:
«У детей есть метрические свидетельства, а это самое главное».
Сохранился и другой (не менее «главный») «свидетель» — метрическая книга Сакондзевской Георгиевской церкви за 1893 год. В ней записано:
«…родился седьмого… июля Владимир; родители его: дворянин Владимир Константинович Маяковский и законная жена его Александра Алексеевна…».
Когда этот мальчик вырос и стал взрослым мужчиной, он продолжал упорно придерживаться данных «послужного списка отца». К примеру, заполняя в 1920 году анкету для лиц, получающих академический паёк, написал:
«Родился <в> 1894 году».
Приехав весной 1927 года в Прагу и давая интервью корреспонденту газеты «Прагер пресс», утверждал:
«Родился я в 1894 году на Кавказе».
Выступая 27 марта 1930 года на диспуте в Доме печати, заявил:
«Товарищи, я существую 35 лет физическим своим существованием…».
А было ему в тот момент 36 лет и 8 месяцев.
Но в поэме «Облако в штанах», изданной в 1915 году, возраст указан удивительно точно – «двадцатидвухлетний». Получается, что в последние годы своей жизни наш герой явно стремился к тому, чтоб хоть на чуточку выглядеть моложе своего возраста.
Ближайшие родные
В автобиографических заметках «Я сам» свою семью Маяковский представил так:
«Отец: Владимир Константинович (багдадский лесничий)…
Мама: Александра Алексеевна.
Сёстры: а) Люда
б) Оля».
Немного подробнее родителей охарактеризовала их дочь Людмила:
«Отец, Владимир Константинович, лесничий; высокий, широкоплечий, с чёрными волосами, зачёсанными набок, с чёрной бородой, загорелым, подвижным, выразительным лицом. Огромный грудной бас, который целиком передался Володе. Движения быстрые, решительные. Весёлый, приветливый, впечатлительный. Настроения сменялись часто и резко. Отец обладал большим темпераментом, большой и глубокой силой чувства к детям – своим, чужим, к родным, к животным, к природе… Отец был слит с природой, он любил и понимал её всем своим существом.
Служба лесничего опасная, а тем более на Кавказе…
Вспоминается такой случай: отец шёл, беседуя с обходчиком, потом оба замолкли. Через некоторое время отец обернулся к спутнику, но его уже не было – он провалился в пропасть…
Отец легко находил тему для разговора с каждым. Хорошо владея речью, он пересыпал её пословицами, прибаутками, остротами. Знал бесчисленное множество забавных случаев и анекдотов и передавал их на русском, грузинском, армянском, татарском языках, которые знал в совершенстве.
Мама – Александра Алексеевна – среднего роста. Глаза карие, серьёзные, смотрит немного исподлобья. Довольно высокий лоб, нижняя часть лица немного выдаётся вперёд. Волосы каштановые, всегда зачёсаны гладко. Лицом Володя похож на мать, а сложением, манерами – на отца…
Своим характером и внутренним тактом мама нейтрализовала вспыльчивость, горячность отца, его смены настроений и тем создавала самые благоприятные условия для общей семейной жизни и воспитания детей. За всю жизнь мы, дети, ни разу не слыхали не только ругани, но даже резкого, повышенного тона».
Владимир Константинович Маяковский имел гражданский чин коллежского асессора, а это означало, что, обращаясь к нему, надо было говорить «ваше высокоблагородие».
По семейному преданию, свою фамилию предки Маяковских получили за то, что обладали могучей силой и высоким ростом. А происходил их род от запорожских казаков. Как известно, казаками на Руси называли беглых людей, искавших воли в бескрайних степях юга страны. В семье очень гордились своим родством с запорожцами.
По материнской линии в роду Володи тоже были казаки, но кубанские, девичья фамилия матери – Павленко.
Малышу исполнился год и пять месяцев, когда в крымской Ливадии скончался царь Александр Третий. Случилось это осенью 1894 года. 20 октября страну возглавил Великий князь Николай Александрович, которого стали именовать Николаем Вторым, новым (14-ым по счету) российским императором.
Немного истории
Революционные идеи, в течение целого века будоражившие Европу, проникали и в Российскую империю. Эти мятежные веяния добавлялись к крамольным мыслям свободолюбивого толка, которые возникали в умах российских писателей и поэтов (Радищева, Пушкина, Герцена, Чернышевского), и превращались в бунтарские строки их сочинений.
Сеятелей крамолы власть беспощадно преследовала, сажая их в тюрьмы, ссылая в глухие дальние места, отправляя на каторгу. Но бунтарей от этого меньше не становилось.
Даже когда 19 февраля 1861 года царь Александр Второй подписал высочайший Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям состояния свободных сельских обывателей», предоставлявший российским крестьянам волю, ряды мятежно настроенных людей всё равно продолжали множиться. А 28 августа 1879 года Исполнительный комитет тайной антиправительственной партии «Народная воля» и вовсе приговорил императора-освободителя к смертной казни.
За царём началась охота.
1 марта 1881 года в Санкт-Петербурге на набережной Екатерининского канала около 2 часов 25 минут пополудни народоволец Игнатий Иоахимович Гриневицкий бросил под ноги императору бомбу. Оба – террорист и его жертва – от ран, полученных в результате взрыва, в тот же день скончались.
4 марта петербургская газета «Русь» горестно восклицала:
«Царь убит!.. Русский царь, у себя в России, в своей столице, зверски, варварски, на глазах всех – русскою же рукою… Позор, позор нашей стране!.. Пусть же жгучая боль стыда и горя проникнет в нашу землю из конца в конец, и содрогнётся в ней ужасом, скорбью, гневом негодования вся душа!»
Откликаясь на эту трагедию, Московская городская дума приняла постановление, в котором говорилось:
«Свершилось событие неслыханное и ужасающее: русский царь, освободитель народов, пал жертвою шайки злодеев среди многомиллионного, беззаветно преданного ему народа. Несколько людей, порождение мрака и крамолы, осмелились святотатственною рукою посягнуть на вековое предание великой земли, запятнать её историю, знамя которой есть Русский Царь!»
На жестокий террор мятежных бунтарей власть ответила не менее жестоко – всех, кто был замешан в совершении террористических актов, стали приговаривать к смертной казни через повешение. Полиция и жандармерия получили право производить обыски в любое время суток и задерживать людей на основании малейшего подозрения.
Но революционно настроенных молодых людей это не испугало. И в декабре 1886 года группа народовольцев, одним из вожаков которой был двадцатилетний студент Петербургского университета Александр Ильич Ульянов, создала особую «Террористическую фракцию». В качестве первой жертвы молодые «бомбисты» избрали императора Александра Третьего. Он был не просто приговорён к смерти, его планировали убить в шестую годовщину рокового покушения на его отца, Александра Второго – 1 марта 1887 года.
В этот день, взяв заранее изготовленные бомбы, бесстрашные террористы вышли на Невский проспект и принялись ждать появления императорского кортежа. Однако Охранное отделение сработало очень чётко – все 15 участников готовившегося покушения были арестованы. Семерых вожаков (в том числе и Александра Ульянова) по приговору суда повесили, остальных на разные сроки отправили в Сибирь.
Ликвидация «Террористической фракции» поставила крест на самом существовании партии «Народная воля» – с марта 1887 года этой революционной организации в России уже не существовало.
Но, как известно, свято место пусто не бывает, и среди российской интеллигенции стали стремительно распространяться идеи германского философа-бунтаря Карла Маркса. Младший брат казнённого Александра Ульянова – Владимир – тоже стал марксистом. В начале 90-х годов XIX века он тихо жил в провинциальном городе Самаре и работал в скромной должности помощника присяжного поверенного.
В это время в Закавказье подрастал никому неизвестный юноша, которого звали Иосиф Джугашвили. Родился он в грузинском городе Гори. По официальной версии случилось это 9 декабря 1879 года, но в метрической книге Горийской Успенской соборной церкви, в которой регистрировали всех родившихся, стоит другая дата: 6 декабря 1878 года. Однако началом своего жизненного пути Иосиф Джугашвили до конца дней своих считал 21 декабря 1879 года (по новому стилю), явно желая выглядеть в глазах современников на год моложе.
В 1893 году он закончил третий класс Горийского духовного училища, в котором был одним из лучших учеников. Его мать, Екатерина Георгиевна Джугашвили, мечтала, чтобы её сын стал священником. Но Иосиф неожиданно принялся с увлечением сочинять стихи.
В этот момент маленький Володя Маяковский, живший в другом грузинском селении (Багдады), ещё даже говорить не умел.
Детские годы
Давая в 1927 году интервью чехословацкой газете «Прагер пресс», Владимир Маяковский сказал, на каком языке он заговорил:
«Первый язык – грузинский».
Александра Алексеевна Маяковская:
«В Багдади все жители были грузины, и только одна наша семья – русская. Дети играли с соседскими детьми и учились грузинскому языку. Оля подружилась с девочкой Наташей Шарашидзе. Они разговаривали по-грузински, и от них выучился грузинскому языку Володя».
Ольга Маяковская:
«Мы с братом дружили с крестьянскими детьми, разговаривали с ними по-грузински и вместе изобретали разные игры».
Соседи удивлялись этому и, по словам Александры Алексеевны…
«Они говорили: „Русские дети, а как хорошо говорят по-грузински!“ – и угощали их виноградом».
Житель города Кутаиса Исидор Морчадзе, встретившийся с семьёй Маяковских чуть позднее, даже русскими их не мог назвать:
«Так хорошо все говорили по-грузински, что я лично считал их грузинской семьёй».
Другой кутаисец, Владимир Джапаридзе, оставил такие воспоминания:
«Хочется здесь отметить ещё одну характерную черту семьи Маяковских, а именно вот что: они хорошо говорили по-грузински. Но Володя особенно. Достиг он этого, вероятно, ещё с детства, играя с сельскими ребятишками и беседуя с объездчиками и крестьянами, или бывая с отцом в его поездках по лесничеству. И вообще он был очень способный мальчик. Когда я в Кутаиси слышал его ещё детскую грузинскую речь, мне оставалось только удивляться чистоте его произношения, а слова А.И.Герцена, что „мы, русские, говорим на всех языках, кроме иностранных“, намекая на неправильное произношение, к нему оказались бы совершенно неприменимыми».
Людмила Маяковская:
«Условия жизни в Багдади были трудные. У нас почти не было ни нянь, не говоря уже о боннах и гувернантках. С утра до вечера мы жили в трудовой, полной забот обстановке».
Александра Алексеевна Маяковская:
«Работать мне приходилось много: от раннего утра до позднего вечера. Нужно было заботиться о детях, поддерживать чистоту, давать образование, воспитывать. Нужно было внимательно следить, чтобы у детей не появлялись плохие черты характера и привычки. Я старалась направлять их на лучший путь, терпеливо и спокойно объясняла им всё, оберегала от плохих влияний».
Александра Алексеевна, к сожалению, не уточнила, куда должен был вести этот «лучший путь», по которому она «старалась направлять» своих детей. А ведь искателей лучшего в те неспокойные времена было предостаточно. Один из них был совсем молодым ещё человеком. Жил он, как и младший брат казнённого народовольца Ульянова, в далёком от села Багдады городе Самаре и сочинял рассказы, в которых воспевались люди, неустроенные в жизни, босяки. У него даже была написана поэма «Песнь старого дуба», в которой говорилось:
«Я в мир пришёл, чтобы не соглашаться».
Автора этой «Песни» звали Алексей Максимович Пешков. С чем именно не хотелось ему соглашаться, неизвестно – поэму свою, так нигде не опубликовав, он уничтожил. Но 5 марта 1895 года напечатал в «Самарской газете» (под псевдонимом Максим Горький) другую поэму – «Песню о Соколе», в которой прославлялся крылатый герой, погибший в борьбе за свободу:
«О, смелый Сокол!.. Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, примером гордым к свободе, к свету!
Безумству храбрых поём мы песню!»
О том, что за «Сокол» воспевался в этой «Песне», в те годы никому растолковывать было не нужно. Все понимали, что речь идет о «смелых и сильных духом» храбрецах, совершавших террористические акты и гордо шедших на эшафот во имя свободы.
Вряд ли эти смелые и гордые строки долетели тогда до грузинского села Багдады – «Самарскую газету» читали только в Поволжье.
И газету «Иверия», выходившую в Тифлисе под редакцией князя Ильи Григорьевича Чавчавадзе (писателя и поэта), семья Маяковских тоже вряд ли выписывала. А на первой странице этой газеты 14 июня 1895 года было напечатано стихотворение «Дила» («Утро»), в котором не было призывов к мятежу, к бунту – в нём воспевалась природа:
«Раскрылся розовый бутон,
Прильнул к фиалке голубой,
И, легким ветром пробуждён,
Склонился ландыш над травой..»
Под стихотворением стояла подпись – И.Джугашвили. Юный поэт к тому времени с отличием окончил Горийское духовное училище и поступил в Тифлисскую духовную семинарию.
Дети багдадского лесничего природу тоже любили. Их мать вспоминала:
«Володя и Оля любили ходить в горы, в лес, купаться в речке, особенно любили бывать на водяных мельницах. Там они смотрели, как крестьяне мелют кукурузное зерно, как водопадом, с шумом, спадает вода. Знакомились и разговаривали по-грузински с крестьянами и их детьми…
Володя бросал камни в воду и обычно говорил:
– Я левой рукой бросаю, а они дальше летят…
В раннем детстве он больше владел левой рукой, а когда подрос – одинаково правой и левой».
Как известно, в политике (со времён Великой Французской революции) «левыми» называют тех, кто придерживается революционно-радикальных взглядов, а «правыми» — консерваторов и реакционеров. Поэтому высказывание матери Маяковского можно принять как свидетельство того, что у её сына с раннего детства был характер бунтаря.
А каких взглядов придерживались его родители?
Бунтарское наследство
О политических пристрастиях родителей Володи Маяковского его биографы не сообщают. Или говорят, что достоверных сведений на этот счёт нет.
Обратимся к свидетельствам косвенным.
В «Я сам» есть главка, она называется «1-е ВОСПОМИНАНИЕ». В ней сказано:
«Зима… Отец ходит и поёт своё всегдашнее „алон занфан де ля по четыре“».
Сестра Людмила разъяснила:
«Отец любил петь по-французски „Марсельезу“…: „Attons, enfants de la patrie!“ Дети с удивлением смотрели на отца, не понимая, что он поёт. Тогда он начинал петь „Алон занфан де ля по четыре“ и спрашивал: „Ну, а теперь понятно?“».
Песня, которую пел Владимир Константинович Маяковский, в ту пору давно уже считалась гимном революционеров всех мастей. 1 июля 1875 года в двенадцатом номере выходившего в Лондоне эмигрантского журнала «Вперёд» появился русский текст «Марсельезы» под названием «Новая песня» (чуть позднее её назовут «Рабочей Марсельезой»). Автором стихов был соратник Карла Маркса и Фридриха Энгельса, член I Интернационала и один из идеологов народовольчества, Пётр Лаврович Лавров. В его трактовке революционный гимн зазвучал так:
«Отречёмся от старого мира,
Отряхнём его прах с наших ног!
Нам не нужно златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог!
Вставай, поднимайся, рабочий народ!
Иди на врага, люд голодный!
Раздайся, клич мести народной!
Вперёд, вперёд, вперёд, вперёд, вперёд!»
В «Песне» Лаврова впервые зазвучал призыв к свержению самодержавия в России. Поэт Александр Блок впоследствии упомянул об этом тексте среди прочих «прескверных стихов, корнями вросших в русское сердце», которые «не вырвешь иначе, как с кровью».
Знал ли Владимир Константинович Маяковский эти мятежные слова? Об этом до наших дней никаких свидетельств не дошло. Мы можем только предположить, что багдадский лесничий пел эту песню по-французски не из-за того, что не знал русских слов, а по конспиративным соображениям.
Таким образом, получается, что одной из первых песен, которую запомнил юный Володя Маяковский, был гимн европейских революционеров – тот самый, что «всегдашне» напевал его отец.
Ещё один отрывок из «1-го ВОСПОМИНАНИЯ»:
«Отец выписал журнал „Родина“. У „Родины“ „юмористическое“ приложение. О смешных говорят и ждут».
Сестра Людмила разъяснила:
«… ждали журнал «Родина», где печатались карикатуры, шарады, игры. Но журнал, как оказалось, был реакционного направления, и мы больше его не выписывали».
Историю с «Родиной» можно рассматривать как дополнительное косвенное свидетельство того, что «реакционное» в семье Маяковских не любили. Но тогда выходит, что приветствовали только революционное?
Не говорит ли это о том, что в молодости родители Владимира Маяковского принимали участие в каком-то антиправительственном движении, к примеру, состояли в той же партии «Народная воля»? Мятежным духом они явно были переполнены. И своим детям его передавали. В этом убеждают и автобиографические заметки их сына. В главке «2-е ВОСПОМИНАНИЕ», начинающейся со слов «Понятия поэтические», речь идёт о пушкинской поэме, которая названа одним словом – «Евгенионегин». Сестра Людмила уточняет:
«Мы тогда очень увлекались стихами, особенно Пушкиным и его „Евгением Онегиным“. Читали, учили наизусть, рисовали иллюстрации к роману».
В главке «ДУРНЫЕ ПРИВЫЧКИ» упоминается другой российский поэт:
«Отец хвастается моей памятью. Ко всем именинам меня заставляют заучивать стихи. Помню – специально для папиных именин:
Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор…»
Александра Алексеевна Маяковская:
«7 июля 1898 года Володе исполнилось пять лет, он получил много подарков. К этому дню Володя выучил стихотворение М.Ю. Лермонтова «Спор», хорошо и очень выразительно прочитал его наизусть – конечно, не до конца, однако довольно много строф для пятилетнего мальчика…
Володино чтение хвалили».
Спорят у Лермонтова две горы – Эльбрус и Казбек. Они выясняют, кто завоюет Кавказ. Внезапно до спорщиков доносится шум – это напомнил о себе «север тёмный»:
«От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки…
Боевые батальоны
Тесно в ряд идут,
Впереди несут знамёны,
В барабаны бьют…
И испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведёт, грозя очами,
Генерал седой».
В стихотворении описана русская армия, двинувшаяся под командованием генерала Алексея Петровича Ермолова на завоевание Кавказа. Этот поход Лермонтов не воспевает, скорее, осуждает. Ведь заканчивается его рассказ тем, что «Казбек угрюмый» посчитал русские полки своими «врагами»:
«Грустным взором он окинул
Племя гор своих
Шапку на брови надвинул
И навек затих».
Но именно это стихотворение Маяковский-старший «заставлял заучивать» сына.
Зачем?
Не для того ли, чтобы с ранних лет приучить мальчугана относиться к любой захватнической политике с осуждением? Возможно, так оно и было. Особенно если учесть явное благорасположение Владимира Константиновича к революционной «Марсельезе».
Но…
Открыто делиться своими раздумьями было тогда опасно. И очень многое из того, что произносилось вслух, не отражало мировоззрения говорившего. Поэтому у россиян и возникла непреодолимая тяга к иносказаниям.
Новый стиль
Родившийся в 1853 году поэт и философ Владимир Сергеевич Соловьёв своих читателей прямо предупреждал:
«Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий —
Только отклик искажённый
Торжествующих созвучий?»
В другом его стихотворении говорилось, вроде бы, о сне. Но между строк можно было прочесть и горестные сетования автора на невыносимость существования, когда тебя окружает сонм сыщиков-филёров:
«Какой тяжёлый сон! В толпе немых видений,
Теснящихся и реющих кругом,
Напрасно я ищу той благородной тени,
Что тронула меня своим крылом».
Ещё один российский поэт Дмитрий Сергеевич Мережковский в стихотворении «На распутье», написанном в 1883-ем, восклицал:
«Мне не надо лживых примирений,
Я от грозной правды не бегу;
Пусть погибну жертвою сомнений,
Пред собой ни в чём я не солгу!
Испытав весь ужас отрицанья,
До конца свободы не отдам,
И последний крик негодованья
Я, как вызов, брошу небесам!»
Склонные к бунту россияне искали новый способ выражения своих мыслей и новую манеру их изложения. Не случайно фраза, высказанная Дмитрием Мережковским, стала крылатой:
«Лишь постольку мы люди, поскольку бунтуем».
Вот почему манифест Жана Мореаса (Иоаннеса Пападиамантопулоса), появившийся 18 сентября 1886 года в парижской газете «Le Figaro» и провозгласивший новое поэтическое направление (символизм), россияне встретили не только с пониманием, но и с восторгом. Ведь Мореас, считавший себя и своих соратников-стихотворцев последователями Шарля Бодлера, Поля Верлена и особенно бунтаря Артюра Рембо, восстававшего против всех поэтических канонов, в своём манифесте писал:
«Символистскому синтезу должен соответствовать особый, первозданно-широкоохватный стиль, отсюда непривычные словообразования, периоды то неуклюже-тяжеловесные, то пленительно-гибкие, многозначительные повторы, таинственные умолчания, неожиданная недоговорённость – всё дерзко и образно…».
Молодые российские поэты и художники восприняли новое течение в искусстве «на ура!» – ведь с его помощью вместо понятных всем слов можно было употреблять аллегории, намёки и символы. Причудливая словесная форма позволяла скрывать подлинное мировоззрение и сокровенные мысли. И символистами объявили себя многие стихотворцы.
Но эту поэтическую новизну российская публика приняла далеко не сразу и поначалу встретила их стихи откровенными насмешками. Поэтому неудивительно, что и в семье Маяковских на творчество поэтов-бунтарей внимания не обратили. А подраставшее поколение «заставляли заучивать» проверенные временем стихи классиков.
Как бы там ни было, но после знакомства с «понятиями поэтическими» юный Маяковский узнал, что такое «поэтичность», и, по его же собственным словам…
«…стал тихо её ненавидеть».
Ничего не скажешь – занимательное начало для будущего поэта!
Конец века
В России в ту пору начали возникать новые революционные организации. 1 марта 1898 года на конспиративной квартире в городе Минске собрались девять бунтарски настроенных молодых людей, которые приехали из разных городов для того, чтобы создать Российскую Социал-Демократическую Рабочую Партию.
Поскольку тогдашние ряды революционеров-подпольщиков кишмя кишели агентами Охранного отделения, жандармы тут же принялись действовать. Восемь из девяти делегатов-учредителей, а также многие другие бунтари оказались за решёткой.
Жандармский офицер Александр Иванович Спиридович впоследствии писал:
«Целыми вагонами возили арестованных в Москву».
А жизнь не спеша двигалась дальше. Александра Алексеевна Маяковская писала:
«В 1899 году мы поселились в каменном доме. Место это, где был расположен дом, называлось «крепостью», но от старинной крепости остался только вал вокруг дома и ров, заросший кустарником.
Наша квартира находилась в верхнем этаже, а в нижнем был подвал хозяина, где приготовляли и хранили вино…
Во двор выставляли пустые кувшины для хранения вина – в Грузии их называют чури, – такие большие, что в них свободно помещался рабочий, чистивший и промывавший эти кувшины.
Когда эти чури лежали на земле боком, в них залезал Володя и говорил сестре:
– Оля, отойди подальше и послушай, хорошо ли звучит мой голос.
Он читал стихотворение «Был суров король дон Педро…» Чтение получалось звучное и громкое».
Словами «Был суров король дон Педро» начиналось стихотворение Аполлона Николаевича Майкова «Пастух (испанская легенда)»:
«Был суров король дон Педро;
Трепетал его народ,
А придворные дрожали,
Только усом поведёт.
"Я люблю, – твердил он, – правду,
Вид открытый, смелый взор".
Только правды (вот ведь странность!)
Пуще лжи боялся двор».
Мальчик-пастух, которого дон Педро встретил на охоте, лихо ответил на самые головоломные его вопросы, и был за это взят в королевские пажи.
Обратим внимание, что стихотворение, выученное шестилетним мальчуганом, неназойливо подсказывало ему, как следует поступать, чтобы добиться своего, когда имеешь дело с теми, в чьих руках власть.
Самому Володе их новый дом-крепость запомнился таким («Я сам»):
«Первый дом, воспоминаемый отчётливо. Два этажа. Верхний – наш. Нижний – винный заводик. Раз в году – арбы винограда. Давили. Я ел. Они пили. Всё это территория стариннейшей грузинской крепости под Багдадами. Крепость очетыреугольнивается крепостным валом. В углах валов – накаты для пушек. В валах бойницы. За валами рвы. За рвами леса и шакалы. Над лесами горы. Подрос. Бегал на самую высокую. Снижаются горы к северу. На севере разрыв. Мечталось – это Россия. Тянуло туда невероятнейше.»
Земляку Володи Маяковского, Иосифу Джугашвили, в июле 1898 года вновь улыбнулась фортуна – журнал «Квали» («Борозда») опубликовал два его стихотворения. А в апреле 1899-го в сборнике, посвящённом князю Рафаэлу Давидовичу Эристави (он отмечал своё 75-летие), наряду с произведениями классиков грузинской литературы и речами видных общественных деятелей было напечатано и стихотворение Иосифа.
В том же году в городе Тифлисе вышла книга Мелитона Спиридоновича Келенджеридзе «Теория словесности с разбором примерных литературных образцов». В ней подробно рассматривались лучшие произведения классиков грузинской поэзии (Шота Руставели, Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели и других). Среди них – на 93 и 94 страницах – можно было прочесть два стихотворения Джугашвили, подписанных псевдонимом Сосело.
Стихотворение Иосифа «Утро» грузинский педагог Якоб Семёнович Гогебашвили включил в свой учебник для начальных классов «Дэда Эна» («Родное слово»), и оно на много лет стало любимейшим стихотворением грузинской детворы:
«Цвети, о Грузия моя!
Пусть мир царит в родном краю!
А вы учёбою, друзья,
Прославьте родину свою!»
Однако у самого автора этих строк дальнейшая учёба не заладилась – 29 мая 1899 года из духовной семинарии его исключили – «за неявку на экзамены по неизвестной причине». Почему на самом деле он не пришёл сдавать экзамены, так и осталось невыясненным.
Пришла пора учиться грамоте и Володе Маяковскому. Александра Алексеевна Маяковская:
«Читать по азбуке Володю никто не учил. Неожиданно для всех, когда ему было около шести лет, он незаметно выучился читать. Однако собственное чтение казалось ему очень медленным, и он просил взрослых читать ему вслух».
В «Я сам» этот процесс описан так:
«Учила мама и всякоюродные сёстры. Арифметика казалась неправдоподобной. Приходится рассчитывать яблоки и груши, раздаваемые мальчикам. Мне ж всегда давали, и я всегда давал без счёта. На Кавказе фруктов сколько угодно. Читать выучился с удовольствием».
Ещё маленький Володя Маяковский увлекался играми, связанными со знанием стихов и со словотворчеством. Его мать писала:
«Помню, игра была такая: играющий начинал читать стихотворение, затем, не окончив, обрывал чтение и бросал платок кому-либо из играющих. Тот должен был закончить стихотворение. Володя принимал участие в игре наравне с взрослыми.
Или затевалась игра на придумывание возможно большего количества слов на какую-либо букву. Когда взрослым уже надоедала игра, и они затруднялись называть слова, Володя всё ещё энергично продолжал придумывать. Эта игра его очень увлекала.
Володя часто проявлял настойчивость и умел заставлять взрослых подчиняться его желанию продолжать игру. Причём в таких случаях всю организацию игры он обычно брал на себя, склоняя на свою сторону даже тех, кто уже устал и не хотел больше играть».
Пролетел год. Володя Маяковский заметно повзрослел. Александра Алексеевна вспоминала:
«Володе семь лет. Он уже хорошо читает и начал готовиться к поступлению в гимназию. Он выучился ездить верхом на лошади, и папа брал его с собой в разъезды по лесничеству. Я очень беспокоилась, так как дороги были опасные, но объездчики мне говорили: „Мы будем за ним смотреть“».
В «Я сам» о той поре сказано:
«Лет семь. Отец стал брать меня на верховые объезды лесничества. Перевал. Ночь. Обстигло туманом. Даже отца не видно. Тропка узейшая. Отец, очевидно, отдёрнул рукавом ветку шиповника. Ветка с размаху шипами в мои щёки. Чуть повизгивая, вытаскиваю колючки. Сразу пропали и туман, и боль. В расступившемся тумане под ногами – ярче неба. Это электричество. Клёпочный завод князя Накашидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь».
В Россию в тот момент начали доставлять из-за границы газету, которую выпускали за рубежом революционеры-эмигранты. Жандармский офицер Александр Спиридович писал:
«… в декабре 1900 года появился первый номер «Искры», центрального органа социал-демократии. Одним из основателей её был Ульянов-Ленин, а деньги на издание первых номеров дал сын члена Государственного совета камер-юнкер Сабуров. Трогательное единение побывавшего в Сибири эмигранта-демагога с украшенным придворным мундиром современным политическим Митрофанушкой!»
Новый век
Наступил XX век.
Александра Алексеевна Маяковская:
«Весной 1901 года Люда кончила семь классов. По случаю окончания ею курса мы решили всей семьёй поехать в Сухум, где жили знакомые».
В Сухуме семилетнего Володю заинтересовала высоченная башня, стоявшая на берегу моря – маяк. Ему объяснили, что башня построена для того, чтобы светить морякам, указывая им путь. Александра Алексеевна:
«Маяк произвёл на Володю сильное впечатление».
Весной того же года из печати вышел поэтический сборник «Горящие здания», написанный мало кому известным стихотворцем Константином Бальмонтом. Читали ли тогда эту книгу в семье Маяковских, неизвестно. Но Людмиле было уже 16 лет, она внимательно следила за всеми литературными новинками той поры и должна была обратить внимание на этот поэтический сборник. Особенно на слова в предисловии:
«Нужно быть беспощадным к себе. Только тогда можно достичь чего-нибудь».
У Людмилы вполне мог возникнуть вопрос, которым задавались многие читатели «Горящих зданий»: что означает это странное название? Ведь если здания горят, значит, пришла беда? Или вот-вот придёт.
В сборнике было стихотворение «Полночь и свет» со словами:
«Вечно ли я буду рабом?
Мчитесь ко мне, буря и гром!
Сердце моё, гибни в огне!
Полночь и свет, будьте во мне!»
Строки эти были явно адресованы тем, кто, желая покончить со своим рабским существованием, готов был совершить подвиг. Но сонет «Крик часового» призывал этих смельчаков не торопиться совершать поступки, «враждебные» кому-либо, так как на посту находится поэт – он «часовой», поставленный караулить покой страны:
«Назавтра бой. Поспешен бег минут.
Все спят. Всё спит. И пусть. Я – верный – тут.
До завтра сном беспечно насладитесь.
Но чу! Во тьме – чуть слышные шаги.
Их тысячи. Всё ближе. А! Враги!
Товарищи! Товарищи! Проснитесь!»
Читателей наверняка привлекало слово «товарищи», которое в ту пору имело хождение в среде подпольщиков-революционеров.
Бальмонт как бы предупреждал Россию, что её мирной жизни угрожают некие «враги», которых «тысячи». Но кто они?
В «Горящих зданиях» было стихотворение «Морской разбойник» – про альбатроса, отнимающего у других птиц их добычу:
«Морской и воздушный разбойник, тебе я слагаю свой стих,
Тебя я люблю за бесстыдство пиратских порывов твоих.
Вы, глупые птицы, спешите, ловите сверкающих рыб,
Чтоб метким захватистым клювом он в воздухе их перешиб!»
После выхода этого поэтического сборника популярность Константина Бальмонта стала просто невероятной. Другой поэт-символист, Валерий Брюсов, через какое-то время написал:
«Россия была именно влюблена в Бальмонта. Его читали, декламировали и пели с эстрады. Кавалеры нашёптывали его слова своим дамам, гимназистки переписывали в тетрадки».
В том, что одной из таких гимназисток вполне могла быть и Людмила Маяковская, вряд ли стоит сомневаться.
Не менее знаменит в ту пору был и «певец босяков» Максим Горький. В апреле 1901 года (через месяц после выхода в свет «Горящих зданий») в журнале «Жизнь» было напечатано его новое стихотворение, которое называлось «Песней о Буревестнике»:
«Ветер воет… Гром грохочет…
Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря.
– Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет среди молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
– Пусть сильнее грянет буря!»
Своим стихотворением Горький тоже предупреждал россиян о приближении некоего грозового фронта. Видный социал-демократ Емельян Михайлович Ярославский, расшифровывая смысл горьковского «Буревестника», впоследствии написал:
«… это боевая песнь революции… Его переписывали от руки, его читали и перечитывали в рабочих кружках и в кружках учащихся».
Цензор, давший разрешение на публикацию «Песни», тоже оставил своё мнение:
«Означенное стихотворение произвело сильное впечатление в литературных кружках известного направления, причём самого Горького стали называть не только „буревестником“, но и „буреглашатаем“, так как он не только возвещает о грядущей буре, но зовёт бурю за собою».
В семье Маяковских «Песню» Максима Горького не могли не заметить. А если заметили, значит, тоже «читали и перечитывали».
В 1901 году Россия узнала ещё об одном поэте. Он учился на естественном отделении физико-математического отделения Московского университета, звали его Борис Николаевич Бугаев, но стихи свои он публиковал под псевдонимом Андрей Белый. Некоторые из них производили сильное впечатление на тех, кто ожидал бурю. В стихотворении «Жизнь» говорилось:
«Пускай же охватит нас тьмы бесконечность —
сжимается сердце твоё?
Не бойся, засветит суровая Вечность
полярное пламя своё!»
«Утешение»:
«Хандру и унынье, товарищ, забудь!..
Полярное пламя не даст нам уснуть…»
«Раздумье»:
«Ночь темна. Мы одни.
Холод. Ветер ночной
деревами шумит. Гасит в поле огни.
Слышен зов:
"Не смущайтесь…
я с вами… за мной!"»
Поэт Белый призывал «товарищей» терпеливо переждать ночной мрак и дождаться утра, когда всё вокруг «засветит» некое «полярное пламя», чем-то родственное «буре» Максима Горького.
Наступил год 1902-й.
Входивший в Лондоне журнал российских эмигрантов «Жизнь» напечатал перевод на русский язык «Интернационала», ставшего вскоре международным гимном социалистов и анархистов. И в России запели:
«Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов.
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой идти готов».
А 8 февраля в Санкт-Петербурге Отделение русского языка и словесности Императорской Академии наук избрало писателя Максима Горького почётным академиком. Узнав об этом, царь Николай Второй ужаснулся и потребовал отменить избрание.
Горького из академиков удалили. В знак протеста из Академии вышли писатели Владимир Короленко и Антон Чехов.
Жизнь продолжалась.
Глава вторая Постижение бунтарства
Начало учения
Весной 1902 года пришла пора поступать в гимназию Володе Маяковскому. Его мать вспоминала:
«Я сшила ему синие длинные суконные штаны, белую матросскую рубашку, пришила на рукав синий якорь и купила матросскую бескозырку с лентой и надписью: „Моряк“. Володе очень понравился этот костюм».
Родители повезли его в Кутаис – сдавать вступительные экзамены, которые начинались 12 июня.
Александра Алексеевна Маяковская:
«Тогда не было автомобилей, и между Кутаисом и Багдади ходили дилижансы – большие, на двенадцать человек, экипажи, запряжённые четвёркой лошадей. Дилижанс отходил только утром».
Приехали в Кутаис.
Сохранился диктант, написанный маленьким Володей:
«Вчера я с папой ходил в гимназию. Нам нужно было узнать, когда будут экзамены. Сторож Иван сказал нам, что они будут во вторник.
– Господи, о чём меня будут спрашивать учителя?».
За диктант Володя получил четвёрку. О вопросах, которые задавались на устном экзамене, в «Я сам» написано:
«Экзамен в гимназию. Выдержал. Спросили про якорь (на моём рукаве) – знал хорошо. Но священник спросил – что такое „око“. Я ответил: „Три фунта“ (так по-грузински). Мне объяснили, что „око“ – это „глаз“ по-древнему, церковнославянскому. Из-за этого чуть не провалился. Поэтому возненавидел сразу – всё древнее, всё церковное и всё славянское».
По закону божию и арифметике он получил четвёрки, по русскому устному – пять.
Из воспоминаний матери:
«В последний день экзаменов у Володи повысилась температура, он заболел брюшным тифом…
Болезнь Володи протекала в тяжёлой форме, и мы очень беспокоились…
Наконец, Володе стало лучше. Пришёл врач и разрешил ехать в Багдади.
– Но только беречься, не пить сырой воды!
Эти слова Володя запомнил навсегда. В Кутаисе не было водопровода, и жители пили воду из реки Рион, отстаивая её квасцами. Мы всегда пили в Кутаисе кипячёную воду, Володя, вероятно, напился сырой воды вне дома».
Много лет спустя, обращаясь к «товарищам-потомкам», Маяковский скажет о себе:
«… что жил-де такой
певец кипячёной
и враг воды сырой».
Лето 1902 года подошло к концу. Александра Алексеевна Маяковская:
«Люда… уехала в Тифлис – заканчивать последний, восьмой, педагогический класс. Я переехала с младшими детьми в Кутаис…
Володя надел гимназическую форму и 1 сентября пошёл в гимназию, в которой учились раньше отец и дядя…
Володя и Оля учились хорошо, получали пятёрки…
В это время наша семья жила в трёх местах. Всем было тяжело, но другого выхода не было – нужно было дать детям образование».
Вскоре из Тифлиса в Кутаис перебралась и Людмила. Стала готовиться к поступлению в школу – учительницей. Володя продолжал заниматься в подготовительном классе.
А в Москве в Художественном театре 18 декабря состоялась премьера спектакля по пьесе Максима Горького «На дне». И по всей России полетели слова, которые произносил один из персонажей:
«– Че-ло-век. Это – великолепно. Это звучит гордо!»
Володе Маяковскому тоже было, чем гордиться. В «Я сам» сказано:
«Подготовительный, 1-ый и 2-ой. Иду первым. Весь в пятёрках. Читаю Жюля Верна. Вообще фантастическое. Какой-то бородач стал во мне обнаруживать способности художника. Учит даром».
Этим «бородачом» был сорокалетний Сергей Пантелеймонович Краснуха, окончивший Академию художеств. У него Людмила Маяковская брала уроки рисования и ему рассказала о брате, способном рисовальщике. Впоследствии она вспоминала:
«В это время он рисовал уже довольно хорошо, преимущественно по памяти. Срисовывал и увеличивал крейсера, иллюстрировал прочитанное, рисовал карикатуры на наш домашний быт».
Сергей Краснуха стал обучать Володю и Людмилу. По её словам, происходило это так:
«Учитель засиживался с нами, не считая времени, увлекаясь вместе с нами. Он рассказывал нам о русской и западной живописи, об отдельных художниках…
Уроки проходили оживлённо и интересно. Володя быстро догнал меня в рисовании. Мы стали привыкать к мысли, что Володя будет художником».
Когда сын уходил в гимназию, мать давала ему деньги на завтрак, а он всегда просил добавить: «чтобы угостить товарищей». Александра Алексеевна добавляла:
«Ему было приятно, когда школьные товарищи, сокращая фамилию, называли его „Володя Маяк“».
О той же поре – один из учителей гимназии, Пётр Целукидзе:
«Раз в учительской ко мне и Джомарджидзе подошёл законоучитель подготовительных классов Шавладзе и говорит:
– Что за странный мальчик этот Маяковский!
– А что случилось? Напроказничал? – спросили мы.
– Нет, шалить-то он не шалит, но удивляет меня своими ответами и вопросами. Когда я спросил:
– Хорошо ли было для Адама, когда Бог после его грехопадения проклял его и сказал: «В поте лица своего будешь ты есть хлеб свой», – Маяковский ответил:
– Очень хорошо. В раю Адам ничего не делал, а теперь будет работать и есть. Каждый должен работать.
Потом задал мне вопрос:
– Скажите, батюшка, если змея после грехопадения начала ползти на животе, то как она ходила до проклятия?
Все дети засмеялись, а я не знал, как ответить».
Ответ на любой вопрос могли в ту пору дать, пожалуй, только революционеры-подпольщики – те самые отчаянные смельчаки, которые призывали на страну бурю и делали всё, чтобы ускорить её пришествие. Самодержавная власть никакой бури не желала, поэтому старалась скрутить всех нелегалов в бараний рог.
Тюрьма Кутаиса
Земляк Владимира Маяковского, исключённый из семинарии Иосиф Джугашвили, в тот момент занимался организацией демонстраций и забастовок. 5 апреля 1902 года его арестовали в Батуме. Целый год просидел Иосиф («товарищ Coco») в батумской тюрьме, а 19 апреля 1903 года его перевели в тюрьму Кутаиса. Заключённый, сидевший с ним в одной камере, впоследствии писал:
«Мы прожили вместе в кутаисской тюрьме более чем полгода, и я ни разу не видел, чтобы он возмущался, выходил из себя, сердился, кричал, ругался, словом, проявлял себя в ином аспекте, чем в совершенном спокойствии».
В семье Маяковских, по словам Александры Алексеевны, в это время…
«… много читали. Мы получали произведения Горького, Чехова, Короленко и других новых писателей. Новинки интересовали всех. Читали журналы, газеты. Обсуждали, спорили, говорили о литературе и политических событиях… Володя тоже всегда присутствовал, любил слушать, иногда задавал вопросы и принимал участие в обсуждении…
В это лето Володя особенно много читал…».
Людмила Маяковская:
«Обычно Володя брал книгу, набивал карманы фруктами, захватывал что-нибудь своим друзьям-собакам и уходил в сад. Там ложился на живот под деревом, а две-три собаки любовно сторожили его. И так долго читал…».
Александра Алексеевна Маяковская:
«Собаки Вега и Бостон ложились тут же на траве и "сторожили " его. Там он проводил время спокойно, читал много, и ему никто не мешал».
Людмила Маяковская:
«А по вечерам, наоборот, он лежал на спине и рассматривал звёздное небо, изучая созвездия по карте, которая прилагалась, кажется, к журналу 'Вокруг света"».
Александра Алексеевна пояснила, что в тот момент её сын…
«… увлекался астрономией – в приложении к журналу 'Вокруг света" была одна карта звёздного неба. По вечерам Володя любил ложиться на спину и наблюдать небо, густо усыпанное яркими, крупными звёздами».
Тем же летом сначала в Брюсселе, а затем в Лондоне проходил второй съезд Российской социал-демократической рабочей партии. Там случился раскол недавних единомышленников: получившие большинство голосов сторонники Владимира Ильича Ульянова (который всё чаще называл себя Лениным) стали именоваться большевиками, а сторонники Юлия Осиповича Цедербаума (партийная кличка – Лев Мартов) меньшевиками.
Приверженцы Ульянова-Ленина прямо и откровенно заявляли, что их цель – организация вооружённого восстания, свержение самодержавия и установление диктатуры пролетариата. Поэтому оружием для себя они избрали народовольческий терроризм и экспроприацию (или проще – грабёж).
Знали ли обитатели кутаисских тюремных камер о расколе партии на две фракции или нет, о том никаких свидетельств не сохранилось. Известно лишь, что в самом конце июля (в разгар работы съезда) Иосиф Джугашвили организовал бунт заключённых. Другой очевидец тех событий писал, что товарищ Coco…
«… предъявил тюремной администрации следующие требования: устроить нары в тюрьме (заключённые спали на цементном полу), предоставить баню два раза в месяц, не обращаться грубо с заключёнными, прекратить издевательства тюремной стражи и так далее».
Ознакомив начальство тюрьмы со своими требованиями, узники принялись бить в тюремные ворота. Так как ворота были железные, гул от ударов распространился по всему Кутаису. Жители всполошились.
Был вызван полк солдат, который окружил тюрьму. Приехали губернатор, прокурор, полицейские чины. Стали выявлять зачинщиков бунта. Привели Джугашвили, и он повторил всё то, что было предъявлено ранее тюремной администрации.
Все требования заключённых были удовлетворены, но «смутьянов» — тех, кто организовал выступление арестантов, перевели в «самую скверную камеру» (третью, на нижнем этаже). Надо полагать, что именно после этих событий Иосифа Джугашвили стали называть Кобой (по мнению одних его биографов, это слово означает «неукротимый», по мнению других – «неустрашимый»).
Семья Маяковских о том тюремном бунте, конечно же, знала. Но был ли кто-нибудь из них очевидцем событий? Ведь в гимназии начались каникулы, Володя, Ольга и Людмила отдыхали в селе Багдады.
В воспоминаниях Александры Алексеевны есть небольшая зацепочка:
«Весной и летом до отъезда в Багдади любимым местом прогулок Володи была река Рион. Он купался и играл с товарищами. Однажды он стал тонуть, но его спасли купавшиеся солдаты».
Откуда в Кутаисе солдаты? Не из того ли полка, что был вызван для подавления бунта в местной тюрьме, затеянного Иосифом Джугашвили? Кстати, его вскоре отправили в ссылку.
Тем временем далеко-далеко от европейской части России – на Дальнем Востоке – начали разгораться весьма драматичные события. Япония, многомиллионное население которой ютилось на небольших островах, желала расширить свою территорию за счёт Кореи и Манджурии. У царской России были свои территориальные планы, и она рассчитывала воплотить их в жизнь с помощью «маленькой победоносной войны».
Александра Алексеевна Маяковская писала:
«Новый, 1904 год, мы встречали в Кутаисе…
Год был тяжёлый. В январе началась русско-японская война».
Да, в ночь на 27 января 1904 года без всякого объявления войны японский флот атаковал российскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура. Завязался бой.
В залах Зимнего дворца Санкт-Петербурга гремел бал, когда появился офицер Генерального штаба и вручил царю телеграмму с Дальнего Востока. В ней говорилось о японском нападении.
Царь с известием ознакомился. Танцы в Зимнем дворце продолжались.
В тот же день у корейского порта Чемульпо японские корабли вступили в бой с российскими крейсером «Варяг» и канонерской лодкой «Кореец». Сражение длилось 50 минут. Силы были неравные. «Варяг» пришлось затопить, а «Корейца» взорвать.
Об этом тоже доложили царю. Дежурный флигель-адъютант в воспоминаниях написал, что через полчаса после доклада Николай Второй в парке «с увлечением, почти детским, стрелял из ружья по воронам».
Военная пора
Начавшаяся война отразилась и на антиправительственном движении. Жандармский офицер Александр Спиридович писал:
«1904 год принёс войну, а с ней в первые месяцы и некоторую перестановку в массовой революционной работе. Кружки почти прекратились. Рабочие боялись военных судов, которые в умах массы были обязательны во время войны, боялись собираться на сходки. К тому же призывы по мобилизации выхватывали то одного, то другого партийного деятеля».
Тихий городок Кутаис война тоже затронула. Уже через несколько дней после её начала во время молебна в местной гимназии ученики неожиданно принялись шипеть. Это было расценено как антиправительственная акция, и троих старшеклассников арестовали.
Гимназисты запротестовали ещё сильнее.
Ситуацию использовал местный Имеретино-Мингрельский комитет РСДРП – он стал подбивать учащихся выйти на улицу. Гимназисты вышли. И эсдеки на следующий день выпустили прокламацию, которую приводит в своих воспоминаниях гимназист Аполлон Месхи, одноклассник Владимира Маяковского:
«Учащиеся!., вы грозно раскинулись по главным улицам города и криками „Долой самодержавие! Да здравствует демократическая республика!“ приводили в неописуемый ужас ваших педагогов…
Вы смело примкнули к социал-демократии…
Вперёд, друзья!.. Мы жаждем новой жизни и бесстрашно идём к ней; мы ненавидим насилие и ложь и боремся против них, мы ищем правду-справедливость и страдаем за неё, и каждая жертва самодержавия куёт новый булат его погибели. Не бойтесь этих жертв. Уже настал желанный час, настал момент, когда всеобщая скрытая злоба и ненависть, вырываясь из истомлённых грудей сынов народа, превращается в грозный клич:
Долой самодержавие!
Долой героев кнута и насилия!
Долой хищника-кровопийцу и его опричников!
Да здравствует демократическая республика!»
Гимназист Маяковский о тех беспорядках воспоминаний не оставил. В его автобиографии есть главка «ЯПОНСКАЯ ВОЙНА», в которой сказано:
«Увеличилось количество газет и журналов дома. „Русские ведомости“, „Русское слово“, „Русское богатство“ и прочее. Читаю все. Безотчётно взвинчен. <…> Появилось слово „прокламация“. Прокламации вешали грузины. Грузинов вешали казаки. Мои товарищи – грузины, я стал ненавидеть казаков».
События на Дальнем Востоке тоже приковывали внимание Маяковского. Его мать писала:
«Настроение у всех было тревожное… Володя следил по карте, висевшей у него на стене, за передвижением русской эскадры».
Российские военные корабли под командованием вице-адмирала Зиновия Петровича Рождественского направлялась из Санкт-Петербурга на Дальний Восток – чтобы вступить в сражения, которые шли там.
Горьковский «Человек»
В 1904 году в сборнике товарищества «Знание» было напечатано стихотворение в прозе Максима Горького «Человек»:
«… в тяжёлые часы усталости духа я вызываю перед собой величественный образ Человека.
Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его медленно шествует – вперёд! и – выше! – трагически прекрасный Человек!..
Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком куске земли, несущемся с неумолимой быстротою куда-то вглубь безмерного пространства, терзаемый мучительным вопросом – «зачем он существует?» – он мужественно движется вперёд! и – выше! – по пути к победам над всеми тайнами земли и неба».
Горький спешил поделиться мыслью, которая давно его волновала. Он неожиданно обнаружил, что над огромными многомиллионными массами людей возвышаются отдельные личности. Не такие, как все. Они идут в неизведанное и ведут за собою других. И сама жизнь, как вдруг оказалось, устроена так, что всё прогрессивное в ней осуществляет Человек с большой буквы, способный свершить невозможное, немыслимое – то, что называется подвигом. Горький описал, как трудно этому Человеку, идущему вперёд:
«Идёт! В груди его ревут инстинкты; противно ноет голос самолюбья, как наглый нищий, требуя подачки; привязанностей цепкие волокна опутывают сердце, точно плющ, питаются его горячей кровью и громко требуют уступок силе их… Все чувства овладеть желают им; всё жаждет власти над его душою. А тучи разных мелочей житейских подобны грязи на его дороге и гнусным жабам на его пути…
И только… пламя Мысли освещает пред ним препятствия его пути, загадки жизни, сумрак тайн природы и тёмный хаос в сердце у него…
Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок бытия – вперёд! и – выше! всё – вперёд! и – выше!»
Горький уверял своих читателей, что описанный им Человек (с большой буквы!) в любой момент готов пожертвовать собственной жизнью, если это потребуется людям, человечеству. В письме руководителю издательства «Знание» Константину Петровичу Пятницкому об этом стихотворении Горький говорил:
«Продолжать я буду – о мещанине, который идёт в отдалении – за Человеком и воздвигает сзади его всякую мерзость, которой потом присваивает имя всяческих законов и т. д.».
Горький даже продемонстрировал набросок этого продолжения:
«… действительный хозяин всей земли, благоразумный и почтенный Мещанин».
Однако Антон Павлович Чехов отнёсся к поэме Горького с улыбкой, написав, что прочёл «Человека»…
«… напомнившего мне проповедь молодого попа, безбородого, говорящего басом на "о"'…».
Лев Николаевич Толстой тоже почувствовал нечто подобное и написал в газете «Русь»:
«Упадок это, самый настоящий упадок; начал учительствовать, и это смешно…
Человек не может и не смеет переделывать того, что создает жизнь; это бессмысленно – пытаться исправлять природу…».
И всё же многих молодых людей, готовых послужить человечеству, поэма Максима Горького вдохновила. Российские газеты той поры были переполнены сообщениями о случаях подобного «служения».
Так, 28 июля министр внутренних дел России Вячеслав Константинович Плеве направлялся в карете на доклад к царю. У Варшавского вокзала Петербурга его поджидали эсеры-террористы: Егор Созонов, Иван Каляев и ещё несколько человек, вооружённых взрывными устройствами. Главным метальщиком был Созонов, который и метнул бомбу в экипаж министра. Плеве был убит.
Тяжело раненый боевик Егор Сергеевич Созонов был схвачен и отдан под суд. Там он выкрикнул:
«– Погибнуть в борьбе за победу своего идеала – великое счастье».
Террориста приговорили к бессрочной каторге.
Но как перекликаются его слова с тем, что проповедовал Горький в своем «Человеке»:
«Я – в будущем – пожар во всей вселенной! И призван я, чтоб осветить весь мир, расплавить тьму его загадок тайных, найти гармонию между собой и миром, в себе самом гармонию создать и, озарив весь мрачный хаос жизни на этой исстрадавшейся земле, покрытой, как накожною болезнью, корой несчастий, скорби, горя, злобы, – всю эту грязь с неё смести в могилу прошлого!»
Читали ли это стихотворение Горького в семье Маяковских, сведений нет. Но кутаисские гимназисты горьковской поэмой наверняка зачитывались.
А Маяковские затеяли сборы в дорогу. Александра Алексеевна писала:
«В августе 1904 года Люда собралась ехать в Москву учиться. Сопровождал её отец. Он хотел рассмотреть Москву и лично познакомиться с тем, как Люда устроится в большом городе».
Тем временем в Кутаис вернулся бежавший из ссылки Джугашвили. Его направили сюда для реорганизации местного Имеретино-Менгрельского партийного комитета. Коба реорганизовал его так, что очень скоро в Кутаисской губернии возникло множество новых нелегальных организаций. А в доме местного жителя Васо Гогиладзе даже заработала подпольная типография.
Пока всё это «возникало» и начинало «работать», в Багдады из Москвы вернулся Владимир Константинович Маяковский. Его жене запомнилось:
«Володя слушал рассказы отца с большим вниманием и много расспрашивал о Москве. Его всё интересовало. С тех пор его всегда тянуло в Москву».
8 сентября глава семьи Маяковских подал директору Кутаисской гимназии прошение об освобождении сына от платы за обучение, написав:
«На самом скромном моём содержании, без всяких других подспорных средств, мне приходится воспитывать на отлёте от места пребывания троих детей, что при получаемых средствах страшно чувствительно…».
Директор гимназии поставил на прошении резолюцию: «Отказать».
15 сентября Володя Маяковский написал начавшей учиться в Москве сестре Людмиле:
«Я рисую, и, слава богу, у нас теперь хороший учитель рисования».
Этим «хорошим учителем» был З.П.Мороз, который во втором полугодии поставил гимназисту Маяковскому высшую отметку по рисованию – пять с плюсом.
У Володи появилось и другое увлечение. В начале октября сестра Ольга сообщала Людмиле:
«Володя страшно увлёкся игрой в шашки. К нему приходит один товарищ Чхеидзе почти каждый день, он живёт недалеко от нас. С ним-то Володя и играет в шашки на марки. У него собрался целый альбом иностранных марок».
Ещё Маяковские любили ходить в театр. Владимир Джапаридзе вспоминал:
«… бывал Володя и в городском театре, в обществе близких, с сестрой Олей на спектаклях известного артиста Ладо Месхишвили, любимца публики, подогревавшего своими революционными постановками – «Ткачами» Зедермана, «Жиль Блазом» Гюго, «Гаем Гракхом» Т. Монти и др. – без того горячий пыл революционной молодёжи. Володя выглядел в театре не по летам серьёзным мальчиком, и было видно, что пьесы (на грузинском языке) слушал не только с большим вниманием и интересом, но и с воодушевлением».
Предгрозовая ситуация
Год 1904-й подходил к концу.
Война на Дальнем Востоке бушевала. В самой России тоже было неспокойно.
Владимир Фёдорович Джунковский, адъютант Великого князя Сергея Александровича (генерал-губернатора Москвы), впоследствии написал в своих воспоминаниях:
«Общество постепенно революционизировалось, вспышки и выступления крайних левых партий всё учащались, и нет сомнений, что они инспирировались и предпринимались по общим указаниям революционного комитета, находившегося тогда за границей…
Террористические акты в России стали учащаться, угрозы со стороны революционных комитетов сыпались на лиц, занимавших ответственные посты. Великий князь Сергей Александрович также не избег этой участи – его систематически травили…
1 января при весьма милостивом высочайшем рескрипте, Великий князь был уволен от должности генерал-губернатора и назначен главнокомандующим войсками Московского военного округа…».
В этот момент осложнилась обстановка на Путиловском заводе Санкт-Петербурга, где были уволены четверо рабочих. В знак протеста 3 января путиловцы забастовали. К ним присоединились другие предприятия северной столицы – 8 января бастовало уже более 150 тысяч человек.
Хозяева Путиловского завода отменять увольнение категорически отказались, и православный священник Георгий Аполлонович Гапон, который возглавлял «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга», предложил: в воскресенье 9 января «всем миром» отправиться к царю, ознакомить его с жалобами пролетариев и попросить помочь им.
Слух о готовящемся шествии мгновенно разнёсся по Петербургу.
В Тифлисе, где о ситуации в городе на Неве ничего ещё не было известно, 8 января нелегальная типография социал-демократов отпечатала листовку под названием «Рабочие Кавказа, пора отомстить!». Написал её Коба Джугашвили, поэтому неудивительно, что текст прокламации звучал, как стихи:
«Русская революция неизбежна.
Она так же неизбежна, как неизбежен восход солнца!
Пора разрушить царское правительство!
И мы разрушим его!»
Тем временем в Петербурге наступило воскресное утро. Жандармский офицер Александр Спиридович описал его так:
«С утра 9 января со всех окраин города двинулись к Зимнему дворцу толпы рабочих, предшествуемые хоругвями, иконами и царскими портретами, а между ними шли агитаторы с револьверами и кое-где с красными флагами. Сам Гапон… вёл толпу из-за Нарвской заставы. Поют "Спаси, Господи, люди твоя… победы благоверному императору… "Впереди – пристав расчищает путь крестному ходу».
Шедший от Нарвской заставы Георгий Гапон вполне мог повторять про себя строчки из горьковского «Человека»:
«– Я призван для того, – чтобы распутать узлы всех заблуждений и ошибок, связавшие запуганных людей в кровавый и противный ком животных, взаимно пожирающих друг друга!»
В стихотворении «9-е января», которое через 19 лет напишет Владимир Маяковский, будет сказано:
«Не с красной звездой —
в смирении тупом
с крестами шли
за Гапоном-попом.
Не в сабли
врубались
конармией-птицей —
белели
в руках
листы петиций».
Вдруг шагавшая толпа остановилась – путь был перекрыт шеренгами вооружённых солдат и конными отрядами казаков с нагайками.
Художник Валентин Александрович Серов был тому свидетелем:
«… то, что пришлось видеть мне из окон Академии художеств 9 января, не забуду никогда – сдержанная, величественная, безоружная толпа, идущая навстречу кавалерийским атакам и ружейному прицелу – зрелище ужасное».
Никакой встречи с царём, конечно же, не состоялось – прогремели выстрелы, пролилась кровь. Владимир Маяковский потом напишет:
«Скор
ответ
величества
был:
Пули в спины!
в груди!
и в лбы!»
Жертв было много. По одним источникам – сотни убитых и раненых, по другим – тысячи.
Максим Горький:
«Рабочих, с которыми шёл Гапон, расстреляли у Нарвской заставы в 12 часов, а в 3 часа Гапон уже был у меня. Переодетый в штатское платье, остриженный, обритый, он произвёл на меня трогательное и жалкое впечатление ощипанной курицы. Его остановившиеся, полные ужаса глаза, охрипший голос, дрожащие руки, нервная разбитость, его слёзы и возгласы: „Что делать? Что я буду делать теперь? Проклятые убийцы…“– всё это плохо рекомендовало его как народного вождя, но возбуждало симпатию и сострадание к нему как просто человеку, который был очевидцем бессмысленного и кровавого преступления».
Владимир Джунковский:
«В ответ на это кровопролитие забастовали студенты университета и Академии художеств. Гапон, сделав своё гнусное дело, скрылся, отпечатав в литографии „Свободное слово“ следующую прокламацию для распространения её среди рабочих и войск: „9 января. 12 часов ночи. Солдатам и офицерам, убивавшим своих невинных братьев, их жён и детей, и всем угнетателям народа моё пастырское проклятие; солдатам, которые будут помогать народу добиваться свободы, моё благословение. Их солдатскую клятву изменнику-царю, приказавшему пролить неповинную кровь народную, нарушить разрешаю. Священник Георгий Гапон“.
В результате Гапон достиг того, чего хотел – во всех уголках России передавали события 9 января в самом искажённом виде, везде эти слухи возбуждали кружки недовольных, увеличивали их, революционизировали».
Особенно будоражила молва о том, что священник Гапон был связан с Охранным отделением и действовал по указке жандармов.
В семье Маяковских события «кровавого воскресенья» не могли не обсуждать. Те слова и фразы, из которых потом сложились строки стихотворения «9-е января», наверняка произносились во время тех разговоров:
«Позор без названия,
ужас без имени
покрыл и царя,
и площадь,
и Зимний.
А поп
на забрызганном кровью требнике
писал
в приход
царёвы серебряники».
Жандармский офицер Александр Спиридович:
«Во всех кругах общества – недовольство, недоумение и возмущение. Происшедшее настолько непонятно, что объяснением его в глазах враждебно настроенной к правительству публики было только – провокация. Но чья? Ну, конечно, со стороны правительства, и волна негодования прокатилась повсюду, по всей России. То там, то здесь вспыхивают забастовки, сыплются протесты. Поднялась как бы вся страна.
Из-за границы же шли полные огня прокламации».
Пытаясь как-то смягчить сложившуюся сверхдраматичность, 11 января царь назначил петербургским генерал-губернатором («с чрезвычайными полномочиями») бывшего обер-полицеймейстера Москвы генерал-майора Дмитрия Фёдоровича Трепова, который на несколько месяцев стал фактическим диктатором России.
Реакция общества
Поэт-символист Дмитрий Мережковский тут же заявил, что кровавая расправа, учинённая царским режимом над мирной демонстрацией рабочих, убедила его в «антихристианской» сущности российского самодержавия. И опубликовал в журналах «Полярная звезда» и «Вопросы жизни» гневную статью «Грядущий хам». Обращаясь к интеллигенции, названной «живым духом России», поэт говорил о том, что в стране существуют…
«… мощные силы духовного рабства и хамства, питаемые стихией мещанства, безличности, серединности и пошлости».
С этими силами, говорил Мережковский, необходимо беспощадно бороться, недооценивать их очень опасно, потому как они рвутся к власти:
«Одного бойтесь – рабства худшего из всех возможных рабств – мещанства и худшего из всех мещанств – хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам…».
Поэт обрисовал грозившее россиянам…
«… лицо хамства, идущего снизу – хулиганства, босячества, чёрной сотни».
Толковые словари объясняют значение слова «хам» так: в языке дореволюционных дворян хамом назывался человек, принадлежавший к низшим классам и поэтому лишённый всякого человеческого достоинства. Его отличительными особенностями были грубость, наглость, невоспитанность, он в любой момент мог пойти на любую подлость. То есть «хам» было словом презрительным, бранным.
Опасаясь, что за публикацию статьи о Хаме власти обрушат на него репрессии, Мережковский вместе с женой, поэтессой Зинаидой Гиппиус, уехал в Париж. Там беглецы встречались с видными революционерами-эмигрантами: с идеологом анархизма Петром Алексеевичем Кропоткиным, с теоретиком российского марксизма Георгием Валентиновичем Плехановым и с одним из руководителей Боевой организации эсеров Борисом Викторовичем Савинковым.
А бунт в России продолжал разрастаться, всюду звучали призывы: «К оружию!», «Долой самодержавие!». Годы спустя этот мятежный всплеск назовут первой русской революцией.
Великий князь Сергей Александрович был одним из тех, кто настаивал на разгоне с помощью оружия мирного шествия петербургских рабочих. И партия социалистов-революционеров приговорила его за это к смертной казни. Исполнителем кровавой акции был назначен Иван Каляев.
Кто он?
Иван Платонович Каляев родился в Варшаве в 1877 году. Окончив гимназию, поступил в Московский университет, через год перевёлся в Петербургский, а ещё через год за участие в студенческой забастовке был сослан на два года в Екатеринославль под надзор полиции. Иван писал стихи, за что получил кличку «Поэт». Самым известным его сочинением стало стихотворение «Молитва»:
«Христос, Христос! Слепит нас жизни мгла.
Ты нам открыл всё небо, ночь рассеяв,
Но храм опять во власти фарисеев.
Мессии нет – Иудам нет числа».
В 1903 году Каляев объявился в Женеве и вступил в Боевую организацию эсеров. В Париже изучал взрывчатые вещества и правила обращения с динамитом. Стал фанатиком террора. По словам Бориса Савинкова, Каляев говорил ему:
«– Террор – сила… Я верю в террор больше, чем во все парламенты мира».
Эту его «веру» наверняка укрепляло горьковское стихотворение «Человек», воспевавшее силу всесокрушающей человеческой «Мысли»:
«– Для Мысли нет твердынь несокрушимых, и нет святынь незыблемых ни на земле, ни в небе! Всё создаётся ею, и это ей даёт святое, неотъемлемое право разрушить всё, что может помешать свободе её роста!»
Один из главных организаторов покушения на Великого князя, Борис Савинков, тоже писал стихи. В одном из них речь тоже шла о «вере»:
«Тает мутное стекло.
Всё равно мне. Всё равно.
Я – актёр. Я – наважденье.
Я в гробу уже давно
И не верю в воскресенье».
Наступило 2 февраля 1905 года. Именно на этот день было назначено покушение. Увидев знакомую карету, ждавший её Каляев кинулся навстречу, поднял руку, чтобы бросить бомбу, но… Рядом с Великим князем сидели его жена и малолетние племянники.
Взрывное устройство брошено не было. Карета спокойно двинулась дальше. А Каляев пошёл в Александровский сад, где его поджидал Савинков. Вручив ему не использованную бомбу, на вопрос «Что случилось?», по словам Савинкова, ответил:
«– Я думаю, что поступил правильно. Разве можно убивать детей? Вправе ли организация, убивая Великого князя, убивать его жену и детей?»
Борис Савинков:
«Я сказал ему, что не только не осуждаю, но и высоко ценю его поступок».
Возвращая бомбу её изготовительнице, эсерке Доре Бриллиант, Савинков спросил, что она думает о поступке Ивана Каляева. Дора ответила:
«Поэт поступил так, как должен был поступить».
Вторая попытка теракта была назначена на 4 февраля.
Владимир Джунковский:
«В обычное время, между 2 и 3 часами дня, 4 февраля его высочество выехал в карете, как всегда один, из Николаевского дворца, направляясь в генерал-губернаторский дом, где он заказал себе баню».
На этот раз Каляев поджидал свою жертву в Кремле. Когда экипаж Великого князя приблизился, «поэт» швырнул свою «адскую машину».
Впоследствии он написал:
«Я бросал на расстоянии четырёх шагов, не более, с разбегу, в упор, я был захвачен вихрем взрыва, видел, как разрывалась карета… Вся поддёвка моя была истыкана кусками дерева, висели клочья, и она вся обгорела. С лица обильно лилась кровь, и я понял, что мне не уйти, хотя было несколько долгих мгновений, когда никого не было вокруг».
Иван Каляев явно вспомнил фразу из горьковского «Человека»:
«– И сознаю, что побеждают не те, которые берут плоды победы, а только те, что остаются на поле битвы».
Владимир Джунковский:
«Когда рассеялся дым, то представилась ужасающая картина: щепки кареты, лужа крови, посреди коей лежали останки великого князя…
Городовой, стоявший на посту, и кто-то из обывателей бросились и задержали преступника».
Сам террорист потом вспоминал:
«Мы поехали через Кремль на извозчике, и я задумал кричать: "Долой проклятого царя, да здравствует свобода, долой проклятое правительство, да здравствует партия социалистов-революционеров! "»
Вся Россия обсуждала случившееся. Из уст в уста передавались строки из стихотворения Каляева:
«Мы жить хотим! Над нами ночь висит.
О, неужель вновь нужно искупленье,
И только крест нам возвестит спасенье?..
Христос, Христос!..
Но все вокруг молчит».
Многие, однако, недоумевали, почему фанатик-террорист, пожалевший жену Великого князя и его племянников, погубил кучера Андрея Рудинкина, представителя тех самых угнетаемых масс, ради светлого будущего которых эсеры и совершали этот террористический акт. Получивший многочисленные телесные повреждения кучер скончался через три дня.
В апреле состоялся суд особого присутствия Правительственного Сената, на котором присутствовал и Владимир Джунковский. О Каляеве он написал:
«Держал он себя как-то несерьёзно, мелочно, далеко не героем, хотя, казалось, хотел им быть, но именно от этого у него и выходило всё не геройски, а скорее нахально».
Произнося своё последнее слово, подсудимый сказал:
«Я вижу грядущую свободу возрождённой к новой жизни трудовой, народной России. И я рад, я горд возможностью умереть за неё с сознанием исполненного дела».
Как тут не вспомнить строки из горьковского «Человека»:
«– Иду, чтобы сгореть как можно ярче и глубже осветить тьму жизни. И гибель для меня – моя награда».
Каляева приговорили к смертной казни через повешение. 10 мая в Шлиссельбургской крепости приговор был привёден в исполнение.
В семье Маяковских убийство Великого князя террористом-эсером не могли не обсуждать. Одиннадцатилетний гимназист Володя внимательно слушал разговоры взрослых и, возможно, даже вставлял в них свои реплики. И, вне всяких сомнений, много размышлял об этом событии, ставя себя на место «поэта» Ивана Каляева и пытаясь ответить на вопрос: а как бы на его месте поступил он?
В народе ещё долго вспоминали благородного боевика, посланного совершить убийство, но не совершившего его из-за нежелания губить невинных детей и женщину.
А демонстрации и забастовки в российских городах продолжались. В Польше и Прибалтике возводились баррикады. «Беспорядки», как их называла официальная пресса, охватили Грузию – 17 января забастовали портовики и железнодорожники Батума, 18-го началась политическая стачка в Тифлисе, в тот же день поднялся Кутаис. 20 января забастовка стала всегрузинской.
Революционный Кутаис
Учебный процесс в кутаисской гимназии из-за забастовки тоже прервался. Об этом написала даже женевская социал-демократическая газета «Вперёд»:
«19 января толпа молодёжи человек в 100 направилась с бульвара по Гимназической улице с революционными песнями и возгласами. Остановленная полицией, она повернула к базару, а потом в Заречный участок, где и была рассеяна. В этот день арестовано 7 человек.
На другой день манифестация повторилась; арестовано 40 человек, в том числе 10 гимназистов; их грозят предать суду».
Свои революционные настроения молодые люди выплёскивали не только на улице. В гимназическом журнале за 1905 год, в котором фиксировался ход заседаний педагогического совета, сохранилась запись:
«25 января в гимназии после первого и второго уроков в верхнем и нижнем коридорах среди учеников раздавались шум и крики, которые, однако, быстро прекращались, когда к ученикам подходили директор, инспектор и преподаватели.
В конце большой перемены, несмотря на присутствие в коридоре как инспектора, так преподавателей и помощников классных наставников, ученики сгруппировались в верхнем и нижнем коридоре; среди них послышались крики «долой» (по-грузински и по-русски); ученики особенно сильно шумели и кричали в верхнем коридоре; там их крики прерывались нестройным пением песни революционного содержания, слышались отдельные возгласы «да здравствует свобода», а кто-то крикнул «долой самодержавие»».
Володя Маяковский в этих событиях, видимо, не участвовал. 2 февраля он написал сестре Людмиле в Москву:
«Я на несколько дней ездил в Багдады, потому что, по выражению местных грузинов, у нас в Кутаисе был „пунти“».
«Пунти» в переводе с грузинского – «бунт».
Нелегальная социал-демократическая газета «Пролетарий» тоже коснулась кутаисских событий:
«14 февраля группа бастующей молодёжи столкнулась с нарядом казаков. Засвистели нагайки, началось немилосердное побоище…».
Женевская газета «Вперёд» 30 марта продолжила тему:
«В Кутаисе все средние учебные заведения и городское училище закрыты вследствие забастовки учащихся. Учащиеся предъявили политические требования. Забастовщики, гимназисты, реалисты и гимназистки устроили политическую демонстрацию».
Александра Алексеевна Маяковская:
«В Кутаисе, как и по всей стране, проходили волнения среди рабочих, солдат и учащихся.
Володя вместе с товарищами по гимназии разучивал на грузинском языке «Варшавянку», «Смело, товарищи, в ногу» и другие революционные песни».
Как видим, Володя Маяковский пока ещё только «разучивал» революционные песни. Если бы он их распевал, Александра Алексеевна наверняка сообщила бы об этом.
18 апреля в Кутаис приехал Коба Джугашвили и снял дом неподалеку от кутаисского цейхгауза. Зачем? Об этом знали только особо доверенные лица – Коба не любил, чтобы о затеваемых им делах кому-то было известно заранее.
Володя Маяковский в семейной группе, 1900-е годы. Экспонат Музея института литературы АН СССР.
А в Москве на пост генерал-губернатора был назначен 68-летний генерал Александр Александрович Козлов. Об этом назначении Владимир Джунковский написал:
«Б то время генерал от кавалерии Козлов… проживал очень скромно в мебилированных комнатах Троицкой у Никитских ворот. Прислугой у него была только одна кухарка. Как только вышел высочайший указ, Козлов, захватив ручной багаж, вдвоём со своей кухаркой прошёл пешком по Тверскому бульвару и пришёл в генерал-губернаторский дом, оставив за собой комнаты у Троицкой. Так официально произошло вступление нового генерал-губернатора в должность».
А противостояние России и Японии на Дальнем Востоке продолжало ожесточаться. 19 февраля возле города Мукден разразилось грандиозное сражение. Оно длилось 19 дней и стало самой продолжительной и самой кровопролитной битвой русско-японской войны. Победу не удалось одержать ни одной из сторон, но японцы объявили себя победителями, так как российские войска Мукден оставили.
14 мая к острову Цусима прибыла 2-я российская эскадра, которой командовал вице-адмирал Зиновий Рождественский. За её передвижением, как мы помним, внимательно следил Володя Маяковский. Завершив долгий и утомительный переход от Петербурга до Дальнего Востока, русские моряки вступили в бой с Императорским флотом Японии. Битва продолжалась двое суток.
Вот как то сражение описал Владимир Джунковский, незадолго до того произведённый из майоров сразу в полковники:
«16 мая вся Россия содрогнулась – было получено потрясающее известие о гибели эскадры адмирала Рождественского под Цусимой. Русский флот погиб, из 11 броненосцев, 9 крейсеров, 9 миноносцев, 4 транспортов только 2 крейсера и 2 миноносца пробились через кольцо японской эскадры. Страшное несчастье обрушилось на Россию, всё было забыто, только «Цусима» была у всех на устах».
Всем стало ясно, что война проиграна. Об этом наверняка тоже много говорили в семье Маяковских. А через девятнадцать лет в поэме «Владимир Ильич Ленин» появились строки:
«Девятое января.
Конец гапонщины.
Падаем,
царским свинцом косимы.
Бредня
о милости царской
прикончена
с бойней Мукденской,
с треском Цусимы.
Довольно!
Не верим
разговорам посторонним!»
В мае 1905 года в доме кутаисца Иосифа Гветадзе состоялась губернская конференция РСДРП. В её работе принял участие и Коба Джугашвили (он и в июне продолжал жить в Кутаисе).
А в Иваново-Вознесенске в том же мае вспыхнула стачка текстильщиков.
В июне произошло восстание в польском городе Лодзи.
21 июня, встречаясь с представителями дворян, крестьян, торговцев, промышленников и людей науки, царь сказал:
«Только то государство и сильно и крепко, которое свято хранит заветы прошлого».
Но российское общество будоражили уже новые «заветы», которые то и дело возникали в глубинах революционного подполья.
Тревожное время
28 июня Москву потряс ещё один террористический акт, о нём – Владимир Джунковский:
«Во время приёма посетителей московский градоначальник граф П.П.Шувалов был ранен тремя пулями в то время, когда углубился в чтение прошения, поданного ему одним из просителей. Граф Шувалов сразу упал, потерял сознание и, не приходя в себя, умер между 2 и 3 часами дня…
Убийцей оказался слушатель Петербургского учительского института Куликовский, который был задержан в Москве несколько времени назад по обвинению в политическом преступлении и содержался в Пречистенском полицейском доме, откуда бежал несколько дней назад».
Да, Павла Павловича Шувалова застрелил Пётр Александрович Куликовский, член Боевой организации эсеров. Суд приговорил его к повешенью.
Пётр Куликовский подал прошение на «высочайшее имя», и приговор ему был изменён на бессрочную каторгу. Убийцу московского градоначальника отправили в Сибирь – в Акатуйскую каторжную тюрьму.
В июле генерал-губернатором Москвы стал генерал от инфантерии Петр Павлович Дурново, а вице-губернатором – полковник Владимир Джунковский, который об уходе с поста предыдущего главы первопрестольной написал так:
«А.А.Козлов, простившись со всеми членами генерал-губернаторского управления, отправился тем же порядком, как и пришёл, со своей кухаркой, пешком на свою старую квартиру в номера Троицкой в конце Тверского бульвара и вскоре, не заезжая в Петербург, получив бессрочный заграничный отпуск, 2 августа выехал за границу…
При моих поездках за границу я встречался там с А.А.Козловым, который на мой вопрос, не тяжело ли ему жить всё время за границей, отвечал, что в России ему было бы ещё тяжелее, так как он не в силах был бы видеть весь тот хаос, среди которого жила Россия последние годы, и быть свидетелем, как она постепенно катится с горы».
Если так считал бывший генерал-губернатор, то не трудно себе представить обстановку, сложившуюся на тот момент в Москве. Не случайно Людмила Маяковская вернулась в Багдады раньше, чем планировала. Она вспоминала:
«Я приехала домой революционно настроенная, привезла с собой литературу, легальную и нелегальную».
Брата она охарактеризовала так:
«Он был насыщен революцией, горел и жил её судьбой. Я видела в нём юношу, которому было близко и интересно всё, что касалось революции, поэтому я дала ему читать всё, что привезла».
В «Я сам» об этом – отдельная главка «НЕЛЕГАЛЬЩИНА»:
«Приехала сестра из Москвы. Восторженная. Тайком дала мне длинные бумажки, нравилось: очень рискованно. Помню и сейчас. Первая:
Опомнись, товарищ, опомнись-ка, брат,
скорей брось винтовку на землю.
И ещё какое-то, с окончанием:
… а не то путь иной —
к немцам с сыном, с женой и с мамашей…
(о царе).
Это была революция. Это было стихами. Стихи и революция как-то объединились в голове».
Людмила Маяковская:
«В Володе я почувствовала взрослого человека, шагнувшего далеко в своём развитии. Я считала возможным говорить с ним как с равным. Познакомила его с нелегальными стихами и песнями. Володя их читал и заучивал наизусть».
В июне 1905 года вспыхнуло восстание на броненосце «Потёмкин». Это событие обсуждала вся Россия. Но в автобиографии Маяковского оно не упомянуто – там есть лишь ссылка (в главке «905-й ГОД») на общую обстановку, которая повлияла на результаты его учёбы:
«Не до учения. Пошли двойки».
Чтобы перейти в следующий класс, потребовалась переэкзаменовка.
Этот экзамен был сдан только в августе.
Осенью, как о том сказано в «Я сам», обстановка накалилась ещё больше:
«Пошли демонстрации и митинги. Я тоже пошёл. Хорошо. Воспринимаю живописно: в чёрном – анархисты, в красном – эсеры, в синем – эсдеки, в остальных цветах – федералисты».
Социалистами-федералистами называли в ту пору членов грузинской партии, требовавшей для Грузии территориальной автономии в составе России.
Наместником Кавказа был тогда граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков, назначенный на эту должность высочайшим указом в феврале 1905 года. Граф, в свою очередь, доверил должность губернатора Кутаиса своему давнему другу Владимиру Александровичу Старосельскому, агроному-виноградарю, уже давно работавшему в Грузии (возглавлял плодопитомник в селе Сакара Кутаисской губернии).
Вот тут-то нуждавшиеся в оружии эсдеки и задумали прорыть подкоп, чтобы добыть тысячи две винтовок.
Неустрашимый Коба Джугашвили, который, как мы помним, прибыв в Кутаис, снял домик неподалеку от цейхгауза (оружейного склада), организовал всё, как надо. Специально отобранные люди принялись копать. Они наверняка добрались бы до оружия, если бы в дело не вмешались неблагоприятные почвенные условия. Работу пришлось бросить на полпути, винтовок эсдеки не получили.
А гимназист Маяковский продолжал тем временем получать свои двойки.
Революция продолжается
Из воспоминаний вице-губернатора Москвы Владимира Джунковского:
«3 октября на митинге в Военно-медицинской академии в Петербурге рабочими был решён вопрос о всеобщей забастовке, после чего забастовка стала охватывать всю железнодорожную сеть. Забастовочное движение начало приостанавливать работу на фабриках, заводах, остановились трамваи, конки, стачка широкой волной охватила всю Россию».
13 октября 1905 года Московская городская дума под влиянием революционных настроений тоже приняла решение о начале всеобщей забастовки («не исключая больниц и водопровода»), что, по словам Владимира Джунковского…
«… ускорило то бедствие, которое пало, главным образом, на неимущее население столицы, когда Москва осталась без воды, а больные в больницах были брошены на произвол судьбы…
В Москве забастовка была в полном разгаре, поезда не ходили, на улицах была темнота…».
Для борьбы с забастовкой и забастовщиками при активнейшем участии Департамента полиции был создан «Союз русского народа». Начались погромы и политические убийства.
Особый подъём ощущала тогда партия социалистов-революционеров. Несколько громких террористических актов невероятно подняли её авторитет. Желающих пополнить партийные ряды было очень много. А теми, кто хотел стать членом Боевой (террористической) организации, можно было, как говорится, пруд прудить.
Историки подсчитали, что за первое десятилетие XX века в России было совершено 263 террористических акта, объектами которых стали 2 министра, 33 генерал-губернатора, 16 градоначальников, начальников жандармских окружных отделений, полицеймейстеров, прокуроров, руководителей сыскных отделений, 7 генералов и адмиралов, 15 полковников, 8 присяжных поверенных, 26 агентов полиции и провокаторов. И это, не считая терактов, которые совершались без санкции партии.
Те же историки установили, что в 1905–1907 годах в России было убито 2180 и ранено 2530 частных лиц и 4500 государственных служащих. Всех жертв террористических актов насчитывалось около 17 000 человек.
А гимназист Володя Маяковский писал (12–14 октября) сестре Людмиле в Москву:
«Дорогая Люда!
Прости, пожалуйста, что я так долго не писал. <…> У нас была пятидневная забастовка, а после была гимназия закрыта четыре дня, так как мы пели в церкви Марсельезу. В Кутаисе 15-го ожидаются беспорядки, потому что будет набор новобранцев. 11-го здесь была забастовка поваров. По газетам видно, что и у вас большие беспорядки».
Обратим внимание, с какой эмоциональностью 12-летний гимназист описывал то, что происходило в Кутаисе. Чувствуется, что эти события очень его волновали, и он со свойственной молодым людям кипучей энергией рвался участвовать во всём. Распевая при этом (по примеру отца) революционную «Марсельезу».
В тот момент на подраставшее поколение россиян обрушился поток новых слов и представлений. Об этом – в «Я сам» (в главке «СОЦИАЛИЗМ»):
«Речи, газеты. Из всего – незнакомые понятия, слова. Требую у себя объяснений. В окнах – белые книжицы. „Буревестник“. Про то же. Покупаю все. Вставал в шесть утра. Читал запоем. Первая: „Долой социал-демократов“. Вторая: „Экономические беседы“. На всю жизнь поразила способность социалистов распутывать факты, систематизировать мир. <…> Перечёл советуемое. Многое не понимаю. Спрашиваю. Меня ввели в марксистский кружок. <…> Стал считать себя социал-демократом: стащил отцовские берданки в эсдекский комитет…
Хожу на Рион. Говорю речи, набрав камни в рот».
«Буревестник» — это название издательства, выпускавшего социал-демократическую литературу. Что же касается «отцовских берданок», то вот что о них сказала мать «стащившего»:
«На Гегутской улице, недалеко от нас, помещался социал-демократический комитет. Володя отнёс в комитет казённые ружья, которые полагалось отцу иметь для разъездов по лесничеству».
Стало быть, родители знали, что их сын «отнёс» в какой-то «комитет» отцовское «казённое» оружие. Знали и не возражали.
Почему?
Словно предчувствуя подобный вопрос, Александра Алексеевна Маяковская написала в воспоминаниях:
«Многие из окружающих нас людей считали, что мы предоставляем слишком много свободы и самостоятельности Володе в его возрасте. Я же, видя, что он развивается в соответствии с запросами и требованием времени, сочувствовала этому и поощряла его стремления».
Люди, окружавшие семью Маяковских, видимо, потому считали, что Владимир Константинович и Александра Алексеевна воспитывают сына не так, как следует, что читали книги о воспитании подрастающего поколения. Одной из таких книг была (кстати, весьма популярная в то время) небольшая книга немецкого психолога Пауля Радестока «Гений и безумство» («Genie und Wahnsinn»), в которой говорилось:
«… едва ли не губительнее всего отражается на детях излишняя снисходительность родителей, дающая полный простор развитию упрямства, прихоти и ничем не сдерживаемых капризов ребёнка. Из таких детей обыкновенно выходят люди, не способные ни к самообладанию, ни к упорной борьбе с невзгодами жизни: они или гибнут при первом же столкновении с суровой действительностью, или превращаются в бездушных эгоистов».
Впрочем, мы не знаем, как на самом деле реагировали на слишком самостоятельные поступки Володи Маяковского его родители, – до нас ведь дошли только те строки, которые писались уже в советское время, когда надо было горячо сочувствовать всему революционному.
Наступление реакции
Всю осень 1905 года в России клокотала шумная, драматичная, а нередко и кровопролитная «смута». Во вспыхнувшей в октябре всероссийской стачке приняло участие около двух миллионов человек.
Когда волнения докатились до Санкт-Петербурга, генерал-губернатор столицы Дмитрий Фёдорович Трепов (с одобрения председателя правительства Сергея Юльевича Витте) приказал расклеить на улицах города свой приказ войскам. В нём были слова, которые впоследствии цитировались невероятно часто:
«… холостых залпов не давать и патронов не жалеть».
Эту хлёсткую фразу обычно приводили как свидетельство невероятной жестокости царского ставленника. Журналист и поэт Николай Георгиевич Шебуев, готовивший к выпуску первый номер сатирического журнала «Пулемёт», даже стишок сложил о нём:
«Я – Трепов. В свите
я – генерал.
Мы в паре с Витте
шли на скандал.
Мой герб: нагайка, штык и плеть.
Девиз: «Патронов не жалеть!»».
Но этим своим приказом Трепов добился желаемого: народ испугался и на демонстрации не пошёл. Солдатам стрелять тоже не пришлось. В Санкт-Петербурге не пролилось ни капли крови! Случаев кровопролития за время генерал-губернаторства Трепова в северной столице вообще не было.
А императорские указы продолжали тем временем выходить один за другим.
18 февраля царь издал Манифест с призывом к повсеместному искоренению крамолы.
6 августа Высочайшим Манифестом учреждалась Государственная дума.
17 октября был обнародован Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», предоставлявший россиянам гражданские права: свободу совести, свободу слова, свободу собраний, свободу создания объединений (союзов). По сути дела это была первая российская конституция, завершавшаяся словами:
«Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиной, помочь прекращению неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на русской земле».
Николай Шебуев тут же опубликовал стихотворение под названием «Журналисту»:
«Даровал свободу
слова манифест —
на год, на два года
садят под арест.
Требуют залога
гласности кроты.
Подожди немного,
посидишь и ты».
17 октября в Петербурге вышел первый номер газеты «Известия Совета народных депутатов», в статьях которой почти в открытую проводилась мысль о том, что «сила творит право».
В тот же день (ещё ничего не зная о царском Манифесте) на рабочем митинге в Тифлисе эсдек Коба Джугашвили произнёс:
«Что нужно нам, чтоб действительно победить? Для этого нужны три вещи: первое – вооружение, второе – вооружение, третье – ещё и ещё раз вооружение».
А Владимир Джунковский «творил право», будучи безоружным. Годы спустя (в книге «На лезвии с террористами») тогдашний начальник Петербургского охранного отделения Александр Васильевич Герасимов напишет о нём:
«Тот самый, о котором мне в своё время сообщали, что в октябрьские дни 1905 года он, будучи московским вице-губернатором, вместе с революционерами-демонстрантами под красным флагом ходил от тюрьмы к тюрьме, чтобы освобождать политических заключённых».
Одним из тех, кого освободили тогда в Москве, был видный социал-демократ Николай Эрнестович Бауман.
18 октября во время манифестации, организованной МК РСДРП, Бауман был убит. В знак солидарности с погибшим во многих городах страны состоялись демонстрации. Кутаисцы тоже вышли на улицы. С ними шагал и гимназист Маяковский. В «Я сам» (в главке «РЕАКЦИЯ») об этом сказано:
«По-моему, началось со следующего: при панике (может, разгоне) в демонстрацию памяти Баумана мне (упавшему) попало большущим барабанищем по голове. Я испугался, думал – сам треснул».
И всё же антиправительственные выступления очень скоро пошли на убыль. А 25 октября – через восемь дней после опубликования царского Манифеста – всероссийская стачка прекратилась.
В конце октября 1905 года Ольга Маяковская отправила письмо сестре Людмиле:
«Я купила себе книги: „Положение женщины в настоящем и будущем“, „Долой социал-демократов!“, „Социализм в Японии“, „О программе работников“, „Что такое рабочий день?“, „Идеи марксизма и германская рабочая партия“, „Об избирательном праве“, „Буржуазия, пролетариат и коммунизм“, „Среди людей“, „Мозг и душа“. Подобных книг купил себе и Володя 10 штук…
Сегодня я всё утро… ходила по домам собирать на сходку. Я маме сказала, что я иду на сходку, и мама разрешила, это очень приятно».
1 ноября мать тоже написала письмо Людмиле. В нём были и такие строки:
«В Кутаисе на бульваре ораторы говорили речи по поводу манифеста. Оля и Володя ходили слушать, но обошлось тихо, без казаков».
То, что мать «разрешила» детям побывать на сходке, лишний раз свидетельствует о том, что к революционерам она относилась весьма сочувственно.
Вечером того же дня царь Николай записал в дневнике:
«7 ноября. Вторник. Холодный ветреный день…
Познакомились с человеком Божиим – Григорием из Тобольской губ.»
Новым знакомцем царской семьи стал крестьянин Григорий Ефимович Распутин (Новых), родившийся в 1869 году в селе Покровском Тобольской губернии в семье ямщика Ефима Яковлевича Распутина и Анны Васильевны Паршуковой. Григорий много странствовал по России, а в начале двадцатого столетия объявился в Санкт-Петербурге, где вскоре стал известен как «старец», «юродивый», «божий человек». Тогда же, по словам его дочери Матрёны, он стал брать «первые уроки письма и чтения». Познакомившись с царской семьёй, стал помогать царевичу Алексею бороться с гемофилией, болезнью, с которой тогдашняя медицина справиться не могла. А по стране начала тихо распространяться молва о том, что на российском властном Олимпе появился первый Хам – из тех, кого предсказывал Дмитрий Мережковский.
В это время (12 ноября) из Кутаиса в Москву полетело письмо – Александра Алексеевна Маяковская писала дочери:
«Оля занимается в гимназии, а Володя только бегает на сходки. Сейчас тоже побежал в гимназию, несмотря, что уже вечер. Он присоединился к группе шестиклассников, к ним приходит студент и читает им новые книги. Володя очень этим интересуется, он у нас большак, сильно идёт вперёд, и удержать не могу».
Надо полагать, что отец гимназиста Маяковского тоже был в курсе того, что его сын «бегает на сходки» и «очень интересуется» книгами антиправительственного толка.
В ноябре 1905 года Володя Маяковский тоже отправил письмо сестре Людмиле:
«Дорогая Люда!
Пока в Кутаиси ничего страшного не было, хотя гимназия и реальное забастовали, да и было зачем бастовать: на гимназию были направлены пушки, а в реальном сделали ещё лучше. Пушки поставили во двор, сказав, что при первом возгласе камня не оставят на камне. Новая «блестящая победа» была совершена казаками в городе Тифлисе. Там шла процессия с портретом Николая и приказала гимназистам снять шапки. На несогласие гимназистов казаки ответили пулями. Два дня продолжалось это избиение. Первая победа над царскими башибузуками была одержана в Гурии, этих собак там было убито около двухсот.
Кутаис тоже вооружается, по улицам только и слышны звуки Марсельезы».
Песню, которую любил распевать дома Маяковский-старший, теперь пел весь город Кутаис.
Вооружённое восстание
14 ноября 1905 года начался мятеж на крейсере «Очаков» и других кораблях Черноморского флота. Во главе взбунтовавшихся моряков встал капитан второго ранга Пётр Петрович Шмидт, объявивший себя командующим флотом. Но его командование продолжалось недолго – уже на следующий день восстание было подавлено.
В Москве обстановка тоже накалилась до предела. Владимир Джунковский, ставший к тому времени московским губернатором, писал:
«7 декабря начались волнения. Советом народных депутатов была объявлена с 12 часов дня общая политическая забастовка, долженствовавшая перейти во всеобщую, так как предполагалось, что днём позже к ней должны примкнуть Петербург и затем вся Россия.
Но день прошёл, петербургские газеты продолжали выходить, междугородный телефон работал, функционировала и Николаевская ж. д., даже рабочие Путиловского, этого передового завода, продолжали ещё работу, об остальных и говорить нечего. Этот индифферентизм Петербурга ещё больше озлобил московских забастовщиков и придал им дерзости и энергии для дальнейшей борьбы в надежде, что они одни смогут достичь желаемых результатов. Они и не остановились поэтому перед решением начать вооружённое восстание».
И оно началось.
Поэт-бунтарь Константин Бальмонт, только что вернувшийся из-за границы, сразу включился в события, которые развернулись на Пресне. Впрочем, самому ему казалось, что ничего особо «активного» в его поведении нет. Просто он…
«… принимал некоторое участие в вооружённом восстании Москвы, больше – стихами».
Однако его жена, Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт, в воспоминаниях написала, что в 1905 году её муж…
«… страстно увлёкся революционным движением, …все дни проводил на улице, строил баррикады, произносил речи, влезая на тумбы».
Мало этого, в его кармане всегда был заряженный пистолет.
В воскресенье 11 декабря царь Николай записал в дневнике:
«Вчера в Москве произошло настоящее побоище между войсками и революционерами. Потери последних большие, но не могли быть точно выяснены».
Генерал-губернатор Москвы Пётр Дурново, видя, что имевшимися в его распоряжении силами с восстанием не справиться, обратился за помощью в Санкт-Петербург. И 15 декабря в первопрестольную прибыл Семёновский полк. Его командир, полковник Георгий Александрович Мин, отдал приказ:
«Арестованных не иметь, пощады не давать».
Власть демонстрировала силу. Элитное воинское подразделение без суда и следствия начало терроризировать и убивать гражданских лиц, многие из которых к вооружённому восстанию не имели никакого отношения. Было безжалостно расстреляно более 150 человек. И уже в понедельник 19 декабря Николай Второй записал в дневнике:
«В Москве, слава Богу, мятеж подавлен силою оружия. Главное участие в этом приняли: Семёновский и 16-й пех. Ладожский полки».
В ночь на 1 января 1906 года Константину Бальмонту пришлось сесть в поезд, покинуть Россию и отправиться в Париж. На этот раз в настоящую эмиграцию. Но и там российская охранка внимательно за ним следила. И было из-за чего. Ведь во Франции он написал стихотворение «Наш царь», в котором самодержцу припоминалось и поражение в русско-японской войне и злодеяния против собственного народа:
«Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима,
Наш царь – кровавое пятно,
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму темно.
Наш царь – убожество слепое,
Тюрьма и кнут, под суд, расстрел.
Царь – висельник, тем низкий вдвое,
Что обещал, да дать не смел.
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждёт.
Кто начал царствовать – Ходынкой,
Тот кончит, встав на эшафот».
Вскоре из-под пера Бальмонта вышло стихотворение «Николай Последний», начинавшееся словами:
«Ты должен быть убит,
Ты стал для всех бедой..».
Читали ли Маяковские эти бальмонтовские строки, неизвестно. Но в ту пору из-за рубежа в Россию нелегальная литература шла нескончаемым потоком, весь Кутаис был пропитан революционной атмосферой, да и сам кутаисский губернатор Старосельский относился к смутьянам весьма сочувственно.
Во вторник 10 января царь Николай записал в дневнике:
«Утро было очень занятное. Завтракал Мин, произведённый в ген. – майоры с зачислением в свиту. Он рассказывал много про Москву и про подавление мятежа; он показывал нам образцы взятых полком револьверов и ружья».
Полковник Георгий Мин был не только произведён в генерал-майоры. Он получил ещё и денежную премию «с присовокуплением царского поцелуя» за подавление вооружённого мятежа.
Николай Второй, продолжавший относиться к смутьянам и бунтарям весьма неблагожелательно, через несколько дней сделал в дневнике такую запись:
«Вот о ком считаю нужным сказать крепкое слово – это о кутаисском губернаторе Старосельском. По всем полученным мною сведениям, он настоящий революционер…».
В январе 1906 года Владимира Старосельского с его высокого поста сместили и выслали на Кубань. Власти Кутаисской губернии благоволить бунтарям перестали.
Глава третья Приобщение к бунтарству
Трагедия семьи
В своих воспоминаниях Александра Алексеевна Маяковская рассказала о той ситуации, что сложилась в начале 1906 года:
«Люда подробно писала нам о событиях в Москве: о похоронах Баумана, о боях на Пресне… Володя и Оля писали ей о демонстрациях и забастовках в Кутаисе. Занятия всюду прекратились, и мы ждали Люду домой в конце февраля».
И тут произошло событие, в корне изменившее жизнь всей семьи – с Владимиром Константиновичем Маяковским случилась беда. Александра Алексеевна с горечью писала:
«Он готовился сдавать дела багдадского лесничества, так как получил назначение в кутаисское лесничество. Мы радовались, что будем жить все вместе. Но это не осуществилось.
Владимир Константинович сшивал бумаги, уколол палец иголкой, и у него сделался нарыв. Он не обратил на это внимания и уехал в лесничество, но там ему стало ещё хуже. Вернулся он в плохом состоянии. Операцию было уже поздно делать. Ничем нельзя было помочь…».
В «Я сам» об этом сказано так:
«Умер отец. Уколол палец (сшивал бумаги), заражение крови. С тех пор терпеть не могу булавок».
Багдадский лесничий ушел из жизни 19 февраля 1906 года. Володе Маяковскому было двенадцать с половиной лет. Сестра Людмила писала:
«Володя самый младший, но почти взрослый по своему развитию… Распоряжался на похоронах, обо всём хлопотал, не растерялся. Он сразу почувствовал себя мужчиной, заботливо и внимательно относился к нам. С этого времени Володя стал серьёзней, характерная складка на лбу обозначилась едва заметной линией. Смерть отца на всю жизнь осталась неизгладимой. Всё изменилось».
Это, пожалуй, единственное свидетельство того, как отреагировал Володя Маяковский на семейную трагедию. Взрослые были поражены спокойствием двенадцатилетнего подростка. Но сам он через семь лет скажет стихотворцу Николаю Асееву, что смерть отца его ошарашила. А ещё через два года напишет в поэме «Облака в штанах»: «а самое страшное видели – лицо моё, когда я абсолютно спокоен?»
На самом деле, сердце сына почившего лесничего разрывалось. Кончина отца была воспринята им как угасание солнца и наступление кромешной тьмы. Он изо всех сил подбадривал мать и сестёр, но на душе его было очень скверно.
Семейная трагедия коснулась и статуса гимназиста Маяковского – его сразу освободили от платы за обучение. Но учиться он лучше не стал – тройки и двойки появлялись всё чаще. Третий класс гимназии был закончен с одной пятёркой (по рисованию) и несколькими четвёрками. Всё остальное – тройки. А по латинскому языку и вовсе требовалась переэкзаменовка. В автобиографии об этом говорится:
«Перешёл в четвёртый класс только потому, что мне расшибли голову камнем (на Рионе подрался), – на переэкзаменовках пожалели».
В самом начале марта 1906 года Коба Джугашвили организовал в Кутаисе дерзкий экспроприаторский акт. На одной из людных улиц вооружённая банда Симона Тер-Петросяна (партийная кличка – Камо) напала на банковскую карету. Кучер был убит, кассир ранен. Экспроприаторы скрылись, прихватив с собою 15 тысяч рублей, которые были тут же в винных бутылках переправлены в Санкт-Петербург – Леониду Красину, на нужды социал-демократической партии.
Семья Маяковских в тот момент очень нуждалась. Александра Алексеевна Маяковская писала:
«Мы остались совершенно без средств; накоплений у нас никогда не было. Муж не дослужил до пенсии один год, и потому нам назначили только десять рублей пенсии в месяц. Я послала заявление в Петербург, в Лесной департамент, о назначении полной пенсии. Распродали мебель и питались на эти деньги».
В «Я сам» об этом же:
«Благополучие кончилось. После похорон отца – у нас 3 рубля. Инстинктивно, лихорадочно мы распродали столы, стулья. Двинулись в Москву. Зачем? Даже знакомых не было».
Зато в Москве проживала и училась сестра Людмила. На семейном совете было решено, что лучше всем быть вместе.
13 июня мать написала прошение, и Владимира Маяковского отчислили из Кутаисской гимназии. Затем, по словам Александры Алексеевны:
«Распродав вещи и заняв у хороших знакомых двести рублей на дорогу, мы двинулись в Москву. Наша добрая знакомая при этом сказала: "Отдадите, когда дети закончат образование "».
20 июля 1906 года семья Маяковских покинула Кутаис.
Ситуация в России
В стране по-прежнему было очень неспокойно. Московский губернатор Владимир Джунковский писал:
«В последних числах мая месяца и в начале июня стали учащаться случаи волнений и беспорядков в войсках. Революционная пропаганда проникла и в казармы…
18 июня в Севастополе был убит адмирал Чухнин в тот момент, как собирался сесть в катер. Это была очень большая потеря для флота. Чухнин был выдающийся моряк и честнейший человек».
Убийство командующего Черноморским флотом Григория Павловича Чухнина организовал Борис Савинков, заместитель главы Боевой организации эсеров. Чухнин карался за то, что утвердил смертный приговор Петру Шмидту и другим руководителям восстания на крейсере «Очаков».
Владимир Джунковский:
«3 июля в Нижнем саду в Петергофе в 10 часов вечера на глазах многочисленной публики был убит генерал-майор Козлов. Убийца, социал-революционер, объяснил, что принял его за Трепова. На последнего это произвело очень тяжёлое впечатление».
Генерал Сергей Владимирович Козлов действительно очень походил на генерал-губернатора Санкт-Петербурга Дмитрия Трепова. Покушавшийся эсер Васильев был казнён.
В самом конце драматичного месяца июля Маяковские прибыли в Москву. Александра Алексеевна писала:
«1 августа 1906 года мы навсегда поселились в Москве».
«Я сам»:
«Остановились в Разумовском. Знакомые сёстры – Плотниковы. Утром паровиком в Москву. Сняли квартирёнку на Бронной».
Александра Алексеевна:
«Нашли квартиру на углу Козихинского переулка и Малой Бронной улицы, в доме Ельцинского, на третьем этаже.
Пришли в пустую квартиру. Нужно было занять денег у знакомых, чтобы купить самую необходимую мебель. Кое-что дали знакомые».
Владимир Джунковский:
«В августа получено было известие о покушении на варшавского генерал-губернатора генерал-адъютанта Скалона – брошено было 6 бомб, когда он проезжал в коляске. Убит был околоточный надзиратель и посторонний. Ранено несколько человек. Скалон остался невредим».
Покушение на Георгия Антоновича Скалона организовала Польская социалистическая партия. Покушавшиеся три женщины бомбы бросали с балкона дома, мимо которого проезжал экипаж. Среди раненых был и ребёнок.
7 августа Маяковские отправились во второй полицейский участок Арбатской части, и их прописали в доме № 18/11.
А через несколько дней был совершен ещё один террористический акт. Владимир Джунковский высказался о нём так:
«12 августа совершено было неслыханное по своей дерзости и бесчеловечности покушение на П.А.Столыпина».
Что произошло?
Глава российского правительства и министр внутренних дел Пётр Аркадьевич Столыпин принимал посетителей у себя на даче (на Аптекарском острове Санкт-Петербурга). В четвертом часу подкатили карета и ландо (коляска с открывающимся верхом). Из кареты вышли трое мужчин, двое – в форме жандармских офицеров, третий – во фраке и с тяжёлым портфелем в руках. Оттолкнув старика-швейцара, они стремительно прошли в приёмную.
В 15 часов 16 минут (время запечатлели остановившиеся часы) произошёл взрыв чудовищной силы. За ним прогремел второй – в ландо сдетонировали две бомбы, приготовленные как запасные, резервные, на всякий случай.
Погибли 29 человек, более 70 получили ранения различной тяжести.
Теракт был организован и проведён петербургским «Союзом эсеров-максималистов».
Петра Столыпина защитил дубовый стол. Но пострадали его дети – 14-летняя дочь Наташа и 3-летний сын Аркадий, которых взрывной волной выбросило с балкона на землю. Их няня погибла. У дочери Столыпина были раздроблены кисти ног, и она несколько лет не могла ходить. У сына оказалось перебитым бедро, были лёгкие ранения головы. По словам его сестры Марии, он долго страдал:
«Маленький Аркадий несколько дней совершенно не мог спать. Только задремлет, как снова вскакивает, с ужасом озирается и кричит: „Падаю, падаю!“ Потом он спрашивал: "Что, этих злых дядей, которые нас скинули с балкона, поставили в угол? "»
Ставить в угол было некого – «злые дяди», боевики, были разорваны в куски. Но организаторов теракта нашли и судили, приговорив к смертной казни через повешение. Впрочем, одной из приговорённых, красавице-эсерке Наталье Климовой, смертную казнь вскоре заменили бессрочной каторгой. Запомним эту фамилию – Климова – она на пути нашего героя ещё объявится.
Бомбы для этого теракта были изготовлены в динамитной мастерской «Боевой технической группы» Леонида Красина, располагавшейся в квартире писателя Максима Горького. Охранял мастерскую Симон Тер-Петросян (партийная кличка – Камо). Как видим, знакомые всё лица – почти все эти люди имели отношение к кровавой мартовской экспроприации в городе Кутаисе.
После взрыва на Аптекарском острове был принят закон о военно-полевых судах – дела о террористических актах стали рассматривать в течение 48 часов, а смертные приговоры приводить в исполнение в течение суток. Чрезвычайность подобных жестких мер Столыпин оправдывал тем, что, дескать, нельзя «щепетильничать», когда террористы входят в твой дом.
Всего военно-полевыми судами было вынесено 1102 смертных приговора.
Разговоры о покушении на Столыпина долго не прекращались. Всех особо возмущала нечеловеческая жестокость боевиков, которые, совершая свой террористический акт, не пощадили ни малых детей, ни женщин, ни случайных посетителей главы правительства.
В воспоминаниях Владимира Джунковского – о новых трагических событиях:
«13 августа, на другой же день, новое злодейское покушение – в Новом Петергофе, на перроне вокзала, пятью пулями был убит командир Лейб-гвардии Семёновского полка, Свиты генерал-майор Мин».
Георгий Мин с женой и дочерью ожидал на платформе прибытия поезда, когда к нему подошла одетая в чёрное молодая женщина и несколько раз выстрелила из пистолета. Стреляла 27-летняя Зинаида Васильевна Коноплянникова, входившая в состав Летучего боевого отряда эсеров Северной области. Генерал-майор Мин был приговорен к смерти за подавление вооружённого восстания в Москве, о чём ему (как и четверым другим приговорённым) было послано специальное письменное «уведомление».
Вновь обратимся к воспоминаниям Владимира Джунковского:
«В тот же день в Петергофе же, в Нижнем саду, во время музыки было совершено покушение на жизнь генерала Стааля. Генерал Стааль имел большое сходство с генералом Треповым, на жизнь которого и было направлено это покушение».
К сожалению, Джунковский не уточнил, на какого именно генерала Стааля покушались террористы. Возможно, это была месть за подавление сапёрного бунта, вспыхнувшего в Киеве 18 ноября 1905 года. По бунтовщикам открыли ружейный огонь. Было убито и ранено более ста человек. Команду стрелять отдал командир Миргородского пехотного полка Николай Фердинандович фон Стааль. Внешне он был похож на Дмитрия Трепова, но генералом стал только через шесть лет. Так что, вполне возможно, что террористы покушались на другого Стааля, имевшего «большое сходство» с генерал-губернатором Санкт-Петербурга.
Владимир Джунковский:
«В начале сентября от разрыва сердца скончался Д.Ф.Трепов. Последнее время он был очень нервен, мнителен, ему всё казалось, что за ним следят, что дом, где он жил, окружён революционерами; он доходил, как говорят, до галлюцинаций, особенно после покушения на генерала Стааля, которого злоумышленник принял за него. Он совсем не выходил из дому…».
Иными словами, охотившиеся за Треповым революционеры своего добились.
Эти трагические события, подробно описывавшиеся в тогдашних газетах, горячо обсуждались и в семье Маяковских.
Московская жизнь
Как-то на Бронной улице Володя и Оля Маяковские встретили знакомых кутаисцев – братьев Григория и Ладо Джапаридзе. Оба приехали в Москву поступать в университет и очень скучали. Ладо вспоминал:
«В тот же день мы отыскали дом Ельцинского недалеко от нас, где квартировали Маяковские. В те времена в Москве не практиковалось указывать в адресах номера домов. Как в большой деревне: улица такая-то, дом такого-то. И всё…
Мать семьи, незабвенная Александра Алексеевна, увидев кутаисцев, помню, приободрилась, и кроткие глаза её загорелись теплом.
– Трудно вам, детки, будет на первых порах, – утешала она нас. – Но… учиться-то надо. Вот и мои дети очень скучают по Кутаиси и Багдади, особенно Володя, но что делать! Надеюсь, тоже привыкнут к Москве. Моя Люда уверяет, что здесь очень мило, и скоро всем нам будет совсем хорошо».
Но для того, чтобы жизнь стала хорошей, многого не хватало. В «Я сам» (в главке «МОСКОВСКОЕ») говорится:
«С едами плохо. Пенсия – 10 рублей в месяц. Я и сёстры учимся. Маме пришлось давать комнаты и обеды. Комнаты дрянные».
Александра Алексеевна Маяковская:
«Нам посоветовали одну комнату из трёх сдать. У нас появился знакомый Люды, грузин…
По приезде в Москву Володя и Оля познакомились с Медведевым – братом подруги Люды, коренным москвичом, и он знакомил их с Москвой».
Одна из сестёр этого «коренного москвича» была однокурсницей Людмилы Маяковской по Строгановскому училищу. Сергей (так звали её брата) встретил предложение познакомиться с приезжим пареньком без особого энтузиазма:
«Он был моложе меня года на два, и помню, когда мне сказала сестра, что сегодня придёт брат Людмилы Владимировны, Володя, мальчик тринадцати лет, я отнёсся к этому весьма пренебрежительно: что для меня этот маленький мальчик? Но, оказалось, пришёл не мальчик, а вполне сформировавшийся юноша, который не только по внешнему виду, но и по всей своей манере держаться выглядел значительно взрослее, чем я. Мы с ним познакомились, сошлись, и вскоре между нами установились близкие, приятельские отношения».
Учиться Володя Маяковский поступил в Пятую классическую гимназию, которую за 37 лет до этого закончил российский философ и поэт Владимир Сергеевич Соловьёв.
Среди одноклассников Маяковского был Саша Пастернак, младший брат другого Пастернака, Бориса, с которым Маяковского впоследствии судьба связала очень крепко. Борис Пастернак поступал в Пятую гимназию ещё в 1900 году, но его не приняли из-за процентной нормы (детей из еврейских семой брали в гимназии в ограниченном количестве). Поступил только на следующий год – пошёл сразу во второй класс.
Александр Пастернак писал в воспоминаниях:
«… в гимназии существовала группа «бесподкладочников», детей состоятельных родителей. Группа эта садистски мучила младших во время перемен, особенно новичков. Мрачноватый и физически развитый Володя Маяковский, прозванный «одноглазым Полифемом», внушал к себе такое отношение, что его не только не трогали, но у него искали защиты слабые. Его не так любили, как уважали».
«Новичка» Маяковского гимназисты охарактеризовали удивительно точно – ведь имя героя древнегреческих мифов великана-киклопа Полифема, сына Посейдона и нимфы Фоосы, означает «многоречивый» и даже (есть и такой перевод!) «много упоминаемый в песнях и легендах».
Александр Пастернак:
«Часто меня поражала в Маяковском какая-то его привлекательная наивная доверчивость, вероятно, результат его обособленной жизни, далёкой от мелких интересов гимназической среды. Он по своим качествам мог быть душой класса, если бы последний располагал к тому. Однако он не только не был душой – он был одинок в классе. Мои попытки сблизиться с ним не увенчались успехом, он на какой-то степени уходил в себя и замыкался. Между прочим, этим он отличался и позже».
Маяковский ходил на занятия не только в гимназию. Об этом – его мать:
«По вечерам Володя и Оля посещали вечерние курсы рисования при Строгановском училище».
А жизнь в тогдашней Москве продолжала быть чрезвычайно тревожной. Владимир Джунковский свидетельствует:
«14 октября в Москве было получено известие о грандиозном ограблении, имевшем место в Петербурге на углу Фонарного переулка и Екатерининского канала. В 11 часов утра на этом месте появилась карета Экспедиции заготовления государственных бумаг, эскортируемая конными жандармами и городовыми. В это время два молодых человека, выскочившие из ворот, бросили две бомбы. Лошади забились, карета остановилась, несколько жандармов и городовых были ранены, другие бросились за убегавшими бомбометателями. В это время из соседнего дома выскочили несколько человек и бросились к карете, которую, пользуясь суматохой, ограбили; украдено было около 600 000 рублей. Часть преступников была поймана».
А в квартире Маяковских в то же самое время появились постояльцы.
Первые жильцы
Самым первым жильцом, которого мы уже упоминали, был «знакомый Люды, грузин». Звали его Исидор Иванович Морчадзе. Он родился и поначалу жил в городе Кутаисе, где, по его собственным словам, занимался «революционной борьбой» вместе с Coco (Кобой) Джугашвили. В экспроприациях участие тоже принимал. О самом себе писал:
«Революция 1905 года заставила бежать меня из своего родного города, перейти на нелегальное положение и сделаться профессиональным подпольным революционным работником. В ноябре и декабре 1905 года я очутился в Москве, дрался на баррикадах в знаменитой в то время „Кавказской боевой дружине“. На одной из квартир, где собирался тогда революционный студенческий кружок, я встретился и познакомился с Людмилой Владимировной Маяковской, она тоже была революционеркой в полном смысле этого слова».
В 1906-ом Исидор Иванович узнал, что семья Маяковских переехала в Москву.
«Я разыскал их. Они в это время жили по Большому Козихинскому переулку, и первым их жильцом на этой квартире был я. Вот здесь, на этой квартире, я впервые познакомился с Володей. Хотя он был моложе меня на шесть лет, мы с ним подружились…
Разговор у нас всегда, когда мы оставались одни, вёлся на грузинском языке. Он часто заходил в мою комнату, и часто мы с ним говорили и вспоминали про город Кутаиси».
Вскоре у Маяковских появились и другие жильцы, о которых в «Я сам» сказано:
«Студенты жили бедные. Социалисты».
В 1922 году, когда сочинялись автобиографические заметки, партия эсеров была объявлена вне закона. Видимо, поэтому партийную принадлежность первого жильца Маяковский не указал. А между тем, Исидор Морчадзе был не просто «социалистом», а членом партии социалистов-революционеров (эсеров). И «бедным» он в ту пору не был – сам себя охарактеризовал так:
«Вся семья Маяковских знала, что я участник экспроприации, знала, что я большие деньги имел на руках, и, несмотря на то, что они жили бедно и часто нуждались, не им, ни мне не пришло в голову хоть одну копейку истратить на личную жизнь».
Про хозяев квартиры, у которых снимал комнату, Морчадзе написал:
«Семья Маяковских, включая и маленького Володю, была настоящей революционной семьёй. В этой семье всегда радушно и одинаково тепло встречали всех, кто имел отношение к революции. Слово „революционер“ – это был уже пропуск, чтобы попасть в семью Маяковских. В этой семье жили и дышали революцией… На первом плане стояла революция, и ради неё мы переживали всякие лишения».
Когда в этих революционных делах «маленькому Володе» было что-то непонятно, он обращался к Исидору Ивановичу:
«Он забрасывал меня целым рядом вопросов.
– Вы дрались в Москве во время революции 1905 года на баррикадах?
– В какой дружине?
– Действительно ли ваша дружина охраняла великого Горького?
– Почему ваша дружина называлась Кавказской? – и т. д. без конца.
Отвечать приходилось подробно, ибо короткие ответы его не удовлетворяли, приходилось удовлетворять его любопытство и объяснять ему, что «Кавказская боевая дружина» была очень хорошо вооружена, все имели маузеры; охраняла революционные митинги того времени, а также и жизнь некоторых видных революционеров, которых чёрная сотня готовилась убить. В числе этих революционеров первое место занимал Максим Горький, которого особенно ретиво защищали мы, дружинники, и чуть не дрались из-за того, чтобы попасть на квартиру Горького и охранять его… Жил Максим Горький тогда на Воздвиженке, сзади Московского университета».
Как видим, 13-летний Маяковский называл Горького «великим»!
Постоялец, так хорошо умевший объяснить всё непонятное, в квартире на Большом Козихинском прожил недолго. Александра Алексеевна Маяковская писала:
«Он вскоре уехал, а вместо себя поселил товарища – студента второго курса, тоже грузина, социал-демократа».
В путь Исидора Ивановича позвали всё те же революционные дела. Он писал:
«Скоро мне пришлось уехать с квартиры Маяковских в Западный край, в города Вильно, Ковно, Минск, Вержболово и Великовышки. Здесь я организовал в выше перечисленных городах передаточные склады оружия. Оружие закупал контрабандным путём через Германию. Ко мне приезжали товарищи из разных городов, и я снабжал всех их оружием, готовясь к новой революции. Деньги на это были взяты посредством экспроприации банка «Купеческое общество взаимного кредита», находившегося в Москве на Ильинке. Это была первая экспроприация, в которой участвовал пишущий эти строки. Было взято 850 000 рублей».
Грабёж «Общества взаимного кредита» был осуществлён партией эсеров 7 марта 1906 года, незадолго до приезда в Москву семьи Маяковских.
Вместо себя в квартире на Большом Козихинском Исидор Морчадзе оставил Василия Васильевича Канделаки. В «Я сам» о нём сказано:
«Помню – первый предо мной „большевик“ Вася Канделаки».
К новому жильцу часто приходили его друзья, тоже социал-демократы. Канделаки позже вспоминал о гимназисте Маяковском:
«В действительности, он увидел вскоре много большевиков в своей комнатке. Это были студенты Московского университета, товарищи и приезжие. Говорили, курили, спорили много и горячо. Тащили ворох нелегальщины.
Иногда, спохватившись, оглядывались на неподвижно сидевшего долговязого мальчугана. Я успокаивал:
– Это сын хозяйки. Володя Маяковский, свой.
В горячке учёбы и кружковщины мне было не до «ребёнка», каким я считал Володю».
Мать этого «ребёнка» тоже писала о «спорах» и о «ворохах нелегальщины»:
«Я беспокоилась, не мешает ли Володя своим присутствием студентам, но они мне говорили: „Володя серьезный мальчик, много читает, и нам он не мешает“.
К нам часто приходили студенты и курсистки, боровшиеся на баррикадах в 1905 году и участвовавшие в демонстрации на похоронах Баумана. Эти волнующие, интересные разговоры увлекали Володю. Он всё это хорошо знал и понимал».
Обратим внимание, что молодые люди в ту пору называть себя «большевиками» не могли. Те, кто состоял членом Российской социал-демократической рабочей партии, считались «эсдеками». Разделение на сторонников Ульянова-Ленина {«большевиков») и сторонников Плеханова {«меньшевиков») происходило лишь в партийной верхушке. К тому же в апреле 1906-го в Стокгольме прошёл шестой съезд РСДРП, который был назван «Объединительным», и на нём было принято решение: забыть все прежние разногласия и работать дружно.
В столицу Швеции приехал тогда и делегат от социал-демократов Кавказа Иосиф Джугашвили – под псевдонимом Иванович. Другой делегат, Климент Ефремович Ворошилов (под псевдонимом Володин), потом вспоминал, каким он встретил кавказца Кобу:
«У него были удивительно лучистые глаза, и весь он был сгустком энергии, весёлым и жизнерадостным. Из разговоров с ним я убедился в его обширных знаниях марксистской литературы и художественных произведений, он мог на память цитировать полюбившиеся ему отрывки политического текста, художественной прозы, знал много стихов и песен, любил шутку».
О том, что было связано с этим съездом социал-демократов, широкой публике стало известно лишь много лет спустя. А тогда, осенью 1906 года, москвичи обсуждали совсем другое событие. О нём – Владимир Джунковский:
«30 октября Москва омрачилась новым злодейским покушением. Когда градоначальник А.А.Рейнбот шёл пешком по Тверской, отправляясь к церкви Василия Кесарийского на освещение школы и богадельни, в него была брошена бомба, которая, по счастливой случайности, перелетев через него, упала на мостовую и взорвалась, не причинив никому вреда. Преступник был схвачен, но в эту минуту успел ещё сделать несколько выстрелов из револьвера, тоже никого не задевших».
Неудача в покушении заставила террористов охоту за Анатолием Анатольевичем Рейнботом продолжить. И через какое-то время в Большом театре во время дававшейся там оперы «Аида» неподалеку от ложи градоначальника была задержана эсерка Фрума Мордуховна Фрумкина, пришедшая в театр, чтобы застрелить Рейнбота. В её сумочке нашли браунинг. Террористку отправили в Бутырку. Там она, каким-то образом раздобыв оружие, стреляла в помощника начальника тюрьмы и ранила его.
Вот о чём тогда говорили, а также «спорили много и горячо» молодые социал-демократы, собиравшиеся в квартире Маяковских.
Постижение бунтарства
Наступил год 1907-ой. Семья Маяковских продолжала остро нуждаться. О том, как добывались средства для существования, описано в «Я сам»:
«Денег в семье нет. Пришлось выжигать и рисовать. Особенно запомнились пасхальные яйца, крупные, вертятся и скрипят, как двери».
Сергей Медведев:
«Помню, перед пасхой Людмила Владимировна и Володя занимались для продажи выжиганием и раскраской деревянных яиц. Принимала в этом участие и моя сестра. Работали и у них на квартире, и у нас. Пасхальные яйца заполняли все столы, окна, и в комнатах стоял запах горящего дерева».
Людмила Маяковская:
«В холоде, за полутёмной лампой, в дыму и копоти сидели мы за столом и работали… Часто сидели до утра. Умоешься и пойдёшь на занятия, а Володя ходил относить работу в магазин. Сидишь целый вечер, заработаешь два-три рубля, а эти вещи потом красуются в магазине Дациаро и продаются по пять-семь рублей.
Несмотря на то, что Володя эту работу не любил, он выполнял её хорошо. Эта работа нас выручала».
Магазин фирмы Джузеппе Дациаро (в России его звали Иосифом Христофоровичем) располагался на Кузнецком мосту в доме № 13 и торговал литографией – видами российских и зарубежных городов.
Александра Алексеевна Маяковская:
«После долгих и тяжёлых хлопот, разговоров и убеждений мне с детьми назначили пятьдесят рублей пенсии».
Жить стало немного легче. Но выжигать и выпиливать всё равно приходилось. Это, впрочем, не мешало Володе общаться с революционно настроенными жильцами.
Василий Канделаки:
«Помню мимолётное своё удивление, когда он смущённо, робко, боясь, что откажут, брал почитать „что-нибудь революционное“. Потом он перестал спрашивать, просто брал, глотал. Когда приходили товарищи, бросал своё выпиливание и присаживался в уголке, жадно слушал».
Учиться в Пятой классической гимназии Маяковский начал с четвёртого класса. Но учёба у него не заладилась – отметки были хуже, чем в третьем классе Кутаиса. В «Я сам» сказано:
«Единицы, слабо разноображиваемые двойками. Под партой – „Анти-Дюринг“…
Беллетристики не признавал совершенно. Философия. Гегель. Естествознание. Но главным образом марксизм. Нет произведения искусства, которым бы я увлекся более, чем "Предисловием "Маркса».
Знания классические – те, что давала гимназия, его уже совершенно не интересовали.
А народоволец Пётр Лавров (тот самый, что перевёл на русский язык «Марсельезу») однажды написал в своём дневнике, что без знаний…
«… человек ничто, …он наг и слаб в руках природы, он ничтожен и вреден в обществе».
Другой гимназист той же Пятой московской гимназии, Борис Пастернак (с ним Володя Маяковский знаком ещё не был), учился блестяще.
Почему же Маяковский, который ещё совсем недавно в учёбе был «первым», шёл «весь в пятёрках», теперь вдруг позиции эти сдал? Возможно, уровень обучения в московской гимназии оказался намного выше того, что был в периферийном Кутаисе. И упущено из-за революционных событий 1905 года тоже было немало. И стимула подтянуться и догнать ушедших вперёд не было – строгий отцовский надзор отсутствовал. И революционно настроенные студенты, снимавшие углы в квартире Маяковских, тоже влияли. Эти молодые бунтари наверняка распевали «Марсельезу», любимую песню Володиного отца. И гимназист-двоечник потянулся к нелегальной литературе, забросив легальные учебники.
Вот что думал по этому поводу жандармский офицер Александр Спиридович:
«Увлечение марксизмом было в то время повальною болезнью русской интеллигенции, развившейся ещё в 90-х годах. Профессура, пресса, молодёжь – все поклонялись модному богу – Марксу. Марксизм с его социал-демократией считался тем, что избавит не только Россию, но и весь мир от всех зол и несправедливостей и принесёт царство правды, мира, счастья и довольства. Марксом зачитывались все, хотя и не все понимали его. Студенческие комнатки и углы украшались портретами „великого учителя“, а также Энгельса, Бебеля и Либкнехта».
Многое из прочитанного Маяковский тоже не понимал. Приходилось обращаться за помощью к старшим. Например, к студенту Московского университета Ивану Богдановичу Карахану, жена которого дружила с Людмилой Маяковской. Карахан называл себя большевиком, хотя (напомним ещё раз) никакой «партии большевиков» в ту пору не существовало, а была РСДРП. Карахан вспоминал:
«Я познакомился с семьёй Маяковских в 1906 году, когда они переехали в Москву. Я в то время был уже членом партии большевиков, принимал участие в качестве дружинника в декабрьском вооружённом восстании в Москве в 1905 году, был ответственным пропагандистом московских организаций…
Я перед собою видел подростка, по своему духовному развитию он был, несомненно, выше своего возраста. Ему было тринадцать лет, а казалось, что ему шестнадцать и по росту, и по складу, и по развитию.
Начались наши беседы с того, что я ему помог в учёбе. Он очень отстал по математике. Он был гимназистом, а я был студентом третьего курса юридического факультета, был лет на десять старше его…
Будучи в гимназии, Володя мало интересовался гимназическими предметами и учением, даже тяготился ими, хотя имел колоссальные способности и мог легко преодолеть и эту математику, и всё остальное…
Когда мы столкнулись ближе, я ему многое стал рассказывать, давал литературу: «Искру», подпольную литературу, листовки, прокламации, давал читать Ленина и Плеханова.
Первое политическое воспитание, первые шаги, несомненно, он сделал со мною, получил через меня. Я видел, что человек хочет работать, может работать, что из него можно сделать хорошего пропагандиста-агитатора. И действительно, через год он стал пропагандистом.
Мы проработали несколько глав «Капитала». Он читал один, и затем мы прорабатывали вместе. Если ему было что-нибудь непонятно, он всегда приходил ко мне, и я разъяснял ему смысл политэкономии, которую я проходил в университете».
Чем же так притягивал марксизм молодых россиян?
Жандармский офицер Александр Спиридович:
«Само правительство… видело в нём противовес страшному террором народовольчеству. Грамотные люди, читая о диктатуре пролетариата Маркса, не видели в ней террора и упускали из виду, что диктатура не возможна без террора, что террор целого класса неизмеримо ужаснее террора группы бомбистов. Читали и не понимали, или не хотели понимать того, что значилось чёрным по белому».
Ситуация, по словам того же Александра Спиридовича, мгновенно изменилась, когда появился первый номер социал-демократической газеты «Искра»:
«Появление „Искры“ и её полные революционного огня и задора статьи как бы открыли глаза правительству, и оно узрело, наконец, весь вред марксизма, сеявшего классовую рознь и гражданскую войну, пропагандировавшего царство хама и босяка под именем диктатуры пролетариата. И правительство начало борьбу с социал-демократами более решительными мерами. Но в этой борьбе русское общество ему не помогало».
Владимир Маяковский в тот момент к марксизму как раз и потянулся.
Иван Карахан:
«Как характеризовать его? Он был живой мальчик, бойкий, начитанный, легко всё схватывающий. В семье дисциплинированным, любящим сыном. Такие отношения редко бывают между матерью, дочерьми и сыном, я бы сказал – это была действительно монолитная, крепкая, спаянная семья, и особенно на Володе это сказывалось».
Студенты-марксисты, жившие в их квартире и приходившие в неё, тоже влияли на подростка, который впоследствии написал о них (в «Я сам»):
«Из комнат студентов шла нелегальщина. „Тактика уличного боя“ и т. д. Помню отчётливо синенькую ленинскую „Две тактики“. Нравилось, что книга срезана до букв. Для нелегального просовывания. Эстетика максимальной экономии».
Гимназист Маяковский очень быстро из простого слушателя студенческих разговоров превратился в участника их нелегальных «дел». Иван Карахан писал:
«При мне он сперва работал по технической части: собирал подпольные явки, хранил подпольную литературу. Он очень любил быть в среде взрослых и был недоволен, когда его считали за мальчика. Эту черту я сразу в нём подметил.
Его очень увлекала моя работа в подпольных кружках.
Его очень интересовала тактика подпольщика. Я рассказывал о себе, рассказывал, как надо заметать следы от шпиков и т. д. Он улыбался, просил рассказать об этом, слушал с большим любопытством и сам воспринимал методы «заметания следов».
Моя партийная кличка была «Ванес». Он просил:
– Ванес, расскажите, как вы это делаете!
Я рассказывал:
– Вот сижу я в конке, и вижу, что за мной следят. Я быстро выпрыгиваю через переднюю площадку и на ходу вскакиваю в другую конку, в третью и, таким образом, заметаю следы. Или, зная проходные дворы в Москве, быстро исчезаю через них.
Эта тактика его очень интересовала. Он, видимо, ей учился…»
О революционной тактике тогда очень много говорили – причиной послужило событие, произошедшее 2 декабря 1906 года, и главным героем которого был адмирал Фёдор Васильевич Дубасов, бывший генерал-губернатор Москвы, подавивший вооружённое восстание 1905 года. Теперь он проживал в Петербурге.
Владимир Джунковский:
«В 12 часов дня Ф.В. Дубасов вышел из своего дома на прогулку в Таврический сад, но не успел сделать и пятидесяти шагов, как неожиданно три молодых человека – юноши, из них один был в студенческой форме – сделали ряд выстрелов по направлению к Дубасову. К счастью, ни одна пуля не попала. Потом один из них бросил бомбу. Дубасов упал, но тотчас поднялся и, опираясь на палку, подошёл к покушавшемуся на него, которого уже держали агенты, и стал его рассматривать».
Как потом было установлено, покушались члены эсеровского «Летучего террористического отряда» Пётр Воробьёв и Василий Березин. Было ещё двое бомбистов, бросивших взрывное устройство, начинённое мелкими гвоздями. Этим терактом социалисты-революционеры намеревались отметить годовщину со дня начала вооружённого восстания в Москве.
Покушавшиеся были отданы под суд и приговорены к смертной казни. Джунковский писал, что Дубасов…
«… сокрушался, что казнили этих юношей, которые на него покушались. Он говорил, что когда смотрел на того юношу, который стрелял в него, то видел такие испуганные глаза, что видно было, что он сам испугался, что стрелял. Дубасов находил, что таких невменяемых юношей нельзя убивать, и писал даже Государю, прося судить юношу общим порядком, но его просьба не была уважена».
О судьбе эсеров-террористов, закончивших свой жизненный путь на виселице, постояльцы квартиры Маяковских тоже «говорили, спорили много и горячо».
Темы споров
Насколько было рискованно в ту пору быть бунтарём-подпольщиком, наглядно продемонстрировала и судьба Исидора Морчадзе, который впоследствии написал:
«В конце 1906 года я был арестован, сидел в изоляторе Бутырской тюрьмы в пугачёвской башне. Обвиняли меня, что я участник экспроприации «Купеческого общества» и член Кавказской боевой дружины, но доказать не могли, и меня выслали в Туруханский край сроком на четыре года».
Поражает осведомлённость Охранного отделения – ведь там, как оказалось, знали всю подноготную Исидора Морчадзе. Также обращает на себя внимание и фраза «доказать не могли». Ведь, несмотря на отсутствие доказательств, его всё же выслали в Туруханский край, а для человека, родившегося и выросшего в тёплой Грузии, это было весьма суровым наказанием.
Тяжкая доля сосланного революционера Володю Маяковского не испугала – ему по-прежнему очень хотелось испытать на себе все прелести подпольной работы. А для этого надо было попасть в их тайный контингент.
Между тем 21 декабря 1906 года в Петербурге было совершено… Далее – слово Владимиру Джунковскому:
«… совершено было злодейское покушение на градоначальника Лауница после торжественного открытия отделения по кожным болезням в Институте экспериментальной медицины… После молебна, когда он сходил с лестницы, в него выстрелил революционер-анархист, явившийся на торжество элегантно одетый, во фраке, с пригласительным билетом. Лауниц был убит наповал».
Назначенный 31 декабря 1905 года градоначальником Санкт-Петербурга генерал-майор Владимир Фёдорович фон дер Лауниц быстро навёл в столице порядок, разгромив революционное подполье. Смута в городе прекратилась, жизнь стала налаживаться. Но приструнённые террористы начали мстить. В их списке приговорённых к смерти Владимир Лауниц занимал третье место – после императора Николая и главы правительства Петра Столыпина. На Лауница было совершено 15 покушений. Ему предлагали бросить всё и уехать в какой-нибудь тихий край, но он говорил: «Я нужен государю».
Что касается убийцы градоначальника, то Джунковский не совсем точен. Как установило следствие, роковые выстрелы произвёл не анархист, а член «Северного боевого летучего отряда», пришедшего на смену «Боевой организации эсеров», Евгений Кудрявцев (по кличке Адмирал), покончивший с собой на месте преступления.
Бурные обсуждения, которые вызвал этот террористический акт у студентов-социалистов, собиравшихся в квартире Маяковских, ещё не утихли, когда произошло покушение на главного военного прокурора России Павлова.
Генерал-лейтенант Владимир Петрович Павлов был инициатором закона о военно-полевых судах, которые, по его мнению, должны были защитить россиян от кровавого террора, развязанного государственными преступниками. На одной из служебных бумаг, поданных от его имени военному министру, сохранилась собственноручная резолюция Николая Второго:
«Напоминаю… моё мнение относительно смертных приговоров. Я их признаю правильными, когда они приводятся в исполнение через 48 часов после совершения преступления – иначе они являются актами мести и холодной жестокости».
Тогдашний военный министр России Александр Фёдорович Редигер чуть позднее разъяснил, что имел в виду император:
«… быстрое исполнение наказания будет больше устрашать».
Об этих высказываниях царя Николая, конечно же, мало кто знал в ту пору. Но о том, что смертные казни совершались, причём, как правило, на следующие сутки после вынесения приговора, было известно очень многим.
Эти смертные приговоры утверждал главный военный прокурор Павлов, и сеятели революционной смуты приговорили его к смертной казни. 27 декабря газета «Русское слово» в разделе «Убийства, нападения, грабежи» сообщила:
«В 9 часов утра генерал Павлов выехал в экипаже из дома, где он живёт, и направился в главный военный суд. На Мойке, недалеко от здания военного суда, в его карету было произведено шесть револьверных выстрелов. Генерал Павлов был убит наповал. Стоявший тут же близко городовой тяжело ранен. Ранен также случайно проходивший мимо какой-то мальчик.
Нападавших было несколько человек. Один из них убит; другой, который был одет в форму матроса, отстреливался в течение четверти часа от окруживших его полицейских. Он поскользнулся и упал, после чего был схвачен».
На следующий день та же газета поместила сообщение Санкт-Петербургского Телеграфного Агентства:
«ПЕТЕРБУРГ. 27, XII. Сегодня, 27-го декабря в 9 часов утра, во дворе главного военного суда убит главный военный прокурор генерал-лейтенант Павлов тремя выстрелами из револьвера. Убийца, одетый в форму солдата, бежал, и при преследовании ранил двух городовых и мальчика, но был задержан».
Террорист, одетый то ли «в форму матроса», то ли «в форму солдата», был в тот же день приговорён к смертной казни и 28 декабря повешен.
Его имя стало известно только через месяц – 29 января «Петербургская газета» оповестила читателей, что передовая статья эсеровского листка «Голос рабочих» посвящена…
«… Николаю Егорову – убийце главного военного прокурора Павлова…
Крестьянин по рождению, матрос по службе, социалист-революционер Николай Егоров был одним из участников и руководителей июльского кронштадтского восстания. Затем Егоров дезертировал и вступил в летучий боевой отряд».
То, что эсер Егоров был осуждён и повешен, московских студентов-социалистов не устрашило. А гимназист Маяковский продолжал неудержимо рваться к тому, чтобы как можно скорее стать революционером.
Становление бунтаря
Иван Карахан:
«Что я ему поручал? Например, надо было сообщить товарищам явку. Нужно было пройти в какой-нибудь дом в так называемом „латинском квартале“ (Бронная, Козихинский переулок). Я посылал с ним явки тем партийцам, которые должны были явиться. Он это исполнял. Разносил записки и указания, с каким паролем надо явиться. Затем он приносил и хранил у себя литературу. Я избегал хранить её у себя, потому что за мной следили, а у него я мог её держать…
В этот период времени я работал вместе с Денисом Загорским. И Володя Маяковский, посещая со мною кружки и выполняя различные мои поручения, несомненно встречался и с Денисом. Я припоминаю, что он выполнял и поручения Дениса, и тот его знал как начинающего работать партийца».
Денис Загорский (Вольф Михелевич Лубоцкий) был, между прочим, другом детства Якова Михайловича Свердлова, ставшего после Октября 1917 года одним из виднейших большевистских вождей. Так что подпольная работа юного Маяковского начиналась с общения с заметными людьми. Но так как не только революционного, но и обычного жизненного опыта у него ещё было маловато, ничем серьёзным заниматься он, конечно же, не мог. Старшие товарищи могли предложить ему лишь одно – быть мальчиком на побегушках. И он стал им, занимаясь этим делом с огромным удовольствием – ведь романтика во все века увлекает подрастающее поколение.
Кроме товарища «Дениса» Маяковский общался и с другим подпольщиком – Владимиром Вегером, который впоследствии вспоминал:
«Я был тогда парторгом по студенческим делам, учился на экономическом отделении Московского университета.
Он был направлен ко мне для использования его в партийной организации. В московской организации он ещё не состоял, он приехал недавно с Кавказа и в Москву явился новичком. Он пришёл с тем, чтобы ему оформиться и быть привлечённым на партийную работу в нашей организации. Он заявил, что желает всецельно посвятить себя подпольной работе.
Мне как члену Московского Комитета надо было выяснить, каковы же его позиции. А в московской организации в течение ряда лет, предшествовавших 1908 году, велась борьба с самостоятельной, противоположной организацией меньшевиков. Поэтому в разговоре с Маяковским надо было выяснить, какого направления он придерживается, является ли сформировавшимся большевиком.
Его большевистские настроения выразились в двух вопросах. Во-первых, он отрицательно относился к либералам, к либеральной буржуазии, к деятелям земства и городов. А это было пунктом, на котором выявлялась разница между большевиками и меньшевиками.
Второе. Маяковский не сомневался в том, что самым передовым классом, способным совершить революцию, является рабочий класс. То есть он был знаком с некоторыми положениями марксистской литературы, стоял на позиции научного социализма.
Но мало этого, оказалось, что им признаётся не только руководящая роль в революции рабочего класса, но именно то, что наряду с этим должен быть установлен союз рабочего класса с крестьянскими массами.
Мы беседовали при первой встрече наедине. И вот в этой беседе выяснилось, что он действительно находится на большевистских позициях».
В тот момент партийный организатор Лефортовского района собирался уезжать в Петербург, и ему искали помощника, чтобы он набрался опыта.
Вегер продолжает:
«Нужно было подготовить парторга района, который мог бы войти в МК партии. В этом районе работал тогда другой товарищ – Оппоков-Ломов. Так как Маяковский произвёл впечатление организаторски сильного парня, то я предложил ему организационную работу у Ломова, в Лефортовском районе. И он пошёл туда, на эту работу».
Следует отметить, что Владимир Вегер был не единственным, кто «прощупывал» революционную прочность юного гимназиста. В своих воспоминаниях он отметил:
«Кроме меня Маяковский проверялся ещё одним членом МК».
Бунтарь-партиец
В самом начале весны 1907 года в городе Киеве произошло событие, которое явилось ещё одной семейной трагедией – не дожив чуть больше месяца до своего 48-летия, скончался профессор, доктор богословия, статский советник Афанасий Иванович Булгаков. Его старшему сыну Михаилу было всего пятнадцать лет.
Тогдашнему москвичу Володе Маяковскому, конечно же, и в голову не могло прийти, что у него объявился товарищ по несчастью. Жизненные пути Владимира и Михаила пересекутся лишь через двадцать лет, когда один из них станет знаменитым поэтом, а другой – не менее знаменитым писателем. Но всё это время у них в душе будет находиться невидимая никому незаживающая рана, которая будет терзать обоих.
Гимназист Маяковский, как мы помним, ещё и по учёбе сильно отставал. Его тогдашний приятель Сергей Медведев объяснял причину этой неуспеваемости так:
«Учиться ему вначале было довольно трудно: по таким предметам, как математика, он подготовлен был слабо, приходилось подгонять, но интереса у него к этим наукам не было никакого. Гимназия его нисколько не увлекала и всегда оставалась как-то вне его интересов. Мы с ним почти никогда о ней не говорили. Володя перерос своих сверстников не только по своему физическому развитию, но и по своим духовным запросам. У него уже тогда был определённо выраженный интерес к общественно-политическим вопросам, и понятно, что общение с мальчиками-одноклассниками его не удовлетворяло, подобрать себе приятелей среди них он не мог».
Александра Алексеевна Маяковская писала примерно то же самое:
«Он ходил в гимназию, но занят был больше другими делами: читал, вёл пропаганду среди рабочих».
Классный наставник как-то сказал Людмиле Владимировне:
«Ваш брат очень способный, …но в нём и в его поведении есть что-то, что плохо влияет на товарищей».
Как раз в тот момент Маяковский и стал членом социал-демократической партии.
Иван Карахан:
«Я считаю, что осенью 1907 года В.В.Маяковский, уже достаточно подготовленный, фактически вступил в партию большевиков и работал самостоятельно».
О том, как происходило это «вступление», рассказал Владимир Вегер:
«Формальных рекомендаций тогда не существовало, но член Московского комитета мог ввести в партийную организацию любого человека, которому он доверял. То есть для лица, которого рекомендовал член МК, не требовалось добавочных рекомендаций. Я его направил к другому члену МК – Ломову, и тот очень быстро сделал его своим помощником».
В 1907 году в социал-демократическую партию вступил не только Маяковский. Эсдеком стал и Владимир Старосельский, бывший губернатор Кутаиса, сосланный на Кубань.
Из истории партии большевиков известно, что весной 1907 года 19-летний социал-демократ Гирш Бриллиант (вместе со своим ровесником и членом РСДРП Николаем Бухариным) провёл на одной из лесных полянок в Сокольниках нелегальный слёт бунтарски настроенной молодёжи, сильно сплотивший подпольную ячейку юных революционеров. Впоследствии стали считать, что с этого мероприятия и начался комсомол.
Участвовал ли в том слёте Маяковский?
Сведений о том не сохранилось. Но годы приобщения к РСДРП гимназиста Маяковского и проведения конференции в Сокольническом лесу совпадают. Поэтому вполне возможно, что Бухарин с Бриллиантом тоже могли оказаться в числе первых партийных наставников молодого Маяковского, который уже тогда выделялся среди начинающих нелегалов своим энтузиазмом, активностью, а также знанием работ Маркса, Ленина и Плеханова.
Тайная конференция в Сокольниках, видимо, неслучайно проводилась именно весной 1907 года, потому что с 30 апреля по 19 мая в Лондоне проходил V съезд РСДРП. Его делегатами были грузинский поэт Иосиф Джугашвили и «певец босяков» (как его называл жандармский офицер Александр Спиридович) Максим Горький.
Публицист Дмитрий Владимирович Философов примерно в то же время опубликовал статью «Конец Горького», в которой говорилось:
«Две вещи погубили писателя Горького: успех и наивный, непродуманный социализм».
Особенно страшили Философова горьковские «босяки»:
«Здесь уже не литература пресыщенных интеллигентов, а подлинный мускулистый кулак человека-полузверя. Сила в нём громадная, инстинкт праведный, и нет только рычага, к которому он мог бы приложить силу… Эта пробудившаяся сила может послужить или добру, или злу, приложиться к рычагу или дьявольскому, или божественному. Опасность в ней великая, и когда Мережковский боится этой новой силы – он прав. „Грядущий Хам“, „внутренний босяк“, кроме своего "я" никого и ничего не признающий ни на земле, ни на небе, сулит сюрпризы не очень приятные…
Мережковский хочет верить, но сомнения порой одолевают его; Горький же думает, что он уже нашёл «имя» для опустошённой души, нашёл рычаг для приложения босяцкой силы, и рычаг этот – социализм».
В мае 1907 года вышла в свет книга, которую написал малограмотный сибиряк, не считавший себя «босяком». Сие творение было названо им «Житие опытного странника». Автора этого произведения звали Григорий Ефимович Распутин.
А поверивший в социализм писатель Максим Горький, находясь в это время на лондонском съезде социал-демократов, с интересом наблюдал за шумной перепалкой, возникшей между теми, кто собирался повести любимых им «босяков» на штурм самодержавия. Лидер меньшевиков Юлий Мартов (Цедербаум) потребовал исключить большевиков из партии за то, что они добывают деньги (для Ульянова и его сторонников), совершая экспроприации. За эти «дела», не санкционированные партией, многие эсдеки считали «Ленина и К"» обычными жуликами, а меньшевик Фёдор Ильич Дан (Гурвич) впрямую называл ленинцев «компанией уголовников». Исключать экспроприаторов из партии съезд не стал, но подобное добывание средств запретил категорически. Однако большевики внутри вновь избранного Центрального комитета РСДРП образовали свой тайный «Большевистский центр» во главе с «Малой Троицей» или «Советом Трёх»: Владимиром Ульяновым, Леонидом Красиным и Александром Богдановым. Так что «уголовное» снабжение деньгами ленинцев было продолжено.
Владимир Маяковский той весной ещё только набирался опыта революционера-подпольщика.
Иван Карахан вспоминал:
«В 1907 году Володя политически уже сформировался…
Я видел в нём товарища, который хотел освоить марксизм и стать активным борцом революции.
Гимназией он тяготился и был в ней как-то между прочим. Детвора ему была неинтересна».
В пятый класс Маяковского всё же перевели. Правда, с несколькими переэкзаменовками. Поэтому летом ему пришлось заниматься, о чём он упомянул 14 июля в письме, посланном сестре Ольге:
«День своего рождения провёл хорошо, только на другой день вспомнил о нём. Ты пишешь, что хорошо проводишь время, – рад за тебя, я же сижу дома или что-нибудь читаю, или же учу уроки и ругаю бога за вавилонское столпотворение. Захотелось ему башню разрушить, он и перемешал языки, а я за него страдай и учи уроки, совсем у бога логики нет!
У Медведевых время провёл так, как и вообще у них проводил: ел, пил, спал, купался, гулял, читал и изредка занимался».
Сергей Медведев, на даче у которого Маяковский «проводил время», впоследствии написал о своем друге:
«Особенно близко Володя ни с кем не сходился. Он был скрытен, замкнут и, как нам казалось тогда, угрюм».
Александра Алексеевна Маяковская:
«Однажды у меня спросила знакомая: „Сколько лет Володе?“ – и удивилась, что ему только четырнадцать лет. А когда она ушла, Володя обиженно сказал мне:
– Зачем говорить, сколько мне лет!
Он говорил, что ему семнадцать лет. Так он выглядел, и ему хотелось скорее быть взрослым».
Осень 1907-го
О том, чем в свободное время занимался тогда Маяковский, Сергей Медведев написал:
«Володя охотно посещал кино и очень им интересовался. Наоборот, к театру он был довольно равнодушен. Через артистку О.В.Гзовскую, сестру нашего товарища, мы имели тогда возможность ходить по бесплатным пропускам в Малый театр, но Володя очень редко этим пользовался.
Мои приятели и я сам, все мы тогда, как это бывает в юношескую пору, увлекались писанием стихов. Наши лирико-романтические излияния были полны весьма наивного подражания символистам – Брюсову, Белому, отчасти Бальмонту. Мы постоянно читали свои стихи друг другу, обсуждали их.
Володя всегда держался в стороне и от писания стихов, и от критики. Он относился ко всему этому очень неодобрительно, и наши стихи явно вызывали у него какую-то внутреннюю оппозицию и неприязнь. К разговорам, которые велись в его присутствии, он проявлял острый интерес только тогда, когда они касались общественно-политических тем и событий».
Александра Алексеевна Маяковская:
«Со студентами и сёстрами ходил Володя на студенческие вечеринки. Там читал он Горького: „Песню о Буревестнике“, „Песню о Соколе“ и другие революционные стихи и прозу. Пели студенческие революционные песни».
Горьковскую поэму «Человек» юный Маяковский тоже наверняка декламировал.
Александра Алексеевна оставила и такие воспоминания о сыне:
«Уходя из дому, он надевал шапку и запевал:
Плохой тот мальчик должен быть,
Кто дома хочет вечно жить.
Всё дома, да дома».
Что ещё интересовало гимназиста Маяковского?
Нелегальный ученический кружок, существовавший в Пятой гимназии и издававший журнал «Борьба», был ему почему-то неинтересен. А такой же кружок Третьей гимназии, выпускавший журнал «Порыв», его внимание привлёк.
Учившийся в Третьей гимназии Сергей Медведев тот «Порыв» представил так:
«Это был журнал с политическим оттенком, издававшийся нелегально, гимназическое начальство об этом не знало… Журналом заправлял в то время один из моих близких приятелей, Володя Гзовский».
Гзовский был одноклассником Медведева, через него познакомился и подружился с Маяковским, который, по словам Медведева…
«… должен был принять участие в "Порыве "как иллюстратор и карикатурист, к рисованию у него уже в гимназические годы был большой интерес и несомненные способности».
В «Я сам» (в главке «ПЕРВОЕ ПОЛУСТИХОТВОРЕНИЕ») об участии в этом журнале говорится с явной усмешкой:
«Третья гимназия издавала нелегальный журнальчик „Порыв“. Обиделся. Другие пишут, а я не могу?! Стал скрипеть. Получилось невероятно революционно и в такой же степени безобразно… Не помню ни строки. Написал второе. Вышло лирично. Не считая таковое состояние сердца совместимым с моим „социалистическим достоинством“, бросил вовсе».
Тем же летом социал-демократ Коба Джугашвили принял участие в Тифлисской экспроприации (есть версия, что он и организовывал её). Сам грабёж осуществлял Симон Аршакович Тер-Петросян (Камо). Его молодцы 12 июня 1907 года на Эриванской площади Тифлиса бросили бомбы в две кареты казначейства, перевозившие деньги Тифлисского городского банка. Были убиты и ранены десятки случайных прохожих. А грабители-экспроприаторы, отстреливаясь из револьверов, унесли с собой 250 тысяч рублей, которые вскоре были отправлены за рубеж – на нужды большевиков.
Впрочем, номера похищенных купюр Российскому банку были известны. И когда Ленин послал своих людей обменять награбленные деньги на валюту, произошёл грандиозный скандал. Европейцы стали считать РСДРП уголовной организацией.
Тем временем разгорелся спор между знаменитым грузинским поэтом Ильёй Григорьевичем Чавчавадзе и местными социал-демократами. Князь резко выступал против смертной казни и ратовал за предоставление Грузии автономии, что почему-то очень не нравилось социал-демократам. И они вынесли поэту смертный приговор.
Когда 30 августа в открытой коляске Илья Чавчавадзе вместе с женой Ольгой направлялся из Тифлиса в своё имение, у деревни Цицамури их встретили пятеро неизвестных. Выстрелами в воздух они заставили экипаж остановиться. Князь встал и сказал:
– Я Илья, не стреляйте!
В ответ прозвучало:
– Именно потому, что ты Илья, мы должны стрелять!
Прогремели выстрелы, и Чавчавадзе был убит.
Вся Грузия погрузилась в траур. Всюду повторяли строки ушедшего поэта:
«Когда прослыть желаешь человеком,
То что ни день чини себе допрос:
– Какое сделал я добро сегодня?
– Кому сегодня пользу я принёс?»
Заказчиков убийства обнаружить так и не удалось. Социал-демократы обвинили в смерти князя тайную полицию. Начали даже говорить, что в Чавчавадзе стреляли не напавшие на него бандиты, а кто-то другой, находившийся сзади коляски.
Четверо из пяти нападавших на князя были арестованы. По приговору военно-полевого суда их казнили.
Грузинское землячество при Московском университете устроило вечер в память о погибшем поэте. Братья Джапаридзе, знакомые Маяковских, жили тогда на Большой Никитской, в доме напротив консерватории. Ладо Джапаридзе писал, что вместе с ними там проживали другие…
«… студенты университета и девушки из консерватории. Но о Чавчавадзе они не слышали ничего.
– А кто он такой? – спросили они.
И очень удивились, когда узнали, что это известный грузинский писатель.
– А разве у вас есть и свои писатели? – спрашивали они. – И газеты? Даже своя азбука?
На вечер пришла и Оля Маяковская. Она любила бывать вместе с Володей на собраниях, где могла встретить своих земляков…».
Гимназиста Маяковского убийство грузинского поэта вряд ли удивило – ведь выстрелы и взрывы гремели тогда по всей России. В 1907 году эсеровский «Летучий боевой отряд Северный области» совершил несколько новых террористических актов, о которых вновь заговорили все. 13 августа был убит начальник Петербургской одиночной тюрьмы «Кресты» полковник Анатолий Андреевич Иванов. Через два месяца с сотрудником тех же «Крестов» произошёл инцидент, о котором сообщила газета «Тюремный вестник»:
«13 октября с.г., в начале седьмого часа, было произведено покушение на убийство помощника начальника С.-Петербургской одиночной тюрьмы, заведывающего одним из отделений тюрьмы Сергея Алексеевича Махмут-Бекова».
Ехавший в коляске Махмут-Беков был обстрелян неизвестным. Пришлось открыть ответный огонь. Нападавший скрылся.
Это было не первое покушение, поэтому Сергей Алексеевич подал рапорт с просьбой о переводе его на гражданскую службу.
Об этом покушении в семье Маяковских тут же узнали, так как Махмут-Беков был их хорошим знакомым ещё с тех времён, когда они жили на Кавказе.
Прошло всего два дня, и в газетах замелькало имя начальника Главного тюремного управления Максимовского. Действительный статский советник (штатский генерал) Александр Михайлович Максимовский был глубоко верующим человеком, участвовал в создании первого в России Союза Евангелиевских христиан. Был очень скромным – на службу ездил, пользуясь не экипажем, а конкой. Помогал беспризорным детям. И к заключенным относился с достоинством, по-людски, не раз говоря: «Люди же!».
Софья Александровна Савинкова, мать одного из главных российских террористов, пообщавшись с Максимовским, назвала его «очень хорошим человеком». Но для тех, кто входил в зэсеровский «Летучий боевой отряд», он являлся главным тюремщиком страны, и ему был вынесен смертный приговор.
И 15 октября в приёмной Максимовского появилась 21-летняя студентка санкт-петербургской консерватории Евстолия Павловна Рогозинникова. Назвавшись родственницей одного из арестованных, она заявила, что ей необходимо поговорить с начальником управления. Когда тот вошёл в приёмную, девушка, начав что-то говорить, подошла к нему и в упор выстрелила из браунинга. Максимовский скончался через несколько минут.
Стрелявшую тут же скрутили. В кармане юбки обнаружили ещё один пистолет, а на теле – более пяти килограммов экстрадинамита с двумя детонаторами, соединёнными шнуром, который можно было дернуть зубами. Это взрывное устройство Рогозинникова намеревалась привести в действие в Охранном отделении, где, как она полагала, её будут допрашивать. Эксперты потом установили, что таким взрывом, произойди он, было бы разрушено всё здание.
17 октября состоялся военно-полевой суд, приговоривший террористку к смертной казни через повешенье. На следующий день приговор был приведён в исполнение.
А в Третьей московской гимназии тем временем произошла «смута».
Гимназические будни
Причину возникновения «смуты» Сергей Медведев объяснял так:
«… один из учеников нашей гимназии повесился из-за издевательского отношения к нему инспектора… Учениками была принята очень резкая резолюция, обвинявшая в смерти ученика нашего инспектора, педагогический совет гимназии и чуть ли не весь царский строй».
Под текстом резолюции подписались тридцать учащихся, и все тридцать (в том числе и Сергей Медведев) были из гимназии исключены.
Сергей Медведев:
«Володя был, конечно, в курсе всех этих событий, с большим вниманием следил за их развитием, обсуждал с нами возможные последствия для нас. Эта история вызвала сильнейший подъём наших революционных настроений и активизировала работу нашего социал-демократического кружка».
Примерно тогда же за участие в молодёжной социал-демократической организации были исключены из Первой Московской гимназии Николай Бухарин и Илья Эренбург, что тоже ошеломило многих.
Глава правительства Пётр Аркадьевич Столыпин в своём выступлении перед Государственной думой 16 ноября 1907 года объяснил жёсткость властных акций так:
«Для всех ясно, что разрушительное движение, вызванное в стране крайне левыми партиями, перешло в открытое разбойничество, разоряющее мирное население и развращающее молодое поколение. Этому движению можно противопоставить только силу (взрыв аплодисментов центра и крайне правых). Одновременно с сим, видя спасение в силе, правительство всё же находит необходимым скорейший переход к нормальному порядку… Правительство потребует внутренней дисциплины в школах, несмотря на изменившиеся условия (аплодисменты справа)».
Относились ли эти слова к гимназисту Маяковскому?
Александра Алексеевна Маяковская писала:
«Ему исполнилось четырнадцать лет.
Был конец 1907 года.
В квартире у нас была явка: встречались партийные товарищи… Всё это были старшие товарищи, профессиональные революционеры. Среди них Володя был как равный».
Сестра Людмила:
«Гимназия совершенно не удовлетворяла Володю, он её перерос и решил из неё уйти. Конечно, в то время у нас были опасения, что Володя останется даже без среднего образования, и что это отразится на всей его жизни».
Да что там гимназия! Даже своей одеждой Маяковский выделялся среди одноклассников. Его мать писала:
«Володя не носил гимназической формы, а ходил в длинном пальто и папахе, которые дал ему товарищ».
А уж учёба была ему и вовсе не по нутру. Ведь рядом с ним разворачивались дела чрезвычайно необыкновенные. Сергей Медведев свидетельствует:
«Вскоре после исключения из гимназии я и Гзовский познакомились с некой товарищем Наташей и через неё включились в партийную работу».
К их работе подключился и Маяковский. Сергей Медведев поражался тому, как здорово разбирался он в содержании нелегальной литературы – к примеру, брошюры «Марксистский календарь»:
«Память у него была совершенно исключительная. Все статистические данные, которые там приводились, он знал назубок, и, когда нам, пропагандистам, требовалась цифра, он моментально её подсказывал».
Начинающие юные подпольщики стали общаться с рабочей массой, посещать сходки и массовки. Об этих тайных и полутайных мероприятиях жандармский офицер Александр Спиридович писал:
«Сходки происходили обычно на квартирах, но с наступлением тёплого времени устраивались массовки. За городом, где-либо в лесу, собирались, как на прогулку, сорганизованные рабочие. Выступали ораторы. Раздавались призывы к пролетариату: бороться с буржуазией, победа над капиталом, диктатура пролетариата – вот цель борьбы. Великий Маркс сказал…»
Подобная «партийная работа» увлекла Маяковского своей романтичностью, от которой захватывало дух. Однако опасность остаться неучем тоже была вполне реальной – ведь выполнение партийных поручений поглощало такую уйму времени, что на опостылевшую учёбу его просто не оставалось.
Реакция властей
В Москве тем временем произошёл очередной террористический акт. На этот раз покушались на жизнь генерал-губернатора Москвы Сергея Константиновича Гершельмана. 21 ноября он выезжал в санях со своим адъютантом князем Оболенским, направляясь в Лефортовский военный лазарет, который отмечал 200-летие. Владимир Джунковский писал:
«Когда генерал-губернатор поворачивал с Хапиловской улицы в Госпитальный переулок, то какая-то женщина, сидевшая на скамейке у ворот какого-то дома с корзиной, наполненной рыбами, вскочила и быстро что-то бросила по направлению к саням. Раздался страшный взрыв. Когда дым взрыва рассеялся, то представилась следующая картина – слева от саней стоял генерал-губернатор и рядом с ним князь Оболенский, с земли невдалеке поднимался кучер, раненые лошади бились в агонии, около них ничком лежала женщина.
Преступница была жива… Она потом оправилась, её судили, имени её так и не узнали, приговорена была она к смертной казни».
Как установили потом, на московского генерал-губернатора покушалась эсерка Александра Александровна Севастьянова, входившая в «Центральный боевой отряд».
А 1 декабря 1907 года произошло событие, непосредственно касавшееся партии, с членами которой активно общался тогда гимназист Маяковский. Особым присутствием Правительствующего Сената с участием сословных представителей был вынесен приговор по делу социал-демократической фракции Государственной думы второго созыва (все члены этой фракции были арестованы сразу же после роспуска Думы). Подсудимые обвинялись в том, что выполняли постановления стокгольмского съезда РСДРП, направленные на свержение существовавшей в России власти путём вооружённого восстания. 38 человек были признаны виновными и приговорены к каторжным работам.
В ответ на эту суровую акцию правительства революционеры-подпольщики активизировали работу с молодёжью. И 18 января 1908 года начальник Московского охранного отделения подполковник Михаил Фридрихович фон Коттен докладывал директору Департамента полиции:
«… партийные организации гор. Москвы (социал-демократов и социалистов-революционеров) направили свою пропаганду в среду учеников средней школы и ориентировали 2 союза средне-учебных заведений: один – на партию социалистов-революционеров, а другой – на социал-демократов…
Из членов союза учащихся выяснены следующие лица: гимназисты…»
Далее следовали фамилии: «Бухарин, Григорий Яковлев Брильянтов, Илья Гиршев Эренбург…» и другие.
Фон Коттен продолжал:
«Цель, преследуемая социал-демократической партией, – подготовка будущих партийных работников – увенчалась успехом, и партия приобрела для себя из среды учеников новых работников».
Далее шли фамилии этих «работников», среди которых упоминался учившийся в Пятой гимназии Борис Осколков, а также:
«Эренбург, Бухарин и Брильянт – районные пропагандисты…
Докладывая об изложенном вашему превосходительству, имею честь присовокупить, что дальнейшее наблюдение за проявлением революционной деятельности в среде учащихся среднеучебных заведений продолжается.
Подполковник фон Коттен».
В январе 1908 года бывшего гимназиста Первой Московской гимназии Илью Гиршевича Эренбурга арестовали. 30 января взяли под стражу и учившегося в Пятой гимназии Бориса Иннокентьевича Осколкова. Подполковник фон Коттен докладывал начальнику Московского губернского жандармского управления:
«По агентурным сведениям, Борис Осколков состоял во главе отдельного внепартийного кружка учащихся, имевшего своим органом ученический журнал „Борьба“… Осколков содержится в Сущёвском полицейском доме».
Арест Осколкова наделал много шума в гимназии – учащимся сообщили, что Бориса исключили из гимназии без права поступления в какие-либо другие учебные заведения. Видимо, после этого Володя Маяковский принял непростое, а потому довольно трудное для него решение.
Решительный шаг
Людмила Маяковская писала:
«В конце февраля 1908 года Володя подошёл к маме и сказал:
– Я работаю в социал-демократической партии, меня могут каждый день арестовать, поэтому я прошу скорей взять мои документы из гимназии, так как будет хуже, если меня арестуют и исключат из гимназии без права поступления в какие-либо учебные заведения.
Мама согласилась с Володей. Она пошла к директору гимназии и попросила освободить сына от занятий, ссылаясь на его болезнь и на отсутствие средств для продолжения учёбы.
С 1 марта Володя выбыл из гимназии и всецело отдался партийной работе».
Напомним ещё раз, что все воспоминания о Маяковском писались уже в советскую пору, то есть в то самое время, когда люди, побывавшие в царских тюрьмах или на каторге, считались героями. Так что этот биографический эпизод подан Людмилой Владимировной в соответствии с требованиями тех лет.
И всё равно трудно поверить в то, что мать с таким спокойствием отнеслась к революционным занятиям сына. Ведь получается, что Александра Алексеевна чуть ли не благословила сына на дела, грозившие тюрьмой, ссылкой и навсегда исковерканной судьбой. Повседневная жизнь наглядно демонстрировала ей, чем завершаются «игры» в революционеров-подпольщиков.
Сергей Медведев описал ситуацию несколько иначе:
«Уход Володи из гимназии был для семьи большим огорчением. Мать, естественно, беспокоилась за судьбу сына. Володя вёл себя по отношению к ней очень прямолинейно и в решении своём был непреклонен, но и он, в свою очередь, думал о семье и о матери: мысль о том, что, бросая гимназию, он, будущая опора матери, ставит под угрозу её благополучие, не раз проскальзывала в наших разговорах с ним и, несомненно, его беспокоила».
Через двадцать с небольшим лет в Литературном музее Москвы открылась выставка, посвящённая писателю Владимиру Галактионовичу Короленко. Музейный работник Артемий Григорьевич Бромберг вспоминал:
«Маяковский осматривал выставку Короленко в Литмузее. Увидел на стене гимназический аттестат Короленко.
– Я бы тоже мог дать свой аттестат. Да что выставлять – все двойки. Только поведение пять.
– Как же это так – у вас пятёрка по поведению?
– Да вот, представьте. Но ничего, потом всё-таки исключили…».
В «Хронике жизни и деятельности Маяковского» приводится документ, в котором говорится, что Маяковского исключил из гимназии педагогический совет – за неуплату денег за обучение (за первую половину 1908 года). И сообщается о том, что мать исключённого обратилась к директору гимназии с просьбой выдать ей документы сына. В её прошении сказано, что Владимир Маяковский «по болезни не может продолжать учиться в гимназии».
Впрочем, подлинные причины ухода нашего героя из гимназии не столь уж и важны. Гораздо существеннее то, что, прельстившись романтикой подполья, молодой человек бросил учиться.
В поэтическом сборнике Константина Бальмонта «Фейные сказки», вышедшем в свет в 1905 году, есть небольшое стихотворение об отношении поэта к знаниям:
«Он спросил меня: Ты веришь?
Нерешительное слово!
Этим звуком не измеришь
То, в чём есть моя основа.
Да, не выражу я бледно
То, что ярко ощущаю.
О, с бездонностью, победно,
Ослепительно – я знаю!»
Людмила Маяковская наверняка читала эти бальмонтовские строки, воспевавшие знания. Но написала так, как требовалось писать в стране Советов:
«Освободившись от гимназии, …Володя всецело занялся партийными делами. Занимался сам, изучал политическую экономию и другие социологические науки. В это время Володя не признавал никакой литературы, кроме философии, политэкономии, истории, естествознания, а также неизменно читал газеты».
В автобиографии Маяковского тот период описан более конкретно:
«1908 год. Вступил в партию РСДРП (большевиков). Держал экзамен в торгово-промышленном районе. Выдержал. Пропагандист. Пошёл к булочникам, потом к сапожникам и наконец к типографщикам».
Другого социал-демократа, земляка Владимира Маяковского, Иосифа Джугашвили, участие в антиправительственной деятельности привело к очередному аресту. В марте 1908 года он оказался в городе Баку – в Баиловском следственном изоляторе. Сидевший там же эсер Семён Верещак оставил описание Кобы тех лет:
«В синей сатиновой косоворотке, с открытым воротом, без пояса и головного убора, с перекинутым через плечо башлыком, всегда с книжкой…
Марксизм был его стихией, в нём он был непобедим… Под всякое явление он умел подвести соответствующую формулу по Марксу. На не посвящённых в политике молодых партийцев такой человек производил сильное впечатление».
Юный эсдек
Ольга Гзовская, старшая сестра приятеля Маяковского, оставила в воспоминаниях портрет молодого социал-демократа:
«Сверкающие тёмные глаза, вихрастые волосы, озорной взгляд, всегда энергичный, с быстрой сменой мимики очень красивого лица – таким я помню тогда Маяковского…
Я была тогда ещё очень молодой актрисой Московского Малого театра. Это был сезон 1906–1907 гг. – начало моей сценической жизни.
В то время большой популярностью среди революционной молодёжи пользовалось стихотворение поэта Тарасова «Тише». В нём говорилось о том, как в одиночном заключении политический узник встречает морозный рассвет. Стихотворение очень сильное, глубокое и трагическое.
В гимназии брата был концерт, на котором я выступала с чтением этого стихотворения. На концерте был и Маяковский. Дня через два после этого я встретилась с Маяковским у нас в передней. Рядом с ним стоял скромный белокурый гимназист – Серёжа Медведев. Они оба были довольны моим репертуаром.
– Здорово вы читали! – сказал Маяковский. – Сильно… Наш Медведев дрожал как в лихорадке: боялся, как бы вам, артистам императорских театров, не попало за это выступление, – и он расхохотался раскатистым мальчишеским смехом.
Я ему ответила:
– Погодите, не то ещё будет, я теперь готовлю "Каменщика " Брюсова и «Море» Гессена, профессора Петербургского политехнического института.
Медведев и Маяковский тут же уговорили меня прочесть им новые мои работы. Стихотворение Гессена я не помню целиком и привожу часть текста:
Ночь бушует… На берег, на берег скорей!
Мчится буря на вольном просторе,
И на битву с позором и гнётом цепей
Высылает бойцов своих море!..
И шумит океан, необъятно велик,
И шумней и грозней непогода.
И сливается с ней, мой восторженный крик:
Свобода! Свобода!
Молодёжь была довольна. Маяковский заявил:
– Вот это лучше, чем умирающий лебедь Бальмонта».
Реакция Маяковского свидетельствует о том, что с творчеством Константина Бальмонта он был хорошо знаком – ведь стихотворение об «умирающем лебеде» было напечатано в сборнике «В безбрежности», вышедшем в 1895 году, когда творчество поэта-символиста популярностью ещё не пользовалось.
К сожалению, Ольга Гзовская ничего не написала о том, чем именно не понравился Маяковскому бальмонтовский лебедь. А между тем жалобный плач умирающей птицы был изображён поэтом довольно выразительно:
«Отчего так грустны эти жалобы?
Отчего так бьётся эта грудь?
В этот миг душа его желала бы
Невозвратное вернуть.
Всё, чем жил с тревогой, с наслаждением,
Всё, на что надеялась любовь,
Проскользнуло быстрым сновидением,
Никогда не вспыхнет вновь.
Всё, на чём печать непоправимого,
Белый лебедь в этой песне слил,
Точно он у озера родимого
О прощении молил».
Молодости трудно понять состояние расстающегося с жизнью. Видимо, поэтому стихотворение о прощальной лебединой песне молодому гимназисту не понравилось.
Два Владимира – Гзовский и Маяковский – были тогда начинающими пропагандистами. Один из организаторов кружков для рабочих Аркадий Александрович Самойлов, редактировавший нелегальную газету московских эсдеков, писал:
«Нами был организован кружок по изучению политической экономии. Руководителем кружка был пропагандист товарищ Владимир (Гзовский). Занятия кружка проходили в помещении детского сада Альтгаузен у Красных ворот…
Однажды на занятия кружка товарищ Владимир привёл с собой молодого человека высокого роста, широкоплечего, в серой гимназической шинели, в лохматой чёрной шапке. Его он рекомендовал нам как хорошего пропагандиста, который и будет вести наш кружок по политической экономии дальше.
Партийная кличка нового пропагандиста была «товарищ Константин». Он приступил к проведению занятия. Все слушали его внимательно, но чувствовалось, что слушатели оставались чем-то недовольны. По дороге домой после кружка я сказал товарищу Константину, что в нашем кружке нужно говорить гораздо проще, чем говорил он, и что слушатели кружка не совсем разобрались в том, что он им рассказал, не всё дошло до их сознания».
Эти слова можно, пожалуй, считать одним из первых свидетельств того, что Маяковский («товарищ Константин») был кому-то непонятен. В последующие годы подобные упрёки ему предстояло слышать всё чаще и чаще.
Но вернёмся к воспоминаниям Самойлова:
«Товарищ Константин обещал к следующему разу подготовиться и провести занятие более популярно.
И действительно, на следующем занятии кружка он уже вполне удовлетворил слушателей: говорил он с огоньком, но просто и понятно для слушателей, которые оживленно обсуждали тему, задавали вопросы и так далее. Холодок, появившийся между руководителем и слушателями, пропал бесследно.
Таким образом, товарищ Константин провёл пять-шесть занятий кружка. Он говорил, что ему много приходится готовиться к занятиям в кружке не по содержанию лекции, а как её преподнести слушателям».
Ещё на одну черту характера тогдашнего Маяковского обратил внимание Сергей Медведев:
«У Володи было в те годы внешне несколько пренебрежительное отношение к людям, если человек был ему безразличен, не интересен, он этого нисколько не скрывал. Склонный к остроумию, он бывал иногда очень резок и даже груб, чем многих тогда отталкивал от себя».
К членам рабочих кружков это не относилось, так как рабочие не были «безразличны» Маяковскому – ведь именно у них он завоёвывал авторитет пропагандиста. Игра в подполье и в подпольщиков была ему явно по душе. К суровым наказаниям, сыпавшимся на бунтарей, он относился с улыбкой. Об этом – Ольга Гзовская:
«Помню, из комнаты брата, когда приходил к нему Маяковский, не раз доносились тюремные частушки, сочинённые студентами и дошедшие до гимназистов. Громкими голосами они распевали их, некоторые частушки помню до сих пор:
В одиночном заключенье
привыкали, как могли.
Ах вы, сени, мои сени,
сени новые мои.
Трепов сам не понимает,
кто попался, где, когда.
Птичка божия не знает
ни заботы, ни труда.
В дальний путь благополучно
нас Зубатое снарядит.
По дороге зимней, скучной
тройка борзая бежит.
Вот Архангельск, вот Пинега —
всё болота да леса.
Пропадай моя телега,
все четыре колеса!»
Частушки эти интересны не столько тем, что пел их юный Маяковский, сколько тем, что в них упоминаются ситуации, с которыми юному социал-демократу очень скоро предстояло познакомиться весьма близко.
Глава четвёртая Бунтари и их гонители
Начало 1908-го
Эсдек-подпольщик Владимир Вегер-Поволжец, рекомендовавший Маяковского в партию, писал:
«Через некоторое время я узнал, что Маяковский очень сильно проявил себя на организационной работе. Эта работа заключалась в подготовке кружков, в которых велась пропагандистская работа, и в выполнении поручений по распространению партийной литературы, прокламаций и т. д.
И что это была удачная работа, видно из того, что Маяковского передвинули на работу в подпольную типографию Московского Комитета… К его заботам относилось обеспечение техники для типографии. И тот факт, что ему поручили эту работу, показывает, что те товарищи, которые его туда поставили, относились к нему с большим доверием».
В «Я сам» об этом периоде сказано следующее:
«На общегородской конференции выбрали в МК. Были Ломов, Поволжец, Смидович и другие. Звался "товарищем Константином "».
В каком именно месяце произошло это избрание, неизвестно – точные свидетельства отсутствуют. У некоторых современников Маяковского были даже сомнения, входил ли он вообще в состав Московского комитета партии. Так, например, Иван Карахан писал:
«По вопросу о том, мог ли быть В.В.Маяковский членом МК партии в 1907–1908 году, – я думаю, что не мог, а позднее – в 1909–1910 году – мог быть. Туда входили опытные партийцы со стажем».
Мнение Владимира Вегера-Поволжца:
«В своей автобиографии, где он упоминает меня, Маяковский говорит, что на общемосковской конференции он был избран в состав МК партии. Здесь неудачно употреблено слово «избран», так как может быть сделан вывод, что выборы имели обычный характер, как делается сейчас. В то время так не делалось. Конференция проходила в лесу, Сокольниках. Сокольническая конференция сформировала Московский комитет. Туда был введён и Маяковский».
М.И.Мандельштам, работавший ответственным организатором в Лефортовском районе незадолго до прихода туда Маяковского, упомянул и спад, начавшийся в революционном движении, и возникшую из-за этого нехватку кадров:
«Плохо было с пропагандистами. Людей было мало, а требования всё повышались и количественно и качественно. Студенты, которыми приходилось пользоваться, не всегда удовлетворяли… Уход интеллигенции, создавая естественный прорыв, вызвал в рабочей среде недоверчивое отношение…
В районе мы собирались довольно часто: летом – в лесу, зимой – в квартирах, в которых в Лефортове у нас недостатка не было».
В автобиографии («Я сам»), написанной в 1922 году, есть ещё одна фраза, которая следует за словами: «Звался "товарищем Константином"»:
«Здесь работать не пришлось – взяли».
Это означает, что конференция состоялась до первого ареста Маяковского, который произошёл в конце марта 1908 года, и речь о котором впереди. Но в марте в Москве ещё лежит снег, то есть время явно неподходящее для проведения серьёзных мероприятий.
Впрочем, это не так уж и важно, когда именно и где Маяковского выбрали в МК РСДРП. Главное, что выбрали.
Казалось бы, знаменательнейшее событие. Но биографы поэта почему-то внимания ему почти не уделяли. Сообщали лишь, что Маяковский стал членом Московского Комитета РСДРП. И всё.
А ведь в этой фразе очень много любопытнейшей информации.
На окраину Москвы, в один из уголков Сокольнического леса (или на квартиру в Лефортово), для участия в общегородской конференции социал-демократов пришли 36-летний Иван Скворцов-Степанов, 34-летний Пётр Смидович, 30-летний Виктор Ногин, 24-летний Андрей Бубнов, 20-летние Владимир Вегер-Поволжец, Гирш Бриллиант, Николай Бухарин, Георгий Оппоков-Ломов и 14-летний Владимир Маяковский.
Их имена широкой публике были тогда ещё совершенно неизвестны, но через десятилетие они стали греметь по всей стране. Приглядимся повнимательнее к тем, кто оказался в числе соратников несовершеннолетнего эсдека.
Соратники Маяковского
Начнём с Гирша Бриллианта. Мы уже упоминали о нём – это он в 1907 году организовал нелегальный слёт молодых московских подпольщиков, это о его аресте докладывал начальству глава Московского охранного отделения.
Родился Гирш в 1888 году в городе Ромны Полтавской губернии в еврейской семье. Его отец, Янкель Бриллиант, был доктором медицины и в начале XX века стал владельцем аптеки на Трубной площади в Москве. Гирш получил хорошее семейное воспитание: изучал европейские языки, играл на фортепиано. Учился в Пятой московской классической гимназии (в той самой, в которой так и не доучился Владимир Маяковский) и был в приятельских отношениях с Борисом Пастернаком.
Окончив гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета, где подружился с другим студентом – Николаем Бухариным. Вместе участвовали в студенческом движении, вступили в РСДРП и примкнули к социал-демократам (Бриллиант – в 1905 году, Бухарин – в 1906-ом). Оба приняли участие в декабрьском вооружённом восстании в Москве. Партийная кличка у Гирша была – «Сокольников», Григорий Сокольников.
Николай Бухарин. Родился в Москве в 1888 году в семье школьного учителя Ивана Гавриловича Бухарина. Учился в Первой московской гимназии, затем поступил на экономическое отделение юридического факультета Московского университета.
Во время революции 1905 года вместе со своим лучшим другом (и одноклассником) Ильёй Эренбургом принимал активное участие в студенческих антиправительственных демонстрациях.
Георгий Оппоков родился в Саратове в дворянской семье в 1888 году. С 1903 года состоял в партии социал-демократов. Партийные клички – «Афанасий», «Жорж», литературный псевдоним – А.Ломов (под этой фамилией Маяковский его и упоминает). Активно участвовал в революции 1905 года. Какое-то время работал ответственным партийным организатором Лефортовского района Москвы.
Владимир Вегер родился всё в том же 1888 году в Ярославле. Став эсдеком-нелегалом, принял партийные клички: «Поволжец», «Поволжский», «Борис». В 1908 году был ответственным организатором железнодорожного района Москвы, сочинял прокламации и статьи для нелегальных социал-демократических газет.
Именно Вегер-Поволжец принял Маяковского в партию.
Пётр Смидович, тоже родившийся в дворянской семье (в 1874 году), учился в Московском университете, но в 1894 году за участие в студенческих сходках был выслан в Тулу. С 1895 года жил в Париже, где окончил Высшую электротехническую школу. Работал на заводах Бельгии и состоял членом Бельгийской рабочей партии. В РСДРП – с 1898 года. С 1905-го – агент газеты «Искра». Участник вооружённого восстания 1905 года в Москве.
Андрей Бубнов родился в 1884 году. В РСДРП – с 1903 года. Партийная кличка – «Химик».
Виктор Ногин, родившийся в Москве в 1878 году, с 1901 года был агентом «Искры». На II съезде РСДРП примкнул к большевикам. На Лондонском съезде был избран в состав Центрального комитета партии.
Иван Скворцов-Степанов родился в 1870 году (ровесник Владимира Ульянова). Настоящая его фамилия – Скворцов, литературный псевдоним – И.Степанов. С 1905 года работал в Москве. По воспоминаниям Владимира Вегера, Маяковский, став членом МК РСДРП, часто обращался за советом к этому опытнейшему социал-демократу «по вопросам теоретическим и пропагандистским».
Владимир Загорский (Вольф Михелевич Лубоцкий) родился в 1883 году в Нижнем Новгороде. Революционную деятельность начинал вместе с юным Яковом Свердловым (распространяли листовки среди рабочих, работали в кружках). В 1902 году за участие в первомайской демонстрации осуждён на вечное поселение в Сибирь (в Енисейскую губернию). За попытку побега приговорён к 12 годам поселения в Якутии. В 1904 году бежал в Женеву, где неоднократно встречался с Лениным. В 1905 году вступил в РСДРП (партийная кличка – «товарищ Денис»), вскоре был арестован швейцарской полицией и выслан из страны. Активно участвовал в декабрьском вооружённом восстании в Москве. В 1908 году эмигрировал в Великобританию. Но до этого успел пообщаться с молодым эсдеком Маяковским.
Все эти революционеры-подпольщики выступали в роли старших товарищей, соратников четырнадцатилетнего Владимира Маяковского, это они ввели его в состав Московского комитета партии.
Но возникает любопытный вопрос: мог ли кто-либо из них быть так или иначе связанным с Охранным отделением? Ведь все эти имена фигурировали в докладных записках российского сыскного ведомства. У жандармского офицера Александра Спиридовича на этот счёт было очень чёткое мнение:
«Приём в розыскное учреждение лиц, состоявших ранее в революционной организации, являлся, конечно, недопустимым. Слишком развращающе действовала подпольная революционная среда на своих членов своей беспринципностью, бездельем, болтовнёю и узкопартийностью, чтобы из неё мог выйти порядочный чиновник. Он являлся скверным работником или предателем интересов государства во имя партийности и революции».
Юный Маяковский об этом, конечно же, не знал, поэтому революционеров не сторонился. Но в это время у него уже выработалась стойкая привычка часто мыть руки – чтобы в организм не попала опасная инфекция. Сам он об этом никаких воспоминаний не оставил. Мать его и сёстры тоже никогда об этом не писали. Им, надо полагать, просто казалось, что их Володя стал очень чистоплотным. Но именно эта его привычка внезапно подверглась серьёзному испытанию.
Неожиданная засада
Никаких документальных свидетельств, подтверждающих работу Владимира Маяковского в подпольной организации Лефортовского района Москвы не существует. Об этой работе нам известно только из автобиографических заметок «Я сам» и со слов Вегера-Поволжца, высказанных не слишком уверенно. Да и что такого особенного мог делать в подполье гимназист-двоечник? Быть всё тем же мальчиком на побегушках. Опытный партиец Ломов вполне мог взять его с собой на какую-нибудь конспиративную сходку, которая оказалась заседанием Московского комитета (МК РСДРП). А когда Ломов отлучился в Питер, его сменил другой эсдек со стажем, у которого был свой надёжный помощник. И Маяковского переправили к «типографщикам» — к тем, кто печатал антиправительственные листовки и прокламации.
Именно так, скорее всего, и развивались тогдашние события.
На своём новом поприще Маяковский познакомился с наборщиком Тимофеем Трифоновым. У этого подпольщика был солидный опыт революционной деятельности. Ещё в 1904 году он был приговорён к 12-летним каторжным работам, но потом амнистирован. Его разыскивал Иркутский окружной суд по делу о подкопе в Александровской пересыльной тюрьме. Поэтому Трифонову приходилось скрываться и жить по паспорту Льва Жигитова.
Назначенный в 1907 году начальником Московского охранного отделения Михаил Фридрихович фон Коттен резко усилил слежку за подпольщиками.
28 марта Маяковский вместе с сестрой был на студенческой вечеринке – её организовывали братья Джапаридзе, студенты Московского университета, в память о погибшем грузинском поэте Илье Чавчавадзе.
Потом сестра пошла домой, а Володя отправился в театр на Арбате, где на спектакле собирались эсдеки. Встретил там Трифонова, который потом вспоминал, что Маяковский сказал ему:
«– Приходи на заседание МК, тебя кооптировали».
«Кооптировали» — значит, «ввели в состав».
Ни Трифонов, ни Маяковский, конечно же, не знали, что отряд полиции уже получил приказ нагрянуть в Ново-Чухинский переулок, в дом Коноплина. Жандармов интересовала квартира номер семь, принадлежавшая портному Фёдору Ивановичу Лебедеву, две комнаты в которой он сдавал рабочему-печатнику Льву Яковлевичу Жигитову. Глубокой ночью в этих комнатах был произведен тщательнейший обыск.
Утром подполковник фон Коттен отправил в Департамент полиции (в Санкт-Петербург) письмо:
«Ввиду полученных агентурных сведений, что в доме Коноплина по Чухинскому переулку только что поставлена тайная типография, в ночь на 29 марта в означенном доме был произведён обыск, коим арестована на полном ходу типография Московского комитета Российской социал-демократической партии».
Возникает вопрос. Если типография была «только что поставлена», зачем надо было так торопиться с обыском? Не логичнее ли было установить за нею наблюдение, собрать побольше улик и уже тогда брать печатников с поличным? Но вновь назначенному начальнику охранки хотелось выслужиться поскорее, и он спешил.
Про жильцов обыскиваемых комнат в протоколе было записано так:
«… московский мещанин Сергей Иванов (без фамилии). Другой жилец, мещанин г. Евпатории Таврической губ. Лев Яковлев Жигитов, во время обыска отсутствовал и был задержан в конце обыска посланным для наблюдения за его прибытием околот-надзирателем Спицыным».
В обысканной квартире организовали засаду, для чего в ней были оставлены городовые Николай Соловьёв и Андрей Рябко.
На следующий день в находившиеся под караулом комнаты заглянул рослый паренёк в мохнатой шапке и в длиннополом пальто. В руках он держал свёрток.
Городовой Соловьёв в рапорте по начальству отметил:
«Часа в два дня в квартиру портного явился какой-то молодой человек со свёртком в руках. На вопрос, к кому он пришёл, неизвестный ответил: „К портному“; когда же стали расспрашивать подмастерьев портного, находившегося в то время в участке, то оказалось, что задержанный нами человек ходил не к портному, а к тем жильцам, квартиру которых я окарауливал. Я пригласил его следовать за мною в участок, и здесь у задержанного отобраны те самые прокламации…».
В участке сразу же был составлен протокол:
«… в 3 часа дня в управление 2 уч<астка> явился городовой № 1688 – Ник. Соловьёв – сего участка и доставил из кв. 7 дома Коноплина по Ново-Чухинскому переулку сего участка прокламации…».
Прокламации были подробно перечислены: 70 экземпляров подстрекательских листовок под заголовком «Новое наступление капитала», 76 экземпляров запрещённой газеты «Рабочее знамя» и 4 листка баламутившей армию «Солдатской газеты», органа Московского комитета РСДРП.
После перечисления изъятых прокламаций в протоколе сказано:
«… и с ними мужчину, назвавшегося столбовым дворянином Владимиром Владимировым Маяковским, 17 лет, проживающего в кв. 52 дома Безобразова по Тверской-Ямской ул.».
Первый арест
Приведённый в участок «столбовой дворянин» вёл себя вызывающе дерзко.
Допрашивавший его околоточный надзиратель второго участка Пресненской части П.И.Платонов в протоколе указал:
«Когда Маяковский был доставлен в участок, то здесь же находились задержанные раньше в доме Коноплина жильцы портного Лебедева. Маяковский сейчас же вступил в разговор со старшим из них и стал шептаться. На моё замечание: „Должно быть, знакомы с ним?“ – Маяковский ответил: „Не ваше дело“.
Предъявленная мне фотографическая карточка (предъявлена карточка Жигитова) изображает то лицо, с которым шептался Маяковский».
На вопрос околоточного надзирателя, где он взял изъятые у него прокламации, задержанный ответил, что «издания он принёс неизвестному мужчине, который с ним раньше встречался у памятника Пушкину».
В протоколе также отмечено:
«Маяковский давал такие сбивчивые объяснения, что я не мог понять, жил ли этот мужчина в доме Коноплина или же только поручил доставить издания туда, сам же проживал в другом месте.
При перерасспросе Маяковский заявил, что он больше мне отвечать ничего не будет…
При вопросе о возрасте, Маяковский показал, что ему 17 лет».
В «Я сам» инцидент с задержанием описан так:
«29 марта 1908 г. нарвался на засаду в Грузинах. Наша нелегальная типография. Ел блокнот. С адресами и в переплёте».
Но возникает вопрос! В связи с загадочной странностью появления Маяковского в засаде. Он принёс в типографию кипу антиправительственной литературы. Зачем? Подобную литературу из нелегальных типографий выносят. Как готовую продукцию. А приносят листок, на котором написан текст очередной прокламации. Для чего понадобилось доставлять в типографию весь этот ворох листовок и газет?
Да и сам приход Маяковского в квартиру Коноплина удивил даже Тимофея Трифонова, который впоследствии вспоминал:
«Когда мы встретились с ним уже в тюрьме, я спросил: „Зачем ты приходил?“ Он говорит: „Я приходил тебе сказать, чтобы ты пришёл на заседание МК“. – "Да зачем же ты приходил, ведь ты мне уже сказал? "»
В самом деле, никакой особой надобности посещать квартиру, которую снимал Трифонов, не было. Чрезмерная активность юного эсдека лишь добавила в дело о подпольной типографии дополнительные улики. Но если так, значит, Маяковский того доверия, которое оказали ему революционеры-эсдеки, не оправдал?
Впрочем, возможна и иная версия. Типография была только-только организована. Никакой печатной продукции выдать она ещё не успела. Жандармам явно не хватало улик в виде листовок и прокламаций антиправительственного содержания. Организовать их доставку охранке особого труда не составляло – гимназист Маяковский давно уже был у неё на примете. И одному из полицейских агентов дали задание направить в квартиру, где была устроена засада, «товарища Константина», нагрузив его прокламациями. Агент задание выполнил.
Как бы там ни было, но в тот же день в квартиру, где проживала семья Маяковских, нагрянула полиция и учинила обыск. Отличилась сестра Ольга.
Людмила Маяковская:
«Пока полицейские обыскивали комнату, где жил Володя, сестра спустила на соседнюю крышу в снег несколько пачек нелегальных брошюр из окна угловой комнаты. При обыске ничего не нашли».
В полицейском протоколе, в самом деле, записано:
«1908 г., марта 29 дня, я, помощник пристава 1 участка Сущёвкой части, капитан Алексеев, …произвёл обыск в квартире, занимаемой Маяковской, причём ничего предосудительного не обнаружено, а также переписок, рукописей и визитных карточек, а также адресов».
Регистрационная карточка Московского охранного отделения, составленная на Владимира Маяковского после его ареста в 1908 году. Репродукция Фотохроники ТАСС
Людмила Маяковская после обыска всё же уничтожила свои письма родным, боясь, что они могут попасть в полицию и негативно повлиять на судьбу арестованного брата.
Сохранился ещё один официальный документ, составленный тогда же:
«1908 года, марта 29 дня, я, московский градоначальник, генерал-майор Адрианов, получив сведения, дающие основания признать потомственного дворянина Владимира Владимирова Маяковского вредным для общественного порядка и спокойствия, руководствуясь § 21 высочайше утверждённого в 31 день августа 1881 года Положения об усиленной охране, постановил: означенного Маяковского, впредь до выяснения обстоятельств дела, заключить под стражу при Сущёвском полиц<ейском> доме с содержанием согласно ст<атье> 1043 Уст<ава> Угол<овного> судопр<оизводства>».
Московская судебная палата, получив от Охранного отделения протокол об обнаружении тайной типографии, поручила вести это дело следователю по особо важным делам Роману Романовичу Вольтановскому. Ему было предписано:
«Приступить к производству предварительного следствия по признакам преступления, предусмотренного 1 ч<астью> 102 ст<атьи> Угол<овного> улож<ения>».
30 марта все задержанные в доме Коноплина были переведены в Сущёвский полицейский дом, где на них завели учётные карточки, в которые вклеили три фотокарточки: две – в 1/7 натуральной величины (поясной портрет в профиль и фас), а третья…
«…во весь рост, стоя, в 3/4, в том самом головном уборе, верхнем платье и обуви, в которых был задержан».
Под снимком арестованного «дворянина» написали:
«Владимир Маяковский. Возраст по наружному виду 17–19 лет».
Тут же – запись, сделанная, видимо, несколько позднее:
«Год и мес<яц> рожд<ения> – 7 июля 1893».
В «описании примет» указан рост задержанного (в шапке) – 1 метр 85 сантиметров.
Иван Карахан, который оказался невольным свидетелем событий, связанных с арестом Маяковского, написал:
«Семья переживала это спокойно, поддерживала его».
О том же – воспоминания Аркадия Самойлова:
«Однажды собрался кружок на занятия, но товарищ Константин, всегда очень аккуратно приходивший на занятия, не Вскоре мы узнали, что он арестован. Нового пропагандиста нам в это время не дали, и кружок распался».
В «Я сам» после фразы о съеденном блокноте следует:
«Пресненская часть. Охранка. Сущёвская часть».
Под словом «Охранка» имелся в виду допрос, который 3 апреля учинил задержанным следователь Вольтановский. Маяковскому было задано несколько вопросов и предложено ответить на них письменно.
О том, чем он в настоящее время занимается, Маяковский написал:
«Готовлюсь на аттестат зрелости на средства матери».
В графе «Экономическое положение родителей» дал ответ:
«Мать живёт на пенсии».
Про своё образование сообщил:
«Учился в 5-й Московской классической гимназии, вышел из 5-го класса по болезни».
По поводу главной улики дал такие показания:
«Свёрток прокламаций, которые были у меня найдены при аресте 29 марта сего года, я получил в среду на предыдущей неделе от человека, которого я знал под именем Александр. Вещи эти мне переданы Александром у памятника Пушкину. Одет он в чёрное пальто, в серый полосатый костюм, сам он был высокого роста с чёрной бородкой. Адрес мне был дан в Ново-Чухнинский переулок, дом Коноплина, кв. 7, для передачи Льву Яковлевичу Жигитову.
Прокламации эти были в двух свёртках. Жигитову я должен был передать от имени Александра».
Но ведь давая такие показания, Маяковский выдавал своего товарища по партии – Льва Жигитова. Как же так?
Здесь мы ненадолго расстанемся с нашим героем, потому что настало время рассказать о том, что представлял собою российский полицейский сыск начала XX века. Одним из главных его создателей был начальник Московского охранного отделения Зубатов. Это про него были сложены частушки, которые весело распевали два Владимира, Маяковский и Гзовский.
Судьба жандарма
Сергей Васильевич Зубатов родился в Москве в 1864 году в семье отставного офицера, служившего управляющим большого дома на Тверском бульваре.
Окончив в 1881 году прогимназию, Сергей поступил в пятый класс Пятой московской гимназии – в то же самое учебное заведение, которое за десять лет до него закончил российский философ и поэт Владимир Соловьёв, и в котором четверть века спустя стал учиться Владимир Маяковский.
Сергей Зубатов много читал. Увлёкшись религиозными темами, начал вступать в дискуссии с соучениками и учителями гимназии. Затем ознакомился с сочинениями Николая Чернышевского, Дмитрия Писарева, Чарльза Дарвина, Карла Маркса и других не одобрявшихся официально авторов. Увлекся народовольческими идеями и организовал гимназический кружок нигилистов, в котором верховодил.
Отец Сергея не на шутку встревожился. Чтобы уберечь сына от «вредного революционного влияния», подал прошение об исключении его из гимназии.
И паренька исключили.
Точно так же, как и Владимира Маяковского.
Только Сергея Зубатова вынудили покинуть гимназию для того, чтобы он отдалился от революционных дел, а Маяковский расстался с учёбой, стремясь скорее приобщиться к антиправительственному подполью.
Оставив в 1884 году учебные занятия, Зубатов стал служить – поступил в канцелярию Московской дворянской опеки. И ещё за небольшую плату подрабатывал в частной библиотеке на Тверском бульваре, на хозяйке которой вскоре женился.
В этой библиотеке от читателей, главным образом, молодых людей, отбоя не было, так как здесь выдавались книги, изъятые из обращения (то есть запрещённые). Зубатов и вовсе превратил библиотеку в молодёжный клуб, устраивая дискуссии на вольные темы.
Об этом стало известно полиции, и летом 1886 года Сергея вызвали на допрос к начальнику Московского охранного отделения Николаю Сергеевичу Бердяеву. Узнав, что его обвиняют в устройстве конспиративной явки для революционно настроенных читателей, Зубатов страшно возмутился, заявив, что это не он, а «красные иезуиты» (так записано в протоколе допроса) превратили его библиотеку в «очаг конспирации». И поклялся «бороться всеми силами с этой вредной категорией людей, отвечая на их конспирацию контрконспирацией, зуб за зуб, вышибая клин клином».
Есть и другая версия, согласно которой Зубатову пригрозили высылкой из Москвы, и его это сильно испугало. Родственникам пришлось срочно собирать деньги для того, чтобы освободить задержанного под залог.
Как бы там ни было, но, когда жандармский ротмистр Бердяев предложил Зубатову стать секретным сотрудником Охранного отделения, чтобы «на деле доказать свою приверженность существующему порядку и раз навсегда снять сомнение в своей благонадёжности», тот ответил согласием.
Став тайным агентом, Сергей поразил сослуживцев своей начитанностью, знанием особенностей и правил, на которых строилось революционное движение, а также удивительным умением находить подход к людям. И ещё Зубатов обладал необыкновенной трудоспособностью, невероятной настойчивостью и очень хорошей памятью. Эти свойства помогли ему стать весьма ценным сотрудником. Про него даже стали говорить, что он обладает «исключительными способностями» в розыскных делах.
По рекомендации полиции Зубатов поступил работать телеграфистом на «Московскую центральную телеграфную станцию». И стал вольнослушателем Московского университета. Талантливо разыгрывая роль революционера, он раскрыл нелегальный студенческий кружок, члены которого были арестованы и осуждены. За ними последовали другие выявленные им подпольщики (около двухсот человек). О них Зубатов (в докладной записке московскому обер-полицеймейстеру Евгению Корниловичу Юрковскому) написал:
«… не я их толкнул на революционный путь, но, благодаря надетой на себя личине революционера, я их обнаружил».
Прошёл год успешной секретной работы Зубатова. И настал день, когда революционеры разоблачили его как «провокатора», а в одном нелегальном рабочем кружке даже приговорили к смертной казни.
Ценя удивительные способности раскрытого агента, начальство предложило ему официально перейти на розыскную работу. И с 1 января 1889 года он был зачислен в штат московской полиции с прикомандированием к Охранному отделению – стал чиновником для особых поручений.
Его карьера развивалась стремительно. В 1894 году Зубатов – уже помощник ротмистра Бердяева. А через два года, уличив своего шефа в растрате казённых средств, Сергей Васильевич (есть и такое свидетельство) написал на него докладную в Департамент полиции. И вскоре занял освободившееся начальственное место, став (вопреки существовавшим правилам – ведь он не был жандармским офицером) главой Московского охранного отделения.
Зубатов сразу приступил («по долгу службы царю и Отечеству и по велению совести гражданина») к решительному реформированию всей сыскной службы, внося в её повседневную практику строгую организацию и чёткий порядок.
Отныне во все нелегальные группы и кружки сомнительного с точки зрения властей толка засылались свои (специально для этого дела подготовленные) люди. В охранке их нарекли «информаторами», революционеры называли их «провокаторами». От них Охранное отделение оперативно узнавало о том, что происходило в среде подпольщиков, и имело достоверные сведения обо всех, кто занимался антиправительственной деятельностью.
Зубатов издал специальную «Инструкцию господам участковым приставам Московской городской полиции по производству обысков, арестов и выемок, о государственных преступлениях». И таких служебных бумаг появилось немало. В полиции принялись подробно регистрировать каждого задержанного, включая его фотографирование и скрупулёзное описание внешности и привычек.
Жандармскому офицеру Александру Ивановичу Спиридовичу довелось работать под началом Сергея Зубатова с 1900 года. Вот как он описал первую встречу с ним:
«… еду в Гнездиковский переулок являться в Охранное отделение.
Двухэтажное здание зеленоватого цвета окнами на переулок.
Вхожу в большой, нарядный не казённый кабинет. На стене – прелестный, тоже не казённый царский портрет. Посреди комнаты – среднего роста человек в очках, бесцветный, волосы назад, усы, борода, типичный интеллигент, это – знаменитый Зубатов.
Представляюсь, называя его «господин начальник». Он принимает мой рапорт стоя, по-военному, опустив руки и, дав договорить, здоровается и предлагает папиросу. Отказываюсь, говорю, что не курю. Удивляется.
– Может быть и не пьёте?
– И не пью.
Начальник смеётся и, обращаясь к Медникову, говорит: «Евстратий, и не пьёт!»».
Шел уже четвёртый год, как московскими жандармами руководил новый начальник, и Спиридович написал:
«Отделение уже вычистило к тому времени Москву и раскрыло несколько революционных организаций вне её…
Зубатое сумел поставить внутреннюю агентуру на редкую высоту. Осведомлённость отделения была изумительна. Его имя сделалось нарицательным и ненавистным в революционных кругах. Москву считали гнездом «провокаций». Заниматься в Москве революционной работой считалось безнадёжным делом».
Да, Московское охранное отделение стало образцом для всей России. И это произошло, как считал Александр Спиридович, исключительно благодаря розыскным способностям Сергея Зубатова:
«… зная отлично революционную среду с её вождями, из которых многие получали от него субсидии за освещение работы своих же сотоварищей, он знал цену всяким «идейностям», знал и то, каким оружием надо бить этих спасителей России всяких видов и оттенков».
Вербовка «сотрудников»
Зубатов обладал особым талантом на склонение революционеров к даче откровенных показаний и на их согласие сотрудничать с Охранным отделением (вновь сошлёмся на Александра Спиридовича):
«Зубатов не смотрел на сотрудничество как на простую куплю и продажу, а видел в нём дело идейное, что старался внушить и офицерам».
В работе с подследственными Зубатов предпочитал метод убеждения и очень часто, по словам Спиридовича, лично общался с задержанными:
«Это не были допросы, это были беседы за стаканом чая о неправильности путей, которыми идут революционеры, о вреде, который они наносят государству. Во время этих разговоров со стороны Зубатова делались предложения помогать правительству в борьбе с революционными организациями. Некоторые шли на эти предложения, многие же, если и не шли, то всё-таки сбивались беседами Зубатова со своей линии, уклонялись от неё, другие же совсем оставляли революционную деятельность».
Именно Зубатов придумал слово «сексот» – «секретный сотрудник».
От того, что Охранное отделение города Москвы свою работу улучшило, революционное движение в стране на убыль не пошло. В самом конце XIX века социалисты всех мастей развили бурную деятельность. Опираясь на рабочую массу, они обещали ей в недалёком светлом будущем всеобщее счастье и благополучие.
Зубатов предложил вырвать пролетариев из рук активизировавшихся революционеров. Спиридович пишет:
«Он понимал, что с рабочими нельзя бороться одними полицейскими мерами, что надо делать что-то иное, и решил действовать в Москве, как находил правильным, хотя бы то был и не обычный путь».
Зубатов считал, что пролетариям нет смысла гоняться за непонятными им революционными идеалами, у них должна быть другая (главная) цель – борьба за нормальные условия труда и за реальную «копейку», то есть за свою заработную плату.
В апреле 1898 года он подал об этом докладную записку своему непосредственному начальнику – тогдашнему московскому обер-полицеймейстеру Дмитрию Фёдоровичу Трепову. Тот направил полученные бумаги генерал-губернатору Москвы, Великому князю Сергею Александровичу, который зубатовскую идею одобрил.
И дело пошло! Сначала в Москве, а затем в других городах страны стали возникать легальные рабочие организации. Получив в 1902 году повышение и переехав в Санкт-Петербург, Зубатов (вновь сошлёмся на Александра Спиридовича) принялся проводить…
«… совещания с лицами, увлёкшимися идеей поставить рабочее профессиональное движение в России…».
В этих совещаниях принимал участие и…
«… окончивший в том году духовную академию священник Гапон, который должен был начать работу среди рабочих в Петербурге».
19 февраля 1902 года пятьдесят тысяч рабочих из созданных Зубатовым профессиональных союзов пришли возложить цветы к памятнику императору-освободителю Александру Второму. Великий князь Сергей Александрович даже прослезился, увидев это необыкновенное для той поры шествие.
Обер-полицеймейстер Дмитрий Трепов, приписывавший и себе честь учреждения рабочих союзов, заявлял:
«До введения системы Зубатова Москва клокотала от недовольства; при моём режиме рабочий увидел, что симпатии правительства на его стороне и что он может рассчитывать на нашу помощь против притеснений предпринимателя. Раньше Москва была рассадником недовольства, теперь там – мир, благоденствие и довольство».
Находившийся в эмиграции Владимир Ульянов назвал зубатовские деяния «полицейским социализмом», но именно они положили начало профсоюзному движению в России.
Впрочем, генерал от жандармерии Василий Дементьевич Новицкий, возглавлявший Киевское охранное отделение и с ненавистью относившийся к зубатовским нововведениям, в своих воспоминаниях перекликается с оценкой, которую дал Зубатову лидер большевиков:
«Во время состояния в должности начальника Московского охранного отделения Зубатова последний всецело был подчинён обер-полицеймейстеру Д.Трепову, которого Зубатое свободно обходил, пользуясь совершенным незнанием Трепова всех махинаций революционеров, революционного движения и даже полицейской службы, провокаторствовал вовсю, в особенности в Москве, сплочая и организуя рабочих, подобно попу Гапону в Санкт-Петербурге, в кружки, знакомя рабочих с забастовками и стачками, каковые кружки впоследствии обратились во вполне готовые революционные организации, ставшие кадром Московского вооружённого восстания».
Приписывая Зубатову склонность к «провокаторству», генерал Новицкий явно клеветал, так как тогдашние законы строжайше запрещали вести борьбу с революционерами недозволенными методами. Запрет касался и провокаций, то есть любых подталкиваний подпольщиков на противозаконные шаги. Чрезвычайная комиссия, специально учрежденная Временным правительством в 1917 году для выявления «перегибов» царского режима, не обнаружила ни единого случая политической провокации.
А вот как охарактеризовал движение, организованное Зубатовым, Владимир Джунковский:
«Большое возбуждение среди рабочих в Петербурге возникло на почве так называемой „зубатовщины“, которая началась в Москве, но с тою разницею, что в Москве эта „зубатовщина“ была скоро ликвидирована, вернее обезврежена, как только оказалось, что переходит должные границы, переходя в провокацию».
Как бы там ни было, но в 1902 году тогдашний министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве достижения Зубатова оценил и поставил его во главе Особого отдела Департамента полиции. Началась реформа всей системы политического сыска России.
Однако с Плеве Сергей Зубатов не сработался, и его карьера прервалась резко и внезапно. 19 августа 1903 года он был уволен со своего поста – с повелением в 24 часа покинуть Петербург и отправиться в ссылку во Владимир.
Александр Спиридович пишет:
«Что же сталось с Зубатовым? Ненавидимый революционерами, непонятый обществом, отвергнутый правительством и заподозренный некоторыми в революционности, Зубатов уехал в ссылку. И во Владимире и после, живя в Москве, Зубатов продолжал оставаться честным человеком, идейным истинным монархистом».
Как только Зубатова ни называли: и «гением политического сыска», и «великим провокатором», и «великим реформатором», и даже «злодеем». Но в наши дни спецслужбы чуть ли не всех стран мира ведут сыск, пользуясь зубатовскими методами.
А теперь вернёмся в Сущёвский полицейский дом, где по методике, введённой Сергеем Зубатовым, полиция принялась знакомиться с юным революционером Владимиром Маяковским. Следователи, которые допрашивали его, наверняка хорошо помнили те наставления, которые Зубатов любил давать своим подчинённым:
«– Господа! Помните, что каждый задержанный может стать вашим будущим сотрудником! Поэтому смотрите на него, как на любимую женщину, с которой вы находитесь в нелегальной связи. Берегите её, как зеницу ока! Один неосторожный ваш шаг, и вы её опозорите. Помните это, относитесь к этим людям так, как я вам советую, и они поймут вас, доверятся вам и будут работать с вами честно и самоотверженно».
Натиск охранки
Итак, 3 апреля 1908 года «дворянин Владимир Маяковский» был допрошен следователем по особо важным делам Вольтановским.
Что за человек был этот следователь?
Роман Романович Вольтановский родился в 1958 году, умер в начале 1917-го. Газета «Утро России» 15 января поместила некролог, в котором об усопшем говорилось:
«Все крупнейшие дела последних 10–12 лет, прошедшие в московских судах, были подготовлены им. <…> Это был убеждённый и неуклонный в своих чиновничьих стремлениях службист, полагающий в основу своей бюрократической карьеры беспощадное применение самых суровых велений закона. Из всех норм устава о предупреждении и пресечении преступлений покойный выбирал наиболее ощутительные для подследственных лиц. Вероятно, таких фанатиков следственного дела имел в виду Наполеон, сказавший известную фразу: „В этом мире я не боюсь никого, кроме судебного следователя, обладающего правом ареста“».
Этому «фанатику следственного дела» и было поручено вести дело, руководствуясь первой частью 102-ой статьи Уголовного уложения.
Вспомним, что это за статья – 102-ая. В первой её части сказано:
«Виновный в участии в сообществе, составившемся для учинения тяжкого преступления, статьёю 100 предусмотренною, наказывается каторгой на срок не свыше 8 лет».
В 100-ой статье говорится:
«Виновный в насильственном посягательстве на изменение в России или в какой-либо её части установленных законами основными образа правления или порядка наследия Престола или отторжения от России какой-либо её части, наказывается смертной казнью».
Роман Вольтановский сам отправился в дом Коноплина, где произвёл дополнительный обыск. И нашел там экземпляры газеты «Борьба», органа РСДРП, а также…
«… в оказавшейся на шкафчике грязной перчатке – 18 боевых патронов от револьвера системы «Смит и Вессон»».
7 апреля Людмила Маяковская принесла на Сущёвку свидетельство о рождении брата, которое подтверждало, что ему всего лишь четырнадцать лет. Но следователь всё равно послал в Кутаис запрос о возрасте «столбового дворянина».
Этим запросом Вольтановский не ограничился. Была отправлена бумага (с фотографией Маяковского) и в Пятую гимназию. Следователь спрашивал, на самом ли деле молодой человек, запёчатлённый на приложенном фотоснимке, учился в этом учебном заведении. Директор Петр Ильич Касицын ответил, что на фотографии…
«… действительно, воспитанник 5-го класса вверенной мне гимназии, Владимир Маяковский, обучавшийся в оной с августа 1906 года и уволенный из Московской 5-ой гимназии, по постановлению педагогического совета, с 1-го марта 1908 года за невзнос платы за 1 половину 1908 года».
8 апреля состоялся очередной допрос, на котором Маяковскому вновь были заданы вопросы.
Приведём ещё один официальный документ.
Развивая и совершенствуя систему Зубатова, Департамент полиции в 1907 году разработал подробную «Инструкцию по организации и внедрению внутреннего наблюдения в жандармских и розыскных учреждениях». Документ считался совершенно секретным и хранился у начальника части. Снятие копий с него категорически запрещалось.
Вот фрагмент из этой «Инструкции»:
«Залог успеха в приобретении агентур заключается в настойчивости, терпении, сдержанности, также осторожности, мягкости, осмотрительности, спокойной решительности, убедительности, проникновенности, вдумчивости, в умении определить характер собеседника и подметить слабые и чувствительные его стороны, в умении расположить к себе человека и подчинить его своему влиянию, в отсутствии нервозности, часто ведущей к форсированию. Изложенные качества каждый занимающийся розыском офицер и чиновник должны воспитывать и развивать в себе исподволь, пользуясь каждым удобным случаем».
Так предлагалось вести себя во время проведения дознания. Так действовал и следователь Роман Вольтановский. Он вновь предложил Маяковскому отвечать на вопросы письменно. И тот написал:
«Я не признаю себя виновным в участии в Московской организации Российской социал-демократической рабочей партии, поставившей своей целью насильственное <ниспровержение>, путём вооружённого восстания, существующего государственного и общественного строя, так как никакого отношения к каким бы то ни было революционным организациям, а в частности и к означенной организации, я не имел и не имею».
Человек, передавший ему свёртки с прокламациями, был охарактеризован так:
«После первого своего знакомства с этим Александром встречался с ним 7–8 раз в театре, на улице, в пивной; ни в какой квартире с ним не встречался.
В конце марта, приблизительно 20-го числа, я встретился с ним у памятника Пушкину и пошёл с ним вместе по направлению к Трубной площади. По дороге я остановился у витрины книжного магазина; здесь он мне сказал, что торопится куда-то, и передал мне два свёртка, обёрнутые в газетную бумагу и связанные вместе верёвкой, попросив меня отнести эти свёртки по следующему адресу: Ново-Чухнинский переулок, дом Коноплина, кв. 7, и передать их там от имени Александра Льву Николаевичу Жигитову.
По указанному адресу я приносил эти свёртки днём в четверг 27-го числа и, не застав Жигитова дома, принёс эти свёртки 29 марта, и здесь был арестован.
Кто такой Лев Яковлевич Жигитов, я совершенно не знаю и никогда до этого случая о нём не слыхал. Об Александре, передавшем мне эти свёртки, могу только указать его приметы: он был высокого роста, с небольшой чёрной бородою, носил папаху, которую последнее время сменил на шляпу, носил также чёрное пальто и серый полосатый костюм. Как-то мне он говорил, что он бывший студент и даёт уроки; других сведений о нём не имею.
Жил ли Жигитов один или с кем-нибудь, я совершенно не знаю».
Отвечать письменно всем подследственным было предложено потому, что полиции нужен был образец их почерка для сравнения с листовками и прокламациями, изъятыми в типографии социал-демократов.
Маяковский, видимо, понял, что писать его просят не случайно, и впоследствии с явной усмешкой заметил в автобиографических заметках «Я сам»:
«Следователь Вольтановский (очевидно, считал себя хитрым) заставил писать под диктовку: меня обвиняли в писании прокламации. Я безнадёжно перевирал диктант. Писал: „социяльдимокритическая“. Возможно, провёл».
Автобиографию Маяковский писал четырнадцать лет спустя и, видимо, поэтому не совсем точно воспроизвёл написанное слово. В дошедших до наших дней документах охранки оно выглядит не особенно «перевранным»: «социалъдемократическая».
Редактируя текст своих заметок в 1928 году, Маяковский чуть подправил последнюю фразу – убрал слово «возможно».
В результате получилось, что он-таки «провёл» следователя Вольтановского, оставил его с носом. И тому не оставалось ничего другого, как освободить «столбового дворянина», против которого не было никаких улик.
Действительно, в протоколе, составленном Вольтановским 9 апреля, сказано:
«… записей, сделанных рукою обвиняемого Владимира Маяковского, между вещественными доказательствами не обнаружено».
Да, улик против Маяковского обнаружено не было. Но Жигитова-то он сдал! Как говорили тогда, сдал с потрохами! Начинающий революционер, так старательно учившийся конспирации, на деле показал себя законченным несмышлёнышем. Как же так? Тем более, все свидетели показали, что Маяковский бывал на квартире Коноплина неоднократно и общался с Трифоновым-Жигитовым много раз.
Объяснение здесь может быть только одно: Маяковский не знал, что его новый товарищ живёт по паспорту Жигитова. Он приходил к наборщику Тимофею Трифонову, и общался с ним как с Тимофеем Трифоновым. А то, что этот эсдек может находиться на нелегальном положении, ему и в голову не приходило.
Сам Трифонов заявил, что типография принадлежала только ему, и поэтому все остальные, причастные к этому делу, никакого отношения к ней не имеют. Это заявление, надо полагать, и отвело от Маяковского все подозрения.
Что же касается членства в бунтарской антиправительственной организации, то об этом в протоколе Вольтановского сообщается:
«… допросив дворянина Владимира Маяковского в качестве обвиняемого в участии в московской организации «российской социал-демократической партии» (1 ч<асть> 102 ст<атьи> Уг<оловного> улож<ения>) и приняв во внимание состояние здоровья обвиняемого, а также, что ему в настоящее время 14 лет, и что показания его заслуживают доверия, признал возможным ограничиться в отношении его одной из менее строгих мер пресечения способов уклониться от следствия и суда, а потому… постановил: означенного Маяковского отдать под особый надзор полиции по месту его жительства».
Иными словами, до суда «столбовой дворянин» отпускался на свободу. Но с условием: никуда без ведома полиции не отлучаться. Он такое обещание дал:
«1908 года, апреля 9 дня, я, нижеподписавшийся дворянин Кутаисской губернии Владимир Владимирович Маяковский, даю настоящую подписку Московскому Охранному Отделению в том, что по освобождении меня из-под стражи место жительства в Москве буду иметь на 4-й Тверской-Ямской, в доме Безобразова, кв. 52. В чем подписуюсь».
На следующий день сестра Людмила дала расписку полицейским «о принятии на жительство своего брата».
На этом предварительное следствие завершилось, и 19 апреля Вольтановский передал дело о тайной типографии РСДРП своему коллеге – 44-летнему следователю по особо важным делам Тихону Дмитриевичу Рудневу, который был действительным статским советником, то есть штатским генералом, и называть его надо было «ваше превосходительство».
После освобождения
Казалось бы, всё обошлось. Тюремное заключение оказалось довольно непродолжительным. Особых неприятностей оно не доставило. Если не считать, конечно, мытья рук – их в заключении не удавалось мыть столько раз, сколько хотелось. Потом ещё предстоял суд, но когда он состоится, было неизвестно.
11 апреля 1908 года в Москве началась бурная весна. Владимир Джунковский о ней написал:
«На одну треть Москва была покрыта водой… всюду сновали лодки; протянуты были кое-где канаты, попадались наскоро сколоченные плоты с обывателями, вывозившими вещи… Насколько хватало глаза, весь противоположный берег реки Москвы, все улицы обратились в море сверкающей воды… На Павелецком вокзале вся площадь была залита водой. Последний поезд отошёл в 6 часов вечера с большим трудом, колёса не брали рельсов, наконец, подав поезд назад, с разбега удалось поезду двинуться, и он, рассекая воду, подобно пароходу, вышел на сухое место. Вода на станции достигала второй ступеньки вагонов…
Такого наводнения Москва никогда не видела, последнее было в 1856 году, но и тогда вода была на целую сажень ниже, чем в 1908 году».
Это наводнение Маяковский в своей автобиографии не упоминает. Ничего не говорит он и о том, что, несмотря на данное полиции обещание не менять место жительства, он 3 мая оставил квартиру в доме Безобразова и (вместе с матерью и сёстрами) переехал в Подмосковье – в Петровско-Разумовское, в Соломенную Сторожку. Там в доме № 14 по Новому шоссе располагалась дача, принадлежавшая семейству Битрих.
16 мая пристав Петровско-Разумовского участка доносил:
«Имею честь уведомить, что за дворянином Владимиром Владимировичем Маяковским особый контроль полиции, вследствие отношения Охранного отделения от 8 мая за № 5829, присланного при подписи г<осподина> пристава 1-го уч<астка> Сущёвской части от 14 мая за № 142, с сего числа, учреждён, о чём и донесено г<осподину> судебному следователю Вольтановскому».
Закреплять за контролируемым сыщиков-филёров «особый контроль полиции» не предусматривал.
27 мая Маяковского вызвали в Охранное отделение, где следователь Тихон Руднев вновь допросил его. В протоколе допроса говорится:
«На вопрос – не желает ли дополнить предварительное следствие или же сказать в своё оправдание, Маяковский ответил, что дополнить следствие он ничем не имеет, но что свидетели показали, что он бывал несколько раз в той квартире, где был задержан, неправильно, и свидетели эти ошибаются.
Равно неправильно показание околоточного надзирателя, что он, Маяковский, будто бы шептался с Жигитовым и отказался давать объяснения надзирателю. В действительности же обвиняемый после настойчивых вопросов сказал надзирателю: «Всё, что я знал, показал вам, больше же я ничего не знаю». С Жигитовым обвиняемый не шептался, а просто по вводе в камеру, спросил у него, зачем он попал в полицию».
Вместе с сыном была вызвана и Александра Алексеевна Маяковская. Следователь Руднев с ней тоже побеседовал, и она оставила письменные ответы, касавшиеся сына:
«Учился он хорошо, наклонностей к шалостям не проявляет и принуждён был уйти из гимназии исключительно благодаря болезни. В настоящее время он самостоятельно, без помощи репетиторов, подготовляется вновь для поступления в гимназию в 5-й класс».
Следователь Тихон Руднев решил ещё раз перепроверить возраст подследственного дворянина, о чём свидетельствует сохранившийся документ:
«1908 года, мая 27 дня, судебный следователь Московского окружного суда по особо важным делам Руднев производил через врача Городской части г. Москвы Степана Степановича Хорошевского освидетельствование несовершеннолетних обвиняемых Владимира Владимирова Маяковского и Сергея Иванова в целях выяснения, нормально ли идёт рост физических и умственных сил обвиняемых, при чём оказалось:
Владимир Владимиров Маяковский крепкого сложения и питания, старше на вид своего возраста, ни на что особенно не жалуется, объяснив, что год тому назад был болен каким-то лёгочным заболеванием. При объективном исследовании лёгкие оказались нормальными, сердце несколько увеличено в поперечном размере, что можно объяснить усиленным ростом Маяковского. Пульс 108 ударов в минуту правильного и хорошего наполнения…».
Что касается «умственных сил обвиняемых», то, по мнению доктора Хорошевского, каждый из обследованных был «в психическом отношении вполне нормальным».
О том, чем занимался в ту пору её брат, рассказала Людмила Маяковская:
«После тяжело перенесённой зимы мы наслаждались природой, отдыхом: катались на лодке, совершали дальние прогулки. Познакомились со студентами сельскохозяйственной академии. Володя проводил время с ними, но ему часто приходилось уезжать или, вернее, уходить пешком в Москву. Он работал в это время пропагандистом в большевистском подполье. Володя не считался ни с чем – ни с расстоянием, ни с временем, ни с погодой. Возвращался поздно, в квартиру приходилось подниматься по скрипучей деревянной лестницей.
Отметив в очередной раз, что «большевистским» подполье в ту пору не называлось, обратимся к главке «АРЕСТ» в автобиографических заметках. В ней свою жизнь на свободе Маяковский описал так:
«Вышел. С год – партийная работа».
В чем она состояла?
Как мы помним, в автобиографии, написанной в 1922 году, главка «ПАРТИЯ» завершается словами:
«Здесь работать не пришлось – взяли».
Получается, что никакой «партийной работы» у Маяковского после ареста не было. Да и быть не могло! Ведь он находился под следствием, поэтому опытные революционеры-подпольщики обязаны были избегать общения с ним. Из МК РСДРП (если он там вообще состоял) его, надо полагать, сразу же вывели. На тайные сходки его тоже вряд ли приглашали – он же мог привести за собою филёра!
Что же за «работа» была тогда у него?
В автобиографии, отредактированной в 1928 году, фразы, в которой говорится, что «работать не пришлось», нет.
Почему?
К этому вопросу мы вернемся чуть позднее, а пока поразмышляем над тем, чем же всё-таки занимался вышедший на свободу «столбовой дворянин»?
В ту пору антиправительственной деятельностью занимались не только эсдеки, была ещё и партия социалистов-революционеров, в которой работа кипела. Среди эсеров у Маяковского тоже были друзья.
Свидетельств о той поре сохранилось не очень много. Но всё-таки известно, что «товарища Константина» (вскоре после выхода его на свободу) «засекли» филёры. Правда, это были чужие филёры, то есть следившие не за ним, а за другими. Но об этом – рассказ особый.
Глава пятая Эсдеки и эсеры
Подопечный филёров
Лето 1908 года выдалось сырым, пасмурным – дожди шли, не переставая.
Но Маяковский всё равно почти каждый день из своей Соломенной Сторожки уходил в Москву. И однажды попался на глаза соглядатаям. Филёры эти следили за «Дубовым» – такую кличку они дали подпольщику Сергею Семёновичу Трофимову. 4 июня их подопечный встретился с каким-то (неизвестным сыщикам) человеком. Эта встреча была зафиксирована в специальной тетрадке, в которой филёры записали, что «Дубовый»…
«Пошёл на Тверскую, дойдя до Брюсовского переулка, где встретил молодого человека, кличка коему будет „Кленовый“, с которым поздоровались и вместе вернулись на Страстную площадь, откуда пошли в Большой Козихинский переулок, дом Попова, парадное, кв. 17–24, куда заходил „Кленовый“, а "Дубовый " его ожидал на улице. „Кленовый“ пробыл 10 мин., вышел, и оба пошли на Страстной бульвар, где расстались.
«Кленовый» от Петровских ворот пошёл в дом Елизарова, по Лихову пер., парадное, кв. 9-16, где пробыл 25 мин., вышел, сел в конку и, доехав до Долгоруковской ул., пересел в трамвай, доехал до Бутырской заставы, пересел на паровичок и, доехав до Соломенной Сторожки, слез и пошёл на Новое шоссе, на дачу Битрих, где был оставлен».
Нетрудно догадаться, что этим «Кленовым» был Владимир Маяковский, а «оставлен» он был на той самой даче, на которую их семья переехала 3 мая.
О владельцах дачи и о том, что там тогда происходило – в воспоминаниях Людмилы Владимировны:
«В первом этаже жили хозяева дачи – Битрих (совладельцы булочной Бартельс у Никитских ворот). Они не любили нас, называли «революционной бандой» и однажды донесли в полицию, что у нас часто бывают собрания. В результате этого доноса полиция, конная и пешая, оцепила дачу, закрыла все выходы и провела ночью проверку всех живущих. Когда вошли в комнату Володи, он спал. У него ночевал товарищ и тоже спал. Полицейские удивлённо спросили:
– Как, вас двое, и вы спите?
На что Володя ответил:
– А вам сколько надо? – повернулся на бок и заснул».
Сохранились и воспоминания товарища Маяковского (Сергея Медведева):
«Я заночевал у них в Петровско-Разумовском. Вдруг ночью трясут меня за плечо. Смотрю – полицейские. Оказывается, сообщили, что Маяковский неблагонадёжен, что к нему ходят какие-то подозрительные лица, и вот, проследив, что я остался ночевать у Маяковских, полиция решила сделать налёт. На этот раз всё обошлось благополучно, арестован никто не был».
Людмила Владимировна:
«Таким образом, затея наших хозяев не удалась, но они не оставили нас в покое и подали на нас в суд, требуя выселения».
21 июня слежку вел новый филёр, который, увидев встречавшихся «Дубового» и неизвестного молодого человека, записал последнего под кличкой «Новый». Но потом филёру, видимо, разъяснили, кто есть кто, и в тетрадке сыщиков это слово было зачёркнуто и над ним написана прежняя кличка: «Кленовый».
23 июня в дом, где жил «Дубовый»…
«… в 6 часов вечера пришёл «Кленовый»… пробыв 1 час 20 м., вышел, пошёл без наблюдения к Сухаревой».
28 июня в квартире Сахаровых дома Соколова (он находился в ведомстве 1-го участка Арбатской полицейской части) собрались члены Московского комитета РСДРП. Обсуждался вопрос о создании очередной подпольной типографии. В самом разгаре дебатов в квартиру нагрянула полиция. Десять человек, в том числе и Владимир Вегер, были арестованы. Московские социал-демократы разом оказались обезглавленными.
Маяковского на том заседании не было – членом городского партийного комитета он уже не состоял.
Тем временем предварительное следствие по делу о подпольной типографии завершилось, и 8 июля следователь Тихон Руднев сделал в нём последнюю запись:
«Делу дать направление в порядке, указанном 35 статьёй Устава уголовного судопроизводства».
4 августа в доме Дербенёвой на Садово-Триумфальной улице состоялась ещё одна нелегальная сходка социал-демократов. Филёры её, конечно же, выследили. На Маяковского, который там присутствовал, был заведён персональный дневник наружного наблюдения. В нём он именовался уже под двумя кличками:
««Высокий», он же «Кленовый». Взят первый раз 4 августа 1908 г. со сходки из дому Дербенёвой».
С дачи к тому времени Маяковские уже съехали – ведь хозяева подали на них в суд. Людмила Владимировна писала:
«Мы, не дожидаясь суда, до окончания дачного сезона переехали в Москву».
Квартиру сняли на Долгоруковской улице. И с этого момента Владимир Маяковский стал регулярно попадать в записи сыщиков:
«В августа 1908 г.
«Высокий» проживает в доме Бутюгиной № 47 по Долгоруковской улице.
В 8 часов утра вышел из дома и пошёл в Верхние Торговые ряды, где и был утерян, в 7 час. 50 мин. вечера вторично вышел из дома и прошёл несколько раз по Долгоруковской улице и вернулся домой.
6 августа 1908 г.
… вышел из дома в 10 час. 40 мин. дня с неизвестным молодым человеком, и пошли в дом Персиц по Триумфальной Садовой, во дворе.
7 августа 1908 г.
В 11 часов 30 мин. дня вышел из дома и пошёл в Городские номера по Никольской ул., где пробыл 35 мин., возвратился домой, откуда выхода более не видели.
8 августа 1908 г.
… вышел из дома в 11 час. дня и пошёл в Городские номера по Никольской ул., где пробыл 30 мин., вышел и пошёл в дом Биркель по Даеву переулку, во двор, налево, где проживает «Дубовый», где пробыл 30 мин., вышел вместе с «Дубовым», дойдя до Сухаревской площади, разошлись; «Дубовый» пошёл под наблюдением, а наш пошел домой, более выхода не видали.
9 августа 1908 г.
… вышел из дома в 11 час. дня и пошёл в Городские номера по Никольской ул., где пробыл 30 мин., вышел и пошёл в дом Биркель по Даевому пер., где проживает "Дубовый "пробыл 2 часа, вышел, на Садово-Сухаревской встретился с неизвестным молодым человеком, немного поговорили и пошли на Цветной бульвар, где просидели 20 мин. на лавочке, расстались. Неизвестный пошёл в д. Воронцова по Цветному бульвару,… «Высокий» пошёл домой.
В 6 час. 15 м. вышел из дома с двумя неизвестными барыньками, по Каретной Садовой все втроём зашли в булочную Алиханова, где купили булок и пошли в дом Елизарова, угол Лихова пер. и Малой Спасской, в подъезде №№ 9-16, через 10 мин. вышел «Высокий» и пошёл в Крымскую кондитерскую по Триумфально– Садовой, где что-то купил и вернулся в д. Елизарова, где пробыл 2 час. 30 мин., вышел и пошёл домой. А две неизвестные барыньки остались в д. Елизарова, выхода их не видел, которым будет кличка «Лихая» и «Шустрая». Наблюдение составлено в 10 час. 20 мин. вечера».
Существует предположение, что клички «Лихая» и «Шустрая» филёры дали сёстрам Сергея Медведева Людмиле и Елене.
Появление «Субботинского»
16 августа «Высокий» (он же «Кленовый») встретился ещё с одним неизвестным. Их встреча была зафиксирована так:
«… вышел из дома в 11 час. 30 мин. дня и пошёл в Городские номера по Никольской ул., где пробыл 1 час, вышел с неизвестным молодым человеком, дойдя до Лубянской площади, сели в трамвай. «Высокий» у Сухаревки слез и пошел в д. Биркель по Даева пер., во двор, где проживает «Дубовый»; пробыв 55 минут, вышел, пошёл домой… Неизвестный проведён в дом № 5 Злоказовой по Ново-Воротниковскому пер. во двор, где был оставлен в 7 час. вечера».
Этот неизвестный молодой человек получил клички «Субботинский» и «Субботний». Филёры всё чаще стали обнаруживать его возле дома Бутюгиной, в котором жил Маяковский.
«18 августа 1908 г.
В 11 час. 20 мин. утра из дома Бутюгиной вышел «Субботинский», сел в трамвай, у Сретенского монастыря слез и пошёл на Тверской бульвар, где встретился с двумя неизвестными…».
Этим «Субботинским» был не кто иной, как Исидор Иванович Морчадзе. В начале 1908 года ему удалось бежать из туруханской ссылки и вновь объявиться в Москве. Что он в ней увидел?
«Реакция свирепствовала вовсю. Десятки тысяч революционеров были брошены в тюрьмы или сосланы, тысячи расстреляны. Буржуазная интеллигенция, вчера ещё сочувствовавшая революции, совершенно от неё отвернулась. И если раньше гордились тем, что дают приют революционерам, то теперь не только ночёвки не предоставляли, но совершенно отвернулись, не стали узнавать, а многие прямо отрекались от революции, заявив, что они ничего общего с ней не имеют.
И вот я после побега из ссылки нашёл настоящий приют только в семье Маяковских. Они приняли меня как своего друга и товарища, и я в этой семье почувствовал, что революция живёт.
И я поселился у них на квартире. Это было уже в начале 1908 года. Они жили в это время на Долгоруковской улице. Я снял у них комнату, но прописаться нельзя было, так как у меня не было никакого паспорта. И я только через две недели достал себе паспорт на имя Сергея Семёновича Коридзе».
Исидора Морчадзе, видимо, немного подвела память – в Москве он оказался не «в начале 1908 года», а гораздо позднее – в августе месяце, когда Маяковские съехали с дачи Битрих и поселились в доме на Долгоруковской улице. Чтобы появиться в Москве в начале года, надо было бежать из туруханской ссылки зимой, а, как показывала практика, совершить подобный побег из тех суровых мест было совершенно невозможно. Сам Морчадзе описывал свой побег без всяких подробностей:
«… мне удалось бежать из ссылки, и после долгих мытарств я добрался до Москвы».
Странно, что Морчадзе не привёл никаких подробностей побега – ведь его воспоминания писались и были изданы уже в советское время, когда побег из царской ссылки считался геройством.
Как бы там ни было, но сохранившиеся документы свидетельствуют, что Морчадзе, ставший Коридзе, прописался у Маяковских 19 августа.
Вот как этот день описан в дневнике наружного наблюдения:
«19 августа 1908 г.
В 10 час. 45 мин. утра «Высокий» вышел из дома вместе с «Субботинским», дошли до Садовой ул., расстались; «Субботинский» пошёл под наблюдением, а «Высокий» пошёл в Лихов переулок, в дом Елизарова, в парадную, где №№ 9-16; через 10 мин. вышел и пошёл на Никольскую улицу, в Городские номера, где пробыл 35 мин., вышел и вернулся домой».
На следующий день филёры вновь зафиксировали выход Морчадзе из дома Бутюгиной:
«20 августа 1908 г.
В 9 часов 45 минут утра «Высокий» вышел из дома и на углу Весковского пер. купил газету и вернулся домой. В 11 часов 30 мин. утра «Высокий» вторично вышел из дома вместе с "Субботинским "».
Ежедневная слежка за «Высоким» и «Субботинским» продолжалась.
Таганский подкоп
Кроме партийной у Владимира Маяковского в тот момент было много обычной учебной работы – 30 августа 1908 года его мать подала прошение в Строгановское художественно-промышленное училище о принятии её сына в подготовительный класс. Просьбу удовлетворили, и Владимир приступил к занятиям.
Вскользь заметим, что Борис Пастернак в том же 1908 году закончил гимназию с золотой медалью и поступил на юридическое отделение историко-филологического факультета Московского университета.
А арестованного в начале того же года Илью Гиршевича Эренбурга неожиданно освободили. Причём до суда. Ходили слухи, что родителям для освобождения сына пришлось внести денежный залог. В это трудно поверить – для того, чтобы арестованный революционер получил свободу, требовались не деньги, а письменное обязательство прекратить заниматься антиправительственной деятельностью. Или согласие на сотрудничество с охранкой. При отсутствии таких бумаг из-за решётки не выпускали. Так что, надо полагать, нечто подобное Илья Эренбург всё же подписал.
23 сентября состоялось заседание Московского окружного суда, куда поступило дело о подпольной типографии. Появился ещё один официальный документ:
«Рассмотрев обстоятельства дела и выслушав личные объяснения обвиняемого Маяковского, Окружной суд нашёл:
1) что Маяковский воспитывался в образцовой дворянской семье,
2) что он получил образование в гимназии и дошёл до 4-го класса,
3) что деятельное участие его в подготовлении путём печатных воззваний государственного бунта, в каковом преступлении он уличается задержанием его на месте преступления с поличным, упорно им отвергаемо,
4) что ответы его на вопросы суда по предмету совершённого им преступления указывает на достаточное его умственное, нравственное развитие и на понимание им преступного характера своих действий…».
Суд постановил:
«… дворянина Владимира Владимировича Маяковского, 14 лет, обвиняемого в преступлении, предусмотренном 1 ч. 102 ст. Уголовного уложения, признать действовавшим при совершении этого преступления с разумением».
11 октября дело о тайной типографии было передано в Московскую судебную палату, где стали готовить обвинительный акт.
Тем временем новый жилец Маяковских («Субботинский») задумал организовать побег заключённых из московской тюрьмы. Впоследствии он написал:
«… в этот период времени, в разгул реакции, я готовил массовый побег из Таганской тюрьмы. План побега был очень остроумным и простым. Как известно, Таганская тюрьма находится около Москвы-реки, и вот мы обнаружили, что можно водосточной трубой с Москвы-реки вплотную подойти к тюрьме. И, свернув направо, прокопав сажен десять, мы предполагали подвести подкоп под баней. Таганская тюрьма – одиночная тюрьма, но в баню тогда водили не по одному, а сразу по десять-двенадцать человек. А если в то время ещё дали бы целковый надзирателю, который водил в баню, то он взял бы в баню сразу человек двадцать-тридцать».
Странно, что Морчадзе не указал, кого именно он собирался освобождать. Ведь в Таганской тюрьме сидели не только политические, но и уголовники. И в баню их водили всех вместе.
Организовывать побег Исидору Ивановичу помогал Константин Викторович Сцепуро (по паспорту – Иван Мартушевич Герулайтис), тоже живший у Маяковских. Их дерзкая задумка произвела на пятнадцатилетнего Володю сильное впечатление. И в автобиографии (в той, что написана в 1922 году) не без гордости отмечено:
«Живущие у нас (Коридзе (нелегальн. Морчадзе), Герулайтис и др.) ведут подкоп под Таганку. Освобождать женщин каторжан».
В автобиографии, отредактированной и изданной в 1928 году, фамилии «живущих у нас» отсутствуют.
Что же касается «женщин каторжан», то здесь Маяковского, видимо, подвела память – в Таганской тюрьме содержались только мужчины. Из трёх главных московских тюрем – Бутырка, Матросская тишина и Таганка – последнюю называли самой серьёзной, считалась, что убежать из неё невозможно.
Но копать революционеры любили. За четыре года до этого вести подкоп под кутаисский цейхгауз затеял, как мы помним, неустрашимый Коба Джугашвили. Правда, достать две тысячи винтовок ему не удалось. В августе 1905 года российские социал-демократы тоже решили с помощью подкопа (и тоже под тюремную баню) освободить сидевших в Таганке Николая Баумана и его товарищей из Северного бюро ЦК РСДРП. И эта попытка успехом не увенчалась. Получалось, что Исидор Морчадзе в очередной раз испытывал судьбу, надеясь на более благоприятный исход.
Но вот что странно! Затевая такое сверхответственное дело, как подкоп под тюрьму с тем, чтобы освободить заключённых, опытнейший революционер Морчадзе не хранил его в тайне, а подробно рассказывал о нём своим знакомым. Пусть хорошим знакомым, пусть проверенным людям! Но не имевшим никакого отношения к его партии и ко всему тому, чем эта партия занималась. Читая его воспоминания, можно подумать, что он делится подробностями того, как копает грядки на даче. Складывается впечатление, что у этого Морчадзе было какое-то несокрушимое алиби, которое позволяло ему не бояться того, что тайна подкопа будет неожиданно раскрыта.
Как бы там ни было, но поначалу рытьё под Таганку проходило довольно успешно. Морчадзе и помогавший ему Сцепуро-Герулайтис работали по ночам:
«И вот когда я после работы с товарищем приходил ночью домой, Володя никогда не спал и поджидал нас. И всегда первый встречал и открывал двери. И первым вопросами его всегда были:
– Удачно? Сколько выкопали?
Вслед за ним к нам заходили Людмила Владимировна, Ольга Владимировна, а мать их, Александра Алексеевна, по-матерински разогревала нам ужин и чай. Все они были посвящены в детали готовящегося подкопа, и все они, включая мать их, интересовались ходом дела».
Людмила Маяковского тоже оставила воспоминания о той невероятно дерзкой акции:
«На наше имя получалась корреспонденция, у нас устраивались встречи для переговоров. Мама организовывала ночлег нелегальным, шила колпаки для земляных работ и т. п.».
История эта становится ещё более удивительной, когда вспоминаешь о том, кто ею занимался! Ведь эсер Исидор Морчадзе до этого был охранником (самого Максима Горького охранял!), затем совершал экспроприации (грабил банки), после этого закупал оружие для боевиков-однопартийцев, а теперь вдруг стал организатором побега из тюрьмы. Но любое дело надо доверять профессионалу, то есть тому, кто имеет опыт. А Исидор Иванович на этот раз был неопытным новичком. Как можно было доверить ему столь важное дело?
Да и сам Морчадзе вспоминал потом, какие в их работе случались неожиданности:
«Однажды, когда, окончив работу, мы шли по водосточной трубе обратно к выходу, вдруг откуда-то пошла горячая-горячая вода. Мы, как сумасшедшие, бросились к выходу, но вода всё прибавлялась, и мы совершенно вымокли до пояса. Когда вылезли оттуда, были в таком виде, мокрые до пояса, что нельзя было не смеяться…
Наши наблюдатели, которые наверху стояли и охраняли нас, наблюдая, чтобы нас не проследила охранка, наняли нам извозчика, и мы на извозчике приехали домой.
Володя встретил нас встревожено, молчаливо. Но когда мы ему рассказали, что с нами случилось, он разразился таким хохотом, что вместе с ним от всей души хохотали и мы.
Володя взял наши сапоги, брюки в кухню – высушить и вычистить их. Принёс нам горячий самовар, налил крепкого чаю, ухаживал за нами трогательно, как настоящий товарищ, приговаривая, что крепкий чай давно испытанное средство от ожогов. Всё время подтрунивал над нами и смеялся.
Утром, когда все мы встали и пили чай, он глубокомысленно задумался и изрёк:
– А что если бы вы действительно обварились до смерти, никто, кроме Маяковских, не догадался бы и не знал бы о ваших подвигах и стремлениях».
Кроме подкопа под тюрьму партия социалистов-революционеров затеяла ещё одну не менее важную акцию. Чтобы пополнить быстро скудевшую партийную кассу, эсеры решили осуществить очередную экспроприацию, то есть ограбить какой-нибудь банк.
О замышлявшемся грабеже мгновенно узнала полиция – во-первых, от своих агентов, состоявших членами партии, а во-вторых, от сыщиков-филёров, ходивших за будущими налётчиками буквально по пятам. В письме московского градоначальника генерал-губернатору Москвы, написанном в феврале 1909 года, в частности, говорилось:
«В конце ноября минувшего года в Московское охранное отделение поступили негласные сведения о том, что в Москве формируются шайки грабителей, намеревающихся произвести целый ряд грабежей».
Московские власти, разумеется, сильно насторожились. За членами «шайки грабителей», среди которых оказался и Маяковский, стали следить ещё более тщательно.
Саратовский жилец
Морчадзе-Коридзе и Сцепуро-Герулайтис в самый разгар слежки покинули квартиру Маяковских и сняли комнату в доме Смирнова по Земляному валу 419 – поближе к месту подкопа. Но прописка у них осталась прежняя – на Долгоруковской улице.
Чуть позже или чуть раньше того, как съехали с Долгоруковской жильцы-эсеры, в Москву из Саратова приехал молодой человек, которого звали Николай Иванович Хлёстов. Он поступил в класс сольного пения филармонического училища и стал искать для себя пристанища. Впоследствии он написал:
«… по моим деньгам лучше бы полкомнаты или койку. Цены на комнаты близ училища, в центре Москвы, были для меня недоступны, да и владельцы их, узнав, что я учусь пению, не хотели пускать на квартиру – будет-де беспокойно.
Усталый, расстроенный, иду я по Долгоруковской (ныне Каляевская). Вижу объявление: «В глубине двора сдаётся комната». Слово «глубина» меня обрадовало, наверное, думаю, будет подешевле. И в самом деле, в самом конце двора, в "глубине " его, я нашёл небольшой старый деревянный домик. Позвонил.
Дверь открыла пожилая женщина, которая с первого взгляда понравилась мне. У неё было спокойное, доброе лицо, умные карие глаза, тихий, ласковый голос. Одета скромно и опрятно.
Она показала мне небольшую комнату. Первое, что мне бросилось в глаза – книги. Книгами была набита полка над кроватью, стопками лежали они на столе, на подоконниках. В комнате – два окна с простенькими белыми занавесками. Между окон – стол с ящиками, несколько стульев. Ничего лишнего, но всё необходимое было. В комнате чисто, светло.
Я спросил:
– А почему здесь две койки?
Хозяйка, смутившись, ответила, что в этой комнате живёт её сын.
– Он не будет вам мешать, дома бывает мало и здесь будет только ночевать.
Видимо, она беспокоилась, что мне не понравится соседство её сына, а я, наоборот, обрадовался: наконец-то, я нашел то, что искал – полкомнаты.
Я счёл своим долгом предупредить, что учусь пению. Ожидал, что ей это может не понравиться, но она, внимательно посмотрев на меня, сказала:
– У нас в квартире живёт близкая подруга дочери, у неё есть пианино. Я попрошу её, и, думаю, она разрешит вам им пользоваться. Она студентка, уйдёт на лекции, а вы будете играть.
Эта добрая, сердечная женщина была Александра Алексеевна Маяковская».
Так Николай Хлёстов поселился в квартире дома № 47 по Долгоруковской улице, принадлежавшем Бутюгиной и находившемся «в глубине двора». Жить ему предстояло в той же самой комнате, где ещё совсем недавно проживал Исидор Морчадзе.
«Утром проснулся, чувствую, что на меня кто-то смотрит. Открыл глаза. Вижу, напротив лежит юноша и разглядывает меня. Он смотрит на меня, я – на него. Лежим, смотрим друг на друга и молчим. Потом он пробасил:
– Я слышал, что вы поёте.
– Да, я приехал в Москву учиться пению.
– Это очень хорошо. Ну-ка, спойте что-нибудь, – попросил юноша.
Лежа на койке я запел романс Гречанинова «Узник». Я пел и наблюдал, какое впечатление производит на него пение.
– Сижу за решёткой в темнице сырой,
вскормлённый в неволе орёл молодой, – пел я.
И вижу лицо юноши стало сосредоточенным, даже мрачным. Потом он как-то встрепенулся, поднялся на койке, я тоже…
Конец романса мы закончили вместе… Он схватил меня, завертел, закружил по комнате и загудел своим басом:
– Здорово поёшь, молодчина, очень здорово!
Это необычное знакомство как-то сразу нас сблизило, подружило. Мы перешли на «ты», я стал называть его Володей, он меня – Николай».
Новому жильцу Маяковский понравился:
«Это был не по годам развитый, начитанный, одарённый юноша. В его библиотеке я нашёл сочинения Некрасова, Толстого, Гоголя, Горького, Достоевского, Чехова, Ибсена и других классиков литературы; книги по философии и политической экономии – сочинения Фейербаха, Дицгена и других авторов, а также учебники по алгебре, геометрии, физике, литературе, латыни, по немецкому языку – он готовился сдать экзамен за полный гимназический курс…».
Тем временем год 1908-ой подходил к концу. Как говорилось в уже упоминавшемся нами письме московского градоначальника, власти распорядились…
«… арестовать между 10–15 числами минувшего декабря всех известных Охранному отделению грабителей».
И очень многие готовившиеся к экспроприации эсеры были взяты под стражу.
В том же декабре выпущенный из тюрьмы социал-демократ Илья Эренбург уехал за границу. Ходили слухи, что для получения разрешения на то, чтобы покинуть Россию, его отцу пришлось здорово раскошелиться. Хотя для того, чтобы вот так совершенно открыто отправиться за рубеж (даже «для лечения»), надо было сначала получить благословение Охранного отделения. И Илья Эренбург, надо полагать, его получил.
А Владимир Маяковский в этот момент был озабочен делами учебными. Об этом свидетельствует документ:
«Его превосходительству
г-ну директору Строгановского
художественно-промышленного училища
Ученика 1-го класса
Владимира Маяковского
Прошение
Ознакомившись с программой Строгановского училища, я нашёл для себя возможным сдать экзамены за 5 классов по общеобразовательным предметам, и поэтому покорнейше прошу ваше превосходительство <разрешить> сдать их в мае месяце. Дополнительные же предметы проходить наравне с остальными учениками училища.
Владимир Маяковский.
14 января 1909 года».
Просьбу ученика подготовительного класса удовлетворили, и он продолжил готовиться к предстоявшим экзаменам.
Николай Хлёстов обратил внимание на добрую атмосферу, которая была в семье Маяковских, на то, как дети относятся к матери:
«Оля и Володя всегда называли Александру Алексеевну „мамочка“. Володя очень любил свою мать. Часто вечером Александра Алексеевна садилась отдохнуть в старенькое кресло. Володя устраивался у её ног на скамеечке, и так подолгу сидели они, о чём-то тихо беседуя».
Одним словом, жизнь протекала тихо и спокойно. Александра Алексеевна Маяковская писала:
«Одно время у нас на квартире жил студент консерватории Николай Иванович Хлёстов. Володя всегда просил его:
– Ну, Коля, спой мне «О, дайте, дайте мне свободу!»
Он очень любил эту арию».
Знал ли Владимир Маяковский, так любивший эту свободовосхваляющую арию, что в Охранном отделении на него уже заведено дело «О дворянине Владимире Владимировиче Маяковском», в которое включена и «Справка № 463»? В ней, в частности, говорилось:
«При разработке группы грабителей, ликвидированных в связи с делом в дачной местности „Лосиный остров“ в декабре 1908 года, наблюдался также имевший тесную связь с группой неизвестный – кличка наблюдения „Шар“ – оказавшийся Николаем Исаевым, который исключительно по агентурным соображениям оставлен на свободе.
Наблюдением за «Шаром» установлена связь его с целым рядом лиц, составивших, как установлено агентурой, отдельные грабительские шайки, с целью производства экспроприации».
В этот «целый ряд лиц» входил и Маяковский.
А рытьё подкопа под таганскую тюрьму тем временем пришлось остановить.
Об этом – Исидор Морчадзе:
«Всё шло великолепно, и подкоп мы довели до конца, но случилось не от нас зависящая история, которая положила конец дальнейшему ведению дела. По неосторожности ли тех товарищей из Таганской тюрьмы, для которых готовился подкоп, или, быть может, по провокации кого-либо, охранка прослышала об этом и, ввиду усиленной слежки за тюрьмой, дальнейшее продолжение дела стало невозможным».
Подкоп пришлось засыпать. Побег из Таганки не состоялся.
«Грабительская шайка»
Слежка за «оставленным на свободе» эсером Николаем Дмитриевичем Исаевым {«Шаром») тем временем продолжалась. 12 января 1909 года филёры засекли его встречу с двумя молодыми людьми, один из которых оказался членом партии социалистов-революционеров Григорием Алексеевичем Петровым. Ему дали кличку «Котёл».
15 января (то есть на следующий день после подачи Маяковским прошения в Строгановское училище) в 4 часа дня «Котёл» зашёл во двор дома, где жил Маяковский:
«В 5 час. вечера «Котёл» вышел вчетвером, т. е. «Котёл» и «Горшок» (одетый в короткий чёрный пиджак), «Скорый» и неизвестный, и все пошли в Газетный пер., в дом Маньковой № 5, во двор, последняя парадная налево, по-видимому, кв. 25 или 26».
Кличку «Скорый» следившие за эсерами филёры дали новому для них лицу – Маяковскому. Они не знали, что за «Скорым» следят другие сыщики, именующие его «Кленовым» и «Высоким».
Если судить по наблюдениям, что были занесены в филёрский журнал, тот день у «Скорого» завершился так:
«В 8 час. вечера «Скорый» вышел, переодетый в пиджак вместо пальто, с неизвестной барынькой; проводив до Триумфальной площади, расстались: барынька пошла без наблюдения, а «Скорый» вернулся обратно в дом Маньковой по Газетному пер. В 10 час. вечера вышли вместе все четверо и пошли в пивную Мамыриной – угол Тверской и Газетного пер., где пробыли 30 м., вышли, на Тверской расстались. «Скорый» и неизвестный, которому кличка будет «Блин», пошли в дом Бутюгиной № 47 по Долгоруковской, где были оставлены в 12 часов ночи».
На следующий день (16 января) филёры записали:
«В 11 час. 30 м. утра вышли из дома втроём, т. н. «Скорый», «Блин» и «Горшок» («Блин» был одет в енотку), и отправились в Московский городской ломбард по проезду Страстного бульвара, где заложили енотку, через 20 м. вышли и отправились к «Котлу» в д. Каштановой, угол Сивцев Вражек и Денежного пер. В 1 час 56 мин. дня вышли «Скорый», «Блин», «Котёл» и «Шпиль» и все вместе на Арбатской площади сели в трамвай и были упущены из виду в 3 часа дня».
Кличку «Горшок» филёры дали Сцепуро-Герулайтису.
В тот день Маяковский, видимо, не ночевал дома, поскольку запись о нём была такая:
«Выхода из дома не видно».
Зато сыщики, следившие за Григорием Петровым («Котлом»), на следующий день отметили:
«Котёл» проживает в доме Каштанова по Сивцеву Вражку. В 11 ч. 20 мин. утра «Скорый» вышел из дома Каштанова со свёртком, завернутым в серую шаль, пошёл в Пречистенский полицейский дом, в контору смотрителя, там оставил свёрток, вышел и вернулся в дом Каштанова. В 12 часов 10 минут дня вышли «"Котёл", „Горшок“ и „Скорый“, пошли в дом Бутюгиной по Долгоруковской улице, там пробыли 40 минут, вышли…».
Узнать, зачем «Скорый» заходил в Пречистенский полицейский дом, филёрам было нетрудно. Оставленный там «свёрток» предназначался находившейся в заключении Пелагее Евсеенко. Она была задержана ещё в декабре – во время ареста членов первой «шайки грабителей». Сохранилась опись вещей, которые были «оставлены» заключённой:
«Для передачи Полине Фёдоровне Евсеенко от Маяковского.
2 простыни
2 полотенца
Мыло и гребень
3 руб. денег (три рубля)
Передаёт Владимир Владимирович Маяковский
Получила Евсеенко».
То, что в описи Евсеенко названа не Пелагеей, а Полиной, говорит о том, что Маяковский, видимо, знал её не очень хорошо.
Между тем в Охранном отделении решили, что членам «шайки грабителей», оставленным на свободе «по агентурным соображениям», пора с этой свободой распрощаться. И все бывшие под подозрением лица («Шпиль», «Горшок», «Котёл», «Блин» и, конечно же, «Скорый») 18 января 1909 года были арестованы.
В записях филёров задержание Маяковского запечатлено так:
«В 11 час. утра вышел из дома «Скорый», дойдя до Садовой, был арестован и препровождён в 1-й Сущёвский участок».
Второй арест
В Сущёвском полицейском доме в полном соответствии с установленным порядком был составлен протокол:
«1909 года, января 18 дня, в 11 ч. утра, околоточный надзиратель 1 уч<астка> Сущёвской части Пантелеймонов составил настоящий протокол о нижеследующем: в сказанное время членом охранного отделения задержан и доставлен в управление уч<астка> неизвестного звания мужчина, назвавшийся потомственным дворянином Владимиром Владимировичем Маяковским, 15 лет, но на вид ему около 21 года.
При обыске Маяковского оказалось при нём в карманах: две записных книжки, одно письмо, одна фотографическая карточка, билет за № 51, два куска старой газеты, перочинный нож, резинка для стирания карандаша. О чём составлен настоящий протокол, который представляется на рассмотрение г. пристава.
Окол. надзират. Пантелеймонов».
Письмо, отобранное у Маяковского, было отправлено ему из Пречистенского полицейского дома Пелагеей Евсеенко, которая просила (как сказано в полицейской справке)…
«… принести кофточку, отдать бельё в стирку, купить закуски, узнать, как дела на службе, похлопотать о свидании (Евсеенко с Маяковским)».
В тот же день появилась ещё одна бумага, касавшаяся Маяковского:
«1909 года, января 18 дня, я, московский градоначальник генерал-майор Адрианов, получив сведения, дающие основания подозревать дворянина Владимира Владимирова Маяковского в политической неблагонадёжности, руководствуясь § 24 высочайше утверждённого в 14 день августа 1881 года Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия, постановил: произвести у названного лица обыск, подвергнув его задержанию, впредь до выяснения обстоятельств дела, независимо от результатов обыска.
Генерал-майор Адрианов»
Квартиру, в которой проживал задержанный, обыскали. И обнаружили оружие:
«Револьвер „Браунинг“ № 330044 с заряженной обоймой».
«Браунинг» не револьвер, а пистолет, но так уж назвал его старший пристав, составлявший опись того, что было обнаружено при обыске.
Александре Алексеевне Маяковской пришлось давать объяснения – в том же протоколе:
«При обыске в принадлежащем мне сундуке, но незанятом и стоящем в общем коридоре, близ выходной парадной двери, оказался револьвер системы „браунинг“, кому принадлежит револьвер, я не знаю…».
Обнаруженный браунинг был грозной уликой. Александра Алексеевна и её дочери принялись думать, как им поступить. Помочь мог только их старый знакомый – Сергей Алексеевич Махмут-Беков, у которого багдадский лесничий Владимир Константинович Маяковский когда-то крестил дочь. Ещё недавно Махмут-Беков служил в Петербурге помощником начальника тюрьмы «Кресты», но после покушений на него перевёлся в Москву в почтовое ведомство.
Людмила Маяковская:
«Мы написали записку С.А. Махмут-Бекову и ждали его помощи».
А в квартире Маяковских 18 и 19 января была устроена засада, в которую попадали все, кто приходил. Об этом – протокол помощника полицейского надзирателя:
«Имею честь донести охранному отделению, что во время засады в д<оме> Бутюгиной по Долгоруковской ул., в кв. № 38 Маяковской, пришли и задержаны следующие лица:
В 5 час. дня 18-го числа пришёл в квартиру Иван Мартушевич Герулайтис (под кличкой «Горшок»)…
19-го числа, в 11 час. утра, пришёл Николай Иванович Хлёстов, ученик филармонического училища… В 2 часа пришёл помощник начальника Спб. одиночной тюрьмы Сергей Алексеевич Махмут-Беков.
Все упомянутые лица задержаны и препровождены в 1 участок Сущёвской части. При личном обыске у всех задержанных, кроме мелких записок, ничего не найдено».
Сергея Махмут-Бекова после проверки документов из Сущёвской части отпустили.
Вечером 19 января в квартире Маяковских задержали и Исидора Морчадзе, предъявившего паспорт на имя кутаисского дворянина Сергея Семёновича Коридзе. Его тоже отправили в Сущёвскую часть, откуда отпустили на следующий день. Документ на имя Коридзе никаких подозрений у полицейских почему-то не вызвал.
Николай Хлёстов о своём аресте потом написал:
«Однажды я пришёл домой и, как обычно, позвонил. Дверь мне открыл пристав. Меня тут же обыскали, допросили и без всяких причин отправили в Сущёвскую тюрьму».
Хлёстов оказался в одиночной камере. На следующее утро его перевели в другую, в которой он неожиданно встретил Владимира Маяковского:
«Мы оба очень обрадовались.
– Ага – говорит Володя – и тебя, Никола, тоже забрили… Ну меня-то ладно, не в первый раз, а вот тебя-то как же это захватили?
Я рассказал, что у них в квартире полиция устроила засаду, и всех, кто приходил, обыскивали и отправляли в тюрьму. Вот так и я попался. Володя присвистнул:
– Вот оно что! А я и не знал об этом… Меня-то утром на улице зацапали. Да… теперь, пожалуй, многих заберут. Только всё это без толку, я уверен, что у них выставлен условный знак: кого ищут, тех и не поймают. Останется полиция в дураках».
Как видим, Маяковский был уверен не только в себе, но и в своих родных, которые (установив «условный знак») помогали ему обмануть полицейских.
Арестантские будни
20 января Маяковский отправил записку сестре Людмиле:
«Дорогая Люда!
Арестовали меня в тот день, как я вышел из дому в 11 часов утра, на улице. Арестовали бог знает с чего, совершенно неожиданно схватили на улице, обыскали и отправили в участок. Сижу опять в Сущёвке, в камере нас 3 человека (всего политических 9). Кормят или, вернее, кормимся очень хорошо. Немедленно начну готовиться по предметам и, если позволят, то усиленно рисовать…
Целую всех вас крепко, поцелуй за меня маму и Олю, за меня не беспокойтесь, т. к. по новому делу привлечь меня не могут, ибо невиновен и чист аз есмь аки архангел. Поклон товарищам, пусть не забывают».
Собираясь продолжить подготовку к предстоявшим экзаменам, которые должны были состояться летом, Маяковский попросил сестру принести в тюрьму необходимые ему книги:
«Алгебру и геометрию Давидова, Цезаря, грамматику лат<инскую> Никифорова, немецкую грамматику Кейзера, немецкий словарь, маленькую книжицу на немецком языке Ибсена (она лежит у меня на полке), физику Краевича, историю русской литературы Саводника и программу для готовящихся на аттестат зрелости. Из книг для чтения следующие: психологию Челпанова, логику Минто, историю новейшей русской литературы (чья – не помню, она лежит у меня на столе), „Введение в философию“ Кюльпе, „Диалектические этюды“ Уитермана и „Сущность головной работы человека“ Дицгена. Все эти книги ты найдёшь у меня в комнате. Затем спроси, не найдётся ли у Владимира или Сергея 1-го тома „Капитала“ Маркса, „Введение в философию“ Челпанова и сочинения Толстого или Достоевского. Все эти книги принеси сама или попроси кого-нибудь принести мне в Сущёвку, приноси не все сразу, конечно, а понемногу».
Вскоре у арестованного Маяковского начались занятия, о которых Николай Хлёстов написал:
«Вечерами Володя долго сидел за книгами, которые по его просьбе доставляла ему Людмила Владимировна.
Читал «Капитал» Маркса. Надзиратель разрешил передать эту книгу в камеру, определив по названию, что «книга полезная». Читал Фейербаха, Дицгена».
Следственная работа тоже продолжалась.
Столбовой дворянин Маяковский снова решил разыграть из себя простачка-подростка, поскольку полагал, что он «чист аки архангел». И на первом же допросе (21 января) заявил:
«Ни к каким политическим партиям не принадлежу».
Но жандармский поручик Офросимов предъявил ему найденное в их квартире оружие и попросил дать объяснения. Пришлось отвечать:
«На предложенные мне вопросы отвечаю: пистолет системы „браунинг“, найденный во время обыска в нашей квартире, принесён, вероятно, кем-либо из приходивших ко мне моих знакомых. Но кем именно он принесён, я не знаю».
Следователи применили к Маяковскому накатанный приём: после первого допроса наступила продолжительная пауза. Им никто не интересовался, его никуда не вызывали. Могло вполне сложиться ощущение, что он вообще здесь никого не интересует.
Тем временем (28 января) к генерал-майору Адрианову поступила бумага:
«Его превосходительству
московскому градоначальнику
Бывшего помощника начальника
С.-Петербургских мест
заключения «Крестов»,
ныне чиновника 1-го разряда
Московского почтамта
Сергея Алексеевича Махмут-Бекова
Прошение
10 января я переехал из г. С.-Петербурга в г. Москву и остановился по Долгоруковской улице, в доме № 47, кв. 38, у вдовы бывшего лесничего Маяковского, Александры Алексеевны (с покойным мужем её я служил на Кавказе, который крестил мою старшую дочь), до приискания себе временной квартиры, до получения казённой. С очень маленькими детьми я не решился остановиться в гостинице. Наняв себе маленькую квартиру по Доброй слободке, в доме Дурновой № 25, переехал туда, причём оставив у Маяковской свой револьвер системы «Браунинг», свои бумаги и некоторые хозяйственные вещи».
Это заявление снимало с Маяковских все подозрения в незаконном хранении оружия. Но у каждого пистолета существовал номер, по которому легко было определить, кому он принадлежит. Махмут-Беков учёл и это:
«На ношение этого револьвера, номера которого я не помню (так как их у меня было не один), я имел право по должности до 15 января, а по переводе моём в Почтовое ведомство я просил тотчас же ходатайства московского почт-директора перед вашим превосходительством о разрешении мне ношения оружия ввиду угрожающей мне опасности со стороны революционеров (так как на меня были неоднократные покушения) и неудовольствия арестантов».
Интересная складывалась ситуация. Бывший тюремный охранник, который вызывал своим неласковым обхождением «неудовольствия арестантов», выливавшиеся в «неоднократные покушения», хлопотал за молодого человека, считавшегося членом «шайки грабителей».
Впрочем, Махмут-Беков не только хлопотал. Его бумага называлась «Прошением», а просьба у него была такая:
«Ввиду вышеизложенного, я решил беспокоить ваше превосходительство с покорнейшей просьбой приказать, кому следует, возвратить мне мой револьвер по моему адресу: Добрая слободка, д. № 25 Дурновой, кв. № 5.
Махмут-Беков.
28/1 – 1909 г.».
Послав на Почтамт запрос и убедившись в том, что Махмут-Беков в самом деле обращался за разрешением носить оружие, генерал-майор Александр Александрович Адрианов распорядился вернуть браунинг хозяину.
Тем временем заскучавший от отсутствия допросов Маяковский тоже составил прошение:
«В Московское охранное отделение
Содержащегося
при Сущёвском полицейском доме
Владимира Владимировича Маяковского
Заявление
Покорнейше прошу вас вызвать меня в Охранное отделение для дачи дополнительных показаний.
Владимир Владимирович Маяковский.
8 февраля 1909 года».
Но дни тюремного заключения тянулись, а на допросы его не вызывали.
И тут неожиданно возникли другие дела и заботы. Хлёстов пишет:
«В то время среди сидевших политзаключённых были люди намного старше Маяковского, сидевшие много раз в тюрьме, бывшие в ссылке. Тем не менее, они выбрали его старостой, и он очень хорошо выполнял эти обязанности: был настойчив, требователен, когда нужно, гремел своим басом на весь тюремный коридор.
Однажды нам принесли испорченную пищу. Он настоял, чтобы её переменили.
Маяковский сумел объединить заключённых: все наши решения принимались единодушно. Благодаря его настойчивости нам продлили время прогулок. Он ухитрился собирать политических в одну камеру, где я развлекал своих товарищей пением.
Иногда остроумной шуткой смешил надзирателей и заставлял их делать то, что ему было нужно.
Когда я спросил одного из надзирателей: «Почему вы его так слушаетесь?», надзиратель усмехнулся:
– Парень уж очень занятный, а голосина-то какой – ему бы начальником быть или командиром».
Прошение градоначальнику
Между тем Московская судебная палата разослала копии обвинительного акта всем, кто ожидал суда по делу о нелегальной типографии. Акт за номером 1071 получил пристав Петровско-Разумовского участка. Акты за номерами 1073 и 1075, предназначавшиеся Владимиру Маяковскому и его матери, вручены не были, так как адресатов по указанным адресам не оказалось.
Пристав Сущёвской части, тоже получивший акт, 20 января 1909 года ответил следователю судебной палаты:
«… уведомляю ваше высокоблагородие, что состоявший под надзором полиции по вверенному мне участку дворянин Владимир Маяковский из-под такового скрылся, по розыску его мною распоряжение сделано».
Приступил к розыску и пристав Петровско-Разумовского участка – он обратился в адресный стол. 24 января ему пришёл ответ:
«По сведениям Московского адресного стола… сын багдадского лесничего Владимир Владимирович Маяковский… 4 мая 1908 года выбыл в город Самару».
Копии обвинительных актов были тотчас отправлены в Самару, откуда 3 февраля ответили:
«В.В.Маяковский на жительстве в г. Самаре не значится».
Когда семью Маяковских всё-таки разыскали, от неё потребовали объяснений. Пришлось написать:
«В 3-й Уголовный департамент Московской судебной палаты
Людмилы Владимировны
Маяковской
Заявление
Ввиду того, что моего брата, Владимира Владимировича Маяковского, считают скрывающимся в городе Самаре, я, его сестра, заявляю, что он всё время жил с семьёй в гор. Москве, а летом в Соломенной Сторожке Петровско-Разумовского участка. В данное время он находится в Сущёвской части под стражей.
Л. Маяковская
10-го февраля
Москва. Долгопрудная ул.
д. № 47, кв. 38».
12 февраля мать Маяковского отправилась на приём к градоначальнику Москвы и подала прошение, начинавшееся так:
«Его превосходительству
господину московскому градоначальнику
Вдовы коллежского асессора
Александры Алексеевны Маяковской
Прошение
Мой муж прослужил 24 года на Кавказе и умер 3 года тому назад, будучи лесничим, и оставил меня без всяких средств с тремя учащимися детьми…».
Видимо, ещё не зная, что вопрос об обнаруженном в их квартире оружии уже решён, она объяснила, откуда появился браунинг:
«… владельцем его оказался мой кум, помощник начальника С-Петербургских мест заключения, Махмут-Беков, перешедший на службу в Москву и остановившийся на несколько дней у меня. Оказывается, переходя, он бросил револьвер в сундук, крикнув об этом мне, выходя, в дверях, но я, должно быть, за шумом перевозки не расслышала».
Но главным героем этого прошения был, конечно же, её сын, которого…
«… я определила в гимназию, откуда через год его пришлось взять по болезни (катар легких) и за отсутствием средств. Вот этого-то мальчика, ваше превосходительство, сына отца, беззаветно и безупречно прослужившего 24 года, ныне обвиняют в политических преступлениях».
Называя своего арестованного сына «мальчиком», Александра Алексеевна явно перегибала палку – ведь даже по словам околоточного надзирателя Пантелеймонова, её сыну было «на вид около 21 года». Впрочем, мать и дальше продолжала сильно лукавить, написав:
«Я не допускаю, чтобы мой сын был каким-либо организатором или членом какой-либо преступной партии. В прошлом году он случайно был задержан на квартире, в которой была засада, его арестовали, но скоро выпустили. Это обстоятельство послужило поводом к подозрению, и он всё время находился под надзором».
В конце письма о сидевшем в тюрьме Владимире Маяковском говорилось, что он всего лишь готовится к экзаменам «на аттестат зрелости» и зарабатывает «несчастные гроши» рисованием:
«Он пользуется пособием Министерства государственных имуществ, и если этот арест продлится, его могут лишить такового, тогда он погибнет без образования, даже среднего, так как я не имею средств даже для существования. Прибегая к вашей справедливости, я уверена, что ваше превосходительство своим судом накажет, если найдёт нужным, этого мальчика. Прикажите Охранному отделению отдать его на поруки мне, не высылая его из пределов Москвы (где он без семьи и средств погибнет), дайте нам возможность доказать, что мы люди исключительно труда, не принимающие никакого участия в каком-либо преступном деянии.
Александра Маяковская
12 февраля 1909 г.
Москва, Долгоруковская улица, д. 47, кв. 38».
Эти слова Александры Алексеевны Маяковской очень сильно расходятся с её воспоминаниями советских времён, в которых она описывает своего сына отважным, убеждённым и напористым революционером-подпольщиком. Но ведь Владимир Маяковский таковым не был. Он безумно боялся расстаться с жизнью из-за случайного булавочного укола, поэтому беззаветной храбростью никогда не отличался. Никто из его современников не говорил о существовании у него такого геройского свойства.
Между тем, московский градоначальник был в курсе дела арестованной «шайки грабителей» (Маяковского и его товарищей) – об этом свидетельствует письмо, направленное им на следующий день в Санкт-Петербург в Департамент полиции (наш герой упомянут в нём самым первым):
«Прошу ходатайства <о> продлении срока ареста Владимиру Маяковскому, Ивану Герулайтису, Григорию Петрову, Василию Долгову, Александру Петрову, арестованным 18 января партии грабителей.
Генерал-майор Адрианов
13 февраля 1909 г.»
В тот же день из Санкт-Петербурга в Москву пришла телеграмма за № 376:
«Продление срока ареста министром разрешено впредь до разрешения вопроса о высылке арестованных».
16 февраля об этом объявили Маяковскому.
Впрочем, прошение Александры Алексеевны тоже не было забыто – Владимир Фёдорович Модль, помощник градоначальника, отправил его в Охранное отделение со словами:
«Прошу справку. Срочно».
Такая справка была подготовлена. Вот она:
«Маяковский Владимир Владимиров арестован с 18 января ввиду сношения с анархистами-грабителями, содержится в Сущёвском полицейском доме; всех задержанных по этому делу 6 человек и содержатся они под стражей до выяснения обстоятельств дела, вызвавших их задержание.
17 февраля 1909 г.».
На справке написано:
«К сведению, сообщить просительнице, что до выяснения дела об освобождении хлопотать нечего».
«Шайка грабителей» состояла из четырех эсеров («Шпиля», «Горшка», «Котла», «Блина») и эсдека «Скорого» (Маяковского). Шестым «грабителем» считался, надо полагать, «саратовский жилец» Николай Хлёстов, который потом вспоминал:
«В тюрьме Володя любил читать вслух стихи Некрасова, Алексея Толстого и читал их очень своеобразно, разбивая каждое слово, делая всевозможные комбинации. Например, стихи А.Толстого «Да здравствуют тиуны – опричники мои» он читал примерно так:
– Да, да… д…а
– да здра… да здра… да здравствуют…
– да здравств… уют
– уютт…уютт…
При этом он был очень сосредоточен, внимательно слушал, как звучит каждый слог, каждый звук. Он настолько увлекался своим чтением, что не слышал, когда я его о чём-нибудь спрашивал. Меня удивляло такое чтение, и я спросил:
– Зачем ты так уродуешь слова?
Он сердился:
– Ты ничего не понимаешь, а мне это очень нужно».
Внезапное освобождение
16 февраля Маяковского ознакомили с документом, в котором говорилось, что его тюремное заключение будет длиться «впредь до разрешения вопроса о высылке». Эти слова звучали как предупреждение. Предупреждение очень серьёзное! Власть недвусмысленно заявляла, что нарушение законов Российской империи карается очень сурово.
Почувствовал ли это Маяковский?
Сведений об этом, к сожалению, не сохранилось. В автобиографических заметках, написанных в 1922 году, сложившаяся ситуация обрисована так:
«Взяли револьвер. Махмудбеков, друг отца, тогда помощник начальника Крестов, арестованный случайно у меня в засаде, заявил, что револьвер его, и меня выпустили».
А как же остальные «грабители»?
Хлёстова тоже освободили. Остальные четверо получили разные сроки ссылки. Суровей всего наказали Ивана Герулайтиса. В полиции дознались, что паспорт у него чужой. Но так как назвать свою настоящую фамилию он категорически отказался, следователи решили, что перед ними – крупный государственный преступник. Под суд Герулайтиса отдали как бродягу, и его выслали в Туруханский край.
В справке, выданной Охранным отделением пятнадцатилетнему эсдеку, сказано:
«27 февраля сего года Маяковский был освобождён из-под стражи без всяких для него последствий».
Выходит, снова повезло? Вроде бы, да. Хотя и пришлось провести за решёткой чуть больше месяца.
28 апреля 1909 года Маяковского вызвали в полицейский участок и вручили копию обвинительного заключения по делу о подпольной типографии. В нём обвиняемым вменялось:
«… насильственное посягательство на изменение в России… установленного законами основными образа правления путём вооружённого восстания».
Обвинение по тем временам очень серьёзное.
В «Повестке», приложенной к копии обвинительного акта, говорилось:
«… объявляется вам: 1) что в семидневный срок со дня вручения вам упомянутой копии вы обязаны донести до сведения палаты, избрали ли вы кого-либо себе защитником и не желаете ли, чтобы какие-либо лица, сверх указанных в предъявленном вам списке, были вызваны в качестве свидетелей и по каким именно обстоятельствам…»
Сохранилась расписка:
«1909 года мая 1 дня обвинительный акт и список получил В.В.Маяковский».
В тот же день (1 мая) в Петербурге завершился процесс по делу бывшего директора Департамента полиции Алексея Александровича Лопухина, обвинённого в государственной измене (выдаче партии эсеров факта служения полиции их лидера Евно Азефа). Лопухин был осужден на 5 лет каторжных работ с лишением всех прав состояния. Впрочем, Сенат, рассмотрев апелляционную жалобу, заменил каторгу ссылкой в Минусинск.
А Маяковский стал готовиться к предстоящему суду. Сестра Людмила писала:
«Нужно было заботиться о защитнике, я обратилась к партийным товарищам Володи и получила два адреса юристов, которые бесплатно защищали революционеров. Я обратилась к Лидову. Он принял меня сердечно, внимательно выслушал и сказал: „Ничего, не беспокойтесь, выцарапаем по малолетству“».
4 мая Маяковский уведомил судебную палату:
«Довожу до сведения 3-го уголовного департамента Московской судебной палаты, что защитником своим я избрал Петра Петровича Лидова… Вызывать же дополнительных свидетелей не желаю».
Вручив судьям эту бумагу, Маяковский – вновь вместе с матерью и сёстрами – с энтузиазмом принял участие в очередной революционной акции.
А россияне в это время читали и перечитывали стихотворение поэта-символиста Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева), названное «Пепел, Россия, отчаянье» и посвящённое Зинаиде Гиппиус:
«Довольно: не жди, не надейся —
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!
Века нищеты и безволья.
Позволь же, о родина-мать,
В пустое, сырое раздолье,
В раздолье твоё прорыдать…
Туда, – где смертей и болезней
Лихая прошла колея, —
Исчезни в пространстве, исчезни,
Россия, Россия моя!»
Глава шестая Бунтарство и охранка
Побег каторжанок
Через несколько дней после того, как рытьё подкопа под Таганскую тюрьму было прекращено, к Исидору Морчадзе пришёл незнакомый ему человек, назвавшийся Василием Калашниковым, и принёс письмо от Елизаветы Матье, сидевшей в Новинской тюрьме.
Новинская женская каторжная тюрьма находилась на Новинском бульваре Москвы. Тринадцать революционерок-подпольщиц, приговорённых за терроризм к каторжным работам, дожидались в ней высылки по этапу. Елизавета Андреевна Матье, осуждённая на четырёхлетнюю каторгу, была одной из них. От имени всех сидевших с нею каторжанок она просила организовать им побег.
Исидор Морчадзе, уже привыкший откликаться на своё новое имя – Сергей Коридзе, впоследствии писал:
«Здесь положение было более серьёзное и сложное. Разгул реакции был настолько громадный, что всё это отражалось первым делом на тюрьмах, на политических узниках.
Дело дошло до того, что каторжанки женской Новинской тюрьмы решили в знак протеста против издевательств над ними применить массовое самоубийство. Получив такое письмо от них, мы все, их друзья на воле, заволновались, конечно, и, чтобы не случилось этого, решили ободрить их всех обещанием побега, не имея для этого ничего на руках».
Сначала заключённые (девять эсерок, четверо социал-демократок, двое анархисток и двое беспартийных) сидели в камере, где вместе с ними находились две уголовницы с дочерьми 3 и 4 лет. Через какое-то время в камере осталось тринадцать каторжанок.
Руководство партии социалистов-революционеров больше всего беспокоила судьба 24-летней Натальи Сергеевны Климовой, члена исполнительного комитета Боевой организации эсеров-максималистов. За участие в подготовке и проведении взрыва на даче Петра Аркадьевича Столыпина 12 августа 1906 года она была приговорена к смертной казни через повешенье, которую ей заменили бессрочной каторгой. Для руководства делом освобождения каторжанок (и Климовой – в первую очередь) в Москву из заграницы прибыл представитель Центрального комитета партии эсеров. Морчадзе и Калашников, которым было поручено организовать побег, звали его «генералом».
Морчадзе писал:
«После долгих усилий и проектов наконец был выработан план побега… Он заключался в следующем. При помощи Тарасовой (надзирательница тюрьмы, помогавшая бежать заключённым), запасаемся своими ключами от тюремной камеры № 8, в которой сидели каторжанки, а также ключом от конторы, через которую нужно было пройти бежавшим. Посредством неё же переправляем в тюрьму платье, деньги и всё прочее, необходимое для побега».
Других надзирательниц предполагалось усыпить, угостив их специально принесённым тортом со снотворным. Ивана Фёдорова, единственного мужчину надзирателя, было решено напоить пивом (со снотворным же).
Исидор Морчадзе:
«В то время я не жил у Маяковских из конспиративных соображений, но все они, Маяковские, были посвящены в мои планы, вся семья Маяковских, включая и Володю, помогала мне».
Ситуация вновь на удивление парадоксальная. Ещё совсем недавно Александра Алексеевна Маяковская писала в прошении московскому градоначальнику: «… мы люди исключительно труда, не принимающие никакого участия в каком-либо преступном деянии». И вот теперь вся её семья помогала готовить побег уголовных преступниц, виновных в смерти многих людей, в том числе совершенно невинных. Среди собравшихся бежать террористок двое были приговорены к смертной казни через повешенье, заменённой бессрочной каторгой.
Участие в этой опаснейшей затее подпольщиков вполне могло стать для Володи Маяковского той булавкой, о которую совершенно случайно укололся его отец. Безумно боясь заразиться смертельно опасным микробом, Маяковский практически перестал обмениваться рукопожатиями, двери открывал рукой, засунутой в карман пиджака, и стал очень тщательно мыть руки. Однако антиправительственная деятельность так сильно манила своей романтичностью, что отказаться от участия в ней он не мог. К тому же ему казалось, что он научился искусно заметать следы. Но коварная «булавка» караулила его чуть ли не на каждом шагу.
Подготовка к побегу была в самом разгаре, когда Морчадзе принесли записку от каторжанок, которые…
«… требовали назначить побег в ночь на 1 июля 1909 г. и сообщали, что у них есть сведения, что после 1 июля 1909 г. внутренний распорядок тюрьмы меняется, и этим надолго, если не навсегда, отодвигается побег.
До первого числа оставалось всего два дня, и вот за эти два дня нужно было успеть всё сделать: заготовить собственные тюремные ключи, платье, деньги и технически выполнить план».
Началась лихорадочная и даже (по словам Морчадзе) «прямо головокружительная» работа.
Людмила Маяковская:
«К нам принесли коричневые гимназические платья для образца и переделки и тонкий материал для пошивки платьев и передников будущим беглянкам. Мама, сестра и я вечерами и по ночам торопливо шили и переделывали, из предосторожности предварительно закрыв двери комнаты. В комнате Володи смолили канат. По квартире распространялся запах смолы, что могло возбудить подозрение, и сильно нас беспокоило».
Готовые платья через надзирательницу Тарасову направлялись («частями – на теле») в тюрьму. Вместе с платьями доставлялись деньги, адреса квартир, где предстояло прятаться беглянкам, и всё прочее, необходимое для побега.
Исидор Морчадзе:
«Володя рвался мне на помощь, умоляя использовать его для этого дела. Я, конечно, использовал его и давал ему разные поручения, которые он добросовестно исполнял. Но в ночь побега я его не мог использовать в качестве проводника бежавших каторжанок, ибо его слишком большой рост мог привлечь внимание, и было рискованно и неконспиративно».
Наступила ночь с 30 июня на 1 июля 1909 года.
Согласно плану, Василий Калашников и Сергей Усов напоили в пивной надзирателя Фёдорова, да так, что тот (по словам Исидора Морчадзе):
«… едва ушёл к себе в тюрьму».
Но и Калашников с Усовым тоже были пьяны, так что пришлось…
«… откачивать их нашатырным спиртом и холодным компрессом».
Когда организаторы побега подошли к тюрьме, возле неё они увидели городового, который никуда уходить не собирался. Тогда к нему, покачиваясь, с бутылкой в руках, отправился Василий Калашников. Подойдя к городовому, он принялся доставать что-то из кармана брюк, и на землю посыпались золотые и серебряные монеты. Расстроившийся Калашников попросил стража порядка помочь ему поднять рассыпанное, пообещав дать в награду половину собранных денег. Городовой бросился собирать.
А каторжанки были уже полностью готовы к побегу. Усыплённые надзирательницы крепко спали. Одна из беглянок, Екатерина Дмитриевна Никитина-Акинфеева (6 лет каторги), потом вспоминала:
«Когда выходили, зазвонил телефон у стола дежурной надзирательницы. Климова сняла трубку и голосом дежурной откликнулась. Говорил обер-полицеймейстер:
– У нас есть сведения, что в Новинской тюрьме готовится побег. Примите меры!
– Ваше приказание будет выполнено, ваше превосходительство!»
Когда подошли к выходной двери, возникло новое препятствие, которое Никитина описала так:
«У железной двери – смертная черта: ключ к ней не примеряли и не знали – подойдёт ли, отворит? Тарасова вкладывает ключ в скважину… раз, другой – не цепляет! В третий раздается отчаянный скрежет и одновременно её возглас:
– Боже мой, всё пропало!
– Что вы, опомнитесь, замолчите! – Гельма вырвала у неё ключ, энергичный поворот – и дверь открыта!»
Гельма – это Вильгельмина Гергардовна Ольденбург (15 лет каторги).
Беглянки покинули тюрьму.
А городовой всё ещё продолжал собирать рассыпанные деньги.
Исидор Морчадзе:
«Побег прошёл блестяще…
Для поимки беглянок была поставлена на ноги не только Москва, но вся полицейско-жандармская Россия; за поимку каждой беглянки была обещана награда в 5 000 рублей. Охранка и полиция совсем потеряли голову».
Ещё бы! Побега такой большой группы революционеров, осуждённых на долгосрочную каторгу, да ещё исключительно женщин, в России не было ни до, ни после. Из бежавших задержать удалось только троих и то случайно. Как писал Владимир Джунковский:
«… постовому городовому показались подозрительными мужчины с женскими голосами, и он задержал их и препроводил в участок. Остальные очутились за границей, откуда год спустя, ко дню св. Пасхи, они прислали депешу в тюремную инспекцию с приветом: «Христос воскресе»».
Исидор Морчадзе:
«… на другой день после побега, прочтя в газетах о совершённом побеге и о том, что полиция объявила пять тысяч рублей награды за поимку каждой беглянки или указание квартиры с беглянкой, Володя, поняв серьёзность положения, бросился ко мне на помощь».
Маяковский отправился на квартиру, где жила жена Морчадзе, художница Елена Алексеевна Тихомирова. На всякий случай (для конспирации) он взял с собой рисовальные принадлежности (краски, кисти, бумагу).
Знал бы Маяковский, что в эту квартиру идти ему было нельзя ни в коем случае!
Полицейская засада
Когда Исидор Морчадзе, надёжно устроив группу беглянок на конспиративной квартире в Подмосковье, вернулся в Москву, то обомлел – город кишмя кишел сыщиками-филёрами и городовыми с винтовками. Спешно уничтожив находившиеся в карманах «компрометирующие записки», Морчадзе отправился на квартиру жены:
«Квартира была полна полицейскими охранниками всех чинов и рангов, во главе с полицеймейстером Золотарёвым. Со всех сторон раздались обрадованные крики: „Пожалуйте, мы вас ждём!“ Несколько агентов Охранного отделения набросились на меня и начали обыскивать».
Генерал-майор Вениамин Николаевич Золотарёв в квартире Елены Тихомировой оказался не случайно – власть демонстрировала свою оперативность. Ведь ей было известно о готовившемся побеге из сообщений филёров и доносов агента, внедрённого в команду Исидора Морчадзе. Сети для поимки были расставлены именно там, где в них попались практически все, кто имел отношение к этому делу. В том числе и пришедший сюда Владимир Маяковский.
Протокол его задержания гласит:
«1909 года, июля 2 дня, 3 уч<астка> Мещанской ч<асти> помощник пристава поручик Якубовский, находясь в засаде, по поручению Охранного отделения, задержал в доме Локтевых по 1 Мещанск. ул. в кв. № 9, явившегося в ту квартиру в 1 час 20 м. воспитанника императорского Строгановского училища, дворянина Владимира Владимирова Маяковского, 15 лет от роду, живущего при матери в д. 47 Бутюгиной, кв. 38, 1 уч. Сущёвской ч. При личном обыске у него найдена записка с адресом Лидова, каковая при сём прилагается, другого ничего не оказалось. Спрошенный Маяковский объяснил, что он пришёл к проживающей в кв. № 9 дочери надворного советника Елене Алексеевне Тихомировой рисовать тарелочки, а также получить какую-либо другую работу по рисовальной части. О чём и составлен сей протокол.
Подлинный за надлежащим подписом».
В записке, которую обнаружили при обыске, был адрес Петра Петровича Лидова, которого, как мы помним, Маяковский выбрал своим защитником на будущем суде.
Протокол, составленный поручиком Якубовским – документ официальный, поэтому он по-деловому сух. А воспоминания Исидора Морчадзе о том же июльском дне, написанные годы спустя, достаточно эмоциональны:
«Звонок. Входит Володя, сразу поняв, что попал в засаду полиции. Ведёт себя вызывающе, издевательски, зло смеётся и подтрунивает над полицией…
Попавшие в засаду сидят за столом, в числе их сижу и я. Полиция приглашает Володю к столу. Начинается его допрос.
Вдруг он быстро встаёт, вытягивается во весь рост и издевательски шутливым тоном говорит приставу, который пишет протокол дознания:
– Пишите, пишите, пожалуйста: я, Владимир Владимирович Маяковский, пришёл сюда по рисовальной части (при этом он кладёт на стол все рисовальные принадлежности, как-то: краски, кисти и т. д.), а я, пристав Мещанской части, нахожу, что виноват Маяковский отчасти, а посему надо разорвать его на части!
Этот каламбур, сказанный экспромтом, вызывает у всех присутствующих взрыв хохота».
Маяковский не просто насмехался над полицейскими, он использовал для своей насмешки рифмованные фразы, на что Исидор Морчадзе обратил особое внимание:
«Владимира Владимировича Маяковского я хорошо знал, любил и уважал, как чистого, искреннего и стойкого революционера, но ни я, и никто другой не замечал за ним никакого поэтического таланта. Поддерживая с ним самые тесные отношения, я всегда ему напоминал и подчёркивал, что свою поэтическую карьеру он начал именно этим каламбуром, сказанным экспромтом. Поэт вполне со мной соглашался. И об этом мы вспоминали много, много раз».
Юный подпольщик «товарищ Константин», видимо, вновь самонадеянно полагал, что, поскольку он (как ему казалось) дважды сумел обвести вокруг пальца жандармов Охранного отделения, обмануть простых полицейских большого труда ему не составит.
Однако на этот раз за арестованного эсдека взялись по-настоящему. Сначала его доставили в полицейский дом Мещанской части, где предъявили официальную бумагу:
«1909 года, июля 1 дня, я, московский градоначальник, получив сведения, дающие основания признать дворянина Владимира Маяковского вредным для общественного порядка и спокойствия, …постановил: означенного Маяковского впредь до выяснения обстоятельств дела заключить под стражу…».
На документе – фраза:
«Настоящее постановление мне объявлено. Маяковский».
Обратим внимание, что и на этот раз Маяковский попал в засаду совершенно случайно – он сам пришёл в эту квартиру, никто его сюда не звал! Останься он дома, никакого задержания не произошло бы. Хотя о том, что он был одним из сподвижников Морчадзе, охранке было известно из донесений агентов и филёров.
Новые задержания
Вскоре в квартиру, где жил Маяковский, нагрянула полиция. В ордере, предъявленном его матери, говорилось:
«… произвести самый тщательный и всесторонний обыск у студ. Строганов, училища Владимира Владимирова Маяковского.
Обыскиваемый уже задержан».
В протоколе обыска значилось:
«1909 года, 2 июля, в г. Москве, помощник пристава 3 участка Сущёвской части Бунар… прибыл в 3 часа пополудни в дом № 47 Бутюгиной, по Дорогомиловской улице, в квартиру № 38, занимаемую вдовой коллежского асессора Александрой Алексеевной Маяковской, произвёл обыск в комнате, занимаемой родным сыном квартирной хозяйки, учеником Строгановского училища Владимиром Владимировым Маяковским».
Среди тех, кто находился в квартире, но не был в ней прописан, оказался и…
«… вольнослушатель Сельскохозяйственного института, потомственный дворянин Лев Николаевич Яковлев, который заявил, что… в квартиру Маяковских пришёл несколько минут тому назад к своему товарищу Владимиру Маяковскому (при личном обыске у Яковлева ничего не оказалось)…».
Впрочем, и документов, которые могли бы удостоверить его личность, у Яковлева не было.
Обыск в комнате Маяковского тоже ничего не дал. И помощник пристава записал:
«В комнате, занимаемой Маяковским, никаких предметов, свидетельствующих о принадлежности его к преступному сообществу, не оказалось, о чём положено записать в протокол…».
Есть в том протоколе одно небольшое, но весьма любопытное дополнение:
«… назвавший себя вольнослушателем Сельскохозяйственного института Львом Николаевичем Яковлевым, во время составления протокола, по окончании обыска, бежал из квартиры, но был задержан помощником надзирателя Седуном, который шёл навстречу бежавшему по двору от телефона в квартиру, и за Яковлевым гнались дворники, находившиеся понятыми при обыске – Иван Солохин и Семён Губанов».
Лев Яковлев был одним из тех, кто участвовал в подготовке побега из Новинской тюрьмы, и к Маяковскому пришёл для того, чтобы передать изготовленную копию ключа от тюремной двери. Но лишь только он отдал его Александре Алексеевне, как в квартире появилась полицейские, и ей пришлось всё время, пока производился обыск, сжимать ключ в кулаке.
У Яковлева нервы не выдержали, и он бросился бежать, но был пойман и отправлен в Охранное отделение.
А стойкая Александра Алексеевна выбросила злополучный ключ (когда появилась возможность) в пруд Петровско-Разумовского парка.
Из справки Охранного отделения, в которой перечислялись задержанные по этому делу, следует, что побег каторжанок организовали эсеры, и только Маяковский был социал-демократом.
3 июля жандармский ротмистр Озеровский допросил Маяковского, предложив ему отвечать письменно. Тот написал:
«На предложенные мне вопросы отвечаю: 2 июля сего года около 1 часа 20 мин. дня я пришёл к Елене Алексеевне Тихомировой просить работы по рисованию, так как знал, что там могу найти работу. С проживающим у госпожи Тихомировой Сергеем Семёновичем Коридзе я знаком, познакомился я с ним у госпожи Сиверс – зубного врача…
О побеге из Московской женской тюрьмы заключённых я знаю из газет, других сведений о побеге не имею. Из заключённых в Московской женской тюрьме я никого не знаю».
Так как среди организаторов побега был агент полиции (Сергей Усов), Охранное отделение знало об этой акции если не всё, то очень многое. Поэтому и полицеймейстер звонил дежурной надзирательнице, и к самой тюрьме был послан взвод полицейских, чтобы схватить беглянок. Побег прошёл столь блестяще лишь потому, что был совершён на два часа раньше намеченного срока. Так что то, что Маяковский своё участие в этом деле категорически отрицал, не помешало московскому градоначальнику в письме министру внутренних дел написать:
«Владимир Маяковский знал заранее о готовившемся побеге и обещал свою помощь по дальнейшему устройству беглянок, но на другой же день после побега был арестован в квартире выше упомянутого Сергея Коридзе; во время производства обыска у Владимира Маяковского к нему пришёл и был арестован вышеупомянутый Лев Яковлев».
И вновь возникает необъяснимая странность! Просто невероятно, что в арестованном дворянине Сергее Коридзе жандармы не узнали Исидора Морчадзе! Ведь всех без исключения задержанных тогда фотографировали – ещё со времён Зубатова. И те сотрудники охранки, которые вели дело отправленного в Сибирь эсера Морчадзе, тоже ещё служили. Как же могли его не опознать?
А вот другому дворянину, Владимиру Маяковскому, обмануть следователей не удалось. И потянулись долгие дни, а потом недели и месяцы тюремного заключения.
Третья «сидка»
В первом варианте автобиографических заметок, написанных в 1922 году, главка, которая рассказывает о побеге из Новинской тюрьмы, называется «ТРЕТИЙ АРЕСТ». Во втором варианте, отредактированном в 1928 году, та же главка названа иначе – «ВТОРОЙ АРЕСТ».
Зачем Маяковскому понадобилось уменьшать количество собственных арестов? Вот вопрос, на который стоит поискать ответ!
А пока проследим, как события развивались дальше. Из Мещанского полицейского дома Маяковского перевели в полицейский дом Басманной части, а 14 июля отправили в отдельную камеру Мясницкого полицейского дома.
Владимир Вегер-Поволжец, в тот момент тоже находившийся в заключении, вспоминал о встречах с Маяковским в тюрьме:
«У нас были прогулки общего характера, причём встречались все арестованные во внутреннем дворе. На одной из таких прогулок у нас встал вопрос о выборе старосты. Маяковский проявил себя как организованный парень, и его выбрали. В его обязанности входило наблюдение за варкой пищи и т. п., а главным образом, связь с волей и соответствующие информации о том, что делается там, кто как ведёт себя на допросах, нет ли измены, нет ли предательства.
О его кандидатуре сначала была договоренность среди немногих. В тюрьме сидели не только большевики. Большевики должны были поставить старостой своего надёжного товарища. Кандидатура Маяковского была одобрена мной как членом МК.
Во всё время, которое мы здесь находились, он оставался в должности старосты».
Кроме работ, связанных с должностью старосты, у Маяковского были другие занятия, о которых Владимир Вегер написал:
«Его камера оказалась рядом с моей в Мясницком доме…
Он занимался в это время живописью и добился разрешения у надзирателя, чтобы ему позволили приходить ко мне в камеру – писать меня. И со своей акварелью, с бумагой переводился иногда на несколько часов ко мне в камеру.
Он сажал меня на подоконник, под ноги мне шла табуретка. Писал он меня преимущественно синей акварелью. В общем, виден был бюст и даже ноги на табуретке.
Я садился на значительном расстоянии от стены, он отходил к двери, ему хотелось, чтобы за спиной натуры получился отчётливо фон решётки. Рисунок сделан карандашом и потом разделан акварелью.
Во время этих сеансов обыкновенно присутствовал надзиратель (во избежание разговоров), сидел, чтобы не было незаконных разговоров между арестованными. Но мы разговаривали, говорили невинные, нейтральные вещи».
В рассказе Вегера есть небольшая неточность – он написал, что «заниматься живописью» Маяковскому разрешил тюремный надзиратель. Надзиратель не имел права разрешать заключённому ходить по чужим камерам и рисовать портреты арестантов – это было бы грубейшим нарушением тюремного режима. Позволить «заниматься живописью» могли лишь жандармские офицеры. Именно к ним должен был обратиться Маяковский за разрешением. И он обращался, об этом свидетельствуют документы:
«В Московское охранное отделение
Содержащегося
при Мясницком полиц<ейском> доме
Владимира Владимировича Маяковского
Прошение
Ввиду того, что мне необходимо продолжать начатые занятия, покорнейше прошу вас разрешить мне пропуск необходимых для рисования принадлежностей.
Владимир Владимирович Маяковский.
16 июля 1909 г.»
Жандармы «прошение» рассмотрели, дали «добро» и написали:
«Секретно.
Смотрителю Мясницкого
полицейского дома
Вследствие прошения, содержащегося во вверенном вам полицейском доме Владимира Владимирова Маяковского, Отделение уведомляет ваше высокоблагородие, что к пользованию Маяковским рисовальными принадлежностями препятствий со стороны отделения не встречается.
За начальника отделения ротмистр Озеровский».
Получив такую бумагу, начальник тюрьмы и приказал надзирателю заняться тем, чем ему полагалось заниматься по долгу службы – надзирать, то есть вести за арестантами наблюдение.
Но вернемся к воспоминаниям Вегера-Поволжца:
«Интересно, что в этот период у него не было никакого особого интереса к поэзии. Больше того, надо сказать, что живописью он увлекался колоссально. Все время карандашик, зарисовочки, стремление набросать товарищей. И уже акварелью работал. Были у него итальянские карандаши и акварель. Но к поэзии у него не проявлялось интереса…
Первый случай разговора о поэзии у меня с ним был в это время относительно Бальмонта. Я ему прочитал из Бальмонта одну вещь. И на эту вещь он откликнулся совершенно определенно:
– Вот сукин сын, реакционер!
Ему бросился в глаза реакционный характер этого произведения:
Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды!
Там дальше есть такое место:
И смерть, как жизнь, прекрасна!
Это особенно возмутило Маяковского, то есть это же тухлятина, гадость какая. Такое вот отношение было.
А форма его совершенно не интересовала, об этом он не говорил. Говорил только о содержании произведения, которое носит явно реакционный характер».
Вспомним это стихотворение Константина Бальмонта – «Тише, тише». Заканчивается оно так:
«Дети солнца, не забудьте голос меркнущего брата,
Я люблю в вас ваше утро, вашу смелость и мечты,
Но и к вам придёт мгновенье охлажденья и заката, —
В первый миг и в миг последний будьте, будьте, как цветы.
Расцветайте, отцветайте, многоцветно, полновластно,
Раскрывайте всё богатство ваших скрытых юных сил,
Но в расцвете не забудьте, что и смерть, как жизнь, прекрасна,
И что царственно величье холодеющих могил».
Ничего «реакционного» в этих бальмонтовских строках нет. В них поэт просит идущих ему на смену юных стихотворцев, не быть заносчивыми и жестокими по отношению к «развенчанным великим»:
«Победитель благородный с побеждённым будет равен, С ним заносчив только низкий, с ним жесток один дикарь».
Бальмонт словно предчувствовал, что нечто подобное вскоре произойдёт и с ним, поэтому заклинал «победителей благородных» не делать того, на что способны лишь «низкие» и «дикари».
Тюремные будни
В конце июля 1909 года московский градоначальник обратился в Департамент полиции с просьбой о продлении срока заключения арестованным по делу о побеге каторжанок. Санкт-Петербург дал согласие. И в Охранном отделении Москвы был составлен следующий документ:
«1909 года, июля 26 дня, я, отдельного корпуса жандармов ротмистр Озеровский, ввиду полученного уведомления директора Департамента полиции, изложенного в телеграмме от 25 сего июля за № 1842, на имя московского градоначальника, о том, что его высокопревосходительство министр внутренних дел… разрешил продлить срок содержания под стражей находящемуся под арестом в Мясницком полицейском доме Владимиру Владимирову Маяковскому, впредь до разрешения вопроса о высылке, постановил: объявить об изложенном вышепоименованному Маяковскому под его собственноручную расписку на настоящем постановлении.
Ротмистр Озеровский».
Расписка:
«Настоящее постановление мне объявлено июля 28 дня 1909 года.
В. Маяковский».
1 августа 1909 года московский градоначальник доложил министру внутренних дел, что из восьмерых арестованных по делу о побеге каторжанок…
«… судебным следователем Московского окружного суда по особо важным делам Рудневым в качестве обвиняемых пока привлечены: Коридзе, Василий Калашников, Усов и Фёдоров».
Как видим, вёл это дело всё тот же следователь Тихон Дмитриевич Руднев, знакомый нам по предыдущим делам Маяковского. К двум главным организаторам побега были добавлены эсер Сергей Усов (агент полиции) и напоенный им пивом со снотворным тюремный надзиратель Иван Фёдоров. Кроме того (если судить по фамилиям обвиняемых), жандармам вновь не удалось дознаться, что главный обвиняемый Сергей Коридзе – это Исидор Морчадзе, бежавший из туруханской ссылки.
Послание министру внутренних дел завершалось так:
«Принимая во внимание, что настоящий побег, совершённый в местности, находящейся в состоянии усиленной охраны, по дерзости исполнения, участию лиц, принадлежавших к составу тюремного надзора, и особенно по личности бежавших (террористки) обращает на себя особое внимание как имеющий исключительно политическое значение, ходатайствую перед вашим высокопревосходительством о передаче этого дела… на рассмотрение военно-окружного суда для суждения виновных по законам военного времени.
Генерал-майор Адрианов».
7 августа 1909 года Маяковскому вручили повестку, в которой сообщалось, что 9 сентября над ним состоится суд. Но судить его будут не за побег каторжанок, а за тайную типографию социал-демократов.
В ожидании суда «товарищ Константин» не только рисовал и «невинно» беседовал с заключёнными натурщиками о совершенно «нейтральных вещах», но и частенько вступал в перебранки с надзирателями. И 17 августа тюремный смотритель Серов, возмущённый дерзким непослушанием молодого арестанта, подал рапорт по начальству:
«Секретно.
Содержащийся под стражею при вверенном мне полицейском доме… Владимир Владимиров Маяковский своим поведением возмущает политических заключённых к неповиновению чинам полицейского дома, настойчиво требует от часового служителя свободного входа во все камеры, называя себя старостой арестованных: при выпуске его из камеры в клозет или умываться к крану не входит более получаса в камеру, прохаживается по коридору.
На все мои просьбы относительно порядка Маяковский не обращает внимания.
С получением повестки 7 сего августа Московской судебной палаты, коей он вызывается в палату в качестве обвиняемого по 1 ч. 102 ст. Угол. Улож., Маяковский более усилил свои неосновательные требования и неподчинения.
16 сего августа в 7 часов вечера был выпущен из камеры в клозет, он стал прохаживаться по коридору, подходя к другим камерам и требуя от часового таковые отворить. На просьбы часового войти в камеру – отказался, посему часовой, дабы дать возможность выпустить других поодиночке в клозет, стал убедительно просить его войти в камеру. Маяковский, обозвав часового «холуем», стал кричать по коридору, дабы слышали все арестованные, выражаясь: «Товарищи, старосту холуй гонит в камеру», чем возмутил всех арестованных, кои, в свою очередь, стали шуметь.
Сообщая об этом Охранному отделению, покорнейше прошу не отказать сделать распоряжение о переводе Маяковского в другое место заключения, при этом присовокупляю, что он и был ко мне переведён из Басманного полицейского дома за возмущение».
На этом документе – резолюция начальства:
«17/VIII. Перевести в Пересыльную тюрьму в одиночную камеру…».
18 августа Маяковского перевели в Центральную пересыльную тюрьму, находившуюся в Бутырках и славившуюся своим строгим режимом.
В «Я сам» об этом сказано так:
«Сидеть не хотел. Скандалил. Переводили из части в часть – Басманная, Мещанская, Мясницкая и т. д. – и наконец – Бутырки. Одиночка № 103».
Всю оставшуюся жизнь Маяковский недолюбливал это число – «103», и однажды в театре (много лет спустя), увидев на номерке эти три цифры, вернулся в раздевалку и попросил перевесить его пальто на другой номер.
Что же касается автобиографических заметок, то они вызывают вопросы. Главка, в которой рассказывается о Бутырской тюрьме, названа «11 БУТЫРСКИХ МЕСЯЦЕВ». А ведь выяснить, сколько времени на самом деле провёл в Бутырках Маяковский, совсем нетрудно. Но сначала – ещё немного о тюремных буднях.
Сохранился ещё один весьма любопытный документ той поры:
«В Московское охранное отделение
Содержащегося
при Центральной пересылочной тюрьме
политического заключённого дворянина
Владимира Владимировича Маяковского
Прошение
Ввиду того, что у Охранного отделения нет и, конечно, не может быть никаких фактов, ни даже улик, указывающих на мою прикосновенность к деяниям, приписываемым мне Охранным отделением, что в моей полной неприкосновенности к приписываемому мне легко убедиться, проверивши факты, которые были приведены мною при допросе как доказательство моей невиновности, – покорнейше прошу вас рассмотреть моё дело и отпустить на свободу.
Прошу также Охранное отделение на время моего пребывания в Центральной пересыльной тюрьме разрешить мне общую прогулку.
Владимир Владимирович Маяковский.
24 августа 1909 г».
Как видим, Маяковского не только содержали в одиночной камере, но и лишили общих прогулок.
В Охранном отделении на прошении поставили резолюцию:
«31. VIII. Сообщить Маяковскому, что до окончания дела он освобождению не подлежит; просьбу об общих прогулках отклонить».
По правилам, установленным в Бутырской тюрьме, два раза в месяц заключенных водили в баню. Там Маяковский встретил своего подельника Тимофея Трифонова, который отчитал его за то, что он переехал на дачу, не предупредив об этом полицию. В результате суд был отложен, а Трифонову пришлось сидеть, как он выразился, «впустую».
Земляк Владимира Маяковского, Коба Джугашвили, примерно в это же время (осенью 1909 года) из Бакинской тюрьмы, где он провёл несколько месяцев, был отправлен по этапу в очередную ссылку – в Вологодскую губернию.
Первый суд
9 сентября 1909 года наконец-то состоялось судебное заседание, которое постановило, что дело 27-летнего Тимофея Трифонова, 16-летнего Сергея Иванова и 14-летнего Владимира Маяковского, обвинявшихся в создании тайной типографии, открыто рассматриваться не будет.
Газета «Биржевые ведомости» сообщила читателям:
«Сегодня в Московской судебной палате при закрытых дверях слушалось дело гимназиста Пятой московской гимназии по обвинению в принадлежности к противоправительственной партии по 102 ст. Уголовного уложения. Во время обыска у Маяковского были найдены нелегальные брошюры и воззвания».
Газета «Московские ведомости»:
«В Особом присутствии Московской судебной палаты, с участием гг. сословных представителей, рассматривалось при закрытых дверях дело о мещанине Иванове, крестьянине Трифонове и 14-летнем дворянине Маяковском по обвинению их в принадлежности к социал-демократической партии и оборудовании для партийных целей тайной типографии, в которой ими печатались революционные издания».
Публику из зала попросили удалиться. По просьбе Иванова и Маяковского были оставлены лишь два брата Иванова и сестра Маяковского.
Людмила Маяковская:
«Перед судом Володя уговаривал маму не ходить на разбор дела, а сестру и меня просил не пускать маму, так как беспокоился, что она будет чересчур нервничать и тяжело переживать обстановку суда…
Володю ввели под конвоем. Он был худ и бледен, в своей неизменной чёрной сатиновой рубахе».
Адвокат подсудимого, помощник присяжного поверенного Пётр Лидов:
«Маяковский внешне бравировал деланным безразличием и спокойствием».
Людмила Маяковская:
«… он держал себя внешне спокойно, и только горящие глаза выдавали его состояние. Он улыбался мне и знакомым, которые были на суде».
Между тем обвинительное заключение оказалось весьма серьёзным. Про Маяковского, в частности, говорилось, что он…
«… проживая в марте месяце 1908 г. в Москве, принимал участие в преступном сообществе московской организации Российской Социал-Демократической партии, заведомо для него, подсудимого, поставившей ближайшей целью своей деятельности насильственное посягательство на изменение в России установленного законами основными образа правления путём организации вооружённого восстания, причём, будучи задержан во время прихода в означенную типографию, имел у себя с целью распространения политические издания, а именно…».
Далее шло перечисление прокламаций, изъятых у «дворянина Маяковского».
«Биржевые ведомости» напомнили, что задержанному гимназисту «в момент совершения преступления было всего 13 лет». Доставленному в суд обвиняемому Маяковскому было уже шестнадцать.
Обвинение ставило перед «сословными представителями» прямой вопрос: виновен он или нет? Сословные представители ответили:
«Да, виновен, но участия в преступном сообществе не принимал, сношений с членами сообщества не поддерживал и поручений членов сообщества не исполнял».
Обвинение ставило и другой вопрос: если Маяковский виновен в совершении некоего противоправного действия, то…
«… совершал ли он таковое с разумением, то есть мог ли он понимать свойство и значение совершаемого и руководить своими поступками»?
Суд ответил:
«Совершал без разумения».
Подсудимые виновными себя не признали.
Стали оглашать приговор.
О том, как встретил вердикт суда Маяковский – Пётр Лидов:
«Прозвучали первые слова приговора, касавшегося Трифонова. Юноша опустил голову, но тотчас глаза его открылись, и он, как говорят в школе, „уставился“ на фигуру председателя».
А приговор был достаточно суров. «Московские ведомости» написали:
«Особым присутствием Московской судебной палаты все трое обвиняемых признаны виновными и Трифонов приговорён к шестилетней каторге…».
Можно себе представить, какой ужас объял «мещанина Иванова» и «дворянина Маяковского», когда они услышали о шестилетнем каторжном сроке.
Но суд, проявив в отношении Иванова и Маяковского снисхождение, постановил:
«… признав невиновными в преступлении, предусмотренном 1 ч<астью> 102 ст<атьи> Угол<овного> уложения по недоказанности совершения ими этого преступления, считать по сему обвинению оправданными по суду, тех же Сергея Иванова и Владимира Маяковского, признав виновными в преступлении, предусмотренном 2 п<унктом> 132 ст<атьи> Угол<овного> улож<ения >, но действовавшим без разумения, не понимая свойства и значения совершаемого, отдать, согласно 41 ст<атье> того же Уложения, под ответственный надзор их родителей».
«Московские ведомости» представили это решение суда так:
«… несовершеннолетние Иванов и Маяковский – к отдаче родителям на исправление».
Маяковский мог ликовать – ещё бы, суд наказал его чисто символически и отпускал на свободу! Эта радость чувствуется и в строках автобиографических заметок:
«Во время сидки судили по первому делу – виновен, но летами не вышел. Отдать под надзор полиции и родительскую опеку».
Однако ни на какую свободу Маяковского не отпустили – из зала суда его под конвоем увезли обратно в ту же Бутырскую тюрьму – ведь следствие по делу о побеге каторжанок продолжалось.
Теперь пришло время рассказать об одном из старших соратников «товарища Константина», который в тот момент тоже сидел в Бутырке.
Судьба Бриллианта
В Бутырскую тюрьму попадали бунтари разных времён. В её застенках оказался в своё время и видный эсдек Глеб Максимилианович Кржижановский, который перед отправкой в Сибирь написал там слова к гимну польского восстания 1831 года. Песню назвали «Варшавянкой»:
«Вихри враждебные веют над нами,
Тёмные силы нас злобно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас ещё судьбы безвестные ждут…
На бой кровавый,
Святой и правый
Марш, марш вперёд,
Рабочий народ!»
Другого члена РСДРП, Гирша Янкелевича Бриллианта (Григория Сокольникова), арестовали 24 сентября 1907 года. В одиночной камере Бутырской тюрьмы он провел полтора года. Сохранились сведения, что в 1907 году его несколько раз посылали (вместе с уголовными арестантами) мести Долгоруковскую улицу – ту самую, куда вскоре переехала жить семья Маяковских. И Гирш исправно мёл эту улицу, получая от сердобольных прохожих за свой подневольный труд «копеечку».
Сотрудникам Охранного отделения, надо полагать, очень хотелось «перековать» Бриллианта-Сокольникова в своего агента, но у них ничего не получилось.
18 сентября 1908 года состоялся суд – «О принадлежности к Сокольническому районному комитету партии социал-демократов». Это преступное деяние подпадало под 102-ю статью Уголовного уложения, и студента университета Гирша Бриллианта, лишив всех гражданских прав, приговорили к вечному поселению в Сибири – в селе Рыбном Енисейской губернии (на реке Ангаре).
Но в ссылку осуждённого отправили не сразу – ещё какое-то время его продолжали держать в той же одиночке Бутырской тюрьмы. Охранка, видимо, надеялась, что молодой человек, приговорённый к столь суровому наказанию, всё-таки «сломается» и запросит пощады. Но Бриллиант-Сокольников пощады не запросил. И через какое-то время его по этапу отправили к месту вечного поселения.
Прибыв в село Рыбное, он немного осмотрелся и через шесть недель вместе с другим ссыльным сбежал. Вскоре объявился в Париже, где поступил в Сорбонну. И стал там учиться.
Пример Гирша Бриллианта ещё раз наглядно демонстрирует, что за отказ сотрудничать с Охранным отделением подследственных революционеров ожидало весьма суровое наказание.
Но ведь не всех же попадавших за решётку нелегалов-бунтарей ссылали в Сибирь? Были же такие, кто оказывался в Нижнем Новгороде, в Архангельске или в Твери. А кого-то и вовсе отпускали на свободу. Даже до суда. Значит, кто-то всё-таки соглашался сотрудничать с Охранным отделением?
Дать ответ на этот вопрос предоставим жандармскому офицеру Александру Спиридовичу. Он утверждал, что людей, соглашавшихся служить охранке, среди тогдашних революционеров было немало:
«Они выдавали своих близких жандармерии, служа для неё шпионами, и назывались у политической полиции „сотрудниками“, у своих же шли под именем „провокаторов“…
Не жандармерия делала Азефов и Малиновских, имя же им – легион. Вводя их как своих агентов в революционную среду; нет, жандармерия лишь выбирала их из революционной среды. Их создавала сама революционная среда. Прежде всего, они были членами своих революционных организаций, а уж затем шли шпионить про своих друзей и близких органам политической полиции».
Упомянутый Спиридовичем Евно Фишелевич Азеф входил в число секретных сотрудников полиции ещё с 1892 года – под кличкой «Раскин». Став членом партии эсеров (под кличками «Иван Николаевич», «Валентин Кузьмич», «Толстый»), он выдал властям весь первый состав Центрального Комитета этой партии, а также немало активных боевиков.
Александр Спиридович:
«Азеф – это беспринципный и корыстолюбивый эгоист, работавший на пользу иногда правительства, иногда – революции, изменявший и одной и другой стороне, в зависимости от момента и личной пользы, действовавший не только как осведомитель правительства, но и как провокатор в действительном значении этого слова, то есть самолично учинявший преступления и выдававший их затем, частично правительству, корысти ради».
Возглавив Боевую организацию социалистов-революционеров, Азеф готовил террористические акты против высокопоставленных царских чиновников. Это по его распоряжению были убиты министр внутренних дел В.К. Плеве и бывший московский генерал-губернатор Великий князь Сергей Александрович. Команда ликвидировать священника Гапона поступила тоже от него.
В 1908 году Азефа разоблачили, и он бежал за границу.
Карьера другого агента полиции, Романа Вацлавовича Малиновского, в 1910 году только начиналась – в рядах социал-демократической партии он был ещё функционером средней руки, и сотрудничество с Охранным отделением ему ещё только предстояло. Поэтому речь о нём впереди.
Александр Спиридович весьма компетентно свидетельствует, что молодым людям, которых увлекала романтика антиправительственного подполья, было в ту пору далеко не сладко – революционная среда кишмя кишела агентами-осведомителями. Оказаться за решёткой было проще простого. Создававшаяся жандармами агентурная сеть была очень искусно замаскирована. Ещё Сергей Зубатов, будучи главой Московского охранного отделения и искренне заботясь о своих «сотрудниках», поставлявших ему чрезвычайно ценную информацию, не уставал, по словам Спиридовича, напоминать жандармским офицерам:
«– Никогда и никому не называйте имени вашего сотрудника, даже вашему начальству. Сами забудьте его настоящую фамилию и помните только по псевдониму».
Вот так воспитывал Сергей Васильевич Зубатов своих подчинённых, обучая их искусству нахождения надёжных «сотрудников» и правилам работы с ними. Офицеры Охранного отделения оказались способными учениками, хотя учение это давалось им не слишком легко. Об этом – Александр Спиридович:
«Нам, офицерам, воспитанным в традициях товарищества и верности дружбы, сразу стать на точку холодного разума и начать убеждать человека, чтобы он, ради пользы дела, забыл всё самое интимное, дорогое и шёл на измену, было тяжело и трудно. Наш невоенный начальник не мог этого понять… Но между собою мы, офицеры, подолгу беседовали на эту тему. В нас шла борьба.
В результате государственная точка зрения победила. Мы сделались сознательными офицерами розыска, смотревшими на него, как на очень тяжёлое, неприятное, щепетильное, но необходимое для государства дело. Впрочем, жизнь, как увидели мы позже, очень упрощала нашу задачу: переубеждать и уговаривать приходилось редко: предложения услуг было больше, чем спроса…».
Вновь тюрьма
Итак, после завершения работы суда Маяковского вернули в Бутырку. И вновь потекли унылые тюремные будни.
Как-никак, а он уже в третий раз оказался за решёткой, поэтому надо было решительно отвадить его от бунтарских иллюзий и заставить свернуть с дорожки, которая вела в ссылку, на каторгу, а то и вовсе в мир иной. И с «товарищем Константином» начали работать.
Сначала следователи обратились к начальнику тюрьмы с предложением провести ещё одно освидетельствование Маяковского – «на предмет определения его возраста». Жандармы, видимо, продолжали сомневаться в том, что этому здоровенному верзиле всего 16 лет.
21 сентября 1909 года тюремный врач Владимир Антушевский осмотрел заключённого и написал:
«По данным этого осмотра мною определён его возраст приблизительно в 16–19 лет».
29 сентября в канцелярию Московского генерал-губернатора были представлены «Сведения Охранного отделения о Маяковском». Доказательств преступных деяний Маяковского в них было предостаточно. В разделе «Агентурные сведения и данные наружного наблюдения» говорилось:
«По агентурным сведениям Маяковский был членом Московского комитета РСДРП и имел непосредственное отношение к тайной типографии этой партии…
Наружным наблюдением установлены сношения Маяковского с лицами, принадлежащими к местной организации РСДРП».
В разделе, относящемся к побегу из Новинской тюрьмы, сказано:
«Участие своё в совершении побега, а равно принадлежность к революционной организации отрицает».
В разделе «Предполагаемая мера взыскания» предлагалось:
«Высылка под гласный надзор полиции в Нарымский край Томской губернии, сроком на три года.
За начальника отделения —
ромистр Озеровский».
О том, что такое Нарымский край в ту пору узнать что-либо определённое было не так-то просто. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона говорилось:
«Нарымский край представляет огромную равнину, почти сплошь покрытую непроходимыми лесами – „урманом“, озёрами и обширными болотами… Климат резкий суровый и переменчивый. Средняя годовая температура – минус 2,1° Ц, средняя температура января – минус 22,2°, апреля – минус 2,3°, июля – плюс 19,5°, а октября – минус 1,4°».
Мало кто знал тогда, что само слово «нарым» означает в переводе с селькупского – «болотный». Зато было известно, что в эти места на протяжении нескольких столетий российские власти ссылали бунтарей. В село Нарым отправлялись участники стрелецких бунтов XVII века, разинского и пугачёвского восстаний, декабристы. В 1909 году в это гиблое место было этапировано около 3 тысяч революционеров. В Нарыме отбывал срок член тайной революционной организации «Земля и Воля» Болеслав Шостакович (дед будущего композитора).
Среди подпольщиков ходили поговорки: «Бог создал Крым, а чёрт – Нарым», «Бог создал рай, а чёрт – Нарымский край».
Обо всех «прелестях» этого созданного чёртом края следователи рассказали Маяковскому, надо полагать, весьма обстоятельно. И посулили ему Нарым как бы совокупно за все совершённые им деяния (за принадлежность к подпольной типографии, за связь с экспроприаторами-эсерами и за участие в организации побега каторжанок), за каждую антиправительственную акцию – год ссылки.
После такого разговора ему разрешили встретиться с матерью и сёстрами. Весьма возможно, что именно тогда – 6 октября – Маяковские договорились действовать. На следующий день Александра Алексеевна отправилась (в который уже раз!) в приёмную московского градоначальника. Один из его помощников, ознакомив её с «перепиской» по этому делу, направленной в Петербург, затем написал:
«Г-жа Маяковская на приёме у г. градоначальника заявила, что в переписке о Владимире Маяковском упоминается, что он совершеннолетний. Она же просит иметь в виду в подлежащих случаях, что ему всего 16 лет, в подтверждение чего предоставила метрическое свидетельство.
Помощник градоначальника
В. Петров».
В тот же день Маяковский сам обратился к генералу Александру Адрианову. На этот раз в его прошении уже не было былой самоуверенности:
«Его превосходительству г-ну московскому
градоначальнику
Содержащегося
при Центральной пересыльной тюрьме
политического заключённого дворянина
Владимира Владимировича Маяковского.
Имею честь покорнейше просить ваше превосходительство рассмотреть моё дело и исполнить нижеследующую просьбу».
Далее следовал подробный рассказ о том, как проходило задержание совершенно невиновного дворянина, и вновь говорилось о его «полной неприкосновенности» к приписываемым ему преступлениям:
«… несмотря на всё это, я вот уже три месяца и пять дней нахожусь в заключении и этим поставлен в очень тяжёлое положение, так как, во-первых, пропустил занятия в училище и, таким образом, потерял целый год; во-вторых, каждый день дальнейшего пребывания в заключении ставит меня во всё большую и большую необходимость совершенного ухода из училища, а значит, и потерю долгого и упорного труда предшествующих лет; в-третьих, мной потеряна вся работа, дававшая мне хоть какой-нибудь заработок, и, наконец, в-четвёртых, моё здоровье начинает расшатываться, и появившаяся неврастения и малокровие не позволяют мне вести никакой работы. Ввиду всего изложенного, т. е. моей полной невиновности и тех следствий заключения, которые становятся с каждым днём всё тяжелее и тяжелее, покорнейше прошу ваше превосходительство разобрать моё дело и отпустить меня на свободу.
Владимир Владимирович Маяковский.
7 октября 1909 г».
Прежде чем дать ответ подследственному дворянину, ему было разрешено ещё несколько свиданий с матерью и сёстрами (видимо, для того, чтобы они лишний раз напомнили заключённому о том, как прекрасно жить на свободе). Кроме упомянутого нами 6 октября, встречи состоялись 19 сентября, 20 и 26 октября.
А 24 октября в Бутырку поступила бумага из Охранного отделения:
«Секретно.
Отделение просит объявить содержащемуся под стражей дворянину Владимиру Владимирову Маяковскому, что 29 минувшего сентября, за номером 11 266, возбуждена перед министром внутренних дел переписка о высылке его под гласный надзор полиции в Нарымский край на три года, и до получения ответа он из-под стражи освобождён быть не может».
После того как узника одиночной камеры № 103 с этой бумагой ознакомили, он составил свою, в которой уже не «просил», а «заявлял»:
«В Московское охранное отделение
Содержащегося
при Центральной пересыльной тюрьме
политического заключённого
Владимира Владимировича Маяковского
Заявление
Ввиду того, что, по сообщению мне Охранным отделением от 27 октября, моё дело перешло в Министерство внутренних дел, покорнейше прошу вас разрешить мне общую прогулку, т. к. в баню водят заключённых в количестве 10 (десяти) человек, и, следовательно, видится гораздо большее число лиц, чем на общей прогулке, на которую выводят всего четыре человека.
Владимир Владимирович Маяковский.
27 октября 1909 г.»
3 ноября Маяковскому разрешили ещё одно свидание с матерью и сёстрами. А через четыре дня начальник Бутырской тюрьмы получил из охранки документ, в котором сообщалось:
«Отделение просит ваше высокоблагородие объявить Маяковскому, что к разрешению ему общей прогулки со стороны Отделения препятствий не встречается».
Однако сообщать об этом Маяковскому не торопились. Возможно, потому, что как раз в эти дни проходил суд над организаторами побега из Новинской тюрьмы.
Строгий суд
7 ноября из петербургского Департамента полиции московскому градоначальнику Александру Адрианову поступило письмо:
«Секретно.
По рассмотрении особым совещанием… обстоятельств дела о содержащихся под стражей в Московской губернской тюрьме, Московской центральной пересыльной тюрьме и Пречистенском и Мясницком полицейских домах нижепоименованных десяти лиц, изобличённых в содействии побегу в ночь на 1 июля 1909 г. 13 каторжанок из Московской женской тюрьмы, г. министр внутренних дел постановил:
А) Выслать под гласный надзор полиции:
1) потомственного дворянина, бывшего вольнослушателя Московского сельскохозяйственного института Льва Николаевича Яковлева – в Якутскую область на пять лет…».
Далее перечислялись семеро заключённых (пятеро женщин и двое мужчин), а затем говорилось о двоих подозреваемых, в том числе и о Маяковском:
«В) Признавая необходимым выяснить, какими именно данными подтверждается приписываемая дворянину Владимиру Владимирову Маяковскому… преступная в политическом отношении деятельность, затребовать дополнительные о Маяковском… сведения».
Начальник Московского охранного отделения на это письмо ответил:
«Секретно.
Уведомляю, что никаких других данных, которые подтверждали бы причастность дворянина Владимира Владимирова Маяковского… к делу побега 13 каторжанок из Московской женской тюрьмы в ночь на 1 июля сего года, помимо данных, изложенных в представлении моём на имя г. министра внутренних дел от 29 сентября сего года за № 11266, в моём распоряжении не имеется.
Нач. отделения подполковник Коттен»
Странно, но в подробнейшем исследовании Владимира Земскова «Участие Маяковского в революционном движении» ни единого слова не сказано о том, какой приговор был вынесен главному организатору побега Сергею Коридзе. Да и с жизненного пути самого Маяковского эсер Коридзе-Морчадзе исчез на целых 16 лет.
Вернёмся в Бутырскую тюрьму.
10 ноября Маяковскому предоставили ещё одно свидание с родными. Затем – ещё одно. Когда со дня написания заявления о разрешении прогулок прошло 22 дня, пришлось писать новую бумагу:
«Покорнейше прошу Охранное отделение разрешить мне общую прогулку.
Владимир Маяковский.
18 ноября 1909 г.»
На этом прошении стоит резолюция:
«Разрешается, если это не идёт в разрез с установленным порядком».
24 ноября Маяковскому разрешили ещё раз встретиться с родными.
И тут вдруг подала голос Судебная палата. Вероятно, кто-то пожаловался судьям, что решение суда от 9 сентября не выполняется – отданный «под родительскую опеку» Маяковский продолжает находиться под стражей. Ситуацию изучил прокурор, который заявил, что приговор в отношении Владимира Маяковского не может быть приведён в исполнение, так как решается вопрос о высылке его на три года в Нарымский край под гласный надзор полиции.
Вопрос о «родительской опеке» был исчерпан.
А перед шестнадцатилетним Владимиром уже всерьёз замаячили дальняя дорога и немалый срок пребывания в далеко не курортном краю.
Людмила Маяковская писала:
«Что было делать?
Мама без ведома Володи отправилась в Петербург хлопотать о нём».
Остававшаяся в Москве Людмила Маяковская тоже не сидела сложа руки:
«Я, в свою очередь, вела переписку со своими друзьями, которые жили на Дальнем Севере, чтобы, на худой конец, устроить Володю среди них».
Маяковский уже знал, что из Строгановского училища его исключили. Но он не считал, что месяцы заключения прошли для него зря, написав в автобиографии:
«Важнейшее для меня время. После трёх лет теории и практики – бросился на беллетристику.
Перечёл все новейшее. Символисты – Белый, Бальмонт. Разобрала формальная школа. Но было чуждо. Темы, образы – не моей жизни. Пробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось так же про другое – нельзя. Вышло ходульно и ревплаксиво. Что-то вроде:
В золото, в пурпур леса одевались,
Солнце играло на главах церквей.
Ждал я: но в месяцах дни потерялись,
Сотни томительных дней.
Исписал таким целую тетрадку…
Отчитав современников, обрушился на классиков. Байрон, Шекспир, Толстой. Последняя книга – «Анна Каренина». Не дочитал… Так и не знаю, чем у них там, у Карениных, история закончилась».
Пока Маяковский читал символистов и прочих «классиков», сотрудники Охранного отделения продолжали усиленно убеждать его не губить свои способности художника и стихотворца. И даже порекомендовали ему опубликовать те стихи, что были написаны в камере № 103.
В это время прибывший во Францию 18-летний эсдек Илья Эренбург познакомился с вождями социал-демократов: Лениным, Троцким, Луначарским. И принялся выпускать сатирические журналы «Тихое семейство» и «Бывшие люди».
Поверить в то, что молодой человек в чужой стране самостоятельно смог затеять нелёгкое издательское дело, очень трудно. Наверняка кто-то помогал ему в этом. Вот только кто? Вожди эсдеков? Вряд ли. Ведь в журналах Эренбурга печатались пародии, карикатуры и шаржи на обитавших в Париже российских революционеров. Поэтому сказать, что выпуск продукции, высмеивавшей эмигрантов-эсдеков, был санкционирован самими лидерами РСДРП, язык просто не поворачивается. Остаётся предположить невероятное: Эренбургу помогала высмеивать вождей эсдеков царская охранка.
В Москве в тот момент произошло нечто не менее невероятное. Людмила Маяковская описала это событие так:
«К счастью, и на этот раз удалось "выцарапать "Володю».
Что же произошло?
Невероятное везение
28 декабря 1909 года Особое совещание Министерства внутренних дел рассмотрело «обстоятельства дела о содержащемся под стражею в Московской центральной пересыльной тюрьме дворянине Владимире Владимирове Маяковском, …заподозренном в способствовании побегу каторжанок из женской тюрьмы…». Совещавшиеся приняли решение, которое было отправлено в Москву.
4 января 1910 года Московское охранное отделение получило от градоначальника Москвы официальное отношение за № 67077, в котором сообщалось, что дело Маяковского прекращено.
Четыре дня полученный документ изучался, и 8 января начальнику Бутырской тюрьмы была послана бумага, в которой говорилось:
«Г<осподин > министр внутренних дел 28 декабря 1909 года постановил: переписку о Маяковском, в порядке, указанном ст. 34 Положения об охране, прекратить.
Об изложенном Отделение просит объявить Владимиру Маяковскому, освободив его немедленно из-под стражи.
Расписку Маяковского препроводить в Отделение».
Ночью 9 января в камеру Маяковского явился надзиратель, разбудил заключённого и отвёл его к начальнику тюрьмы. Тот огласил содержание бумаги, пришедшей из охранки, и потребовал засвидетельствовать это письменно. Арестант написал:
«1910 года, января 9 дня, я, нижеподписавшийся, даю сию подписку г. начальнику Московской пересыльной тюрьмы в том, что отношение Московского охранного отделения от 8 января за № 247171 мне объявлено.
Владимир Маяковский».
В автобиографических заметках «Я сам» обо всём об этом сказано ещё короче:
«Ночью вызвали „с вещами по городу“. <…> Меня выпустили».
Однако это не означает, что, ознакомив арестанта с «отношением» Охранного отделения, перед ним тут же распахнули все двери настежь. Нет! Получив от освобождаемого заключённого требуемую «подписку», начальник тюрьмы написал свою бумагу:
«Препровождая при сём подписку арестанта Владимира Маяковского, уведомляю, что Маяковский 9 января из-под стражи освобождён и отправлен к приставу 3 уч. Сущёвской части для водворения его к родителям.
Начальник тюрьмы <подпись>».
Затем узника тщательно обыскали. Найденную тетрадь со стихами отобрали. И лишь поле этого под конвоем «отправили» в Сущёвский полицейский дом, откуда в сопровождении полицейского доставили по месту жительства. Процесс «водворения» занял почти целые сутки.
Как бы там ни было, но 9 января 1910 года Владимир Маяковский был на свободе.
В воспоминаниях матери Маяковского это событие отражено так:
«После моих хлопот, ввиду несовершеннолетия, он был освобождён и отдан под надзор полиции».
Людмила Маяковская:
«Появление Володи дома было неожиданно. Бурной радости не было конца. Володя пришёл к вечеру. Помню, он мыл руки и с намыленными руками всё время обнимал нас и целовал, приговаривая: „Как я рад, бесконечно рад, что я дома с вами“».
Обратим внимание, что именно запомнилось сестре Людмиле: «он мыл руки и с намыленными руками всё время обнимал нас и целовал». Пожалуй, это первое документальное упоминание о необычайной чистоплотности Владимира Маяковского, которое возникло у него вскоре после внезапной смерти отца. Тщательное мытьё рук стало у него привычкой на всю жизнь.
Вернёмся к воспоминаниям Людмилы:
«Володя вышел из тюрьмы в холодный день в одной тужурке Строгановского училища. Пальто его было заложено. Мы просили Володю дождаться утра, чтобы достать где-нибудь денег и выкупить пальто. Но Володя, конечно же, не мог отказать себе в страстном желании видеть друзей».
Несколько лет спустя Маяковский рассказал Николаю Асееву…
«… как он, выйдя из тюрьмы, где просидел с лета до крутых морозов, побежал осматривать Москву. Денег на трамвай не было, тёплого пальто не было, было только огромное, непревзойдимое и неукротимое желание снова увидеть и услышать город, жизнь, многолюдство, шум, звонки конки, свет фонарей. И вот в куцей куртке и в налипших снегом безголошных ботинках шестнадцатилетний Владимир Владимирович Маяковский совершает свою первую послетюремную прогулку по Москве по кольцу Садовых…».
Итак, революционер-подпольщик Владимир Маяковский обрёл свободу. Вновь повезло? Но почему вдруг? За что?
Глава седьмая Перенацеленное бунтарство
Неожиданные странности
Обретение свободы узником Бутырской тюрьмы порождает немало вопросов. Самый главный из них, пожалуй, такой: неужели шестнадцатилетний паренёк сумел (да ещё и в третий раз подряд!) оставить с носом опытнейших профессионалов Охранного отделения?
Сам Маяковский (в «Я сам» образца 1922 года) своё невероятное освобождение объяснял очередным вмешательством всё того же всесильного «друга отца»:
«Меня выпустили. Должен был (охранка постановила) идти на три года в Туруханск. Махмудбеков отхлопотал меня у Курлова».
Фразы эти не только ничего не объясняют, они ещё больше всё запутывают.
Почему вдруг Нарымский край оказался заменённым Туруханском, находившимся совсем в другой губернии?
Каким образом «другу отца» Махмудбекову удалось «отхлопотать» узника Бутырки?
Кто такой Курлов?
Павел Григорьевич Курлов (1860–1923) родился в дворянской семье. В 19 лет окончил Николаевское кавалерийское училище, служил в армии. В 28 лет завершил обучение в Военно-юридической академии. В 1892-ом вышел в отставку в звании подполковника и поступил на службу в Министерство юстиции. С 1903 года – губернатор Курска. В 1905-ом – губернатор Минска, где подавлял революционные выступления, за что на его жизнь неоднократно покушались. В 1907-ом исполнял обязанности вице-директора Департамента полиции, но после убийства начальника Главного тюремного управления Максимовского, был назначен Столыпиным на его пост. В 1909 году – товарищ (заместитель) министра внутренних дел, руководитель полиции и командир Отдельного корпуса жандармов. В 1910-ом был Высочайше произведён в жандармские генерал-лейтенанты.
Владимир Джунковский о нём писал:
«Курлов принадлежал к типу людей бестактных… Ума от Курлова отнять нельзя было, но это был человек с шаткими принципами. Последнее проявилось в нём особенно сильно, когда он сделался товарищем министра внутренних дел, а затем и соединил в себе и должность командира Отдельного корпуса жандармов. Он окружил себя недостойными людьми, которые его компрометировали…».
Теперь познакомимся поближе с Махмудбековым.
Сергей Алексеевич Махмудбеков (Махмут-Беков) родился в 1875 году в карабахском городе Шуше, гимназию окончил в Кутаисе. Был начальником тюрьмы в Кутаисе (видимо, тогда и познакомился с багдадским лесничим Маяковским). Затем служил начальником царских тюрем в Воронеже и Санкт-Петербурге. После того как 13 октября 1907 года на него было совершено покушение (далеко не первое), Сергей Алексеевич свою опасную службу решил оставить. Из Главного тюремного управления его отпускал Павел Курлов. В 1908 году приказом начальника Главного Управления Почт и Телеграфов он был назначен старшим помощником начальника перевозки почт Московского уезда.
Конечно, чиновник, служивший какое-то время помощником начальника петербургской тюрьмы «Кресты», вполне мог похлопотать за кого-то у своего бывшего начальника Курлова. Похлопотать. Но в случае с Маяковским ему предстояло «отхлопотать» человека, который попал за решётку уже в третий раз, и на которого в Охранном отделении имелось довольно пухлое досье. Мог ли Павел Курлов чем-то помочь в таком весьма щекотливом деле?
Недоумение усиливается, когда начинаешь сопоставлять два варианта автобиографических заметок Маяковского – тех, что написаны и опубликованы в 1922 году, с теми, что появились в 1928-ом. Мы уже говорили о том, что в более позднем (тщательно отредактированном) варианте количество арестов, которым подвергался Маяковский, почему-то сокращено до двух.
Зачем? В те годы тюремными заключениями в царских тюрьмах гордились. Для чего понадобилось сокращать число «сидок»?
Вспомним, как описана ситуация после первого ареста в варианте 1922 года:
«Вышел. С год – партийная работа. И опять кратковременная сидка. Взяли револьвер. Махмудбеков, друг отца, тогда помощник начальника Крестов, арестованный случайно у меня в засаде, заявил, что револьвер его, и меня выпустили».
Следующая главка (в том же варианте 1922 года) названа «ТРЕТИЙ АРЕСТ». В ней сказано:
«Живущие у нас (Коридзе (нелегальн. Морчадзе), Герулайтис и др.) ведут подкоп под Таганку. Освобождать женщин каторжан. Удалось устроить побег из Новинской тюрьмы. Меня забрали. Сидеть не хотел. Скандалил. Переводили из части в часть…».
В варианте 1928 года эта же главка названа иначе – «ВТОРОЙ АРЕСТ», и в ней ситуация изложена так:
«Живущие у нас ведут подкоп под Таганку. Освобождать женщин-каторжан. Удалось устроить побег из Новинской тюрьмы. Меня забрали. Дома нашли револьвер и нелегальщину. Сидеть не хотел. Скандалил. Переводили из части в часть…».
Что изменилось?
Во-первых, исчезли фамилии жильцов квартиры Маяковских, которые вели подкоп под Таганскую тюрьму. Почему?
Во-вторых, второй арест оказался совмещенным с третьим. Зачем?
В-третьих, браунинг был действительно найден в квартире Маяковских. Но после второго ареста. И это случилось почти за полгода до побега из Новинской тюрьмы, после которого ни в комнате, в которой жил Маяковский, ни в их квартире не только никакого оружия, но и «нелегальщины» найдено не было. Это записано и в протоколе обыска:
«… никаких предметов, свидетельствующих о принадлежности его к преступному сообществу, не оказалось…».
Теперь же браунинг и «нелегальщину» обнаруживали сразу же после побега. Почему?
То, как описаны действия подпольщиков, тоже удивляет. Подкоп вёлся ими под Таганку, а каторжанок «удалось» вывести из Новинский тюрьмы. Как это могло произойти?
И ещё. Оба варианта имеют главку, которая называется «11 БУТЫРСКИХ МЕСЯЦЕВ». Почему «одиннадцать»! Ведь арестовали Маяковского 2 июля 1909 года, а выпустили на свободу 9 января 1910-го, значит, продолжительность всей «сидки» — шесть месяцев и несколько дней. В Бутырку же Маяковского перевели 18 августа, стало быть, «бутырских месяцев» было всего четыре с половиной. Откуда же взялись эти «одиннадцать»?
В этой же главке (в варианте 1928 года) появилось добавление, в котором выход Маяковского из тюрьмы стал выглядеть так:
«Меня выпустили. Должен был (охранка постановила) идти на три года в Туруханск. Друг отца Махмудбеков заявил, что револьвер его, и отхлопотал меня у Курлова».
Зачем понадобилось вводить «револьвер», которого в этом деле не было? Не затем ли, чтобы именно здесь он сыграл решающую роль?
Кроме этих неожиданных и никем до сих пор не объяснённых «вставок», «перестановок» и «подтасовок», которые выглядят как явные лжесвидетельства, настораживает суровость приговора, с которым (до суда!) ознакомили подследственного Маяковского.
Сравним, к чему приговаривали соратников «товарища Константина».
22-летний Георгий Оппоков (А. Ломов), арестованный в 1910 году, был сослан в Архангельскую губернию.
Петр Смидович, 34-х лет, арестованный в 1908 году, выслан в Вологодскую губернию.
23-летнему Николаю Бухарину по приговору 1911 года пришлось отправиться в Архангельскую губернию.
21-летний Владимир Вегер-Поволжец арестовывался уже в третий раз. Первые два задержания (за принадлежность к запрещённой социал-демократической партии) завершились освобождением «за недостатком улик». Теперь же «товарищ Поволжец» обвинялся в том, что входил в состав Московского комитета РСДРП. За это он был приговорен к ссылке в Уфу, сослан туда, но вскоре сбежал.
Только 19-летний Григорий Бриллиант-Сокольников был отправлен на вечное поселение в Сибирь, в Енисейскую губернию. Но не на север её, в Туруханский край, а в село Рыбное на Ангаре, каковое место он, как мы знаем, через несколько недель после прибытия тоже преспокойно оставил.
Выходит, что взрослых мужчин высылали в места не слишком суровые. А 16-летнему Маяковскому постоянно твердили о том, что ему предстоит провести три года в гиблом месте – в Нарымском крае! Почему? За участие в организации побега из Новинской тюрьмы?
Но против Маяковского у следователей неопровержимых улик не было. Если бы жандармы дознались, что в подготовке побега каторжанок активно участвовала вся семья Маяковских (шила одежду беглянкам!), то были бы арестованы не только сёстры «товарища Константина», но и его мать. Однако этого не произошло. Стало быть, охранка об этом ничего не знала.
Тогда за что же Маяковскому надо было отправляться в Нарым?
Ответ напрашивается один: юного подпольщика запугивали. К тому же и места, где осужденным предстояло отбывать наказание, определяло не Охранное отделение («охранка постановила», как написал Маяковский), а суд, которого «товарищ Константин» так и не дождался.
Теперь о тогдашнем возрасте Маяковского. Сестра Людмила написала:
«… его освободили как несовершеннолетнего».
Но ведь о «несовершеннолетии» подследственного эсдека было известно на протяжении всего срока следствия. Почему же тогда его сразу не освободили, а держали в заключении целых «одиннадцать бутырских месяцев»?
Ещё больше настораживает странность поведения самого Маяковского, оказавшегося на свободе.
Странные аргументы
Как известно из автобиографических заметок, выйдя из тюрьмы, Маяковский тут же заявил, что покидает ряды партии – по причине неудержимой тяги к знаниям, внезапно вспыхнувшей в нём. Главка в «Я сам», в которой говорится об этом, самая многословная. И названа она весьма заковыристо – «ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ДИЛЕММА»:
«Вышел взбудораженный. <…> Я неуч. Я должен пройти серьёзную школу. А я вышиблен даже из гимназии, даже и из Строгановского. Если остаться в партии – надо стать нелегальным. Нелегальным, казалось мне, не научишься. Перспектива – всю жизнь писать летучки, выкладывать мысли, взятые из правильных, но не мной придуманных книг. Если из меня вытряхнуть прочитанное, что останется? Марксистский метод. Но не в детские ли руки попало это оружие? Легко орудовать им, если имеешь дело только с мыслью своих. А что при встрече с врагами? <…> Хорошо другим партийцам. У них ещё и университет. (А высшую школу – я ещё не знал, что это такое – я тогда уважал!).
Что я могу противопоставить навалившейся на меня эстетике старья? Разве революция не потребует от меня серьёзной школы? Я зашёл к тогда ещё товарищу по партии – Медведеву: хочу делать социалистическое искусство. Серёжа долго смеялся: кишка тонка.
Думаю всё-таки, что он недооценил мои кишки.
Я прервал партийную работу. Я сел учиться».
А вот как прокомментировал эти слова сам Сергей Медведев:
«У меня плохо сохранилось в памяти содержание того разговора с Маяковским после выхода его из Бутырской тюрьмы, о котором он пишет в автобиографии: „Я зашёл к тогда ещё товарищу по партии – Медведеву…“
Вполне вероятно, что я действительно отнёсся к его словам несколько скептически и считал, что он себя переоценивает. Мне казалось тогда, что ему, как всякому человеку, который хочет приобрести основательные знания, необходимо учиться в университете».
Мало этого, Маяковский опять лукавил. Ведь ни из гимназии, ни из Строгановского училища его никто не «вышибал». Из гимназии он ушёл сам, а из училища был исключён за пропуски занятий. Рассуждения о беспросветной «перспективе», якобы грозившей революционеру-неучу, порождает встречный вопрос: а разве в партию его затаскивали насильно?
Как бы там ни было, тягу к знаниям, пусть даже вспыхнувшую так внезапно, можно только приветствовать. Но!.. Если перечитывать «ТАК НАЗЫВАЕМУЮ ДИЛЕММУ» ещё и ещё раз, она очень быстро теряет логичную убедительность и начинает выглядеть как попытка (причём довольно неуклюжая) как-то оправдать свой неожиданный поступок, каким-то образом реабилитировать себя в глазах однопартийцев.
Сергей Медведев:
«Усиленно обсуждался, помню, такой вопрос: чтобы создать что-нибудь в искусстве, нужен ли талант или талант плюс работа?.. Он считал, что решающим, определяющим условием развития художника является упорный труд и систематическая работа над собой…
… к крайне левым течениям, начавшим в то время появляться, он, по-моему, относился тогда не очень-то одобрительно».
Теперь приведём фразы из главки «ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ДИЛЕММА», поначалу выпущенные нами (речь идёт о писателях, книги которых были прочитаны в Бутырке):
«Те, кого я прочёл, – так называемые великие. Но до чего же нетрудно писать лучше их. У меня уже и сейчас правильное отношение к миру. Только нужен опыт в искусстве. Где взять? Я неуч…».
Откуда у 16-летнего Маяковского такая уверенность в себе? Откуда его неукротимая убеждённость в том, что он может не только состязаться с «великими», но «писать лучше их»?
Возникает и такой вопрос: почему ситуация, «взбудоражившая» вышедшего на свободу юного эсдека, названа так странно? Допустим, что Маяковский в самом деле оказался перед выбором – и возникла «дилемма»! Но почему она именуется «так называемой»? Не потому ли, что в этих словах – намек: дескать, «дилемма» эта ему навязана?
Доводы, которые привёл Маяковский в оправдание необходимости своего выхода из партии, малоубедительны. Если воспользоваться словами Анны Ахматовой, произнесёнными по другому поводу, они «темны» и «неискренни».
Что же касается упоминания некоего марксистского «оружия», якобы попавшего в «детские руки», то оно и вовсе превращает автора «объяснений» в капризного барчука-недоросля, ищущего нестандартных развлечений. Наскучила учеба – по боку гимназию, и да здравствует революционное подполье! Замаячила угроза сибирской ссылки – долой нелегальщину, и да здравствуют учебники!
Итак, откуда у «товарища Константина» такая неудержимая тяга к знаниям?
Присмотримся повнимательней к тому, что происходило с ним в тюрьме.
Прощание с подпольем
Впоследствии Маяковский не раз говорил, что сначала в Бутырках он очень много рисовал, а потом (что было неожиданно даже для него самого) стал сочинять стихи. В «Я сам» об этом сказано:
«Попробовал сам писать… Вышло ходульно и ревплаксиво…
Исписал целую тетрадку. Спасибо надзирателям – при выходе отобрали. А то б ещё напечатал».
Получается, что возникшая в застенках тяга к поэтическому творчеству оказалась настолько сильной, что пересилила подростковое увлечение революционной романтикой.
Но ведь стихи в молодые годы сочиняли Глеб Кржижановский, Феликс Дзержинский, Иосиф Джугашвили, а рисованием с юных лет увлекался Николай Бухарин. Но это не помешало им активно заниматься партийной работой. А Владимиру Маяковскому помешало? Почему? Что так сильно «взбудоражило» молодого подпольщика при выходе из тюрьмы? Только ли радость от невероятного везения, которое принесло нежданное освобождение?
Писатель Виктор Борисович Шкловский в своих воспоминаниях написал:
«Говорят, что он сопротивлялся в тюрьме, и это верно. Владимир Маяковский был крепчайший человек.
Но ему было шестнадцать лет.
Мальчика продержали в одиночке пять месяцев. Он вышел из тюрьмы потрясённый».
Сразу обратим внимание на то, что Шкловский указал более точный срок пребывания Маяковского в одиночке – «пять месяцев». Но вопросы возникают и тут! Чему (или кому) так долго «сопротивлялся» юный арестант Бутырки? И чем был так «потрясён» этот «крепчайший человек», выйдя из тюрьмы?
Ответ напрашивается такой: тюремные тяготы всё-таки «сломали» не слишком стойкого духом подростка, и он…
Что мог совершить эсдек Маяковский в бутырских казематах?
Разгласить какую-то партийную тайну?
Выдать в руки охранки товарищей по партии?
Или произошло нечто иное, но вполне достаточное для того, чтобы оставить в душе юного подпольщика незаживающую рану?
В подобных предположениях нет ничего невероятного. Царская охранка, как мы могли уже в том убедиться, состояла из опытнейших профессионалов, в ней работали специалисты сыскных дел высочайшего класса. Об уровне их подготовки (и мастерства) упомянул в своих воспоминаниях даже Вячеслав Михайлович Молотов, один из видных большевистских вождей:
«Там тоже не дураки были – в охранке, я часто бывал в тюрьмах и ссылках, там поумней нашего брата среди них были…
Сколько было провокаторов! Умные, умелые, подготовленные. Царская охранка работала здорово. Дураков не держали».
Да, кадровые работники российской тайной полиции дело своё знали великолепно. Не зря их опыт с таким успехом был впоследствии использован, а достижения преумножены сотрудниками ЧК-ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ.
Вспомним ещё раз, как работали офицеры Отдельного корпуса жандармов.
Какие методы «перековки» (внедрённые ещё Сергеем Зубатовым) применялись ими?
Когда начинающий подпольщик попадал за решетку, его сразу же начинали «обрабатывать» – с помощью известных с древнейших времён вещей: кнута и пряника, то есть использовали злые угрозы и добрые посулы. Безжалостный кнут, умело сочетаемый со сладким пряником, ломал нестойкую волю сотен юнцов, возжелавших стать революционерами.
Подобной «обработке» подвергся и Маяковский. Ведь не случайно его держали в одиночной камере, лишив общих прогулок и свиданий с родными. Мало этого, его пугали ужасами грозившей ему сибирской ссылки, советовали пожалеть мать и не корёжить собственную судьбу, зарывая свои яркие способности рисовальщика и стихотворца в мрачные подземелья антиправительственного подполья. Юному эсдеку постоянно «по-дружески» намекали, что полным раскаянием и чистосердечным признанием он сильно поможет следствию и (что не менее важно) смягчит приговор себе.
Следователи, которые вели дело о побеге политкаторжанок из Новинской тюрьмы, наверняка были знакомы с «диктантами», написанными Владимиром Маяковским, когда он отвечал на вопросы Романа Романовича Вольтановского и Тихона Дмитриевича Руднева. Понять, что своими ошибками в этих писаниях паренёк-подпольщик пытался водить жандармов за нос, особого труда не составляло. И тетрадка со стихами, которые сочинял заключённый Маяковский, тоже, вне всяких сомнений, была знакома следователям задолго до того, как стихотворца отпустили на волю.
Не общение ли с опытными сотрудниками охранки перековало «товарища Константина», который сначала так настойчиво и целеустремлённо рвался в революционеры, а затем так решительно взял и передумал? Не беседы ли с жандармами заставили вдруг юного эсдека, избиравшегося чуть ли не в Московский комитет партии, прекратить всякую антиправительственную деятельность?
Николай Хлёстов, снимавший койку в квартире Маяковских, впоследствии написал о его выходе из партии следующее:
«… некоторые исследователи упрекали его за это, расценивали его поступок чуть ли не как предательство».
К этим словам Хлёстов тут же добавлял высказывание своего земляка Владимира Вегера-Поволжца:
«Вегер всегда особо подчёркивал, что Маяковский вошёл в партию во время реакции, когда многие неустойчивые элементы отходили от партии, что он встал в ряды партии в самое тяжёлое для неё время».
Кем же всё-таки был Владимир Маяковский? «Предателем» или «устойчивым элементом»?
Чтобы получить на эти вопросы достаточно исчерпывающие ответы, нам придётся вернуться немного назад – в самое начало июля 1909 года, когда наш герой угодил в полицейскую засаду.
Что произошло
Итак, молодой и поэтому энергичный, напористый и бескомпромиссный бунтарь 16 лет от роду в третий раз оказался за решёткой. Им занялись сотрудники лучшего Охранного отделения страны – Московского, которые перековывали многих бунтарски настроенных молодых людей.
Вспомним ещё раз судьбы двоих (не раз уже упоминавшихся нами) революционеров-эсдеков.
19-летний Гирш Янкелевич Бриллиант-Сокольников просидел в тюрьме полтора года, после чего был отправлен на вечное поселение в Сибирь, но оттуда вскоре сбежал и тайно уехал во Францию. А 17-летний Илья Гиршевич Эренбург провёл за решеткой всего полгода, был освобождён без всякого суда и вскоре открыто отправился в ту же Францию.
Возникают вполне естественные вопросы – почему один эсдек находился в заключении почти шестнадцать месяцев, а другой – всего шесть?
Почему Бриллианту приговор огласил судья, а Эренбург суда так и не дождался?
Почему первого этапировали в Сибирь, а второй получил полную свободу?
Ответы на поставленные вопросы найти нетрудно. Они непосредственно вытекают из того, чем занималось Охранное отделение, какую ставило перед собою цель.
Чему учил своих подчинённых Сергей Зубатов?
Считая главной задачей Охранного отделения «перековку» арестованного революционера в верноподданного гражданина, он не уставал повторять, что сотрудники охранки должны держать под контролем всю жизнь страны. Что жандармам должно быть известно всё. Про каждого. И любая попытка совершить что-либо противозаконное должна неизменно заканчиваться для бунтаря очень плачевно: ссылкой в гиблые места Сибири – на годы, а то и на вечное поселение. А жизнь между тем так прекрасна! И каждому она предоставляет возможность проявить себя, совершить что-то необыкновенное. Поэтому добровольно отдавать себя во власть малограмотным вожакам подпольщиков, которые к тому же норовят отхватить от жизни кусок пожирнее, просто глупо!
Посеяв в арестованном сомнения, Зубатов предлагал ему вступить в сотрудничество с Охранным отделением, красочно расписывая, какое интересное и захватывающее это дело – охрана интересов Отечества.
Мы уже говорили о том, что подобные беседы с Зубатовым не проходили бесследно. Даже если подследственные не становились секретными сотрудниками охранки, очень часто вчерашние подпольщики навсегда порывали с революционным движением.
Иными словами, практически всех, кто соглашался на сотрудничество, жандармы отпускали на свободу. А тех, кто кочевряжился, ждала Сибирь.
Кстати, Илья Эренбург, начавший издавать во Франции сатирические журналы, вскоре стал высмеивать в них «угреватую» философию социал-демократов, а их лидера Ульянова-Ленина называл «Безмозглым дрессировщиком кошек», «Лысой крысой», «Старшим дворником», «Картавым начётчиком» и «Промозглым стариком». Эти эренбургские «шутки» звучали весьма оскорбительно. Говорят, что Владимир Ильич, ознакомившись с ними, рассвирепел невероятно. И распоясавшегося сатирика из партии изгнали. Не говорит ли это о том, что охранка вполне могла воспользоваться поездкой Эренбурга в Париж, чтобы использовать его присутствие там в своих интересах, например, внести сумятицу в ряды социал-демократов?
А теперь вернемся в Бутырскую тюрьму, в которой перед сотрудниками Охранного отделения предстал Владимир Маяковский.
Попытки завербовать
Уже во время первого допроса по делу о побеге из Новинской тюрьмы (в самом начале июля 1909 года) арестованному Маяковскому наверняка могли сразу же дать понять, что в руках у следователей настолько крупные козыри, что перебить их просто невозможно – нечем.
В самом деле. Ведь социал-демократы ещё только собирались наладить работу подпольной типографии, а полиция мигом узнала об этом и арестовала всех, кто рвался в «типографщики».
Эсеры только собирались напасть на банк, всего лишь начали разрабатывать план предстоявшей экспроприации, а полиция тотчас вмешалась, не позволив им совершить это преступление, и арестовала всех, кто намеревался стать грабителем.
Да, политкаторжанки бежали из тюрьмы. Но уже в тот же день все организаторы побега были пойманы!
Почему?
Да потому что, что Охранному отделению было известно всё.
И Маяковскому наглядно продемонстрировали это, очень подробно рассказав, где, когда и с кем он встречался в последние месяцы. Подобная осведомленность должна была произвести на юного эсдека ошеломляющее впечатление.
А откуда в тюрьме у Маяковского появились кисти, краски и бумага? Кто разрешил ему создавать портреты других арестованных бунтарей? Те же жандармы. Не дай они «добро», ни один надзиратель никогда не позволил бы заключённому ходить по чужим камерам и зарисовывать находившихся под следствием преступников.
Просмотрев первый рисунок, сделанный Маяковским, следователь вполне мог сказать ему:
– А у парижских художников сейчас входит в моду рисование кубиками.
– Как это? – мог удивиться Маяковский, до которого весть о появившихся в Париже «кубистах» могла ещё не дойти.
И ему разъяснили суть нового авангардного метода.
Избрание Маяковского старостой заключённых тоже вряд ли обошлось без участия жандармов. И это давало им право с иронией заметить, что такой способный юноша, каким является «товарищ Константин», достоин быть вожаком более интересных людей, чем малограмотные революционеры-пролетарии.
Дело о подпольной типографии эсдеков, по которому проходили мещанин Иванов, крестьянин Трифонов и дворянин Маяковский, тоже могло быть использовано в интересах следствия. Юному эсдеку вполне могли сказать с усмешкой:
– Хорошую компанию выбрал себе «столбовой дворянин» — крестьянин и мещанин! И дело тоже нашёл себе «солидное»: печатать листовки бунтарям-подпольщикам. С кем вы связались, господин Маяковский? С кем дружбу водите?
И выкладывали перед ним номера журнала «Полярная звезда» со статьей Дмитрия Мережковского «Грядущий хам». И зачитывали место о российской интеллигенции (а Маяковский, как наверняка без устали внушали ему следователи, именно к ней и относился), что она-де воплощает «живой дух России», которой угрожают «мощные силы духовного рабства и хамства, питаемые стихией мещанства, безличности, серединности и пошлости».
И ещё «товарищу Константину» красочно расписывали ту опасность, которая (по словам Мережковского) подстерегает Россию в будущем – её могли захватить взбунтовавшиеся рабы, сметая и разрушая всё то, что составляло гордость россиян. И Маяковскому вновь зачитывали строки поэта и публициста Мережковского:
«Одного бойтесь – рабства худшего из всех возможных рабств – мещанства и худшего из всех мещанств – хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть чёрт, – уже не старый, фантастический, а новый, реальный чёрт, действительно страшный, страшнее, чем его малюют, – грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам».
– И вы, молодой человек, – с укоризной произносил жандармский ротмистр, – помогаете этому невежественному Хаму воцариться в родном Отечестве. Делаете всё, чтобы он поступил с Россией так, как призывает революционная песня «Интернационал»:
Весь мир насилья мы разроем
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим, —
Кто был ничем, тот станет всем!
Маяковский молчал. А жандарм продолжал развивать свою мысль:
– К «разрытию» мира воцарившийся Хам приступить может – ведь это ему ничего не стоит. И то, что он «станет всем», вполне допустимо. А вот то, что он новый мир построит, весьма и весьма сомнительно. Для этого знания нужны, опыт. А ваши «товарищи», революционеры, из кого состоят? Из неучей и недоучек. Что они могут – эти недотепы? Как были «ничем», так «ничем» и останутся! И чтобы поддерживать жизнь, воцарившийся Хам бросится искать знающих людей – тех, кто учился и набрался знаний. Специалистов!
Конечно, Маяковский мог поначалу не соглашаться, приводить свои доводы, говорить, что революция неизбежна, а раз так, то заниматься революционными делами необходимо. Но у жандармов было, что сказать ему в ответ.
Попытки сопротивляться
В Охранном отделении знали, что Маяковский сочиняет стихи и записывает их в тетрадку. Поэтому вели с юным стихотворцем беседы о тех поэтах, что были тогда в моде. И предлагали Маяковскому познакомиться с их сочинениями поближе.
Вспомним ещё раз, что сказано в «Я сам» о том, что Маяковский читал в Бутырке:
«Перечёл всё новейшее. Символисты – Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось так же про другое – нельзя. Вышло ходульно и ревплаксиво».
Обратим внимание, что Маяковский талант символистов оценил – признал, что пишут они «хорошо».
И снова возникают уже встававшие перед нами вопросы. Во-первых, откуда у заключённого Маяковского могли взяться книги Бальмонта, который, опасаясь ареста, бежал из страны и проживал в эмиграции? Очень сомнительно, чтобы творения поэта, призывавшего к убийству императора России, можно было свободно получить в тюремной библиотеке.
Откуда же они тогда у «товарища Константина»?
Только с разрешения Охранного отделения.
Между прочим, кто-то из жандармов вполне мог похвалить какое-то его стихотворение – из тех, что были записаны в тетрадке. И эта похвала стала толчком к активному творчеству.
Второй вопрос: поскольку Бальмонт, как мы помним, тоже сидел в своё время в Бутырке, какие именно его стихи позволялось читать заключённому эсдеку Маяковскому? Было ли среди них стихотворение «В тюрьме» из сборника «Горящие здания»? Вот это:
«Мы лежим на холодном и грязном полу,
Присуждённые к вечной тюрьме.
И упорно и долго глядим в полумглу, —
Ничего, ничего в этой тьме…
Нас томительно стиснули стены тюрьмы,
Нас железное давит кольцо,
И, как духи чумы, как рождения тьмы,
Мы не видим друг друга в лицо!»
Давали ли читать «товарищу Константину» стихотворение Андрея Белого «В темнице»? Ведь в нём говорилось:
«Мне жить в застенке суждено.
О да – застенок мой прекрасен.
Я понял всё. Мне всё равно.
Я не боюсь. Мой разум ясен.
Мне говорят, что я – умру,
Что худ я и смертельно болен,
Но я внимаю серебру
Заклокотавших колоколен…
Да – я проклятие изрек
Безумству ввысь взлетевших зданий.
Вам не лишить меня вовек
Зари текущих лобызаний…».
Не этим ли строкам подражал Маяковский, когда сочинял свои – те, что привёл потом в автобиографии:
«В золото, в пурпур леса одевались,
Солнце играло на главах церквей.
Ждал я: но в месяцах дни потерялись,
Сотни томительных дней»?
Когда пришли советские времена, Владимир Владимирович уже не мог признаться в том, что его поэтические способности открыли жандармы из Охранного отделения. Не мог сказать, что это они благословили его на творческую деятельность, дав ему (как стали говорить в начале 30-х годов) путёвку, по которой он попал в страну Поэзию. Об этом в советскую пору говорить было опасно. Но то, что начало «работы» над словом, над стихом произошло именно в 1909 году (в пору самой продолжительной «сидки»), Маяковский ни от кого не скрывал.
У Маяковского, как постоянно говорили ему сотрудники охранки, была блестящая возможность сделать прекрасную карьеру в живописи или в поэзии. А он вместо этого добровольно опускался до уровня рвавшихся к власти «хамов» — бросил учёбу в гимназии.
Такие (или подобные им) разговоры велись с Маяковским постоянно. И доводы жандармов звучали очень убедительно. Параллельно с созданием увлекательной картины жизни на воле весьма живописно расписывались ужасы, которые ожидали его в том случае, если он не послушается добрых советов: три года ссылки в Нарымском крае! Подобная перспектива не могла не пугать – она устрашала.
Играли свою роль и судьбы других арестованных революционеров, о которых Маяковскому тоже наверняка не раз рассказывали.
Кстати, Николай Бухарин, которого арестовали в 1911 году, находился в заключении не слишком долго. И ссылка ему была назначена в места не очень отдалённые. Разве это не дает основания предположить, что он согласился на сотрудничество с Охранным отделением?
Судьба арестанта
Практически каждому взятому под стражу революционеру той поры приходилось несколько месяцев (обычно – полгода) проводить в одиночном заключении, подвергаясь интенсивной «обработке» со стороны опытных сотрудников охранки. Лишь затем ему выносили приговор: либо (в случае согласия сотрудничать) он отправлялся куда-нибудь в глушь европейской России, либо (в случае категорического отказа) ссылался в Сибирь.
Маяковский исключением не был. Его тоже беспрестанно убеждали в бесперспективности революционной деятельности, предлагая работать на своё родное Отечество.
Вот этому напору, по словам Виктора Шкловского, 16-летний эсдек и «сопротивлялся в тюрьме». Поэтому он и «вышел из тюрьмы потрясённый».
Судьбу «товарища Константина» решали не хлопоты его матери в Петербурге, не мифическая помощь скромного работника Московского телеграфа Махмут-Бекова, и уж тем более не факт несовершеннолетия подследственного. Чтобы оказаться на свободе, Владимир Маяковский должен был подписать бумагу, заготовленную жандармами.
И он, судя по всему, её подписал. Иначе не увидел бы воли. Без этой подписи шеф корпуса жандармов Павел Курлов ни за что не выпустил бы его на свободу.
В таком ходе событий вряд ли стоит сомневаться.
Вопрос только в том, какую бумагу подписал Маяковский.
Судя по тому, как стремительно его освободили, можно предположить, что «товарищ Константин» сотрудничать с Охранным отделением согласился.
Многочасовые беседы с жандармами настолько, видимо, обесценили и обесцветили ореол революционера-подпольщика и настолько превознесли статус художника, сокрушающего установившиеся каноны, что Владимир Маяковский принял неожиданное решение, которое изумило друзей и соратников бывшего узника Бутырки. Маяковский заявил, что вообще прекратит заниматься политической деятельностью, так как хочет полностью посвятить себя учёбе.
Обратим ещё раз внимание на одно весьма щекотливое обстоятельство – невероятная стремительность освобождения Маяковского. Не была ли она наградой за то, что «товарищ Константин» выдал кого-то из своих партийных соратников? В подобном повороте событий тоже нет ничего невероятного – такое случалось не раз. Не напрасно же многие эсдеки, как о том говорил Вегер-Поволжец, назвали уход Маяковского из партии «предательством», а самого беглеца «дезертиром».
На этом историю с третьим арестом Владимира Маяковского можно было бы завершить. Но такому повороту событий мешают совершенно неожиданно попавшие на глаза воспоминания московского губернатора той поры Владимира Джунковского.
Иная подоплека
В конце июня 1909 года Владимир Фёдорович Джунковский находился в Полтаве, где присутствовал на торжествах по случаю 200-летия Полтавской битвы. Ранним утром 1 июля он вернулся в Москву, и, конечно же, сразу узнал о побеге каторжанок из Новинской тюрьмы. Поскольку тюрьмы Москвы находились в юрисдикции губернатора, Джунковский сразу же отправился в Новинскую тюрьму, «чтоб на месте узнать все подробности».
Кое-какие подробности он узнал. Кроме того, получил информацию по своим, только ему доступным источникам. И впоследствии написал в мемуарах:
«В конце концов, закулисная сторона этого побега оказалась следующая: уже давно отношение градоначальства, а в частности охранного отделения и охранного управления, по отношению к тюрьмам было отрицательное. Им очень не нравилось, что как я, так и тюремный инспектор твёрдо держались правила не дозволять им никакого вмешательства в дела тюремной инспекции, не допускать в тюрьмы, благодаря чему охранное отделение было лишено возможности вербовать себе сотрудников из политических заключённых в тюрьмах…
Очевидно, охранное отделение, во главе которого тогда стоял полковник фон Коттен, задумало смелый шаг. Оно решило скомпрометировать тюремного инспектора, устроив побег из женской тюрьмы, а самому отличиться поимкой их, как только они выйдут на улицу. Для сего охранное отделение инструктировало свою сотрудницу Тарасову, которую всучило начальнику женской тюрьмы на должность надзирательницы. Начальник тюрьмы, не желая отказывать Коттену, принял её на службу и назначил как сотрудницу охранного отделения в самый серьёзный коридор, где помещались бессрочно-каторжные политические…
Тарасова надула охранное отделение, она сыграла двойную роль, вышла она часом или двумя раньше, чем было условлено с охранным отделением, почему наряд, посланный этим отделением, чтоб захватить их, когда они выйдут из тюрьмы, запоздал».
Здесь Джунковский немного запамятовал – возглавлявший Охранное отделение Москвы Михаил Фридрихович фон Коттен был в звании подполковника. Александр Павлович Мартынов в книге «Моя служба в отдельном корпусе жандармов» пишет:
«До перевода в Москву фон Коттен занимал скромную должность офицера для поручений при Петербургском охранном отделении, заведуя каким-то специальным отделом при проверке паспортов, и никакой мало-мальски ответственной работы, собственно относящейся к агентурному обследованию, не вёл».
Неожиданное назначение фон Коттена главой московской охранки, вызвало у многих недоумение и породило сомнения в его способности наладить работу Охранного отделения должным образом. Вполне естественно, что ему хотелось в срочном порядке продемонстрировать свой профессионализм. А для этого требовалось предъявить несколько крупных побед-достижений в розыскной работе. И эти «победы» по его приказу жандармы принялись создавать.
Так что Джунковский вполне прав, заявив о том, что Охранное отделение Москвы затеяло провокацию, направленную против существовавшего порядка вещей. Отвечая на вопросы Чрезвычайной следственной комиссии в 1917 году, он сказал:
«Провокацией я считаю такие случаи, когда наши агенты сами участвовали в совершении преступления… Сами устроят типографию, а потом поймают и получают ордена. Вот относительно таких вещей я был немилосерден».
И таких провокаций Охранное отделение Москвы затевала немало. Явной провокацией, организованной фон Коттеном, было раскрытие тайной типографии московских эсдеков. Вряд ли стоит сомневаться в том, что появление в доме Коноплина гимназиста Маяковского подстроила охранка, которой нужны были неопровержимые улики того, что именно собирались печатать подпольщики.
И подкоп под Таганскую тюрьму тоже явно вели по указанию фон Коттена. И побег тринадцати политкаторжанок был организован жандармами.
Джунковский рассказал ещё про одну провокацию – Охранное отделение Москвы наладило сбыт липовых бомб – якобы для устройства покушений. Так что террористов можно было спокойно брать с поличным.
Значит, получается, что никакого геройства в действиях революционеров-подпольщиков, освободивших женщин-каторжанок, нет?
Но если так, то тогда и личность главного организатора побега, Исидора Морчадзе-Коридзе, сразу же тускнеет. И его дерзкий побег из Туруханского края, куда он был сослан на четыре года, лихость свою тоже теряет. Выходит, что этого отважного эсера, арестованного в конце 1906 года, в тюрьме всё-таки «сломали», и он стал агентом охранки? И побег из Сибири ему организовали? И в Москве выправить новый паспорт помогли? И подкоп под Таганку был «подсказан» ему Охранным отделением?
А то, что побег каторжанок произошёл раньше срока, намеченного жандармами, говорит, стало быть, о том, что Исидор Морчадзе являлся двойным агентом. Как Евно Фишелевич Азеф – работал и на охранку и на свою партию. В арестованном дворянине Кутаисской губернии жандармы намеренно не хотели распознать Исидора Морчадзе, продолжая упорно называть его Сергеем Коридзе. Не в этом ли было несокрушимое алиби отважного эсера, которое давало ему возможность не бояться никаких разоблачений?
И то, что почти ничего не известно насчёт приговора ему за организацию побега, тоже, надо полагать, связано с «укрыванием» жандармами своего агента.
Что же получается? Что вовсе не отважные революционеры-подпольщики, а охранка организовала все три революционные акции, обещавшие стать весьма громкими: ограбление банка «шайкой грабителей» (экспроприацию), подкоп под Таганскую тюрьму и побег политкаторжанок. Осуществить удалось только последний замысел.
Стало быть, следователю Тихону Рудневу заранее было известно о том, что Маяковский играл в этих делах незначительную роль. Поэтому юный эсдек и не оказался в числе главных обвиняемых. Его продолжали держать в тюрьме только для того, чтобы перековать в агента охранки.
Однако о провокации, затеянной Московским охранным отделением, дознались в Министерстве внутренних дел. И над подполковником Михаилом фон Коттеном стали сгущаться тучи.
Владимир Джунковский:
«Что же касается охранного отделения и его начальника фон Коттена, то дело было замято Курловым, а Коттен был переведён в Петербург, получив таким образом повышение. Он был назначен туда начальником охранного отделения. Когда я был назначен товарищем министра и в моё ведение перешёл Департамент полиции, ко мне по службе явился представиться фон Коттен. Я его принял и заявил ему, что мы вместе служить не можем. Когда же он сделал удивлённые глаза, то я прибавил: „Почему мы не можем служить вместе, вы должны понять лучше меня, вспомните побег из женской тюрьмы“. Он опустил глаза, ничего не ответил и на другой день подал в отставку».
Иными словами, генерал Джунковский прямо заявил, что российская охранка провокации организовывала. Главным образом, для того, чтобы получать ордена, продвигаться по службе.
Возникает вопрос: а можно ли верить тому, что написал Джунковский?
Возглавивший в 1912 году Московское охранное отделение подполковник Александр Павлович Мартынов в своих воспоминаниях высказывался о генерале Джунковском не очень одобрительно:
«Это был, в общем, если можно выразиться кратко, но выразительно, круглый и полированный дурень, но дурень чванливый, падкий на лесть и абсолютно бездарный человек…
Генерал Джунковский не любил Корпуса жандармов уже по тому одному, что офицеры этого Корпуса ему, как губернатору, подчинены не были. Независимость он в других не любил».
Напомним, как описал Джунковского поэт Александр Блок, работавший секретарём Чрезвычайной следственной комиссии:
«Говорит мерно, тихо, умно… Лицо значительное, честное… Очень характерная печать военного… Прекрасный русский говор».
С генералом Владимиром Джунковским мы встретимся ещё не раз.
А вот над тем, в чём состояла партийная работа Владимира Маяковского, каким он был революционером, пришла пора основательно призадуматься.
«Революционная» деятельность
Как написано практически во всех биографиях Маяковского, его нуждавшаяся в средствах семья сдавала койки в своей квартире студентам. Студенты вели беседы на «революционные» темы. Гимназист Маяковский слушал эти разговоры и читал нелегальную литературу, которую брал у жильцов. Его энтузиазм заметили и стали давать поручения: отнести кому-то записку, передать брошюру или листовку. Работу эту молодой гимназист выполнял с удовольствием, поскольку в ней было нечто романтичное. И, главное, ничего не надо было учить, никто не требовал отчёта о выученном, как в гимназии, учёба в которой, как мы помним, у паренька не заладилась, и у него пошли…
«Единицы, слабо разноображиваемые двойками».
И Маяковский учиться бросил. Но вовсе не потому, что вступил в РСДРП, а из-за отставания по основным предметам: математике, латыни, греческому языку. Потому и в Строгановское училище собрался поступать, что там этих предметов не изучали.
В тайных гимназических кружках Маяковский не участвовал, поэтому в документах охранки, в которых перечисляются фамилии революционно настроенных гимназистов, он не упоминается.
Весной 1907 года Гирш Бриллиант и Николай Бухарин провели в Сокольническом лесу слёт революционно настроенной молодёжи. Участвовал ли в той маёвке гимназист Маяковский? Мы предположили, что он мог в ней участвовать. Но подтверждений этому нет. И, главное, сам Маяковский нигде не упоминает о подобном сверхромантичном партийном мероприятии.
Вспомним ещё раз, как в «Я сам» описано начало его подпольной работы:
«1908 год. Вступил в партию РСДРП (большевиков). Держал экзамен в торгово-промышленном подрайоне. Выдержал. Пропагандист. Пошёл к булочникам, потом к сапожникам и наконец к типографщикам. На общегородской конференции выбрали в МК. Были Ломов, Поволжец, Смидович и другие. Звался „товарищем Константином“».
Есть этим словам подтверждение? Кто-нибудь ещё говорил о Маяковском нечто подобное?
Нет!
Рассмотрим этот фрагмент со вниманием. В нём речь идёт о том, что юный Маяковский стал пропагандистом.
Но кто такой пропагандист? Это человек, умеющий доходчиво растолковывать трудные для понимания вещи. Обладал ли такой способностью гимназист-двоечник Маяковский? И есть ли свидетельства, говорящие о том, что он в самом деле работал пропагандистом у булочников и сапожников?
Таких свидетельств нет. Существует лишь рассказ Аркадия Самойлова (мы его уже приводили), в котором охарактеризовано первое не очень удачное выступление «товарища Константина» перед рабочими (булочниками или сапожниками):
«… в нашем кружке нужно говорить гораздо проще, чем говорил он, …слушатели кружка не совсем разобрались в том, что он им рассказывал, не всё дошло до их сознания».
Иными словами, «пропаганду» молодого Маяковского слушатели воспринимали с трудом, то есть «пропагандистом» он был посредственным. Да и в дальнейшей жизни ему постоянно говорили, что люди его не понимают.
А что касается членства Маяковского в Московском комитете партии социал-демократов, то даже большевик Иван Карахан, который одним из первых ввёл его в компанию молодых революционеров, впоследствии написал:
«По вопросу о том, мог ли быть В.В.Маяковский членом МК партии в 1907–1908 году, – я думаю, что не мог, а позднее – в 1909–1910 году – мог быть. Туда входили опытные партийцы со стажем».
Но в 1909 году семь месяцев Маяковский провёл в тюрьме, в 1910-ом партийными делами вообще перестал заниматься. А в 1907–1908 годах он был ещё неопытным пареньком, так что введение его в Московский комитет партии в ту пору весьма и весьма сомнительно. Так что никак не мог он оказаться на равных с «опытными партийцами со стажем».
Владимир Вегер-Поволжец фактически разделял сомнения Ивана Карахана:
«Маяковский говорит, что на общемосковской конференции он был „избран“ в состав МК партии. Здесь неудачно употреблено слово „избран“, так как может быть сделан вывод, что выборы имели обычный характер, как делается сейчас. В то время так не делалось, конференция проходила в лесу, Сокольниках. Сокольническая конференция сформировала Московский комитет. Туда был введён Маяковский».
То есть Вегер как бы подтверждает, что если бы Маяковский на самом деле был введён в МК РСДРП на конференции в Сокольническом лесу, он на всю жизнь запомнил бы, как проходила его кооптация, и никогда не спутал бы её с «избранием», которого не было и быть не могло.
Теперь о знакомстве с видными большевиками.
Вегер-Поволжец направил пришедшего к нему Маяковского в Лефортово – к Георгию Оппокову-Ломову, который уезжал в Петербург. Маяковский стал Ломову помогать: разносил листовки, прокламации, нелегальную литературу, оповещал людей о намеченных мероприятиях. Оппоков-Ломов мог брать его на какие-то нелегальные встречи, на которых присутствовали видные подпольщики, члены МК РСДРП: Пётр Смидович, Иван Скворцов, Денис Загорский. Маяковский их запомнил, они его – нет. На какой-то тайной сходке пришедшего вместе с Оппоковым Маяковского мог заметить секретный агент охранки и внести его в свой отчёт начальству. Когда арестованному Маяковскому следователи сообщили, что по их данным, он является членом МК, это могло удивить его самого.
Уехавшего в Питер Оппокова-Ломова заменил другой партийный организатор – какой-то другой опытный эсдек, у которого были свои помощники. Маяковский стал ему не нужен. И гимназиста отправили, по его же собственным словам, «к типографщикам». Это тоже весьма сомнительно – ведь он никогда типографскими делами не занимался.
Да, его могли попросить напомнить опытному типографщику Трифонову, что тот приглашён на тайное совещание. И Маяковский напомнил. А потом принёс в типографию компрометирующие её прокламации. Этот «принос» явно был организован Охранным отделением. Вот почему задержанный в засаде «потомственный дворянин» так возмущался, а потом (на допросе) ещё и написал:
«… никакого отношения к каким бы то ни было революционным организациям… я не имел и не имею».
А ведь настоящие (убеждённые) революционеры-подпольщики своей партийной принадлежности не скрывали. Вспомним, как эсер-террорист Иван Каляев, совершивший покушение на Великого князя, кричал, когда его на извозчике увозили из Кремля:
«– Долой проклятого царя, долой проклятое правительство, да здравствует партия социалистов-революционеров!»
А Маяковский от своей принадлежности к «Московской организации Российской социал-демократической рабочей партии» отказывался категорически. И неоднократно!
Когда он вышел на свободу, подпольщики сразу же должны были дать ему понять, что к революционеру, который «засветился» в полиции, прежнего доверия уже нет, поэтому нелегалам он не нужен. К тому же Маяковский и по своей комплекции не очень подходил для подпольной работы – слишком был рослый, высокий, сразу бросался в глаза.
Как бы там ни было, но в «Я сам» (образца 1922 года) о подпольной работе сказано:
«Здесь работать не пришлось – взяли».
Не удивительно, что Маяковский стал общаться с членами совсем другой социалистической партии – с эсерами. И во второй раз его арестовали по делу, затеянному ими.
Получается, что к революционному движению Владимир Маяковский имел точно такое отношение, как и Николай Хлёстов, попавший за решётку только потому, что жил в квартире, в которой была устроена засада. А у Маяковского приятели были нелегалы, вот вместе с ними ему и пришлось сидеть. И вёл он себя в тюрьме как человек, потерявший свободу по недоразумению.
Кстати, и Сергей Медведев, ближайший в ту пору друг Маяковского, которому он сообщил о своем намерении покинуть партийные ряды, написал:
«У меня плохо сохранилось в памяти содержание того разговора с Маяковским после выхода его из Бутырской тюрьмы..».
Да и был ли вообще тот разговор? Видимо, ничего экстраординарного в поступке получившего свободу узника не было, иначе память сохранила бы подробности.
И мать Маяковского была абсолютно права, когда писала:
«Я не допускаю, чтобы мой сын был каким-либо организатором или членом какой-либо преступной партии».
Иными словами, получается, что никакой революционной деятельностью юный Маяковский всерьёз не занимался. Он просто находился в приятельских отношениях с революционно настроенными студентами (жильцами), за что трижды и поплатился.
Часть вторая Стихотворное бунтарство
Глава первая Перенацеленная жизнь
Долгожданная свобода
13 января 1910 года вышла в свет книга Дмитрия Мережковского «Больная Россия», в которую были включены его критические статьи о жизни церкви.
Вышедший на свободу Владимир Маяковский никакого заболевания своей родины не ощущал. Все его мысли были направлены на то, чтобы наверстать упущенное. И он отправился догонять то, что ушло вперёд – в студию художника Станислава Юлиановича Жуковского. Потом написал в автобиографии:
«Взялся за живопись. Учился у Жуковского. Вместе с какими-то дамочками писал серебренькие сервизики. Через год догадался – учусь рукоделию».
О том, что учится совсем не тому, к чему стремился, Маяковский «догадался» не «через год» — факты (и документы) говорят о том, что обучение у Жуковского длилось всего четыре месяца.
Что в тот момент происходило в жизни России?
Вновь обратимся к «Воспоминаниям» московского губернатора Владимира Джунковского. В них описан инцидент, произошедший в самом начале весны 1910 года.
«3 марта в Государственной думе в Петербурге произошёл целый скандал…
Член Думы Пуришкевич стал говорить, … что левое студенчество – это «все, – по словам Пуришкевича, – евреи, а над ними профессора, среди коих тоже немало евреев, и потому в университетах воцарилась анархия». При этом, как иллюстрацию, Пуришкевич привёл пример, что…
– В Петербургском университете среди членов Совета старост на юридическом факультете находится женщина-еврейка, которая носит название «юридической матки» и находится в близких физических сношениях со всеми членами Совета.
В Думе поднялся шум, крики:
– Негодяй! Вон его!
Пуришкевич кричал:
– Это верно, господа, правда, верно!
Опять крики:
– Негодяй! Вон!
Пуришкевич:
– Нет, я не уйду!..
Оппозиция негодовала. Депутаты, с Милюковым во главе, требовали лишить слова Пуришкевича, а справа кричали Милюкову:
– Пошёл вон!»
Кто он такой – тот, кого так яростно гнали с думской трибуны?
Владимир Митрофанович Пуришкевич происходил из семьи крупных бессарабских землевладельцев. Окончил Кишинёвскую гимназию с золотой медалью. Затем изучал историю – с отличием завершил обучение на историко-филологическом факультете Императорского Новороссийского университета (в Одессе). Во время неурожая 1897-98 годов организовал сбор средств в пользу голодающих и открыл на юге России двадцать бесплатных столовых, чем спас от голода тысячи местных крестьян. Был одним из лидеров монархической организации «Союз Русского Народа» и создателем черносотенного «Русского Народного Союза имени Михаила Архангела». При этом (ещё со студенческой скамьи) сочинял стихи:
«Стихов просили вы моих,
На «век» наш негодуя,
Что скажет вам мой бледный стих,
Что им сказать могу я,
Когда обман и ложь вокруг,
Смятенье и тревога,
Когда вчерашний друг – не друг,
И, позабывши Бога,
Идём мы бешено вперёд,
Свергая для забавы
В годину тяжкую невзгод
Устои нашей славы?..»
Но не поэзия прославила стихотворца Пуришкевича, а его скандальные выходки во время заседаний Государственной Думы, депутатом которой он являлся (примыкал к правым монархистам). Одним из «бранных», сеявших «бурю» стал для него день 31 марта 1910 года, когда в Государственной думе вспыхнул очередной скандал. Он возник во время выступления Павла Николаевича Милюкова, историка, оппозиционера (в 1901 году отсидевшего за это несколько месяцев в тюрьме), одного из создателей Конституционно-демократической партии (кадетов). Милюков задал вопрос:
«– Куда же идёт наша государственность? Не идёт ли на смену октябристам более правая сила? Вот ужасное сообщение «Русского знамени», что Государь и наследник состоят членами «Союза русского народа», не опровергнуто».
«Русское знамя» было ежедневной газетой «Союза Русского Народа», выходившей под девизом: «За Веру Православную, Царя Самодержавного, Отечество нераздельное и Россию для Русских». О том, что ответили кадету Милюкову на его вопрос, не являются ли царь и его сын черносотенцами – в воспоминаниях Владимира Джунковского:
«– Потому что это правда! – крикнул Пуришкевич.
На правых скамьях поднялся шум.
– Обвинение монарху, – продолжал Милюков, – что он состоит членом союза убийц и погромщиков.
При этих словах правые, вскочив с места, стали потрясать кулаками, слова: «сволочь», «мерзавец», «морду побью», «жидовский наёмник», «скотина», «последний зуб выбьем» и другие ругательства раздавались в воздухе.
Милюков, выждав данный ему срок для речи, сошёл с кафедры, правые кричали ему вслед «мерзавец» и «подлец».
Когда наступила тишина, на кафедру вошёл П.А.Столыпин и произнёс речь… Речью Столыпина всё было исчерпано и понемногу страсти улеглись».
Да, страсти в Думе «улеглись», депутаты немного успокоились, но некоторый осадок в душах россиян, читавших об этом в газетах, всё же остался.
Как бы откликаясь на шумные инциденты в Государственной думе, на всю Россию прозвучало ехидное восклицание:
«О, рассмейтесь, смехачи!»
Именно так начиналось стихотворение «Заклятие смехом» никому не известного поэта В.Хлебникова, напечатанное в вышедшем в марте 1910 года сборнике «Студия импрессионистов».
Наступил апрель. В Москве открылась выставка, посвящённая воздухоплаванию, которое тогда только зарождалось. Посмотреть на летательные аппараты, способные взмывать в воздух и летать, пришла вся Москва – аэропланы завораживали в ту пору всех. Причём намного больше, чем, скажем, новые поэтические сборники.
Впрочем, сами стихотворцы к тому, что публика обходила их вниманием, относились с улыбкой. И в том же апреле мало кому известное петербургское издательство «Журавль» выпустило сборник «заклятых смехом» поэтов, называвших себя «гилейцами» или «будетлянами». Последнее слово было придумано одним из этих «будетлян», Виктором Хлебниковым, который и придумал название изданной книжки – «Садок судей». Напечатана она была на оборотной (жёлтой) стороне бумаги, предназначенной для обоев. В ней демонстративно не употреблялись некоторые буквы российского алфавита: «ять», «фита», «ижица», «твёрдый знак». Тираж был небольшой – всего 300 экземпляров. Но сборник громко призывал:
«Рассмейтесь, смехачи!»
Смысл названия своей книжки – «Садок судей» – сами «гилейцы-будетляне» растолковывали так: поскольку «садок» – это ловушка для зверей и дичи, устройство для сохранения пойманной рыбы, то «садок судей» — это некое «устройство» или «ловушка», которую соорудили некие «судьи» для того, чтобы устроить над пойманными суд.
Один из гилейцев, Василий Каменский, потом прямо заявлял, что их сборник стал бомбой, брошенной…
«… в уездную безотрадную улицу общего бытия, …она с оглушительным грохотом разорвалась… на мирной дряхлой улице литературы».
В честь такого необыкновенного события был совершен «весенний марш будетлян», в котором участвовали Давид Бурлюк, Василий Каменский и Виктор Хлебников. Участники «марша» с тюльпанами в петлицах торжественно прошли по петербургскому проспекту Каменного острова.
Маяковский об этом событии вряд ли что-то знал – ведь про «будетлян» в ту пору никто ещё слыхом не слыхивал, а книжица в 300 экземпляров могла взволновать лишь очень небольшую группу завзятых любителей поэзии. Впрочем, среди тех, кто на её выход откликнулся, был и всеми признанный поэт-символист Валерий Яковлевич Брюсов, написавший:
«Сборник переполнен мальчишескими выходками дурного вкуса, и его авторы прежде всего стремятся поразить читателя и раздразнить критиков».
Лев Николаевич Толстой в самом начале 1910 года тоже возмущался. И даже опубликовал статью, в которой упомянул прочитанное им стихотворение, которое называлось «Хабанера-2». Оно принадлежало перу другого поэта левого толка – Игорю Северянину. Великого русского писателя задели строчки:
«Вонзите штопор в упругость пробки —
и взоры женщин не будут робки!»
Толстой написал:
«И такую гнусность смеют считать за стихи? Чем занимаются, чем занимаются? И это литература?! Вокруг виселицы, полчища безработных, убийства, пьянство невероятное, а у них – упругость пробки!»
Говоря о виселицах, Толстой имел в виду военно-полевые суды, приговаривавшие террористов к смертной казни через повешенье.
Наступило лето.
Саратовский епископ Гермоген (Долганов) выступил с требованием отлучить от Русской православной церкви Дмитрия Мережковского, автора «клеветнической» книги «Больная Россия».
Сам Мережковский в это время (в связи с ухудшившимся здоровьем) находился во Франции, где писал вторую книгу своей трилогии «Царство Зверя» – «Александр I» (первой была драма «Павел I»).
А в студии Станислава Жуковского начались каникулы, и неудовлетворённый четырьмя месяцами обучения Маяковский отправился в Саратов – по приглашению Николая Хлёстова, своего доброго приятеля и бывшего сокамерника.
Эта поездка вольного художника Маяковского подтверждает наше предположение о том, что прочных связей с революционными партиями у него не было – ведь если бы он состоял членом какой-либо подпольной организации, то вряд ли ему позволили бы так вольно распоряжаться своим временем и самим собою.
Хлёстов потом вспоминал:
«Часто мы уходили на Волгу с Володей вдвоём по утрам. Брали небольшую лодку и отправлялись в поход. Володя любил тянуть лодку лямкой и имел очень живописный вид, когда, полуодетый, закинув за плечо бичеву, поддерживал её одной рукой, широко шагая, размахивая в такт рукой. Я сидел на корме и, конечно, пел. Когда предлагал ему меняться местами, он отказывался:
– Нет, я потяну, а ты сиди, пой про Степана, пой во весь голос!
И гремел своим басом на всю Волгу:
– Ог-го-го!
Шагал и широко и быстро, а иногда бежал по влажному, плотному песку. Лодка легко скользила по реке, а за кормой бурлила вода…
Выбрав живописное место, мы останавливались, купались, загорали, разводили костёр, пили чай, закусывали. Вот здесь-то он мне рассказывал о своей жизни в Грузии, об отце, друзьях детства, даже, увлёкшись, говорил по-грузински. Потом мы с ним вместе пели: «Из-за острова на стрежень», «Трансвааль, Трансвааль, страна моя»».
Песнями дело не ограничивалось. Николай Хлёстов приобщал Маяковского и к серьёзной музыке:
«Помню, ко мне в Саратове приходил мой товарищ, пианист, и играл нам Шопена. Вальсы Володя похвалил, но как-то равнодушно, зато „Революционный этюд“ Шопена произвёл на него сильное впечатление, и он восхищённо сказал:
– Вот это музыка!
Из оперных арий Маяковский любил больше всего арию князя Игоря».
Ария эта, как известно, начинается со слов: «О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить». Если вспомнить о том, что узникам царских тюрем за своё освобождение нередко приходилось платить сделкой с совестью, эти слова начинают звучать весьма драматично.
Николай Хлёстов:
«Слушали мы вместе с ним сонаты Бетховена: Восьмую, Четырнадцатую, „Аппассионату“ – и „Прелюдии“ Рахманинова… Эти пьесы ему также нравились. Особенно сонаты Бетховена».
В конце июля чудный саратовский отдых пришлось завершить – надо было устраивать учебные дела.
Возобновление учёбы
Николай Хлёстов, вскоре тоже вернувшийся в Москву и опять поселившийся у Маяковских, про своего приятеля написал:
«За лето он заметно изменился. Видимо, волжские просторы подействовали на него. Он стал как будто бы ещё выше, голос зазвучал громче, гуще, увереннее. Все его движения стали шире, стремительнее, энергичнее и приобрели какую-то удаль, размах».
Для продолжения учёбы Маяковский стал искать другую студию. Его будущая соученица, Лидия Александровна Иконникова, потом вспоминала:
«В Тихвинском переулке, на самом верху многоэтажного белого дома помещалась мастерская известного художника Петра Ивановича Келина, готовившего учеников в Училище живописи, ваяния и зодчества».
Пётр Келин тоже оставил воспоминания:
«Пришёл юноша. Высокого роста, басистый. Я пошутил даже:
– Вам бы Шаляпиным быть!
– Нет, меня тянет больше к живописи. Вот принёс рисунки, посмотрите – как. Я уже занимался в студии Жуковского, да не нравится мне там. Там всё больше дамочки занимаются. Вот мне и посоветовали пойти к вам…
Мне он очень понравился. Я даже не предложил ему две недели заниматься «на пробу». Подготовлен он был слабо, но очень понравился мне своим свободным, открытым лицом, скромностью, застенчивостью. А самое главное – сразу было видно, что он не кулачок, рассчитывающий на искусстве нажить деньгу. Он даже не спросил: а выйдет из меня что-нибудь или не выйдет?»
Незадолго до этого Маяковский подал прошение ещё в одно учебное заведение, в более солидное:
«Господину директору Училища живописи, зодчества
От дворянина
Владимира Владимировича
Маяковского
Прошение
Имею честь покорнейше просить о допущении меня к конкурсному экзамену для поступления вольным посетителем в начальный класс художественного отделения Училища.
При этом представляю метрическое свидетельство о рождении и три фотографические карточки.
Жительство имею: Москва, Новая Божедомка, дом Сергеевой, № 3, квартира № 11.
Владимир Владимирович Маяковский
3 августа 1910 года».
Попытку поступить в это Училище Пётр Келин не одобрил:
«Я ему не советовал держать этот экзамен.
– Вы ещё слабы, Маяковский, вам надо ещё годик поработать.
– А попробую, Пётр Иванович, что я теряю?
Экзамена он тогда не выдержал, но не упал от этого духом.
Другие приходили скучные, грустные, что не попали, …а он пришел жизнерадостный.
– Я хочу у вас ещё годик основательно позаниматься.
– Ладно, – говорю я ему, – я за вас ручаюсь: через год вы будете в фигурном классе, а сейчас вы были бы в головном».
«Головной» класс – начальный, подготовительный.
Начались занятия в мастерской Петра Келина.
Маяковский очень быстро освоился, стал неформальным лидером обучавшихся там молодых людей. Лидия Иконникова, поступившая позже всех и опоздавшая на первое занятие, сразу это заметила:
«Когда я вошла в мастерскую – большую комнату, увешанную гипсовыми масками, этюдами и рисунками, – все ученики уже сидели на местах и что-то рисовали углём.
Не видя нигде свободного места, я в нерешительности остановилась у порога. Сидевший недалеко от двери ученик с серьёзным лицом и большими тёмными глазами искоса взглянул на меня и, продолжая рисовать, сказал:
– Проходите, товарищ, в задний ряд, не стесняйтесь, там есть свободное место.
Эти слова, сказанные мягко и приветливо, и столь необычное обращение «товарищ», удивившее меня, придали мне смелости, и я уверенно направилась на указанное место».
Необычная манера Маяковского обращаться к ученикам со словом «товарищ», удивляла многих. Никто, конечно, не знал, что тут сказывалась привычка, выработавшаяся от общения с подпольщиками-революционерами.
Лидия Иконникова описала, как Маяковский объявлял перерывы в занятиях:
«Он делал это в шутливой форме, но с самым серьёзным лицом:
– Ежели которые прочие желают, то могут отдохнуть от трудов праведных.
Или:
– Антракт десять минут, которые опоздавши, пускаться не будут».
Пётр Келин:
«Вообще Маяковский был зачинщиком. В перерывах вокруг него собирались ученики. Шутник был страшный, всегда жизнерадостный, острит, рассмешит всех…
Но дамочек, вертящихся около искусства, он недолюбливал: мешают они серьёзно заниматься. Дураков тоже не любил».
Однажды, проверяя работы, выполненные учениками, Келин дошёл до Маяковского. И тут, по словам Иконниковой, случилось следующее:
«Быстро пробежав углём по его рисунку и не сделав ни одной поправки, Пётр Иванович спросил:
– Ну, как, Маяковский, нравится вам ваше произведение?
– Нравится, – последовал ответ.
– Считаете, стало быть, что рисунок хорош?
– Считаю, что хорош.
– Н-да-а…, – покачав головой, протянул Пётр Иванович и, пристально посмотрев на своего ученика, сказал не без строгости. – Ну, батенька, самоуверенности у вас на десятерых хватит. Может быть, это и хорошо, – добавил он уже другим тоном, – но не забывайте, дорогой мой, что художник, который не сомневается в себе и всегда доволен собой, умер для искусства. Чуете?
И уже вставая с табуретки, сказал, добродушно улыбаясь:
– А рисунок ваш мне тоже нравится. Рисунок хорош, ничего не скажешь!
Помню, что меня сильно удивило тогда, что учитель и ученик, бывший в два раза моложе своего учителя, разговаривали друг с другом как равные, чуть ли не как два товарища».
Освоение профессии
Наступил декабрь 1910 года. Занятия в мастерской Келина шли своим чередом. Её руководителя Маяковский охарактеризовал так:
«Реалист. Хороший рисовальщик. Лучший учитель. Твёрдый. Меняющийся. Требование – мастерство… Терпеть не могущий красивенькое».
Сам же Маяковский принялся вдруг на полном серьёзе уверять окружающих, что придёт время, и он своим творчеством удивит мир. Как-то ученики рисовали лицо молоденькой натурщицы. Пётр Келин проверял их работы. Подошёл к Маяковскому (вновь воспоминания Иконниковой):
«Пётр Иванович долго всматривался в рисунок, сидя на низенькой скамеечке и обхватив руками колени. Потом опустил руку с углём и сердито сказал:
– Ничего не понимаю! Накрутил тут каких-то верёвок, узлов… Ведь так только железные дороги обозначают. А ещё говорит: «Маяковский удивит мир!»» Уж не такими ли рисунками собираетесь удивлять мир, голубчик?
Маяковский молчал. Взглянув на своего помрачневшего ученика, Пётр Иванович, уже начиная остывать, спросил:
– Да вы скажите прямо, может быть, вам натура не нравится?
– А что тут может нравиться? – пожал плечами Маяковский. – Смазливенькая физиономия с конфетных бумажек и обёрток с туалетного мыла Брокар и К".
– Эх, Маяковский! – вздохнул Пётр Иванович, поднимаясь с места. – Мудрить, батенька, будете потом, когда сделаетесь великим художником! – в голосе Петра Ивановича прозвучала досада. – А теперь начинайте-ка снова, да ладом!»
Кто знает, не заставила ли Маяковского рисовать натурщицу не так, как положено, выставка, открывшаяся в Москве 10 декабря? На ней были выставлены работы художников Давида Бурлюка, Натальи Гончаровой, Василия Кандинского, Михаила Ларионова, Казимира Малевича, Ильи Машкова и других, писавших свои картины не так, как все, а по-своему, в манере, отличавшейся от официально признанной.
Называлась выставка (название предложил Михаил Ларионов) довольно необычно – «Бубновый валет». Оно удивляло, забавляло, а кого-то даже могло заставить содрогнуться. Ведь «бубновыми валетами» называли в ту пору каторжников, на робу которых (сзади, на спину) нашивался ромб.
Впрочем, официально название выставки толковалось несколько иначе – к примеру, газета «Московские ведомости» писала:
«Название „Бубновый валет“ символизирует идею выставки: молодость (валет) и душевный жар, горячее увлечение (бубны, бубновая масть). Одна из целей выставки – извлечь на свет новые молодые силы».
К сожалению, ни одного воспоминания об отношении Маяковского к той выставке и к представленным на ней работам найти не удалось. Отыскалось лишь свидетельство всё той же Лидии Иконниковой о том, как Маяковский отреагировал на упрёк в подражательстве:
«Помню, как-то в другой раз, Пётр Иванович, рассматривая рисунок Маяковского, нашёл в нем подражание Врубелю. Маяковский что-то возразил. Пётр Иванович в ответ шутя заметил, что, во всяком случае, фамилия Врубель нравится ему больше, чем фамилия Маяковский.
– А мне, – не смущаясь, заявил Маяковский, – фамилия Маяковский нравится гораздо больше!
Пётр Иванович только головой покачал».
Кто знает, не было ли знакомо Маяковскому стихотворение Андрея Белого «Искуситель», посвящённое художнику Михаилу Александровичу Врубелю? Его строки вполне могли разбередить воспоминания у ученика Петра Келина:
«О, пусть тревожно разум бродит
И замирает сердце – пусть,
Когда в глазах моих восходит
Философическая грусть.
Сажусь за стол… И полдень жуткий,
И пожелтевший фолиант
Заложен бледной незабудкой;
И корешок, и надпись: Кант».
Строки, посвящённые Врубелю, могли напомнить Маяковскому его недавнее увлечение революционной философией. Речь о ней он уже ни с кем не заводил – новые впечатления и заботы поглотили его так, словно у него никогда и не было бунтарского прошлого. Да и было ли оно? Столь стремительное его забвение убеждает в том, что на самом деле это был самый обыкновенный подростковый нигилизм, о котором через несколько лет в первой своей поэме он скажет: «Я над всем, что сделано, ставлю „nihil“», то есть «ничто».
А как в ту пору шли дела у революционеров-подпольщиков, с которыми наш герой перестал общаться – ведь в конце 1910 года в России начался очередной революционный подъём?
16 декабря в Санкт-Петербурге вышел первый номер легальной газеты социал-демократов – «Звезда». Её статьи крайне взрывного содержания были обращены к молодым людям, набиравшимся знаний. И студенты мгновенно отреагировали на эту агитацию.
Вот как события начала 1911 года описаны Владимиром Джунковским:
«В конце января во всех высших учебных заведениях не только Москвы, но и других университетских городов неожиданно как-то вспыхнули среди молодёжи волнения, началось брожение, большая часть молодёжи решила бастовать, срывать лекции, другая, меньшая, группа стремилась к занятиям.
Профессора продолжали читать лекции, имея иногда в аудитории всего несколько человек слушателей, а так как бастовавшие студенты начали даже производить насилия, избивая своих товарищей, желавших заниматься, не допуская профессоров в аудитории и т. п., то в университет была введена полиция для охранения аудиторий во время чтения лекций и ареста студентов, призывавших к насилию…
А весь сыр-бор разгорелся из-за того, что… за границей революционеры постановили произвести атаку на слабую сторону государственного строя России».
Владимир Пуришкевич тотчас напомнил депутатам Государственной думы, что он предупреждал их о волнениях, которые могут начаться среди студенчества, но его не послушали.
1 февраля студенты, обучавшиеся в академиях, выпустили воззвание, в котором, в частности, говорилось:
«Русские университеты переживают тяжёлое время, они перестали быть храмом науки, аудитории обращены в центры незаконных сборищ, наши университеты погибают. Студенчество катится по наклонной плоскости, подталкиваемое всевозможными подпольными коалиционными комитетами, устрашающими студентов и питающими их едкой политикой, а оно, студенчество, соглашаясь на забастовку, служит, таким образом, невольным и послушным орудием политических партий…
… мы поднимаем свой голос, призывая студенчество присоединиться к девизу: "Родина, честь, наука. Долой забастовку! "»
Молодые люди, учившиеся в мастерской Келина и прекрасно знавшие о том, что происходило в университетах страны, никаких забастовок не устраивали. Бывший «пропагандист» Маяковский тоже оставался равнодушным к призывам революционно настроенных юнцов.
Пётр Келин:
«В студии стояло пианино, и ученики в перерывах часто пели хором. Мне рассказывали, что у Маяковского слуха совсем не было».
Утверждение странное. Ведь Николай Хлёстов, профессионально обучавшийся пению, отсутствия слуха у своего приятеля не заметил. Во всяком случае, ничего об этом не написал.
Ещё одно воспоминание Петра Келина о Маяковском:
«Это был удивительно трудоспособный ученик, и работал очень старательно: раньше всех приходил и уходил последним. За весь год пропустил дня три только. Он говорил:
– Знаете, Пётр Иванович, если я не приду работать в студию, мне будет казаться, что я сильно болен – мне тогда день не в день…
Способности у него были большие. Я считал, что он будет хорошим художником».
Наступило лето 1911 года.
Революционеры продолжали баламутить страну. Власти в ответ ужесточили преследование смутьянов. Так, против находившегося во Франции Дмитрия Мережковского было выдвинуто весьма серьёзное обвинение – «связь с террористами». Но писатель на родину вернулся, везя с собой «Александра 1-го», только что законченную первую частью романа – его в мае начал печатать один из лучших и самый популярный у читателей журнал «Русская мысль».
Этот журнал редактировал тогда Пётр Бернгардович Струве, сын пермского губернатора, ставший «по убеждению» социал-демократом – это им для первого съезда РСДРП был написан текст «Манифеста Российской социал-демократической рабочей партии». В апреле 1900 года Струве стал одним из организаторов газеты «Искра». По образованию он был юристом и экономистом (окончил два университета – Петербургский и университет австрийского города Грац), пять лет пробыл в эмиграции, но в 1905 году вернулся в Россию, где ему была дарована амнистия. Его избрали членом Центрального Комитета партии кадетов. Именно по совету Петра Струве Мережковский, чтобы избежать ареста, был вынужден вновь вернуться в Париж.
Владимир Маяковский ни в каких антиправительственных мероприятиях по-прежнему не участвовал. Он жаждал учиться. И не где-нибудь, а в самом престижном художественном училище страны. Летом подал прошение:
«Его превосходительству
г-ну ректору Высшего художественного училища
при Императорской академии художеств
Дворянина
Владимира Владимировича
Маяковского
Прошение
Имею честь покорнейше просить ваше превосходительство о допущении меня к конкурсным экзаменам для зачисления в число вольнослушателей живописного отделения Высшего художественного училища при Императорской академии художеств…
Владимир Владимирович Маяковский.
Жительство имею: Москва, 1-й Марьинский переулок, дом 12, кв. 14.
12 августа 1911 года».
В комментариях к 13-томному Собранию сочинений Маяковского говорится, что он…
«… был допущен к конкурсу, но на экзамен не явился».
Маяковсковеды считают, что неявка на экзамен произошла из-за того, что Охранное отделение, куда Маяковский обратился за свидетельством о благонадёжности, в выдаче ему такой бумаги 11 сентября отказало, а без подобного документа идти в академическое училище смысла не было никакого. Объяснение странное. Ведь если Маяковский не был бы уверен в том, что такое свидетельство ему дадут, он бы не подавал прошение в Петрограде. Видимо, были какие-то иные причины его неявки на экзамен.
Как бы там ни было, он вновь обратился в московское Училище живописи, ваяния и зодчества, в котором его однажды уже срезали на экзаменах.
Пётр Келин:
«На экзаменах обычно рисовали обнажённую натуру и гипсовую голову. Давали три часа на каждую работу. Экзамены продолжались шесть дней. Я всегда в эти дни очень волновался за своих учеников, не спал ночей. И вот приходит с экзамена Маяковский:
– Пётр Иванович, ваша правда! Помните, как вы учили делать обнажённую натуру? Я начал от пальца ноги и весь силуэт фигуры очертил одной линией, положил кое-где тени, и вот – в фигурном классе!
Его действительно приняли сразу в фигурный класс, так что он (как я ему и говорил) года не потерял-».
В автобиографических заметках «Я сам» об этом событии сказано так:
«Поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества: единственное место, куда приняли без свидетельства о благонадёжности-».
К этому заявлению мы ещё вернёмся.
Владимир Маяковский, 1911 год. Репродукция Фотохроники ТАСС
Бунтарство художников
Наступила осень 1911 года.
1 сентября в одном из театров Киева давали оперу «Сказка о царе Салтане» в честь посетившего город императора Николая Второго. В антракте после второго действия к главе правительства Петру Аркадьевичу Столыпину почти вплотную подошёл молодой человек, вынул пистолет и произвёл два выстрела.
Владимир Джунковский:
«После того, как Столыпина увезли в больницу, Государь появился в царской ложе. Это появление Государя вызвало неудержимый взрыв восторга, оркестр заиграл гимн, повторенный по требованию публики много раз; крики „ура“, пение "Спаси, Господи "потрясали театр. Государь несколько раз раскланялся с публикой и покинул театр, спектакль был прерван».
5 сентября Столыпин скончался.
Его убийца, Дмитрий Григорьевич (Мордко Гершкович) Богров, был схвачен на месте преступления и приговорён военно-полевым судом к смертной казни. В ночь на 12 сентября он был повешен.
Покушение на главу правительства и его кончина взбудоражили российскую общественность. Гонения на бунтарей-революционеров стали ещё более жёсткими. Суд над находившемся во Франции Дмитрием Мережковским был назначен уже на 18 сентября. На границе у возвращавшегося на родину писателя конфисковали заключительные главы его романа «Александр I» и ознакомили с текстом выдвинутых против него обвинений. Впрочем, суд Мережковского оправдал – «за отсутствием состава преступления».
Владимир Маяковский, которому уже исполнилось 18 лет, тоже стал проявлять некоторое бунтарство. Его мать, Александра Алексеевна, о тогдашней ситуации писала:
«Художники разделились на группы. Одни поддерживали новое искусство, другие – старое. Одни стояли за буржуазное искусство, другие – против него.
Володя был против буржуазного искусства».
Заметим ещё раз, что сказать иначе она просто не могла – её воспоминания писались в советское время и в рабоче-крестьянской стране, граждане которой обязаны были быть против всего «буржуазного».
Сам Маяковский (в «Я сам») ничего об этом не говорил, отметив лишь свои занятия в Училище:
«Работал хорошо.
Удивило: подражателей лелеют – самостоятельных гонят. Ларионов, Машков. Ревинстинктом стал за выгоняемых».
Приставка «рев» в слове «ревинстинкт» никакого отношения к «рёву» не имеет, а означает «революционный» — ведь автобиография тоже писалась в советское время.
Что же касается Ильи Ивановича Машкова и Михаила Фёдоровича Ларионова, исключённых из Училища живописи, ваяния и зодчества, то их изгнали из «храма классического искусства» за отклонение от реалистического стиля письма – за то, что они были участниками авангардистской выставки «Бубновый валет».
За участие в той же выставке не хотели принимать в Училище и Давида Бурлюка. Но всё же приняли – он стал учеником натурного класса.
Бурлюк был на одиннадцать лет старше Маяковского. Учился в Казанском и окончил Одесское художественное училище. Изучал живопись в Германии и Франции. Говорил по-немецки и по-французски. В 1904 году увлёкся театральными постановками, познакомившись с Всеволодом Мейерхольдом, который возглавлял в Херсоне труппу «Товарищество новой драмы». Активно участвовал в выставках новой живописи. Писал стихи. Стал застрельщиком-организатором группы «будетлян-гилейцев», выпустившей в апреле 1910 года стихотворный сборник «Садок судей».
В автобиографии Маяковского об этом человеке сказано так:
«В училище появился Бурлюк. Вид наглый. Лорнетка. Сюртук. Ходит напевая. Я стал задирать. Почти задрались».
С лорнетом Бурлюк ходил потому, что в детстве во время игры один из его братьев (их у Давида было два) выстрелил ему в глаз из игрушечного пистолета. Пришлось всю оставшуюся жизнь смотреть на мир одним глазом (другой был искусственный). И ходить с лорнеткой, которая, по преданию, принадлежала когда-то сподвижнику Наполеона, участнику похода на Россию, маршалу Луису Николасу Даву.
О своей первой встрече с Маяковским сам Давид Бурлюк вспоминал так:
«Моё личное знакомство с Маяковским произошло в первых числах сентября 1911 года…
Какой-то нечёсаный, немытый, с эффектным красивым лицом апаша верзила преследовал меня своими шутками и остротами «как кубиста». Дошло до того, что я готов был перейти к кулачному бою… Но случись это столкновение, и мне, с таким трудом попавшему «кубисту», не удержаться в академии Москвы (за это по традиции всегда исключали)».
Но никакого «столкновения» не произошло. Было, по словам Бурлюка, другое:
«Мы посмотрели друг на друга и помирились; и не только помирились, а стали друзьями…».
Внешний облик тогдашнего Маяковского описала и Мария Никифоровна Бурлюк, жена Давида:
«1911 год, сентябрь месяц…
Голова Маяковского увенчана густыми тёмными волосами, стричь которые он начал много позже, лицо его с жёлтыми щеками отягчено крупным, жадным к поцелуям, варенью и табаку ртом, прикрытым большими губами, нижняя во время разговора кривилась на левую сторону. Это придавало его речи внешне характер издёвки и наглости. Губы всегда были плотно сжаты. Уже в юности была у Маяковского какая-то мужественная суровость, от которой при первой встрече становилось даже больно… Из-под надвинутой до самых демонических бровей шляпы его глаза пытливо вонзались во встречных, и их ответное недовольство интересовало юношу».
Кроме Бурлюка у Маяковского появились и другие приятели. Один из них, Лев Фёдорович Шехтель (в 1915 году он взял фамилию матери и стал Львом Жегиным), потом вспоминал:
«Среди довольно серой и мало чем замечательной массы учеников в классе выделялись тогда две ярких индивидуальности: Чекрыгин и Маяковский. Обоих объединяло тогда нечто вроде дружбы. Во всяком случае, Маяковский относился к Чекрыгину довольно трогательно, иногда как старший, добродушно прощая ему всякого рода «задирания» и небольшие дерзости вроде того, что, мол, «Тебе бы, Володька, дуги гнуть в Тамбовской губернии, а не картины писать»».
В конце октября всё Училище собрали для обсуждения вопроса об устройстве 33-ей ученической выставки. Особую активность на этом мероприятии проявил ученик фигурного класса Владимир Маяковский. Он и выступал дважды (24-го и 26-го), и в протокол собрания была включена предложенная им резолюция:
«Ввиду того, что на общем собрании обнаружено два течения (за и против жюри), и что на этой выставке, являющейся отражением жизни Училища, имеют право быть представлены оба течения, мы учреждаем два отдела на выставке XXXIII – „С жюри“ и „Без жюри“».
Что же касается участия в самой выставке, то к нему Маяковский, видимо, не очень стремился. Лев Шехтель, во всяком случае, утверждал:
«Маяковский сам, вероятно, сознавал, что живопись – не его призвание. Он писал маслом, ярко расцвечивая холст, достигая внешнего весьма дешёвого эффекта.
Наши профессора – довольно безобидный и совершенно безличный старичок Милорадович и Касаткин, считавшийся «грозой» учеников, требовавший точного рисунка и знания анатомии – делали вид, что не замечают новаторских попыток Маяковского и даже похваливали его за колорит и ставили удовлетворительные отметки, кажется, немного его побаиваясь.
Маяковский подтрунивал над обоими, бормоча им вслед:
– Косорадович и Милорадкин».
ХХХIII-ю ученическую выставку посетила и 17-летняя Валентина Ходасевич, тогда ещё только мечтавшая стать художницей. Выставленные картины ей не понравились:
«Работы удручающие. Рисунки оттушёваны до полной иллюзорности, а живопись бесцветная или бессмысленно цветная. Тоска и скука висят в воздухе.
Совершенно неожиданно – гром с небес. Сверху, с хоров, несётся прекрасно поставленный голос… Я подняла голову и увидела очень бледное, необычайно белое лицо и колонноподобную, как у античных статуй, шею. Засунутые в тёмные провалы под бровями, серьёзные, гневные, повелевающие глаза. Он смотрел вниз, в зал. На нём была чёрная бархатная блуза и странно повязанный, вместо галстука, шарф, на лоб свисали прямые, очень тёмные волосы, которые он время от времени сгребал рукой назад. Он громил выставку, бесцветное, ничего не говорящее искусство, призывал к новому видению и осмыслению мира. Всё для меня звучало ново, убедительно, интересно… Он призывал бороться со всякой пошлостью и уничтожать всё «красивенькое».
Я была взбудоражена, увлечена и с ним согласна. Это был Маяковский».
В это время живший в Петербурге и сочинявший стихи 24-летний Игорь Васильевич Лотарёв, уже давно подписывавший свои произведения фамилией Северянин, объявил о том, что все его сторонники объединяются в единое движение, которое получает название «Школа Вселенского Эго-футуризма». Любопытно, что сам Лотарёв-Северянин окончил всего четыре класса реального училища в городе Череповце Новгородской губернии, то есть имел образование примерно такое же, как и Владимир Маяковский.
22 ноября 1911 года в Москве скончался один из преподавателей Училища – художник Валентин Александрович Серов.
Давид Бурлюк:
«В Училище живописи, ваяния и зодчества смерть Серова вызвала среди учеников большой отзвук. До того как нас, молодёжь начала двадцатого века, отравил «микроб нового искусства», Серов был нашим кумиром.
Был выбран на сходке в круглом зале комитет, и в него вошли от каждого класса по одному ученику. Из фигурного попал В.В.Маяковский, из натурного – я. Мы должны были озаботиться венком, подписью, а также представительством от Училища как на панихиде и в самой похоронной процессии, так и на далёком кладбище за городом…».
Владимир Джунковский:
«24 ноября его хоронили в Донском монастыре, после отпевания в Крестовоздвиженской церкви на Воздвиженке. Множество верных почитателей его таланта, вся художественная и артистическая Москва собрались отдать последний долг таланту и хорошему человеку».
Давид Бурлюк:
«Над раскрытой могилой Серова речь говорил Маяковский».
Газета «Утро России» на следующий день написала:
«Над могилой были произнесены краткие речи, характеризовавшие покойного как художника, преподавателя и человека. Говорили: В.В.Матэ, двое из учащихся в Академии художеств и один ученик Училища живописи, ваяния и зодчества».
Ученик Серова, Василий Васильевич Матэ, был тогда широко известен. А Маяковского никто не знал, поэтому газеты, упомянув о названных им художниках (Викторе Эльпидифоровиче Борисове-Мусатове и Михаиле Александровиче Врубеле) самого выступавшего по имени не назвали.
Газета «Русское слово»:
«Ученик Училища живописи, ваяния и зодчества, указав на тяжёлые потери, которые понесло российское искусство за последние пять лет в лице Мусатова, Врубеля и, наконец, В.А.Серова, высказался в том смысле, что лучшее чествование светлой памяти покойного – следование его заветам».
Пётр Келин:
«Помню, после похорон говорю ему:
– Я очень вам благодарен, что вы так хорошо отнеслись к Серову.
А он в ответ:
– Подождите, Пётр Иванович, вас мы ещё не так похороним!»
Село Чернянка
На Рождество Давид Бурлюк поехал в село Чернянку Таврической губернии. Туда же отправились и его родные братья: стихотворец Николай, студент Санкт-Петербургского университета, и мечтавший стать художником Владимир, студент Пензенского художественного училища.
Вместе с Давидом в Чернянку прибыл также киевский студент и стихотворец Бенедикт Наумович Лившиц. Впоследствии (в повести «Полутораглазый стрелец») он написал:
«Семья Бурлюков состояла из восьми человек: родителей, трёх сыновей и трёх дочерей. Отец, Давид Фёдорович, управляющий Чернодолинским имением, был выходец из крестьян. Самоучка с большим практическим опытом сельского хозяина, он даже выпустил серию брошюр по агрономии. Его жена, Людмила Иосифовна, обладала некоторыми художественными способностями: дети унаследовали несомненно от матери её живописное дарование».
Село Чернянка, где жили Бурлюки, имела довольно примечательную историю.
Николай Семёнович Мордвинов был сыном адмирала и сам стал флотоводцем, одним из организаторов Черноморского флота. Александр I назначил его министром морских сил. В 1791 году он купил на Херсонщине, в устье Днепра, землю, по три копейки за десятину, и основал в Чёрной балке поселение, которое и стало деревней Чернянкой. Первыми её жителями стали беглые крестьяне – Мордвинов, обладавший либеральными взглядами, охотно разрешал беглецам селиться на землях своих южных имений.
Сами Мордвиновы (Николай Первый возвёл Николая Семёновича в графское достоинство) в Чернянке никогда не жили, но о селе заботились. В начале XX века здесь уже стояли паровая мельница, кирпичный завод, красильня и школа, содержавшаяся на средства графа.
Этим имением в 1907 году и стал управлять Давид Фёдорович Бурлюк. В Чернянку стали наезжать друзья его сына Давида, художники и поэты: Виктор Хлебников, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Владимир Татлин, Алексей Кручёных, Бенедикт Лившиц.
Творчество сыновей-художников, Давида и Владимира, увлекавшихся левым искусством, родителей изумляло и настораживало. Бенедикт Лившиц писал:
«Огромные мольберты с натянутыми на подрамники и загрунтованными холстами, словно по щучьему велению, выросли за одну ночь в разных углах мастерской…
Меня отзывает в дальний угол Людмила Иосифовна. Она почему-то питает ко мне великое доверие и, со слезами в голосе, допытывается у меня:
– Скажите, серьёзно ли всё это? Не перегнули ли в этот раз палку Додичка и Володичка? Ведь то, что они затеяли здесь, переходит всякие границы.
Я успокаиваю её. Это совершенно серьёзно. Это абсолютно необходимо. Другого пути в настоящее время нет и быть не может.
Хуже обстоит дело с отцом. Он разъярен: мальчики издеваются над ним. Стоило ли воспитывать их, на медные гроши учить живописи, если они занимаются такой мазнёй, да ещё выдают её за последнее откровение.
– Я левой ногой напишу лучше! – бросает он в лицо сыновьям и сердито хлопает дверью.
Часа через три Давид приносит отцу пахнущий свежей краской холст. Не дать, не взять, Левитан.
– Вот тебе, папочка, в кабинет пейзажик…
Отец умилён:
– Ну, иди, иди… работай, как знаешь».
И молодежь работала. Она не только создавала картины. Ею был поставлен спектакль по пьесе Фонвизина «Недоросль». Об этом – Бенедикт Лившиц:
«В помещении «Попечительства о народной трезвости», расположенном на территории усадьбы, мы нашли готовую сцену с рампой, занавесом и прочими аксессуарами. Давид, воображая себя Мейерхольдом, носился из угла в угол, мелом чертя на полу ромбы, эллипсы и параболы, по которым должны были двигаться актёры – так представлялась ему мейерхольдовская работа над мизансценами».
Зрителями были жители Чернянки.
Давид Бурлюк исполнил роль госпожи Простаковой, его брат Николай стал Милоном, брат Владимир играл Скотинина, а Бенедикт Лившиц – Вральмана.
Кроме увлечения театром, собравшаяся в Чернянке молодёжь сочиняла стихи и весьма эмоционально обсуждала обстановку, сложившуюся в российских литературе и искусстве. Лившиц писал:
«Чернянка является точкой пересечения координат, которые родили то течение в русской поэзии и живописи, которое вошло в историю под названием футуризма. Разъезжаясь из Чернянки, мы не сомневались, что положили начало не только дружбе, но и новому направлению в русском искусстве».
Впрочем, заграничное слово «футуризм» у покидавших Чернянку молодых людей было не в чести. Они продолжали именовать себя «гилейцами». «Гилеей» («Лесной») эту область древней Скифии (в устье реки, которая в наши дни зовётся Днепром) окрестил древнегреческий историк Геродот. Виктор Хлебников, не переносивший иностранных слов, придумал, как мы помним, другое название – «будетляне». Эти «будетляне» и объединились в сплочённую группу авангардистов.
Начало 1912-го
На стыке 1911–1912 годов в жизни Маяковского ничего особо выдающегося, чтобы об этом можно было упомянуть в автобиографии, не произошло.
А в Праге в январе 1912 года собрались на свою шестую конференцию российские социал-демократы. Для участия в этом мероприятии прибыли тринадцать сторонников Ульянова-Ленина (большевики) и два сторонника Плеханова (меньшевики). Московских социал-демократов представлял Роман Вацлавович Малиновский, который уже стал тайным агентом царской охранки.
Так как ленинцы численно преобладали, было принято решение изгнать из партии всех, кто с ними не согласен. И Пражская конференция объявила РСДРП партией большевиков.
Для практического руководства всей революционной работой в России было учреждено Русское бюро ЦК РСДРП. Было решено выпускать ежедневную легальную газету. В состав ЦК вошли верные ленинцы, среди которых оказался и Роман Малиновский, очень понравившийся Ленину. Он был намечен также кандидатом в депутаты IV Государственной думы.
В момент проведения конференции Коба Джугашвили находился в ссылке в городе Вологде, поэтому в состав ЦК его кооптировали (то есть ввели без проведения выборов).
Максиму Горькому, активно снабжавшему социал-демократов деньгами, вскоре после завершения работы конференции Ленин отправил письмо, а котором писал:
«Дорогой A.M.!.. Наконец удалось – вопреки ликвидаторской сволочи возродить партию и её Центральный Комитет. Надеюсь, Вы порадуетесь этому вместе с нами».
О внутрипартийных разборках в среде революционеров-эмигрантов граждане России, конечно же, ничего не знали. Но, как известно, слухами земля полнится, и некоторые молодые россияне (особенно те, кто пристрастился к «левым» течениям в искусстве), стараясь не отстать от революционеров-подпольщиков, активизировали свои попытки по-своему переделать общество и его взгляды. И 13 января 1912 года поэт Игорь Северянин торжественно объявил, что основанная им в Петербурге «Школа Вселенского Эго-футуризма» переименовывается в «Академию Эго-футуризма».
Российские власти в тот момент продолжали закручивать гайки. 23 января по особому распоряжению министра внутренних дел было установлено тайное наружное наблюдение (продолжавшееся четыре года) за царским любимцем Григорием Распутиным.
А вернувшийся из Чернянки в Москву Давид Бурлюк подключился к художникам Петру Кончаловскому, Илье Машкову и Аристарху Лентулову, которые готовили вторую выставку, носившую то же название – «Бубновый Валет». Её открытие, намеченное на начало года, пришлось перенести на 25 января. Бенедикт Лившиц объяснил:
«Москва переживала своеобразный жилищный кризис, вызванный перепроизводством картин: все помещения, мало-мальски пригодные для экспонирования живописи, были заняты и законтрактованы на несколько месяцев вперёд».
К тому же российских живописцев-авангардистов по-прежнему никто не воспринимал всерьёз, и «бубновым валетам» приходилось преодолевать дополнительные препятствия. Так, к примеру, Александр Николаевич Бенуа, сам недоучившийся художник, называвший себя «автодидактом», то есть «самоучкой», тоже не желал поддерживать официальное искусство. Но, испытывая отвращение к буржуазно-мещанскому, «потребительскому» пониманию художественного творчества, он всё же писал в своих «Художественных письмах»:
«Настоящие кубисты – только там, на Западе, у нас же провинция, плетущаяся в хвосте Пикассо, Ле-Фоконье, Брака, Глэза и прочих современных мастеров. Жалкие подражатели Бурлюки, Ларионовы, Лентуловы, Гончаровы, только копируют своих учителей, французов, упрощая и доводя до абсурда их тезисы и приёмы».
Впрочем, подобные наскоки лишь подогревали интерес публики, и посещаемость открывшейся выставки «Бубновый Валет» была столь высокой, что картин продали на четыре с лишним тысячи рублей.
А чем в это время занимался наш герой?
Пришествие футуризма
4 февраля 1912 года в Колонном зале Благородного собрания Москвы оркестр под управлением известного в ту пору дирижера Сергея Александровича Кусевицкого давал симфонический концерт. В числе других произведений исполнялась симфоническая поэма «Остров мёртвых» Сергея Васильевича Рахманинова. Она была написана в Дрездене – после того, как композитор увидел репродукцию, а затем и оригинал картины швейцарского художника-символиста Арнольда Беклина «Остров мёртвых». Главные мотивы поэмы – неотвратимость смерти и жажда жизни.
Отправились на концерт и Бурлюк с Маяковским, который (в «Я сам») описал свои впечатления:
«Благородное собрание. Концерт. Рахманинов. Остров мёртвых. Бежал от невыносимой мелодизированной скуки. Через минуту и Бурлюк. Расхохотались друг в друга. Вышли шляться вместе».
Маяковского той поры описала Мария Бурлюк, жена Давида:
«Володя Маяковский в 1911-12 годах жил бедняком. На чёрных штиблетах нет калош, и его сырые ноги прозябли. Из-под фетра шляпы чёрно брильянтят ночные трагические таинственные глаза».
По Европе в тот момент стремительно распространялись идеи итальянца Филиппе Томмазо Маринетти. В Словаре иностранных слов (1955 года издания) этот пришедший с запада «изм» истолковывался очень сурово:
«ФУТУРИЗМ [лат. futurum будущее] – формалистическое, упадочное течение в изобразительном искусстве и поэзии, возникшее в начале 20 века в Италии. <…> В живописи футуристы стремились передать движение в его последовательных состояниях, рисуя, например, по нескольку ног, рук у человека; …в поэзии футуристы вводят слова, лишённые всякого смысла, разрушают синтаксис и отрицают каноны поэтического творчества. В дореволюционной России футуризмом называли незначительное литературное течение, выражавшее архаические настроения мелкобуржуазной интеллигенции…».
Кроме этого течения (с точки зрения советских искусствоведов, «незначительного») художники-авангардисты начала XX века были увлечены еще одним «измом», исходившим из Франции и связанным с именами художников Пабло Пикассо и Жоржа Брака. В том же словаре иностранных слов (1955 года издания) об этом «направлении» сказано:
«КУБИЗМ [< греч. см. куб] – упадочное формалистическое направление в буржуазном изобразительном искусстве, зародившееся в начале 20 века во Франции; представители кубизма изображают предметы, людей, природу в виде простейших геометрических тел (кубов, шаров и т. д.), что приводит к грубейшему искажению облика реального мира».
С этими моднейшими на тот период времени «течениями» Давид Бурлюк и старался познакомить Владимира Маяковского, который впоследствии написал об этом в «Я сам» (в главке «ПАМЯТНЕЙШАЯ НОЧЬ»):
«Разговор. От скуки рахманиновской перешли на училищную, от училищной – на всю классическую скуку. У Давида – гнев обогнавшего современников мастера, у меня – пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья. Родился российский футуризм».
Бенедикт Лившиц с подобным утверждением согласен не был, написав:
«Самый термин „футуризм“ нам в то время был ещё одиозен. Его подхватил в ноябре одиннадцатого года Игорь Северянин, приставивший к нему слово „эго“ и сделавший его знаменем группы петербургских поэтов… Присвоив себе наименование футуристов, они сразу сообщили термину „пежоративный“ оттенок, побуждавший нас отклонять от себя этот ярлык, когда газеты, против нашей воли, стали нам его навязывать».
«Пежоративный» в переводе с французского означает «негативный».
Таким образом, по утверждению Маяковского, в ту «памятнейшую ночь» 4 февраля 1912 года из его разговора с Бурлюком и родилось новое российское движение, которое вскоре было названо «футуризмом».
Но Бурлюк уже был «будетлянином», то есть как бы уже олицетворял собою всё то, что ещё должно было появиться. Да и само слово «будетлянин» было аналогом заграничного термина «футурист». Стало быть, новое российское движение родилось гораздо раньше той февральской ночи. Что можно сказать по этому поводу?
Будем считать, что Маяковскому просто очень хотелось, чтобы его считали одним из основоположников российского футуризма, и он написал об этом в «Я сам». Понять его можно – ведь ему в феврале 1912 года было всего 18 лет. И он ещё только готовился стать художником.
Раскол авангардистов
12 февраля 1912 года в помещении Политехнического музея Москвы сообщество художников «Бубновый Валет» устроило диспут. Председательствовал на этом мероприятии художник Пётр Петрович Кончаловский, Давид Давидович Бурлюк делал доклад «О кубизме и других направлениях в живописи».
Вспыхнула бурная полемика, и вскоре всем стало ясно, что в рядах художников-авангардистов, ещё совсем недавно выступавших единым фронтом, начался раздор.
Главными оппонентами «Бубновых валетов» выступили художники, объединившиеся в сообщество с другим (ещё более странным) названием: «Ослиный хвост». Впрочем, тем, кто хотя бы немного знал о том, как и чем живут европейские живописцы, наверное, был известен конфуз, случившийся в Париже в 1910 году. Там на выставке «Салон независимых» экспонировалась картина, которую, как утверждали выставившие её мистификаторы, написал своим хвостом осёл, обитавший на Монмартре.
Российским авангардистам (прежде всего, Михаилу Ларионову и его жене, Наталье Гончаровой) эта история понравилась. И они, старавшиеся в своем творчестве совместить французский «кубизм» с примитивной живописью в народном российском стиле (лубок, иконы), заявили:
– Публика думает, что мы пишем ослиным хвостом, так пусть мы и будем для неё ослиным хвостом!
Так и возникло сообщество «Ослиный хвост», которое обрушилось на «Бубновых валетов» в Политехническом музее. Первой выступила Наталья Гончарова. Своей резкой критикой она вызвала в зале большой шум. Одним из шумевших был Владимир Маяковский. В тот день слова ему не предоставили, но «шумел» он, как утверждали присутствовавшие, великолепно.
Гончарову сменил… Об этом – газета «Против течения» (в номере от 18 февраля 1912 года):
«Сменивший её М.Ларионов заявил, что бубновые валеты – консервативны, а „Ослиный хвост“…
Публика опять зашумела, а председательствовавший Кончаловский (бубновый валет) пытался лишить слова оратора. Ларионов, весь бледный, ударил по кафедре кулаком, сломав в ней что-то, и закричал:
– Чёрт возьми, дайте мне сказать!
Шум удвоился, и в результате долго сопротивлявшийся Ларионов выкрикнул:
– Французы велики. Бубновые валеты – подражатели их и меня! – и покинул треснувшую кафедру».
Бенедикт Лившиц:
«Так закончился этот исторический диспут,… окруживший ореолом скандала в ту пору ещё недостаточно известные имена поборников нового искусства».
25 февраля в том же Политехническом музее «Бубновые валеты» устроили второй диспут. На сей раз докладчиков было два: писатель Максимилиан Волошин и художник Давид Бурлюк. Газета «Против течения» в номере от 10 марта написала:
«Участие Волошина на этих диспутах вызывает недоумение. Он своей литературностью и начитанностью вносит диссонанс в бестолковое бурлюканье наших бубновых валетов».
На этом диспуте Владимир Маяковский был уже не только зрителем и слушателем. Вместе с «будетляном» Алексеем Кручёных он был объявлен в афишах оппонентом докладчиков. Маяковскому, знавшему, по его же собственным словам, «неизбежность крушения старья», было что сказать, и он выступал очень решительно.
Алексей Елисеевич Кручёных вспоминал:
«Маяковский прочёл целую лекцию о том, что искусство соответствует духу времени, что, сравнивая искусство различных эпох, можно заметить: искусства вечного нет – оно многообразно, диалектично. Он выступал серьёзно, почти академически».
Но для того чтобы свергнуть «старьё», одного признания «неизбежности» его «крушения» было явно недостаточно. Требовалось предъявить что-то новое, своё. Однако ничего «нового», способного заменить устаревшее, у «бубновых валетов» ещё не было. Предложить им было нечего.
Биографы Маяковского считают это его участие в том давнем диспуте первым публичным выступлением будущего поэта. Однако в печати по имени он назван не был – ведь тогдашний Маяковский не создал ещё ничего, на что можно было бы обратить внимание. Лев Шехтель писал:
«… я вспоминаю, что Маяковский испещрял в ту пору изображениями жирафов любой кусок бумаги, случайно попавшей ему под руку, или даже целые альбомы для рисования».
Жирафы эти в образцы «нового искусства», конечно же, не годились.
Оппоненты «Бубновых валетов» решили взять реванш и торжественно объявили, что 11 марта 1912 года в Училище живописи, ваяния и зодчества откроется выставка под названием «Ослиный хвост». На ней предлагалось выставить работы Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича, Владимира Татлина, Марка Шагала и других художников-авангардистов.
Но тут всполошилась администрация Училища. Она решительно воспротивилась тому, чтобы над входом в «храм искусства» красовалась позорящая его вывеска: «Ослиный хвост». Подала свой голос и цензура, запретившая экспонировать картины Гончаровой, на которых были изображены святые («Евангелисты»), объяснив это тем, что «такие» картины не могут быть показаны на выставке с «таким» названием.
Выставка, которую пресса сразу же окрестила «футуристической», всё же открылась и, просуществовав почти целый месяц (с 11 марта по 8 апреля), имела шумный успех.
«Бубновые валеты» продолжали относиться к «ослинохвостцам» резко отрицательно (или «пежоративно», как на французский лад писали тогда в газетах). Бенедикт Лившиц объяснял это так:
«В противоположность Ларионову и Гончаровой, протягивавшим руку итальянским футуристам, будущий «отец российского футуризма» весною 1912 года энергично открещивался от направления, под знаком которого гилейцам было суждено войти в историю русского искусства».
«Отцом российского футуризма» стал называть себя годы спустя Давид Бурлюк.
Тем временем большевики, которым тоже «было суждено войти в историю», начали активно действовать, воспользовавшись тем, что произошло в Сибири. А там (на Ленских приисках, что расположены на реках Витим и Олёкма) 4 апреля 1912 года было расстреляно мирное шествие бастовавших рабочих. Погибло около трёхсот человек. В ответ на это злодеяние по всей стране прокатились митинги и стачки. В большевистской газете «Звезда» 19 апреля появилась статья, написанная Кобой Джугашвили и подписанная «К.Сталин», в которой говорилось:
«Ленские события разбили лёд молчания, и, – тронулась река народного движения. Тронулась!.. Всё, что было злого и пагубного в современном режиме, всё, чем болела многострадальная Россия – всё это собралось в одном факте, в событиях на Лене».
Однако министр внутренних дел заявил Государственной думе:
«– Так было, так и будет!»
22 апреля 1912 года вышел первый номер большевистской легальной газеты, название которой («Правда») было позаимствовано у другой социал-демократической газеты, издававшейся с 1908 года в Вене небольшевиком Львом Троцким и пользовавшейся среди российских рабочих большой популярностью. Эта фактическая кража чужого названия вызвала острую полемику в рядах социалистов Европы. Но большевики на неё внимания не обратили и выпуск своей большевистской «правды» продолжили.
Официальным издателем этой газеты считался рабочий-большевик Алексей Егорович Бадаев, вскоре избранный депутатом IV Государственной думы. Литературный отдел редактировал писатель-эсдек Максим Горький.
Первый номер большевистской «Правды» начинался с передовицы, которая называлась «Наши цели». Её автором был Коба Джугашвили, которого арестовали в тот же апрельский день (22-го) на одной из петербургских улиц.
Победы и поражения российских социал-демократов Владимира Маяковского совершенно не интересовали. О том, на что он тогда (кроме занятий в Училище) тратил своё время – Мария Никифоровна Бурлюк:
«С Маяковским мы ходили вдвоём весной 1912 года в консерваторию слушать концерт Собинова… В антрактах костлявая, худая фигура Маяковского, слегка сутулившего плечи, спешила в курительную комнату. Музыку Маяковский не любил».
Глава вторая Рождение поэта
Первая «читка»
24 июня 1912 года в Москве состоялось открытие памятника генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Об этом торжественном событии – Владимир Джунковский:
«Забили барабаны, музыка заиграла Кавалергардский марш – войска отдали честь своему герою…
Памятник изображал «белого генерала» на скачущей лошади среди боя. Под ногами его – оружие убитых богатырей, разбитые пушечные лафеты и т. д. Скобелев с обнажённой шашкой как бы мчится впереди войск в атаку…».
Маяковский на открытии памятника не был – их семья сняла дачу в подмосковном Кунцево и стала жить там. Но Владимир по старой памяти продолжал заглядывать и в Петровско-Разумовское, где проводил время на даче в Соломенной Сторожке. Его соседями были молодые люди: авиатор Георгий Кузьмин и композитор Сергей Долинский. Последний впоследствии утверждал, что уже тогда Маяковский постоянно сочинял стихи, которые, впрочем, почти никому не показывал. Это утверждение говорит о том, что процесс стихосложения, начатый нашим героем в Бутырской тюрьме, не прекращался. Мастерство оттачивалось. И неумолимо приближался день, когда начинающему поэту должно было очень захотеться предъявить кому-нибудь то, что удалось достигнуть.
А Давид Бурлюк тем летом объехал пол-Европы, посетив Париж, Милан, Рим, Венецию и Мюнхен.
Другой будетлянин, Бенедикт Лившиц, дважды исключавшийся из университета за участие в студенческих беспорядках, в июне 1912-го окончил Киевский университет. Ему предстояло отслужить в армии, и перед ним встал непростой вопрос: где служить? Проблема возникла из-за его национальности, о которой он говорил:
«Еврей, да ещё вооружённый университетским дипломом, каждой воинской части казался жупелом, предполагаемым носителем революционной заразы, которого из элементарной осторожности лучше и не подпускать близко к казарме. Университетский диплом в руках еврея был, кроме того, овеществлённым оскорблением, нанесённым государственному строю, над рогатками черты оседлости и, свидетельствуя об особенном упорстве и настойчивости обладателя документа, становился волчьим паспортом».
С большим трудом Лившицу удалось найти воинское подразделение под Петербургом, куда его приняли служить вольноопределяющимся.
Наступила осень, и Владимир Маяковский рискнул познакомить Давида Бурлюка со своими стихами. Вот как это происходило («Я сам»):
«Днём у меня вышло стихотворение. Вернее – куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю: это один мой знакомый. Бурлюк остановился. Осмотрел меня. Рявкнул: „Да это же ж вы сами написали! Да вы же ж гениальный поэт!“ Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом».
Та же ситуация – в описании Давида Бурлюка:
«Это было осенним вечером, на бульваре около Страстного монастыря. Мы шли по асфальтовой панели, под серым туманным небом…
Маяковский прочёл мне одно стихотворение.
– Чьё это? Твоё?
Он сознался не сразу, лишь после того, как я не поверил, когда он приписывал его какому-то поэту. Это было его первое стихотворение».
На следующий день Бурлюк, знакомя с кем-нибудь Маяковского, непременно добавлял:
– Мой гениальный друг! Знаменитый поэт Маяковский.
А смущавшемуся приятелю тихо рычал, отойдя в сторону:
– Теперь пишите! А то вы меня ставите в глупейшее положение!
И Маяковский продолжил сочинительство. В «Я сам» сказано:
«Пришлось писать. И я написал первое (первое профессиональное, печатаемое) – „Багровый и белый“ и другие».
Первые стихотворения
Стихотворение «Багровый и белый» (Маяковский назвал его потом «Ночь») состоит всего из четырёх четверостиший. Приведём их – как-никак, они всё-таки «первые»:
«Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зелёный бросали горстями дукаты,
а чёрным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие жёлтые карты.
Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как жёлтые раны,
огни обручали браслетами ноги.
Толпа – пёстрошёрстая быстрая кошка —
плыла, изгибаясь, дверями влекома:
и каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.
Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул; пугая
ударами в жесть, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая».
По форме стихотворение самое обычное (традиционное) – рифмованные строчки на отдельные слова не разрываются, следуют одна за другой, никакой «лесенки» ещё и в помине нет. Возможно, именно поэтому Собрания сочинений Маяковского открываются не этим, а другим стихотворением, которое названо «Утро». Как мы помним, точно такое же название было у первого опубликованного стихотворения Иосифа Джугашвили.
«Утро» Владимира Маяковского начинается так:
«Угрюмый дождь скосил глаза
А за
решёткой
чёткой
железной мысли проводов —
перина».
Здесь важно отметить, что девятнадцатилетний Маяковский неожиданно открыл в себе удивительное свойство – умение рассказать о чём-то по-новому, по-своему, рассказать так, как не рассказывали раньше. О самых обычных, самых обыкновенных вещах и событиях поведать необычно, необыкновенно – так, что у не связанных друг с другом вещей и событий внезапно обнаруживались родственные связи, делавшие их необыкновенно интересными. От такого умения тривиальная, тусклая, серая, скучная жизнь внезапно расцвечивалась яркими удивительными красками.
Попробуем разобраться в этом стихотворении, попытаемся понять, о чём оно.
Первое, что сразу бросается в глаза – оно тревожное. Потому что вечером погасло солнце, и землю окутал мрак. Мрачный, непроглядный, непредсказуемый. Что творится в этих потёмках, даже представить себе трудно.
Но вот ночь кончилась. Наступило утро. Какое оно?
У Маяковского – хмурое. Потому что хлещет «угрюмый дождь». Потому что гаснут уличные фонари, цари ламп. И совсем не радует глаз «враждующий букет бульварных проституток» — не случайно же восток ярко освещает публичные дома, словно бросает их в «пылающую вазу».
Мало того, что стихотворение тревожное, оно ещё и не очень понятное. До смысла того, что хотел сказать поэт, можно докопаться, лишь очень внимательно вчитываясь в зарифмованные строчки. Кстати, это станет стилем Маяковского – писать образно, красиво, но так непонятно, что сходу не всегда разберёшь.
Маяковскому повезло, что первым, кому он прочёл свои творения, был Давид Бурлюк, который впоследствии написал:
«Я был для Маяковского счастливой встречей, "толчком " к развитию… его гения. Маяковскому нужен был пример, среда, аудитория, доброжелательная критика и соратник. Всё это он нашёл во мне».
Поэтому целую главку в «Я сам» Маяковский назвал «ПРЕКРАСНЫЙ БУРЛЮК»:
«Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Ходил и говорил без конца. Не отпускал ни на шаг».
Поэт Вадим Габриэлевич Шершеневич, в ту пору тяготевший к футуристам, писал о Давиде Бурлюке:
«Он был хорошим поваром футуризма и умел „вкусно подать поэта“. Маяковского он поднёс на блюде публике, разжевал и положил в рот».
О том, как у подносимого «на блюде» стихотворца проходил творческий процесс, поведал Лев Шехтель:
«В Школе живописи можно было видеть, как Маяковский "выколачивает "ритмы своих кованых строк! Забравшись в какой-нибудь отдалённый угол мастерской, Маяковский, сидя на табуретке и обняв обеими руками голову, раскачивался вперёд и назад, что-то бормоча себе под нос».
Но для того, чтобы рифмованные строки назвали стихами, мало было их сочинить, надо было, чтобы их признали другие. И Маяковский принялся читать вышедшие из-под его пера четверостишья всем, кто его окружал.
Одной из самых первых, кого он познакомил с ними, стала его мать, Александра Алексеевна:
«Я читала первые стихи и говорила: „Их печатать не будут“, на что Володя, уверенный в своей правоте, возразил:
– Будут!..
На мой вопрос, почему он пишет стихи так, что не всё понятно, Володя ответил:
– Если я буду писать всё ясно, то мне в Москве не жить, а где-нибудь в сибирской ссылке, в Туруханске. За мной следят, я же не могу сказать открыто: "Долой самодержавие! "»
В самом ли деле Владимир Маяковский говорил такие слова, проверить, конечно же, невозможно. Понять, чем же так допекло его российское самодержавие, тоже очень трудно. Ведь учился он в Императорском Училище. Пенсию, на которую существовала их семья, выплачивало царское правительство. Да и дворянское сословие, о своей принадлежности к которому постоянно напоминал Маяковский (как бы заявляя, что и он – российский аристократ), тоже ведь щедро жаловалось российскими самодержцами. Зачем же было требовать свержения этой власти?
Впрочем, найти в стихах раннего Маяковского подобное требование практически невозможно. Как ни вчитывайся в строчки и в слова, призывов к свержению самодержавия не отыщется, их там просто нет.
Но вернёмся в год 1912-ый.
Чтение только что написанных стихотворений проходило и в «Романовке» – так назывался большой многоквартирный дом на углу Тверской и Малой Бронной улиц, в котором жили учащиеся консерватории и Училища живописи, ваяния и зодчества (студенческое общежитие, как сказали бы сейчас). Давид Бурлюк и его жена Мария обитали в комнате под номером 104.
Мария Бурлюк:
«А Романовке, в её полутёмных номерах, декорированных купеческим, красным, засаленным дочерна штофом, состоялись многочисленные первые выступления Володи Маяковского в роли декламатора, свидетелями и слушателями коих пришлось быть его первым, ближайшим друзьям…
Юноша отходил на середину комнаты и становился с таким расчетом, чтобы видеть себя в хмуром, неясном, узком зеркале. Не откидывая головы назад, пристально смотря глазами в другие, зеркальные, поэт начинал читать свои юные стихи…».
Лев Шехтель:
«Тогда Маяковский немного придерживался стиля „vagabond“. Байроновский поэт-корсар, сдвинутая на брови широкополая чёрная шляпа, чёрная рубашка (вскоре сменена на ярко-жёлтую), чёрный галстук и вообще всё чёрное, – таков был облик поэта в период, когда в нём шла большая внутренняя работа, когда намечались основные линии его творческой индивидуальности».
Напомним, что слово «vagabond» в переводе с французского означает «блуждающий», «странствующий», «бродяга».
К этой «бродяжной» внешности Маяковского той поры Мария Бурлюк добавляла такие штрихи:
«Это был юноша восемнадцати лет, с линией лба упрямого, идущего напролом навыков столетий. Необычное в нём поражало сразу; необыкновенная жизнерадостность и вместе, рядом – в Маяковском было великое презрение к мещанству, палящее остроумие, находясь с ним – казалось, что вот вступил на палубу корабля и плывёшь к берегам неведомого».
Поэтические будни
«Кораблей», которые плывут «к берегам неведомого», во все времена можно обнаружить немало. Их команды постоянно поддерживают связь между собой. Вот и летом 1912 года Давид Бурлюк в письме Бенедикту Лившицу написал: «Я получаю все манифесты футуристов».
Однако далеко не каждый, кто ступал на палубы этих романтичных бригантин, воспринимал членов их команд положительно. Однажды Маяковский привёл своего бывшего наставника Петра Келина к Давиду Бурлюку, и Келин потом написал:
«Бурлюк мне очень не понравился: такой самонадеянный, нахальный.
– Что такое эти преподаватели живописи? Я хочу быть Пастернаком, Серовым – и буду! Под кого хотите я вам напишу так, что вы не отличите.
Это мне не понравилось».
Называя фамилию Пастернак, Бурлюк имел в виду известного в ту пору российского живописца и графика Леонида Осиповича Пастернака, отца будущего поэта Бориса Пастернака.
Другой пловец «к берегам неизведанного», Иосиф Джугашвили, в тот момент сидел в петербургской тюрьме. Писать стихи он прекратил окончательно, а к своей подпольной кличке Коба («неустрашимый») добавил псевдоним, который остался с ним до конца жизни – Сталин. Состоявшееся 14 июня 1912 года судебное заседание вынесло ему приговор:
«Выслать Иосифа Джугашвили в пределы Нарымского края, Томской губернии… под гласный надзор полиции на три года».
Таким образом, Джугашвили-Сталина приговорили к тому же самому наказанию, которого три года назад счастливо избежал его земляк Владимир Маяковский.
2 июля Кобу Сталина отправили по этапу в Нарым, где он познакомился с другим эсдеком – Яковом Михайловичем (Иешуа-Соломоном Мойшевичем) Свердловым. Впрочем, в нарымской ссылке Сталин пробыл недолго – чуть больше месяца. 1 сентября он тайно сел на пароход «Тюмень» и 12 числа был уже в Петербурге. Свердлов бежал из Нарыма через три месяца.
В это время в Петербурге возникло новое поэтическое течение, созданное Николаем Гумилёвым, Анной Горенко и Сергеем Городецким – акмеизм (от греческого «акме» – «пик», «максимум», «цветение», «цветущая пора»). Существует также мнение, что слово «акмеизм» происходит от псевдонима Анны Горенко – Анна Ахматова, который по-латыни звучал как «akmatus», а с греческого переводился как «остриё». Новое течение было создано для того, чтобы сменить отживавший свой век символизм.
В литературных кругах северной столицы тогда бурно обсуждался выход поэта Игоря Северянина из созданной им «Академии Эго-поэзии» – из-за ссоры с другим поэтом, тоже претендовавшим на роль лидера стихотворцев. Об этом было объявлено в очередной «поэзе», ставшей впоследствии довольно известной:
«Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоён:
Я повсеградно оэкранен,
Я повсесердно утверждён…
Я – год назад – сказал: «Я буду!»
Год отсверкал, и вот – я есть!
Среди друзей я зрел Иуду,
Но не его отверг, а месть…
Я выполнил свою задачу,
Литературу покорив.
Бросаю сильным наудачу
Завоевателя порыв..»
Владимир Маяковский в тот момент был ещё не готов подхватить «завоевателя порыв», брошенный удачливым стихотворцем – сочинённых стихов было у него мало, да и внешне он больше напоминал «бродягу», чем «завоевателя». Мария Бурлюк вспоминала:
«Володя Маяковский во вторую осень нашего знакомства был очень плохо одет. А между тем начались холода. Увидев Маяковского без пальто, Бурлюк в конце сентября 1912 года, в той же Романовке, в темноте осенней, перешагнувшей за полночь, на Маяковского, собиравшегося уже шагать домой (на свою Большую Пресню…), надел зимнее ватное пальто своего отца».
Наступил ноябрь. Петербургское сообщество художников «Союз молодёжи» пригласило Давида Бурлюка прочесть в Тенишевском училище лекцию на тему «Что такое кубизм?». Бурлюк поехал, взяв с собой за компанию Маяковского. Служившему в армии Бенедикту Лившицу удалось попасть на это мероприятие, и он написал:
«Лекция Давида в „Союзе молодёжи“ произвела на меня тягостное впечатление: сваливание в одну кучу мастеров Возрождения, передвижников и „Мира искусства“, классиков и символистов, почти голословные утверждения, подкреплённые одними междометиями, хлёсткие лозунговые выкрики – пожалуй, ещё годились для „манифеста“, но в качестве доклада были явно недостаточны.
Я ушел из Троицкого театра расстроенный, сконфуженный беспомощностью Бурлюка».
Напомним, что творческое объединение российских художников, которых называли «передвижниками», состояло из Ильи Репина, Василия Сурикова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Василия Поленова, Валентина Серова и других не менее выдающиеся живописцев. Они писали картины, в которых неизменно присутствовали и обострённый психологизм, и классовая направленность и трагический взгляд на действительность. Передвижники исповедовали стиль реалистического импрессионизма. Импрессионисты же считали, что мир надо отображать в его подвижности и изменчивости, передавая при этом свои мимолетные впечатления. Отсюда и название – импрессионизм (от французского слова «impression» – «впечатление»).
А «Миром искусства» называлось художественное объединение, созданное в конце 1890-х годов Александром Николаевичем Бенуа и Сергеем Павловичем Дягилевым. Художники, входившие в «Мир искусства» (Николай Рерих, Михаил Врубель, Игорь Грабарь, Константин Коровин, Борис Кустодиев, Исаак Левитан, Леонид Пастернак, Константин Юон и другие), стремились к модерну и символизму. Идей передвижников они не поддерживали.
Давид Бурлюк, перемешавший в своей лекции всех их с мастерами Возрождения, своим выступлением в Тенишевском училище был доволен. И торжественно сообщил Лившицу, что их группа («будетлян-гилейцев») расширилась – к ней примкнули…
«… ещё Кручёных и Маяковский, товарищ Бурлюка по Училищу живописи, ваяния и зодчества, невероятно талантливый юноша, которого он «открыл» около года назад.
Второе имя не говорило мне ровно ничего.
– Ты с ним, должно быть, завтра познакомишься, – ответил на мои расспросы Давид, – он приехал из Москвы вместе со мною».
На следующий день они встретились, и Лившиц написал:
«… пришёл высокого роста темноглазый юноша…
Одетый по сезону легко, в чёрную морскую пелерину со львиной застёжкой на груди, в широкополой чёрной шляпе, надвинутой на самые брови, он казался членом сицилийской мафии, игрою случая заброшенной на Петербургскую сторону».
Бенедикту Лившицу сразу бросилась в глаза «прогнатическая» челюсть Маяковского (от греческого «pro» – «впереди» и «gnatos» – «челюсть»), и он написал:
«Его размашистые, аффектированно резкие движения, традиционный для всех оперных злодеев басовой регистр и прогнатическая челюсть, волевого выражения которой не ослабляло даже отсутствие передних зубов, сообщающее вялость всякому рту, – ещё усугубляли сходство двадцатилетнего Маяковского с участником разбойничьей шайки или с анархистом-бомбометателем, каким он рисовался в ту пору напуганным богровским выстрелом салопницам.
Однако достаточно было заглянуть в умные глаза, отслаивавшие нарочито выпячиваемый образ от подлинной сущности его носителя, чтобы увидеть, что всё это – уже поднадоевший «театр для себя», которому он, Маяковский, хорошо знает цену и от которого сразу откажется, как только найдёт более подходящие формы своего утверждения в мире.
Это был, конечно, юношеский наивный протест против условных общественных приличий, индивидуалистический протест, шедший по линии наименьшего сопротивления».
Под «богровским выстрелом» Лившиц имел в виду убийство эсером Дмитрием Богровым председателя Совета Министров России Петра Аркадьевича Столыпина. Вот, оказывается, на кого был похож в 1912 году Владимир Маяковский. Правда, было ему тогда не двадцать лет, а всего девятнадцать. Бенедикт Лившиц отметил:
«Помню, между прочим, он не без гордости сообщил мне, что успел основательно „посидеть“ – разумеется, за политику».
И ещё Маяковский прочёл новому знакомому свои стихотворения, которые так понравились Давиду Бурлюку.
Стихи и взгляды
Прослушав «Ночь» и «Утро», Бенедикт Лившиц потом написал:
«Я не видел оснований церемониться с Маяковским и недвусмысленно дал ему понять, что стихи мне не нравятся…
Маяковский не хотел со мной согласиться и защищал от моих нападок свои первые стихотворные опыты с упорством, достойным лучшего применения. В овладении тематикой города ему чувствовался какой-то прорыв к новым лексическим и семантическим возможностям, к сдвигу словаря, к освежению образа…
… зимою 1912 года он упорно отказывался признавать всё написанное им до того времени, за исключением двух стихотворений: «Ночь» и «Утро»…
Он хотел, очевидно, войти в литературу без отягчающего груза собственного прошлого, снять с себя всякую ответственность за него, уничтожить его без сожаления, и это беспощадное отношение к самому себе как нельзя лучше свидетельствовало об огромной уверенности молодого Маяковского в своих силах. Если всё было впереди, стоило ли вступать в компромиссы со вчерашним днём?»
Бенедикт Лившиц говорит про «всё написанное им до того времени» так, словно оно было ему хорошо знакомо. И это, пожалуй, ещё одно свидетельство того, что вышедший из тюрьмы Маяковский писал без перерыва – до тех пор, пока не наступила «Ночь», а за нею не пришло «Утро», которые можно было смело предъявить слушателям.
17 ноября 1912 года в популярном у петербургской творческой элиты артистическом подвальчике «Бродячая собака» Маяковский продекламировал свои стихи. Это было первое публичное выступление начинающего стихотворца. Популярная петербургская газета «Обозрение театров» написала:
«В последнем собрании в «Бродячей собаке» произошёл чрезвычайно интересный, оживлённый диспут московских и петербургских поэтов…
В качестве представителя небольшой группы московских поэтов выступил с краткой вступительной речью художник Давид Бурлюк…
После г. Бурлюка выступил другой московский поэт – г. Маяковский, прочитавший несколько своих стихотворений, в которых слушатели сразу почувствовали настоящее большое поэтическое дарование. Стихи г. Маяковского были встречены рукоплесканиями».
В Петербурге у Маяковского были ещё какие-то дела – их могла помочь разрешить 28-летняя устроительница модных выставок Надежда Евсеевна Добычина, и он отправился к ней вместе с поэтами Николаем Бурлюком и Бенедиктом Лившицем. Последний потом вспоминал:
«У Д., занимавшей квартиру на Мойке,… мы застали нескольких бесцветных молодых людей и нарядных девиц, с которыми, неизвестно по какому праву, Володя Маяковский, видевший их впервые, обращался как со своими одалисками. За столом он осыпал колкостями хозяйку, издевался над её мужем, молчаливым человеком, безропотно сносившим его оскорбления, красными от холода руками вызывающе отламывал себе кекс, а когда Д., выведенная из терпения, отпустила какое-то замечание по поводу его грязных ногтей, он ответил ей чудовищной дерзостью, за которую, я думал, нас всех попросят немедленно удалиться.
Ничуть не бывало, очевидно, и Д., привыкшей относиться к художественному Олимпу обеих столиц, как к собственному, домашнему зверинцу, импонировал этот развязный, пока ещё ничем не проявивший себя юноша».
Лившиц тогда ещё не знал, что руки Маяковский мыл регулярно и очень тщательно. Но это не была погоня за чистотой. Это была болезненная привычка.
В Москву Бурлюк и Маяковский вернулись в начале второй декады декабря. В «Я сам» сказано:
«В Москве Хлебников. Его тихая гениальность была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом. Здесь же вился футуристический иезуит слова – Кручёных».
Мария Бурлюк:
«В эти месяцы конца 1912 года Бурлюк, получая деньги от отца, зарабатывал иногда и сам: то лекциями, то продажей картин. Временами – порядочно. Проживалось артельно всё, что зарабатывалось. Бурлюк по-братски делился своими деньгами с В.Хлебниковым и Владимиром Маяковским. Обычно он давал им по рублю: каждому – круглую монету. Витя небрежно бросал кружок в карман пальто, потряхивая головой, синея своими шотландскими глазами в темноте табачного дыма».
Маяковскому помощь Бурлюка запомнилась в другом размере:
«Выдавал ежедневно 50 копеек. Чтоб писать не голодая».
Впрочем, не проблемы существования были тогда для «будетлян» главными. Вернувшись из города на Неве, они решили, что пришла пора изложить свои взгляды на бумаге. Об этом – Мария Бурлюк (она не совсем точно указала дату события – «в конце ноября» собиравшиеся нарушить общественное спокойствие стихотворцы были ещё в Петербурге):
«В Романовке, в номере Бурлюка, в конце ноября 1912 года и был написан Бурлюком, Маяковским, Хлебниковым и Кручёных знаменитый манифест «Пощёчина общественному вкусу»».
В «Я сам» образца 1922 года об этом сказано так:
«После нескольких ночей лирики родили совместный манифест. Давид собирал, переписывал, вдвоём дали имя, и выпустили „Пощёчину общественному вкусу“».
В отредактированном варианте 1928 года последняя фраза звучит чуть скромнее:
«Давид собирал, переписывал, дал имя и выпустил „Пощёчину общественному вкусу“».
Пощёчина всем
Скромное студенческое общежитие «Романовка» стало местом рождения нового литературного движения. Чёткого определенного названия у него ещё не было, но оно уже громогласно объявило, что появились «МЫ».
Бенедикт Лившиц, всё ещё служивший в армии и потому не принимавший участия в сочинении «Пощёчины», впоследствии написал:
«И обёрточная бумага, серая и коричневая, предвосхищавшая тип газетной бумаги двадцатого года, и ряднинная обложка, и самое заглавие сборника, рассчитанное на ошарашивание мещанина, били прямо в цель.
Главным же козырем был манифест».
Напомним, что «рядниной» тогда называли толстый холст из пеньковой или грубой льняной пряжи. Под этой «ряднинной обложкой» в альманахе «Пощёчина общественному вкусу» находился хлёсткий манифест, в котором публике сообщалось:
«Читающим наше Новое Первое Неожиданное.
Только мы – лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве».
Как тут ни привести высказывание Константина Бальмонта о том, в чём, по его мнению, состоит призвание поэта, которого он называл «чародеем»:
«Природа создаёт недоделанных уродцев, чародеи совершенствуют Природу и дают жизни красивый лик».
А какой новый «лик» предлагали россиянам те, кем трубил «рог времени»? О чём заявляли они в своем манифесте?
«Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов.
Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности.
Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней…
Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Чёрным, Кузьминым, Буниным и проч. и проч. нужна лишь дача на реке. Такую награду даёт судьба портным.
С высоты небоскрёба мы взираем на их ничтожество!..
Мы приказываем чтить права поэтов:
1. На увеличение словаря в его объёме произвольными и производными словами (Слово-новшество).
2. На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.
3. С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный вами Венок грошовой славы.
4. Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.
И если пока ещё и в наших строках остались грязные клейма ваших «здравого смысла» и «хорошего вкуса», то всё же на них уже трепещут впервые Зарницы Новой Грядущей Красоты Священного (самовитого) Слова.
Д. Бурлюк, Александр Кручёных,
В. Маяковский, Виктор Хлебников
Москва, 1912, декабрь».
Алексей Кручёных, подписавший манифест псевдонимным именем, потом вспоминал:
«Писали долго, спорили из-за каждой фразы, слова, буквы.
Помню, я предложил: «Выбросить Толстого, Достоевского, Пушкина…».
Маяковский добавил: «С парохода современности».
Кто-то: «Сбросить с парохода».
Маяковский: "Сбросить – это как будто они там были, нет, надо бросить с парохода"…
Ещё моё: «Кто не забудет своей первой любви – не узнает последней». Это вставлено в пику Тютчеву, который сказал о Пушкине: "Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет "».
Каждая фраза манифеста звучала как вызов, как намерение шокировать публику, совершить бунт в общественном мнении.
Даже «будетлянин» Бенедикт Лившиц был обескуражен:
«… текст манифеста был для меня совершенно неприемлем. Я спал с Пушкиным под подушкой – да я ли один?., сбрасывать его, вкупе с Достоевским и Толстым с «парохода современности» мне представлялось лицемерием. Особенно возмущал меня стиль манифеста, вернее, отсутствие всякого стиля..».
«Пощёчина», которой награждалось общество, не осталась незамеченной. В газетах (вырезки из них скрупулёзно собирал Давид Бурлюк) запестрели вопросы:
«Кто же, однако, эти горделивые „мы“?.. Чем нагрузили эти гении Пароход современности? Что даёт им право с такою лёгкостью выбрасывать как мёртвый груз своих великих соотечественников?»
«Кто они, авторы сборника?
Искренни ли они?
Бурлюк и К° не мальчики… Это господа, которым перевалило за тридцать лет. Их кривляние не результаты юношеских увлечений. Это господа, которые во что бы то ни стало хотят известности, хотя бы и путем скандала…
Творчество братьев и К° есть ничто иное, как сознательное шарлатанство. И краснеть за эту пощёчину придется не обществу, а им, художникам и поэтам, если в них, конечно, проснётся стыд за содеянное. Ведь они нанесли её искусству».
«Давид Бурлюк, молодой человек семинарского вида, сидит, развалившись на стуле, и разглядывает публику в лорнет. Лорнет – его специальность. Он и на снимках с лорнетом…
Великолепен гениальный поэт Алексей Кручёных. Из густых, зачёсанных а lа Гоголь волос торчит длинный нос. Говорит он с сильным украинским акцентом, презирает публику невероятно и требует полной отмены знаков препинания…
Но лучше всех Владимир Маяковский. Высокий юноша, очень красивый, в чёрной бархатной куртке. У него прекрасный, глубокий голос, и когда он декламирует невероятную чепуху гениального Хлебникова, выходит всё-таки красиво. Ругает публику он последними словами, требует, чтобы ему свистали, ибо он испытывает «сладострастие свистков». Проповедует он «самовитое слово», слово не как средство, а как цель. А вот его стихотворение:
У-
лица —
лица
У
Догов
Годов
Рез-
Че
Че-
Рез».
«Общественный вкус требует смысла в словах. Бей его по морде бессмыслицей! Общественный вкус требует знаков препинания. Надо его, значит, ударить отсутствием знаков препинания. Очень просто. Шиворот-навыворот, вот и всё».
«Бурлюки восторгаются детской мазнёй и глумятся над картинами Репина. Кручёные превозносят набор бессмысленных звуков и ставят их выше стихов Пушкина, прозы Толстого и Достоевского…
Они громко, нахально, не стесняясь, говорят об этом и своё нахальство называют «пощёчиной общественному вкусу»».
«Пощёчиной по собственной физиономии прозвучала книжечка прозы и стихов молодых эксцентриков: двух Бурлюков, Хлебникова и др., озаглавленная: „Пощёчина общественному вкусу“.
Серая бумага, в какую завёртывают в мелочной лавке ваксу и крупу, обложка из парусины цвета «вши, упавшей в обморок», заглавие, тиснутое грязной кирпичной краской, – всё это, намеренно безвкусное, явно рассчитано на ошеломление читателя. Если уж после этого он не разинет рта – очевидно, надо отказаться от всяких попыток его озадачить…
Мечта этой молодой компании – бросить Пушкина, Достоевского, Толстого, и проч., и проч. с парохода современности, стащить бумажные латы с Брюсова. Эта кучка поучает: «вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных бесчисленными Леонидами Андреевыми!»
Таков манифест нового искусства, подписанный именами: Д.Бурлюка, А.Кручёных, В.Маяковского и В.Хлебникова. Долой Пушкина и да здравствуют Бурлюки!..
Воинственная горсточка идёт на бой и нестерпимо стучит игрушечными сабельками. Она смертельно разобижена тем, что её не замечают, что о ней молчат».
Звучали и другие вопросы. Кто побудил небольшую группку молодых людей призывать к свержению установившихся канонов? Кто дал право этим не слишком образованным провинциалам раздавать пощёчины? Да не кому-то одному, а всем россиянам!
Ведь для того чтобы выпустить альманах с упакованной в него звонкой «пощёчиной» (даже на очень дешёвой бумаге для обоев), нужны были деньги. Кто их предоставил тем, кто объявил себя «лицом нашего времени»?
Бенедикт Лившиц писал:
«Когда „Бубновый валет“ отказался ассигновать деньги на сборник, Давид нашёл других издателей – Г.Л.Кузьмина и С.Д. Долинского, соблазнив их Хлебниковым и Возрождением Русской Литературы (всё с прописных букв!), участникам которого он гарантировал вечную благодарность потомства».
Согласно другим источникам, авиатор Георгий Кузьмин и музыкант Сергей Долинский были знакомыми Маяковского, который и уговорил их стать издателями альманаха, вышедшего в свет 18 декабря 1912 года тиражом в 500 экземпляров.
А теперь попробуем выяснить, сама ли четвёрка подписантов придумала текст своей «Пощёчины»?
Манифест Маринетти
Заглянем в Манифест футуризма, опубликованный Филиппом Маринетти 20 февраля 1909 года в парижской газете «Le Figaro». Вот что там было написано:
«Из Италии мы провозглашаем всему миру этот наш яростный, разрушительный, зажигающий манифест. Этим манифестом мы учреждаем сегодня футуризм, потому что хотим оградить нашу землю от зловонной гангрены профессоров, археологов, краснобаев и антикваров. Слишком долго Италия была страной старьёвщиков. Мы намереваемся освободить её от бесчисленных музеев, которые, словно множество кладбищ, покрывают её».
Как видим, стиль четвёрки, влепившей своим согражданам оглушительную «пощёчину», почти ничем не отличается от стиля Маринетти. И тут и там – горделивое слово «мы». Только те, на кого обрушивался итальянец, представлены своими профессиями, а четверо отважных россиян назвали своих противников по именам и фамилиям.
Прочитаем манифест Маринетти дальше:
«Мы не желаем иметь с прошлым ничего общего, мы, молодые и сильные футуристы!
Пусть же они придут, весёлые поджигатели с испачканными сажей пальцами! Вот они!.. Давайте же, поджигайте библиотечные полки! Поверните каналы, чтобы они затопили музеи!.. Какой восторг видеть, как плывут, покачиваясь, знаменитые старые полотна, потерявшие цвет и расползшиеся!.. Берите кирки, топоры и молотки и крушите, крушите без жалости седые почтенные города!»
Бурлюк, Кручёных, Маяковский и Хлебников пока ещё не призывали уничтожать библиотеки и музеи. Но к этому были уже готовы.
Авторы «Пощёчины» своего возраста не указали. Маринетти его не скрывал:
«Самому старшему из нас 30 лет, так что у нас есть ещё, по крайней мере, 10 лет, чтобы завершить своё дело. Когда нам будет 40, другие, более молодые и сильные, может быть, выбросят нас, как ненужные рукописи, в мусорную корзину – мы хотим, чтобы так оно и было!»
В момент написания «Пощёчины» Давиду Бурлюку было 30 лет, Алексею Кручёных – 26, Владимиру Маяковскому – 19, Виктору Хлебникову – 27. То есть им было примерно столько же лет, сколько и итальянским футуристам.
Маринетти провозглашал:
«Поднимите голову! Гордо расправьте плечи, мы стоим на вершине мира и вновь бросаем вызов звездам!»
Практически то же самое заявлялось в манифесте российских авангардистов, объявивших себя «лицом нашего Времени», перечисливших по именам своих оппонентов и восклицавших:
«С высоты небоскрёба мы взираем на их ничтожество!»
Маринетти предлагал:
«1. Мы намерены воспеть любовь к опасности, привычку к энергии и бесстрашию.
2. Мужество, отвага и бунт будут чертами нашей поэзии.
3. До сих пор литература восхваляла задумчивую неподвижность, экстаз и сон. Мы намерены воспеть агрессивное действие, лихорадочную бессонницу, бег гонщика, смертельный прыжок, удар кулаком и пощёчину».
Итальянский манифест заканчивался тремя пунктами, российский – четырьмя. Последнее слово декларации Филиппе Маринетти – «пощёчина», компания Давида Бурлюка поставила его первым в названии своего манифеста. Самая последняя фраза «Пощёчины общественному вкусу» по своему духу очень напоминает слова, которыми Маринетти чуть позднее охарактеризовал свой манифест, сказав, что он…
«… бешеной пулей просвистел над всей литературой».
Того же самого ждали от своей «Пощёчины» Бурлюк, Кручёных, Маяковский и Хлебников. Но, как писала одна из петербургских газет, этого не случилось:
«Ни парусиновая обложка, ни серая бумага, на которые возлагалась роль красного плаща, никого не приводят в бешенство. Никто не сердится, никто не возмущается. А они так надеялись!»
Писатель Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) тогда же написал:
«Поход молодых итальянцев против застывшей, окаменевшей культуры может быть и вздорным, но он объясним, против него есть оправдание. Нет никакого оправдания для тех, кто выступает против культуры лишь зародившейся, которой ещё нужна теплица и бережный уход… Нам баловаться рано, права не имеем, не заслужили».
Писатель Иван Алексеевич Бунин назвал футуризм «плоским хулиганством».
Мнение медиков
Вскоре в газетных статьях, высмеивавших футуристов, стали появляться высказывания великих людей. К примеру, приводились слова немецкого поэта Генриха Гейне:
«Человек – самое тщеславное существо из животных, а поэты – самые тщеславные из людей».
Вспомнили и французского баснописца Жана де Лафонтена, как-то сказавшего о поэтах:
«Малейшее дуновение ветра, ничтожное облачко, каждый пустяк вызывает у них лихорадку».
Печатали и слова психоневролога Гекарта, который утверждал:
«Трудиться над созданием ни к чему не пригодных вещей – занятие, свойственное только сумасшедшим».
В ход пошла даже старая латинская пословица:
«Или безумец, или стихоплёт».
Все эти высказывания брались из популярной в ту пору книги итальянского психиатра, криминалиста и писателя Чезаре Ломброзо «Гениальность и помешательство». Труд этот был издан в 1863 году, а в 1892-ом переиздан в России, где его читали с большим интересом. Часто общаясь с тронутыми умом пациентами, Ломброзо писал:
«… умопомешательство пробуждает художественные способности у субъектов, не имевших их ранее…
… литераторы дома умалишённых чрезвычайно склонны употреблять созвучия, часто совершенно бессмысленные, и придумывать новые слова или же придавать особый смысл уже существующим словам и преувеличивать значение самых ничтожных мелких подробностей».
Вовлечение в газетную полемику о футуристах знаменитого итальянского психиатра придало ей неожиданную остроту и разожгло дополнительный интерес у читающей публики. Стоило кому-нибудь из команды Давида Бурлюка произнести какую-нибудь фразу из «Пощёчины» (а чаще всего звучало: «Только мы – лицо нашего времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве»), как тут же извлекалось высказывание Чезаре Ломброзо:
«… отличительная особенность подобного субъекта – его преувеличенное мнение о себе, о своих достоинствах».
Стоило футуристу выкрикнуть со сцены: «Мы презираем славу, нам известны чувства, не жившие до нас!», как газеты вновь цитировали книгу «Гениальность и помешательство», в которой говорилось, что существует…
«… совершенно особый тип индивидов, на которых впервые указал Маудели под именем «людей с темпераментом помешанных», и которых потом Морель, Легранд Ле Соль и Шюле назвали «страдающими наследственным неврозом», Валлийский и другие – психопатами, а Раджи – невропатами».
Призыву будетлян-гилейцев «Мы приказываем чтить права поэтов!» тут же противопоставлялась слова Ломброзо:
«… поэзией занимаются преимущественно сумасшедшие».
Газетный «обстрел» футуристических позиций усиливался с каждым новым выступлением команды Давида Бурлюка. Но рвавшиеся стать «лицом Времени» гилейцы ни на какие упрёки внимания не обращали и раздачу «пощёчин» продолжали.
Село Чернянка
А теперь – об одной неточности в автобиографических заметках Маяковского. В них говорится, что «Пощёчина» была создана, когда «будетляне» вернулись с юга России. Но это не так – поездка в Чернянку произошла после выпуска манифеста. Именно тогда – в самом конце 1912 года – Давид Бурлюк и пригласил Маяковского в Таврическую губернию. В «Я сам» об этом сказано так:
«На Рождество завёз к себе в Новую Маячку».
В редакторских примечаниях к книге Василия Абгаровича Катаняна «Хроника жизни и деятельности Маяковского» говорится:
«Эти сведения не совсем точны… Семья Бурлюков проживала не в Маячке, где находилась почта, а в 10–11 километрах от неё – в селе Чернянка Нижне-Днепровского уезда Таврической губернии (ныне Каховского района Херсонской области), где находилась главная усадьба и контора Чернодолинского заповедного имения графа А.А.Мордвинова».
Маяковский почему-то предпочёл одно название другому. Почему? Кто знает, может быть, слово «Маячка» просто понравилось ему из-за созвучности с его фамилией?
У собравшихся в селе Чернянка Бурлюков и их гостей свободного времени было предостаточно, и Мария Никифоровна принялась учить своего мужа пению. Вот что, по её словам, за этим последовало:
«Увидев успехи Давида Давидовича, Маяковский скоро и сам басом изъявил желание пройти со мной несколько романсов, но у моего нового ученика абсолютно не было музыкального слуха, а одолеть ритмическую работу упорным трудом у Владимира Владимировича не было охоты.
Всё же оказалось, что он знает несколько тактов песни Варяжского гостя из оперы «Садко», начинающейся словами «О скалы грозные дробятся с рёвом волны». Теперь каждый вечер я с Владимиром Владимировичем разучивала эту арию и в конце концов добилась того, что он был в состоянии её исполнить, не диссонируя, не расходясь с аккомпанементом.
Маяковский пел с увлечением, не утомляясь мелодией. У него было что-то вроде бас-профундо, и в арии этой он выдерживать умел все паузы, показывая красоту и силу звука, рождённые молодым богатырством».
В Чернянке гостил тогда и студент Петербургского Технологического института Антон Александрович Безваль, которого Бенедикт Лившиц представил так:
«… милый юноша, сын старой приятельницы Людмилы Иосифовны, впоследствии женившийся на Надежде Бурлюк».
Людмила Иосифовна – это мать Давида Бурлюка, Надежда – его сестра.
Продолжим представление Антона Безваля:
«Он… сделался потом главным устроителем наших выступлений в Петербурге и Москве, всей душой разделяя наши успехи и неудачи, но в то же время неизменно оставаясь в тени».
Сам же Безваль в своих воспоминаниях писал:
«Во время святок был устроен домашний театр. Играли "Женитьбу "Гоголя».
Как и год назад, постановщиком спектакля был Давид Бурлюк.
Антон Безваль:
«Маяковский играл Яичницу. Подложил громадную подушку, реплики подавал зычным голосом. Правда, текст знал плохо, я суфлировал. Но Яичница получился занятный и вызвал шумные одобрения зрителей».
О своём пребывании в Чернянке Маяковский (в «Я сам») написал:
«Привёз „Порт“ и другое».
«Порт» – это всего два четверостишья. Вот они:
«Простыни вод под брюхом были.
Их рвал на волны белый зуб.
Был вой трубы, как будто лили
любовь и похоть медью труб.
Прижались лодки в люльках входов
к сосцам железных матерей.
В ушах оглохших пароходов
горели серьги якорей».
Порт – это стоянка судов, место самое что ни на есть обыкновенное. Маяковский описал его неожиданно красочно, придумал свежие образы. Вот только зачем они? Что хотел сказать поэт этой чарующей красотой? Или восемью строчками его поэтическое вдохновение заканчивалось?
Ещё в «Я сам» сказано:
«Из Маячки вернулись. Если с неотчётливыми взглядами, то с отточенными темпераментами».
Глава третья Отточенная неотчётливость
Новый «Садок»
Вернувшийся из Чернянки Давид Бурлюк, не взирая на подмеченную Маяковским «неотчётливость взглядов», вступил (вместе с Казимиром Малевичем и Владимиром Татлиным) в петербургское общество «Союз молодёжи». Это было первое петербургское объединение художников-экспериментаторов, которое начали называть «русским авангардом».
Примерно в это же самое время (12 января 1913 года) московский генерал-губернатор Владимир Фёдорович Джунковский получил новое назначение и переехал в Санкт-Петербург. Он стал товарищем (заместителем) министра внутренних дел и командиром Отдельного корпуса жандармов. Назначавшие его на эту важную правительственную должность надеялись, что он наведёт в стране общественное спокойствие.
А «будетляне», отточившие в Чернянке свои темпераменты, вновь решили возмутить всеобщий общественный покой. В феврале 1913 года в Петербурге вышел второй альманах «Садок судей» с новым коллективным манифестом:
«Мы выдвинули впервые новые принципы творчества, кои нам ясны в следующем порядке:
1. Мы перестали рассматривать словопостроение и словопроизношение по грамматическим правилам, став видеть в буквах лишь направляющие речи. Мы расшатали синтаксис.
2. Мы стали придавать содержание словам по их начертательной и фонической характеристике.
3. Нами осознаны роли приставок и суффиксов.
4. Во имя свободы данного случая мы отрицаем правописание.
5. Мы характеризуем существительные не только прилагательными (как делали главным образом до нас), но и другими частями речи, также отдельными буквами и числами…
6. Нами уничтожены знаки препинания, чем роль словесной массы выдвинута впервые и осознана…
11. Мы считаем слово творцом мифа, слово, умирая, рождает миф, и наоборот.
12. Мы во власти новых тем: ненужность, бессмысленность, тайна властной ничтожности воспеты нами.
13. Мы презираем славу; нам известны чувства, не жившие до нас.
Мы новые люди новой жизни».
Далее следовало уже восемь подписей, среди них – Давид и Николай Бурлюки, Владимир Маяковский, Виктор Хлебников, Бенедикт Лившиц и Алексей Кручёных. Эти «новые люди новой жизни» пока ещё яростно открещивались от футуризма вообще и от эгофутуристов, в частности.
Когда читаешь строки этого нового манифеста, тщательно «отточенные» для того, чтобы стать очередной «пощёчиной», вновь невольно вспоминается Константин Бальмонт, который (в предисловии к сборнику «Горящие здания») писал:
«… я никогда не закрывал своего слуха для голосов, звучащих из прошлого и неизбежного грядущего».
Кроме манифеста во втором альманахе «Садок судей» были ещё и стихи, напечатанные без знаков препинания, без «ятей», но зато содержавшие множество совершенно новых, а потому многим непонятных слов.
Валерий Брюсов, ознакомившись с альманахом, сказал, что он находится «за пределами литературы», хотя и похвалил стихи Василия Каменского и Николая Бурлюка. Другой поэт, Николай Гумилёв, отнёсся к «Садку судей» примерно так же:
«… из пяти поэтов, давших туда свои стихи, подлинно дерзают только два: Василий Каменский и В.Хлебников, остальные просто беспомощны».
23 февраля 1913 года социал-демократы устроили в Петербурге концерт, весь сбор от которого должен был пойти в фонд их газеты «Правда». Подобные мероприятия любили использовать нелегалы-подпольщики для устройства разнообразных (и безопасных) встреч – ведь на концерты приходило много народа, и в толпе можно было легко затеряться.
Пришли на концерт и сбежавшие с нарымской ссылки члены ЦК РСДРП Коба Джугашвили-Сталин и Яков Свердлов. Они сидели за столиком и разговаривали с депутатом Государственной думы Алексеем Бадаевым, когда к ним неожиданно подошли агенты Охранного отделения. Жандармам об этой встрече дал знать другой член Государственной думы и член ЦК РСДРП Роман Малиновский (он же агент царской охранки).
Джугашвили-Сталина и Свердлва арестовали. Газеты об этом событии не проронили ни слова. Зато они весьма эмоционально обсуждали второй «Диспут о современном искусстве», организованный обществом художников «Бубновый валет» – это мероприятие состоялось в Москве 24 февраля. Газета «Русское слово» на следующий день написала:
«В числе оппонентов выступил некто… г. Маяковский, ругательски ругавший „валетов“ за их… консерватизм. Но публика, очевидно, не разобрав, в чём дело, горячо рукоплескала оратору..».
«Московская газета» высказалась чуть многословнее:
«Некто Маяковский, громадного роста мужчина, с голосом, как тромбон, заявил, что он, футурист, желает говорить первым. По каким-то причинам выступление Маяковского было, очевидно, не на руку организаторам диспута. Они настаивали, что очередь Маяковского – только седьмая. Футурист зычно апеллировал к аудитории:
– Господа, прошу вашей защиты от произвола кучки, размазывающей слюни по студню искусства!
Аудитория, конечно, стала на сторону футуриста.
Целых четверть часа в зале стоял стон от аплодисментов, криков «долой», свиста и шиканья. Всё-таки решительность Маяковского одержала победу».
Как видим, «новых людей новой жизни» газета назвала «футуристами», а Маяковский, выступая перед публикой, и вовсе представил себя таковым.
В конце февраля эти же «новые люди» выпустили листовку с тем же залихватским названием – «Пощёчина общественному вкусу». В ней тоже был коллективный манифест, под которым (вместо подписей) размещалась фотография: на первом плане сидел Виктор Хлебников, рядом с ним располагались меценаты, профинансировавшие издание листовки: авиатор Георгий Кузьмин и музыкант Сергей Долинский, за ними стояли Николай Бурлюк, Давид Бурлюк и Владимир Маяковский.
Новый манифест напоминал о том, что в поэтическом сборнике «Садок Судей»…
«… гений – великий поэт современности – Велимир Хлебников впервые выступил в печати. Петербургские мэтры считали Хлебникова «сумасшедшим». Они не напечатали, конечно, ни одной вещи того, кто нёс собой Возрождение Русской Литературы. Позор и стыд на их головы!..»
Затем следовал оскорбительный выпад по адресу тех, кто не жаловал несущих обществу «Великие откровения Современности»:
«Русские критики, эти торгаши, эти слюнявые недоноски, дующие в свои ежедневные волынки, толстокожие и не понимающие красоты, разразились морем негодования и ярости».
Заканчивался манифест тоже весьма запальчиво и грубо:
«Все эти бесчисленные сюсюкающие… утверждают (какое грязное обвинение), что мы „декаденты“ – последние из них – и что мы не сказали ничего нового – ни в размере, ни в рифме, ни в отношении к слову.
Разве были оправданы в русской литературе наши приказания чтить Права поэтов:
на увеличение словаря в его объёме произвольными и производными словами!
на непреодолимую ненависть к существовавшему языку!..
стоять на глыбе слова "мы "среди моря свиста и негодования!»
Фразы жёсткие, жестокие. Когда читаешь их, на память приходит встреча, проходившая примерно в то же время, и участником которой был Маяковский. Он познакомился тогда с поэтом Валерием Брюсовым. Вадим Шершеневич потом написал:
«Я помню, как Маяковский внимательно слушал Брюсова, когда тот критиковал его стихи и указывал на их недостатки. Маяковский шёл вместе со мной домой и сквозь обиду шептал:
– Сам писать не умеет, а до чего здорово показывает!»
Наступила весна 1913 года.
В марте вышел альманах «Требник троих» с двумя рисунками Маяковского и с несколькими его стихотворениями, среди которых – «А вы могли бы?». Их два четверостишья вскоре стали необыкновенно популярны.
С выходками, порочащими устои общества, пытались бороться не только газетчики. Новый товарищ (заместитель) министра внутренних дел Владимир Джунковский, в подчинении которого оказалась вся государственная полиция царской России, приступил к её реформированию – с тем, чтобы искоренить (как он сам впоследствии говорил) царившую в ней безнравственность. В мае Джунковский подписал циркуляр, который запрещал вербовать агентов полиции среди учащихся средних учебных заведений и в армии. Этот невероятно смелый для тогдашней России шаг ошеломил очень многих.
«Пришедший сам»
Любопытное свидетельство оставил Лев Шехтель, написавший о том, как передвигался, ходил в те годы Владимир Маяковский:
«Маяковский не шёл, а маячил. Его можно было узнать за версту не только благодаря его росту, но, главным образом, по размашистости его движений и немного корявой и тяжёлой походке».
Мария Никифоровна Бурлюк высказалась о том, как относилась к молодому поэту публика, перед которой он выступал:
«Трудно сказать, любили ли люди (людишки – никогда) Владимира Маяковского. Вообще любили его только те, кто знал, понимал, разглядывал, охватывал его громаднейшую, выпиравшую из берегов личность. А на это были способны очень немногие: Маяковский „запросто“ не давался.
Маяковский-юноша любил людей больше, чем они его».
В этом нет ничего удивительного – очень непросто было полюбить поэта, который, прочитав свои не очень понятные стихи, подходил к краю эстрады и, обращаясь к сидевшим в зале, говорил:
«– Желающие получить в морду благоволите становиться в очередь».
Эти слова, не раз произносившиеся Маяковским, особенно возмутили писателя Ивана Алексеевича Бунина, который написал:
«Если бы на какой-нибудь ярмарке балаганный шут крикнул толпе становиться в очередь, чтобы получить по морде, его немедля выволокли бы из балагана и самого измордовали бы до бесчувствия. Ну, а столичная интеллигенция вполне соглашалась с тем, что эти выходки называются футуризмом».
В самом деле, складывается впечатление, что тогдашней публике нравились «эти выходки» Маяковского, что ей, по словам Бенедикта Лившица…
«… импонировал этот развязный, пока ещё ничем не проявивший себя юноша».
Но высказывания газет были весьма суровыми. В «Я сам» об этом сказано:
«Выставки „Бубновый валет“. Диспуты. Разъярённые речи мои и Давида. Газеты стали заполняться футуризмом. Тон был не очень вежливый. Так, например, меня просто называли „сукиным сыном“».
24 марта 1913 года санкт-петербургская газета «Русская молва» поведала публике о выступлении Маяковского в Троицком театре на «Первом публичном диспуте о новейшей русской литературе». Афиши, сообщая, что Владимир Маяковский сделает доклад под названием «Пришедший сам», немного приоткрывали суть предстоявшего выступления: «Слово – самоцель» и «У нашей поэзии нет предшественников».
Как сообщила та же газета, выйдя на сцену, поэт-футурист заявил:
«Я не жду от вас ничего, кроме издевательства, но ваши насмешки и ваши крики могут мне только доставить радость сладострастия быть освистанным».
Газета описала и то, что последовало вслед за этими дерзкими, задиристыми словами:
«Сделав это гордое заявление, г. Маяковский переходит к критике современной русской поэзии.
– Бальмонт – парфюмерная фабрика. Блок, Брюсов, Гумилёвы, Городецкие слащавы, фальшивы, крикливы. Разве произведение «гробокопателя» Сологуба, пугала Андреева и других могут вселить в вас любовь к жизни?
И прочитав несколько стихотворений Блока, Брюсова и других, докладчик противопоставляет им поэзию футуризма».
О стихах, прочитанных Маяковским, газета «Речь» написала 26 марта (в статье «Кубисты и круглисты»):
«Среди непонятных отрывков и слов …проскакивали вдруг неожиданно красивые строфы и смелые образы:
Лебеди шей колокольных,
гнитесь в силках проводов!
В небе жирафий рисунок готов
выпестрить ржавые чубы».
Газета привела отрывок из стихотворения Маяковского «Из улицы в улицу».
Но, пожалуй, самым интересным в этом докладе было всё-таки не его, прямо скажем, весьма грубоватое содержание, а название: «Пришедший сам». Увидев его, публика тех лет сразу вспоминала нашумевшую статью восьмилетней давности Дмитрия Мережковского – «Грядущий Хам» и стихотворение в прозе Максима Горького – «Человек».
Вспомним, что было написано в тех произведениях.
Мережковский читателей пугал. Тем, что грубый неотёсанный Хам, который может появиться очень скоро, будет противостоять «живому духу России», её интеллигенции, выставляя напоказ свою натуру, состоящую из «духовного рабства и хамства, безличности, серединности и пошлости».
Горький же писал о том, что среди людей очень много никчёмных, ничего из себя не представляющих индивидуумов:
«Одетые в лохмотья старых истин, отравленные ядом предрассудков, они враждебно идут сзади Мысли, не поспевая за её полётом».
Но среди этой многочисленной армии, состоящей из «людишек», находится Человек (с большой буквы):
«Затерянный среди пустынь вселенной, один на меленьком куске земли, несущемся с неумолимой быстротою куда-то вдаль безмерного пространства…
Идёт он, орошая кровью сердца свой трудный, одинокий, гордый путь, и создаёт из этой жгучей крови – поэзии нетленные цветы…».
Названием своего доклада Маяковский как бы в открытую заявлял, что этот Человек уже появился. Его никто не звал, он пришёл сам. И этим Человеком (с большой буквы!) является он сам. Потому он и разговаривал с публикой, состоявшей, по его мнению, из «людишек», столь дерзко и столь вызывающе.
В ответ на подобное поведение те, кто писал о вечерах с участием Давида Бурлюка и его соратников, давали своим обидчикам не менее обидные и очень хлёсткие прозвища: «рыцари безумия», «безумцы», «фокусники», «балаганщики», «циркачи», «озорники», «жокеи», «святотатцы», «сумасшедшие», «желторотые бунтовщики», «мошенники».
Весь этот набор ярлыков как бы расшифровывал всё то, что заключалось в слове «футуристы». Вот почему Бенедикт Лившиц с такой решительностью заявлял, что он и его друзья к этому понятию никакого отношения не имели:
«Мы и весной тринадцатого года не называли себя футуристами, напротив, – всячески открещивались от юрких молодых людей, приклеивавших к себе этот ярлык…».
Да, желавших встать в ряды этого модного течения было в ту пору немало. Существовал «Мезонин поэзии», в который входили Вадим Шершеневич, Рюрик Ивнев (Михаил Ковалёв), Сергей Третьяков, Борис Лавренёв (Сергеев) и другие юные стихотворцы. Была «Центрифуга», состоявшая из Сергея Боброва, Николая Асеева, Бориса Пастернака, Константина Большакова, Ильи Зданевича и других. Члены «Центрифуги» тоже выпустили свой манифест – «Грамоту», в которой писали:
«… не желая больше поощрять наглость зарвавшейся банды, присвоившей себе имя Русских футуристов, заявляя им в лицо… Вы предатели и ренегаты… Вы самозванцы… Вы трусы… Вы…».
А Бенедикт Лившиц продолжал яростно открещиваться от того, что будетляне-гилейцы – тоже «футуристы»:
«… мы ещё в тринадцатом году перегрызли бы горло всякому, кто попытался бы уверить нас в этом, доказать нам нашу причастность к какому бы то ни было «направленчеству»».
А как к модернистским течениям относились в ту пору в Европе?
Бенедикт Лившиц:
«Французы немного свысока поглядывали на „футуризм“, как на всё нефранцузское: футуризм был для них итальянской выдумкой и не имел тех прав на внимание, какие принадлежали, в силу самого её происхождения, любой парижской затее».
Ладо Джапаридзе:
«У нас в Грузии термин „футурист“ в шутку роднили не с латинским „футурум“ („будущее“), а с грузинским словом „футуро“ („пустота“). Мол, „из пустого в порожнее!“»
Не потому ли авторы «Пощёчины общественному вкусу» отторгали от себя это модное в ту пору словечко, что их на это отторжение толкал Маяковский, знавший грузинский язык?
Как бы там ни было, но небольшая группа российских авангардистов во главе с Давидом Бурлюком продолжала называть себя «гилейцами» и «будетлянами».
Подоплека «будетлянства»
Мы уже говорили о том, что «перенацелить» бунтарство молодого Маяковского вполне могли сотрудники Охранного отделения, продержавшие его в тюрьме в течение полугода. И жандармы своего добились. Оказавшись на свободе, «товарищ Константин» вновь начал именоваться Владимиром, а всю свою кипучую энергию направил на то, чтобы стать художником. Но превратился в поэта.
Искусствовед Андрей Шемшурин, художник Давид Бурлюк и поэт Владимир Маяковский, 1913 год. Репродукция Фотохроники ТАСС
Ему повезло – среди новых друзей он встретил полное понимание и поддержку. Кроме того, оказалось, что они объединены в некое сообщество, а их поступки очень напоминали то, чем занимались и что проделывали революционно настроенные жильцы квартиры Маяковских. С той только разницей, что за жильцами (эсдеками и эсерами) зорко следила полиция, и их в любой момент могли отправить за решетку, а компанию Давида Бурлюка, вытворявшую нечто несусветное, общество лишь снисходительно журило.
А ведь «будетляне» замахивались на традиции, нравы и обычаи страны. Цинично и грубо оскорбляли самое святое. И что же? Интеллигентнейшая публика обеих российских столиц спокойно взирала на дерзостные выходки «гилейцев». Со стороны властей тоже не было никакого противодействия, а возмутительно дерзкий альманах «будетлян» цензура преспокойно разрешила. Почему?
Для того, чтобы решиться ударить по щеке российское общество, нужны были не только нахальство и дерзость. Замахивавшийся должен был быть абсолютно уверен в том, что не получит в ответ ещё более хлёсткую оплеуху, и что он не попадёт за свой противоправный поступок за решётку. Какой из этого напрашивается вывод?
Он простой: у российских авангардистов вполне могли существовать влиятельные покровители. А также наводчики, которые указывали молодым энергичным людям на объекты, которые можно было безбоязненно (и безнаказанно) ломать, корёжить и (если хватит сил) сносить до основания. В качестве таких объектов выступала российская культура и её искусство – они законами не охранялись, и полиция «ломщиков» не трогала.
Кто же мог покровительствовать «будетлянам»? Кто подталкивал их на отчаянно озорное бунтарство?
Вспомним создававшиеся ещё Сергеем Зубатовым союзы рабочих, которые вовлекали пролетариев в «кружки» религиозного и учебно-просветительского толка, отвлекая их от увлечения революционно-подпольной деятельностью. Это движение даже имя получило – «зубатовщина».
Разве не могла охранка попытаться создать нечто похожее и в рядах российской интеллигенции, увлечённой модными революционными идеями? Могла, конечно. И этот её шаг власти наверняка восприняли положительно, поскольку с его помощью можно было отвлечь многих молодых интеллигентов от марксизма, анархизма и прочей социал-демократии.
Российское «будетлянство», со временем превратившееся в «футуризм», если приглядеться к нему повнимательней, разве это не та же самая «зубатовщина», только нацеленная не на рабочих, а на интеллигенцию?
Но если так, то кто тогда был гилейским «попом Гапоном», заварившим всю эту будетлянскую кашу?
Бунт сообщества гилейцев-будетлян начался с опубликования поэтического сборника «Садок судей» в апреле 1910 года. Он, как мы помним, представлял собой (по словам самих его авторов) некую «ловушку» для «отлова» читателей и «суда» над ними.
Присмотримся повнимательней к «ловцам» и «судьям». Имелись ли у кого-то из них контакты с Охранным отделением?
Бурлюки. Их было три брата – художник и поэт Давид, художник Владимир и поэт Николай. Властям они никогда не противостояли. Будучи людьми чрезвычайно способными, даже талантливыми, они весьма прилежно учились, и к противоправным деяниям отношения не имели. Стало быть, с жандармами их жизненные пути пересечься вряд ли могли.
Хлебников Виктор Владимирович. Родился в 1885 году в Астраханской губернии в семье орнитолога. В 1903-ем поступил на математическое отделение физико-математического факультета Казанского университета. Стал учиться.
Но в октябре один из студентов, арестованный за принадлежность к партии социал-демократов, скончался в казанской тюрьме. Это вызвало взрыв негодования среди молодёжи города. Состоялись две демонстрации: 27 октября, в день похорон погибшего эсдека, и 5 ноября, в годовщину Казанского университета. Среди демонстрантов находился и Виктор Хлебников.
Ноябрьская демонстрация была разогнана нагайками. Среди 35 арестованных оказался и студент Хлебников. Так что с жандармами ему пообщаться пришлось – целый месяц провел за решёткой.
Летом 1904 года он перевёлся на естественное отделение физико-математического факультета Казанского университета, а осенью 1908 года приехал в Санкт-Петербург, где был зачислен в университет (на третий курс естественного отделения физико-математического факультета).
Увлёкся литературным трудом – стал писать пьесы, прозу, стихи.
В сентябре 1908 года познакомился с заместителем главного редактора журнала «Весна», который уже через месяц опубликовал его стихотворение в прозе «Искушение грешника».
Осенью 1909 года Хлебников взял себе в качестве псевдонима южнославянское имя Велимир («Великий мир»). Написал поэму «Журавль» и драму «Госпожа Ленин».
В феврале 1910-го состоялось знакомство Хлебникова с братьями Бурлюками, и он переехал на жительство в их квартиру. Вскоре возникла группа «будетлян».
В апреле того же года вышел сборник «Садок судей», в котором были напечатаны произведения Хлебникова. А через месяц – в мае – в городе Херсоне он на свои средства издал книгу «Учитель и ученик», в которой задавался вопрос, предсказывавший России грядущие судьбоносные события:
«Не стоит ли ждать в 1917 году падения государства?»
Вот, пожалуй, и всё, что известно об этом человеке. Если же учесть, что он вообще был, как говорится, не от мира сего, то влиять на него Охранное отделение вполне могло.
Лившиц Бенедикт Наумович. Родился в 1886 году в Одессе. Учился на юридическом факультете Новороссийского (Одесского) университета. За участие в студенческих волнениях отчислен, но сумел перевестись в Киевский университет.
В 1910 году в петербургском журнале «Аполлон» были напечатаны три его стихотворения. А в конце года он познакомился с Давидом Бурлюком, который пригласил его в Чернянку, где «будетляне» стали зваться ещё и «гилейцами».
Закончив в 1912 году университет и получив высшее юридическое образование, пошёл служить в армию.
Вот и весь жизненный путь этого поэта, которому общаться с сотрудниками Охранного отделения, вроде бы, не пришлось.
Кручёных Алексей Елисеевич окончил Одесское художественное училище, в котором учился с 1902 по 1906 годы. Писал стихи, которые называли заумными. «Заумь» — это язык, состоящий из «неведомых слов», непонятных никому, кроме их создателя. Кручёных считался главным теоретиком и практиком «заумной поэзии». Самым известным его стихотворением стало это:
«Дыр бул щыл
убешщур
скум
вы со бу
р л эз».
Сам он говорил, что…
«… в этом пятистишии больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина».
В общении с Охранным отделением Кручёных замечен не был.
Остаётся ещё один будетлянин. Если Давид Бурлюк называл себя «отцом российского футуризма», то этого стихотворца величали «матерью» авангардистов.
«Мать» футуризма
Каменский Василий Васильевич прожил жизнь невероятно яркую, полную грандиозных (порой весьма драматичных) событий и встреч с интереснейшими людьми. Родился он в 1884 году в каюте ходившего по Каме парохода, капитаном которого был его дед с материнской стороны. Отец Каменского служил смотрителем золотых приисков графа Шувалова.
Маленькому Васе не было пяти лет, когда он лишился отца и матери. Воспитывался у тётки. С одиннадцати лет стал писать стихи.
Самостоятельная жизнь началась рано – в 1900 году он оставил школу и стал работать в бухгалтерии Пермской железной дороги. Сотрудничал в газете «Пермский край», в которой публиковал прозаические заметки и стихи.
Попав в 1902 году в театр, был очарован сценой. Решил стать актёром. Несмотря на уговоры родных и друзей, бросил службу, взял себе псевдоним Васильковский и отправился с театральной труппой на гастроли.
Вот что писал об этом он сам:
«Восемнадцати лет увлёкся театром, уехал в Москву, стал актёром. Играл в Севастополе, Тамбове, Кременчуге и Николаеве, где работал в труппе В.Э.Мейерхольда. В этом Николаеве волею обстоятельств жил у приятеля в бюро похоронных принадлежностей – спал в сторублевом дубовом гробу, на складе. Было страшновато, но уютно».
Напомним, что Всеволод Эмильевич Мейерхольд, ещё недавно бывший актёром Художественного театра, покинул его знаменитые подмостки. Зачем? Константин Сергеевич Станиславский в книге «Моя жизнь в искусстве» об этом уходе писал:
«… он ушёл от нас в провинцию, собрал там труппу и искал с ней нового, более современного искусства».
Кстати, в труппе Мейерхольда Василий Каменский мог встретить и Давида Бурлюка, который тогда тоже искал «новое» в театральном искусстве.
Поэтический монолог, который предстояло произнести со сцены актёру Васильковскому, показался ему недостаточно выразительным, и он написал стихи, которые прочёл на репетиции. Услышав их, Мейерхольд порекомендовал юному стихотворцу уйти из театра и посвятить себя литературе.
Василий Каменский:
«Мейерхольд посоветовал мне бросить сцену, увидел во мне литератора. Я послушался. И случайно попал в Константинополь, а потом уехал на Урал. Начал печатать стихи в газете „Урал“».
Он вновь стал работать на железной дороге, где сблизился с марксистами. И тут начался грозный 1905 год.
Василий Каменский:
«В 1905 году был избран делегатом на первый съезд Железнодорожного союза. И во время забастовки состоял председателем забастовочного комитета громадного Уральского района от Бисера до Екатеринбурга. Зимой был арестован и посажен в одиночку Николаевской тюрьмы Верхотуринского уезда. Освобождён летом 1906 года».
Итак, арестовали Василия Каменского в декабре, на свободу он вышел в мае. То есть провёл за решёткой примерно столько же времени, сколько и Маяковский. И там, вне всяких сомнений, подвергся точно такой же усиленной обработке со стороны опытных сотрудников Охранного отделения. Для того, чтобы выйти из тюрьмы, ему наверняка пришлось дать жандармам письменное обязательство: больше революционными делами не заниматься, а посвятить себя чему-либо другому, например, литературе, стихосложению.
Иными словами, с Василием Каменским вполне могло произойти то же самое, что через несколько лет случилось с Владимиром Маяковским.
Обретя свободу, Каменский в 1907 году отправился в Санкт-Петербург, сдал там экзамены на аттестат зрелости и поступил учиться на высшие сельскохозяйственные курсы. Во время учёбы увлекся живописью. Судьба вновь столкнула его с Давидом Бурлюком.
Василий Каменский:
«Встретился и подружился с художником Давидом Бурлюком. Занимался в студии Бурлюка живописью. Выставлял свои картины на левых выставках. Много работал по литературе под мудрым руководством мастера-знатока Д.Бурлюка».
В 1908 году Каменский пришёл в только что открывшийся «журнал литературных дебютов» — «Весна», где так понравился её хозяину Николаю Шебуеву, что тот предложил ему место секретаря редакции.
Сам Василий Каменский писал об этом очень кратко:
«В 1908 году устроился секретарём редакции «Весна» у Н.Шебуева».
Возникает вопрос. Каким образом двадцатичетырехлетнему молодому человеку, учившемуся на сельскохозяйственных курсах и печатавшемуся до этого лишь в небольших провинциальных газетах, удалось стать секретарём столичного журнала?
Некоторые биографы Каменского пишут, что он стал даже «соредактором», то есть «заместителем главного редактора». Хотя в самом журнале «Весна» его должность была представлена так:
«…редактор В.В. Каменский, издатель Л.А. Шебуева».
Издателем «Весны» формально считалась супруга хозяина журнала – Любовь Александровна Шебуева. То есть получается, что фактическим редактором столичной «Весны» был прибывший с Урала Василий Каменский.
Как такое могло случиться?
Чтобы ответить на этот вопрос, приглядимся к хозяину журнала.
Судьба стихотворца
С Николаем Шебуевым мы встречались, когда рассказывали о первой русской революции. 13 ноября 1905 года в Петербурге вышло сразу два сатирических журнала: «Пулемёт», редактировавшийся поэтом, прозаиком и публицистом Николаем Георгиевичем Шебуевым, и «Сигнал», который издавал и редактировал Корней Иванович Чуковский.
На обложке первого номера «Пулемёта» был изображён кричащий мужчина, а под ним – подпись: «Долой!» и фраза, объяснявшая, кем является тот, кто кричит: «Его рабочее Величество пролетарий Всероссийский». На первой странице журнала красовался текст царского манифеста с отпечатком кровавой ладони.
На следующий день в петербургских газетах появилось сообщение:
«Вчера в 2 часа дня в одну из главных типографий Петербурга, типографию товарищества „Труд“, явился местный пристав, инспектор типографии с понятыми и по распоряжению Управляющего министерством внутренних дел Дурново опечатали типографию. Причина – напечатание № 1 сатирического журнала „Пулемёт“, издаваемого Н.Г. Шебуевым. На 1-й странице журнала напечатан манифест 17-го октября с приложенной кровавой рукой и надписью „здесь Трепов руку приложил“.
Сегодня в ночь Н.Г. Шебуев арестован».
В ордере на арест Николая Шебуева было написано, что он берётся под стражу «за оскорбление императорского величества и дерзостное неуважение к верховной власти».
Шебуева заключили в Петропавловскую крепость, но журнал «Пулемёт» продолжал выходить. Вышло, правда, всего четыре номера – пятый был конфискован полицией.
Журнал «Сигнал» после четвертого выпуска тоже был запрещён (за «оскорбление величества»), но его редактора суд оправдал, и Корней Чуковский продолжал ещё какое-то время выпускать свой журнал под другим названием – «Сигналы».
Подобная «свобода слова», дарованная царским правительством, вызвала множество шуток и анекдотов, о которых видный социал-демократ Вацлав Вацлавович Боровский написал:
«Потребность в смехе породила спрос на смех…
Под влиянием этого спроса создалась целая профессия смеющихся и смешащих литераторов, именуемых обыкновенно маленькими фельетонистами…
И эта жалкая картина пляшущего раба, когда кругом его царит мерзость запустения, особенно ярко резала глаза в истекшем году».
Эти слова были написаны в начале 1906 года, когда Николай Шебуев («пляшущий раб») всё еще находился в Петропавловской крепости. Как он сам потом написал (в книге «Дело о его рабочем Величестве пролетарии всероссийском»), у него было 28 судебных разбирательств! То есть со следователями из Охранного отделения общаться ему пришлось многократно.
Чем это общение завершилось?
Биографы Шебуева пишут, что в годы реакции – а ко времени его выхода из тюрьмы (в конце 1906 года) она была уже в самом разгаре – он отстранился от вопросов политики и превратился в защитника «чистого искусства». Иными словами, с ним (после общения с жандармами) произошло как бы то же самое, что случилось с освобождённым из заключения «товарищем Константином»: пришлось выбирать, что делать – продолжать подкалывать царский режим или переквалифицироваться в деятеля искусства {«ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ДИЛЕММА»). В точно такой же ситуации оказался и Василий Каменский – после пятимесячного заключения в «одиночке Николаевской тюрьмы».
Создавая в 1908 году журнал «Весна», Николай Шебуев поставил в подзаголовок девиз:
«В политике – вне партий; в литературе – вне кружков; в искусстве – вне направлений».
Василий Каменский в тот момент придерживался точно таких же взглядов, о чём немного позднее написал:
«Мы – истые демократы, загорелые, взлохмаченные (тогда я ходил в сапогах и в красной рубахе без пояса, иногда с сигарой), трепетные, уверенно ждавшие своего часа».
Разве не чувствуется здесь опытная жандармская рука, направившая Шебуева и Каменского по пути, намеченному Охранным отделением? Шебуеву явно порекомендовали (и, надо полагать, весьма настойчиво) обратить внимание на прибывшего с Урала стихотворца и взять его в готовившийся к выходу журнал «секретарём» (или «соредактором»). А Каменскому также настойчиво посоветовали согласиться на предложение Шебуева и начать у него работать.
Вот так Василий Каменский и стал ответственным сотрудником столичного журнала. В «Весне» он не только печатался сам, но и помещал произведения Игоря Северянина, Ларисы Рейснер, Демьяна Бедного, Михаила Пришвина. Именно Каменский уговорил Николая Шебуева опубликовать стихотворение Виктора Хлебникова «Искушение грешника». Именно Каменский познакомил Хлебникова с братьями Бурлюками, и уже все вместе они создали группу литераторов-авангардистов «будетлян-гилейцев».
Сам о себе он говорил:
«В 1909 году написал первый роман «Землянка»…
В 1910 году в Петербурге вместе с Бурлюком, Хлебниковым и Еленой Гуро основали ядро футуризма, издав первую книгу «Садок Судей»».
Обратим внимание, как похожи взгляды тех, кто входил в «ядро футуризма», на девиз Николая Шебуева: быть вне партий, кружков и всевозможных «направлений».
Мало этого, посмотрим на шебуевские псевдонимы: Н.Георгиевич, Н.Шигалеев, граф Бенгальский, Подкалыватель, Мы…
«МЫ»! Точно так же называли себя и авторы «Пощёчины общественному вкусу».
Разумеется, никакими документами, подтверждающими эту версию, мы не располагаем – это всего лишь наше предположение. Но оно слегка приоткрывает завесу тайны, окутывающей движение, в котором участвовал молодой Маяковский.
Итак, Охранное отделение, целый год «перековывая» Николая Шебуева, превратило его из едкого высмеивателя царской власти в защитника «чистого искусства». Такая же «перековка» наверняка происходила и во время полугодовой «сидки» Василия Каменского – его тоже «перековали». Свести друг с другом двух «перекованных» революционеров для петербургских жандармов было не очень трудно – по «рекомендации» Охранного отделения Шебуев и взял в сотрудники своего журнала приехавшего с Урала стихотворца.
А Каменскому, в котором, бурля и расплёскиваясь, кипела свойственная юности творческая энергия, опытные сотрудники столичной охранки вполне могли неназойливо подсказать, посоветовать:
– Направьте свои силы и свой энтузиазм на сокрушение того, что возводилось веками и свой век давно уже отжило!
– Начните свергать с пьедесталов кумиров прошлого!
– Громите устоявшиеся обычаи и привычки!
– Сносите старьё! С шумом, грохотом и весельем!
– Как следует встряхните обывательское болото! И поведите за собою тех, в ком клокочет юное бунтарство!
Молодым авангардистам, жаждавшим деятельности (и признания!) подобное предложение не могло не понравиться. И они, подняв над собою знамёна кубофутуризма, создали «ядро футуризма» и выпустили свою первую задиристую книгу «Садок Судей».
Кстати, находившийся тогда в эмиграции и живший на итальянском острове Капри Максим Горький получил и ознакомился с первыми номерами журнала «Весна». И в конце первой декады октября 1908 года отправил письмо другому писателю-эмигранту Александру Валентиновичу Амфитеатрову, в котором, в частности, писал:
«Вышел журнал „Весна“. Андреев, Куприн и – Шебуев, Ю.Беляев вместе! Что там пишет Шебуев. Какие объявления, стихи! И Куприн, Андреев в этой грязи. Вы понимаете, как это тяжко, стыдно, унизительно?
И это – …во дни, когда мы, русские писатели, все купно, должны бы поднять голоса и слышно, хором петь славу прошлого, надежды и радости будущего. Народ – проснулся, а пророки в кабак ушли».
Как точно пометил Горький направленность шебуевского журнала, как чётко уловил он дух российской охранки, шедший от шебуевской «Весны».
И Алексея Максимовича наверняка не удивил бы неожиданный поступок Василия Каменского, ошеломивший тех, кто хорошо знал его, редактора столичного журнала.
Новое увлечение
Кто бы ни был инициатором внезапного появления перед российской публикой группы авангардистов, именовавшей себя «будетлянами», они начали вставать на ноги, дела их пошли хорошо – манифесты печатались, готовился выход второго поэтического сборника, тоже названного «Садком судей».
И вдруг удачливый литератор и журналист Василий Каменский, которого очень скоро станут называть «матерью русского футуризма», неожиданно бросил так прекрасно начавшееся дело (и карьеру!) и занялся новым проектом – воздухоплавательным. Он писал:
«Увлёкся авиацией, уехал в Германию, Англию, Францию, где летал на аэропланах».
О том, что представляли собой тогдашние аэропланы, поведал в своих воспоминаниях Владимир Джунковский. В августе 1910 года, когда он был ещё московским губернатором, ему довелось совершить полёт на «Фармане», пилотируемом Сергеем Исаевичем Уточкиным и оставить впечатления:
«Самолёт весил 30 пудов, площадь поверхности 40 кв. м, наибольшая скорость около 100 км (92 версты). Пилот сидел впереди, пассажир сзади, несколько выше и на крошечном велосипедном сиденье, упора почти никакого, ноги можно было упереть в тоненькую жёрдочку, а руками держаться за такие же тоненькие передние жёрдочки».
За участие в организации перелета Петербург-Москва в июле 1911 года Джунковский был избран председателем Московского общества воздухоплавания.
В ту пору многие «заболевали» аэропланами!
Каменский заболел тоже.
Лётному делу он учился у самого Анри Фармана, окончившего парижскую Школу изящных искусств, но ставшего знаменитым французским пилотом и авиаконструктором.
Василий Каменский:
«В России сдал экзамен на лётчика. Приобрёл себе аппарат».
Последняя фраза написана так, словно Каменский сообщает о том, что он купил себе новый галстук или носовой платок. Подумаешь – «аппарат» какой-то!
Между тем поездка за рубеж (в Германию, Англию, Францию, а также, как добавляют биографы, в Рим и Вену) стоила немалых денег. Приобретение аэроплана («аппарата») тоже, надо полагать, влетело в копеечку.
Откуда взялись эти средства? Кто финансировал новое «увлечение» Каменского?
Возникает предположение: а не Охранное ли отделение направило его осваивать новое перспективное дело – полёты на аэропланах, которые тоже должны были увлечь множество молодых людей? Не на деньги ли, предоставленные царской охраной приобрёл начинающий авиатор свой летательный «аппарат»?
Не будем отвергать с порога эти предположения. Задумаемся над ними. И вернёмся к судьбе Василия Каменского.
В феврале 1911 года он купил моноплан «Блерио XI» и стал совершать показательные полеты, совмещая их с чтением лекций. Поэтому новый альманах футуристов влепил очередную звонкую оплеуху обществу уже без него.
А Каменский в это время (по его же собственным словам):
«Летал в Польше. В Ченстохове разбился в грозу, едва спасся».
Придя в себя после аварии, он купил на заработанные деньги участок земли под Пермью, выстроил там усадьбу (назвал её Каменкой) и зажил тихой жизнью, не забывая при этом литературу, живопись и авиацию.
Но гилейцам-будетлянам удалось заинтересовать молодую российскую интеллигенцию. И она потянулась к ним, а не к революционерам-подпольщикам. Иными словами, было достигнуто то, чего вполне могло добиваться Охранное отделение.
Деяния будетлян
Громко заявив о себе, молодые авангардисты продолжили свои публичные выступления. Давид Бурлюк призвал своих соратников участвовать во всех мало-мальски значительных мероприятиях, на которых можно было познакомить публику с их взглядами и стихами. Бенедикт Лившиц писал о манере поведения гилейцев образца 1913 года:
«Мне претили те способы привлечения общественного внимания, к которым прибегал Давид…
Между тем как раз в эти месяцы, с февраля по май, …Бурлюк и Маяковский развивают в Москве особенно кипучую деятельность, не упуская ни одного случая заявить о себе, принимая участие во всех диспутах если не в качестве докладчиков, то в роли оппонентов, стараясь вклинить свои имена в любое событие литературной и художественной жизни Москвы».
О том же – Маяковский в «Я сам»:
«Вечера. Лекции. <…> Издатели не брали нас. Капиталистический нос чуял в нас динамитчиков. У меня не покупали ни одной строчки».
Но, пожалуй, самым главным в тот момент было не отсутствие напечатанных строчек, и не присутствие Бурлюка и его друзей на «вечерах» и «лекциях», а то, что вчерашние будетляне-гилейцы стали футуристами.
Бенедикт Лившиц:
«Каким образом мы, полгода назад употреблявшие слово „футуризм“ лишь в виде бранной клички, не только нацепили её на себя, но даже отрицали за кем бы то ни было право пользоваться этим ярлыком? Сыграла ли тут роль статья Брюсова в „Русской мысли“? Или, окинув хозяйским оком создавшееся положение, решил смекалистый Давид, что против рожна не попрёшь, что упорствовать дальше, отказываясь от навязываемой нам клички, значило бы вносить только лишний сумбур в понятия широкой публики и, чего доброго, оттолкнуть её от себя?
Как бы там ни было, новое наше наименование было санкционировано «отцом российского футуризма», быть может, по сговору с Маяковским…».
Вряд ли статья поэта Валерия Брюсова, назвавшего будетлян футуристами (в популярном тогда журнале «Русская мысль», который редактировал Пётр Бернгардович Струве), оказалась последней каплей в деле переименования гилейцев. Ведь даже служивший в армии Бенедикт Лившиц и из-за этого находившийся немного в стороне от своих коллег, обратил внимание на то, что их превращение в футуристов произошло из-за «сговора с Маяковским» Давида Бурлюка. Видимо, у него были для этого какие-то аргументы.
Кто знает, может быть, и на этот раз не обошлось без подсказки «литературоведа» из Охранного отделения?
Не будем отвергать с негодованием это предположение – ведь оно логично вытекает из всего того, что нам уже известно о команде Давида Бурлюка. К тому же новоявленные футуристы, так упорно стремившиеся застолбить за собой право именоваться «новыми людьми новой жизни», в своем «новом» мировоззрении не особенно разбирались. Бенедикт Лившиц прямо заявлял:
«Это отсутствие общей философской основы… имело одно неоспоримое тактическое преимущество: оно чрезвычайно облегчало нашу борьбу с грузным, неповоротливым противником. Избранный нами партизанский способ действий неизменно приводил к у спеху, позволяя нам всё больше и больше расширять наш плацдарм и делая нас неуязвимыми для тяжёлой неприятельской артиллерии».
Вполне возможно, что «партизанский способ действий» команды Давида Бурлюка тоже был придуман в Охранном отделении и рекомендован футуристам для пользования.
К этому времени (март 1913 года) относится знакомство Маяковского с молодым поэтом Николаем Асеевым, который был на четыре года старше его. Сам Асеев потом вспоминал:
«Познакомился я с ним на улице в солнечный день…
Я узнал его, идущего по Тверскому бульвару, именно по непохожести на окружающее. Высокий детина двигался мне навстречу, приметный в толпе ростом, сиянием глаз, широким шагом, чёрной, расстегнутой на горле, блузой. Я подошёл, предчувствуя угадывание, как иногда предчувствуют удачу:
– Вы Маяковский?
– Да, деточка!
Деточка была хоть и ниже его ростом, но уже в достаточном возрасте. Но в этом снисходительном обращении не было ни насмешки, ни барства. Низкий и бархатный голос обладал добродушием и важностью тембра.
Объяснив, кто я и что я тоже пишу и читаю стихи, что его стихи мне очень по сердцу, я был очень удивлён его вопросом не о том, как я пишу, а "про что " пишу. Я не нашелся что ответить. То есть как «про что»? Про всё самое важное! А что я считаю важным? Ну, природу, чувства, мир. Что же это про птичек и зайчиков? Нет, не про зайчиков. А кого я люблю из поэтов? Я тогда увлекался Хлебниковым. Ну, вот и значит – про птичек. «Бросьте про птичек, пишите, как я!» Таково было требование…
Помню, прошагали с ним весь Сретенский бульвар, поднялись вверх, к тогдашним Мясницким воротам, а я всё ещё не понял Маяковского, его манеры разговора, его коротких реплик, его старшинства по праву житейского опыта, сверходарённости, той его особенной привлекательности, которой после не встречал ни у кого иного».
Незадолго до встречи Асеева с Маяковским произошло событие, ставшее для многих россиян очень важным – 22 февраля 1913 года газеты опубликовали царский указ, согласно которому лица, ранее подвергшиеся преследованиям (за «преступные деяния, учинённые посредством печати»), подлежали амнистии – в связи с празднованием 300-летия дома Романовых.
Иными словами, в Россию было позволено вернуться эмигрантам: Владимиру Короленко, Максиму Горькому, Константину Бальмонту и многим другим. Поскольку одного из возвращавшихся изгнанников отправился встречать Маяковский, расскажем о прибывавшем литераторе подробнее.
Знаменитый поэт
Константин Дмитриевич Бальмонт родился в 1867 году в небольшой деревушке Владимирской губернии. Учиться начал в гимназии города Шуи и вступил там в нелегальный кружок, печатавший и распространявший среди местных обывателей прокламации «Народной воли». О той поре сам он высказался так:
«Я был счастлив, и мне хотелось, чтобы всем было так же хорошо. Мне казалось, что, если хорошо лишь мне и немногим, это безобразие».
Однако, что такое «хорошо», а что является форменным «безобразием», шуйские гимназисты и сотрудники местного Охранного отделения понимали по-разному. И семиклассника Бальмонта в 1884 году из гимназии с треском выставили.
Учёбу пришлось завершать в городе Владимире.
В 1886 году состоялось поступление в Московский университет. Но за участие в студенческих беспорядках Константина Бальмонта вскоре исключили, арестовали, на три дня посадили в Бутырскую тюрьму, после чего без суда выслали в Шую. С тех пор (и до конца дней своих) он считал себя революционером-бунтарём, чьё предназначение – обеспечивать всех живущих на земле людей счастьем.
Бальмонт занялся самообразованием, стал читать книги – те, в которых, по его мнению, была заключена мудрость. И впоследствии написал:
«Уметь прочесть и 100, и 300 и 3000 книг, среди которых много-много скучных. Полюбить не только радость, но и боль. Молча лелеять в себе не только счастье, но и вонзающуюся в сердце тоску».
Именно в этот момент он принялся сочинять стихи в стиле модного тогда символизма, дававшего возможность высказаться с помощью намёков, настроения и даже музыки. Что-то ему удалось:
«Я показал, что может сделать с русским стихом поэт, любящий музыку. В них есть ритмы и перезвоны благозвучий, найденные впервые».
В его втором поэтическом сборнике «Под Северным небом» есть такие слова:
«Пока ты человек, будь человеком.
И на земле земное совершай…»
Он писал стихи не просто мудрые – они были очень благозвучны, поскольку ему удавалось отыскать наиболее красочные прилагательные, которые украшали его рифмованные строки. Бальмонт впоследствии признавался:
«Я – изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты – предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Переливные, гневные, нежные звоны».
К его первым стихотворным сборникам публика присматривалась. С интересом. Но всерьёз не относилась. Книга же «Горящие здания» произвела фурор. Поэт-символист младшего поколения, Александр Блок, сказал, что она явилась…
«… книгой, единственной в своем роде по безмерному богатству».
В ту пору юные российские бунтари взяли за правило – любое своё недовольство выносить на улицы. И в начале марта 1901 года на Страстной площади Санкт-Петербурга состоялась грандиозная демонстрация студентов – им очень не понравился правительственный указ «Об отбывании воинской повинности воспитанников учебных заведений, удаляемых из сих учреждений за учинение скопом беспорядков». Этот документ давал властям право отправлять неблагонадёжных молодых людей в солдаты.
Недовольные студенты требовали отмены указа.
О том, что происходило тогда в массе возмущённых демонстрантов, написал Александр Спиридович:
«… в Петербурге 4 марта у Казанского собора произошло настоящее побоище между демонстрантами, с одной стороны, и полицией с войсковым нарядом, с другой. Демонстранты действовали палками, железными прутьями и даже стреляли. Наряды употребили в деле холодное оружие и нагайки».
Конечно же, полиция и казаки недовольных разогнали. Были жертвы.
В этой шумной манифестации принял участие и Константин Бальмонт. Через несколько дней, выступая на литературном вечере в зале Городской думы, он прочёл стихотворение иносказательного содержания:
«То было в Турции, где совесть – вещь пустая,
Там царствуют кулак, нагайка, ятаган,
Два-три нуля, четыре негодяя
И глупый маленький султан».
О прочитанном стихотворении тут же узнал весь Петербург – «Маленький султан» стал ходить по рукам. Читатели прекрасно понимали, что автор имел в виду совсем не Турцию, а Россию, которой правил царь небольшого роста.
На появление дерзкого поэтического опуса власти отреагировали мгновенно. «Особое совещание» министерства внутренних дел запретило поэту в течение трёх лет проживать в столице и в университетских городах России.
Бальмонту не оставалось ничего другого, как уехать за границу.
Он вернулся только в 1905-ом, и сразу же принял участие в декабрьском вооружённом восстании. Но после его подавления вновь покинул страну.
Проведя на чужбине семь лет, Бальмонт прибывал в Москву 5 мая 1913 года.
Возвращение символиста
Газета «Русское слово» в номере от 7 мая написала:
«За полчаса до прибытия скорого поезда на Александровском вокзале собралась порядочная толпа, редкая по своему составу. Литературная и художественная Москва пришла встретить поэта К.Д.Бальмонта, возвращающегося из долгих и дальних странствий».
Газета «Руль» 6 мая дополнила:
«Среди ожидающих, как это ни странно, представитель футуристов г. Маяковский.
– А вы как сюда попали? Ведь это как будто непоследовательно?
– Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды… – вместо ответа процитировал лидер московских футуристов стихотворение поэта отвергнутого прошлого Бальмонта».
Тем временем к перрону подошёл поезд, из него стали выходить пассажиры, среди которых – вернувшийся на родину эмигрант.
Газета «Русское слово»:
«Какая-то барышня первая кидает в К.Д. Бальмонта розу. Это служит как бы сигналом – поэта осыпают цветами весны – ландышами.
Один из присутствующих начинает говорить речь:
– Дорогой Константин! 7 лет ты не был в Москве…
Но тут вмешивается представитель жандармской полиции, останавливает оратора и заявляет, что, ввиду полученного им распоряжения, он не допустит речей.
Вместо речей раздаются долгие, несмолкающие аплодисменты…
Уже на самой площади перед вокзалом Бальмонту устраивают овацию; гремят аплодисменты; кричат «ура»».
Поэт-символист сел в автомобиль и покинул территорию Александровского (ныне – Белорусского) вокзала.
Через день «Общество свободной эстетики» устроило чествование вернувшегося изгнанника. Среди чествовавших оказался и будущий поэт, а тогда 17-летний молодой человек Павел Антакольский:
«На Большой Дмитровке тогда, в 1913 году, стоял серый двухэтажный особняк в глубине двора…
Мы вошли в небольшую опрятную и скучноватую с виду залу. Народу было немного, человек пятьдесят. Сдержанный, пристойный, приглушённый говор дам и девиц, явившихся благоговеть и влюбляться».
Газета «Русское слово»:
«К 10-ти часам вечера Большой зал Литературно-художественного кружка был переполнен членами общества и их гостями…
В начале 11-го часа в кружок прибыл К.Д.Бальмонт…
Поэт был встречен долго не смолкавшими аплодисментами. Ему поднесли массу роз, ландышей, черёмухи и бутоньерку из орхидей».
Торжественное мероприятие вёл поэт Валерий Брюсов.
Началось чествование. Разные люди славили стихотворца.
Выступил и сам вернувшийся поэт – с рассказом о Мексике, в которой побывал, и о Париже, который посетил, возвращаясь на родину. Читал новые стихи.
Павел Антакольский:
«Внезапно – из задних рядов – раздалось дерзкое, громкое, как будто в открытое окно с улицы крикнули. Отличный молодой бас произнёс:
– Константин Дмитриевич! Позвольте поприветствовать вас от имени ваших врагов!
Там стоял темноволосый, не слишком гладко причёсанный юноша в блузе художника с ярким галстуком».
Почему именно «от имени врагов» решил выступить «темноволосый юноша», присутствовавшие поняли сразу – ведь именно так («Мои враги») называлось стихотворение Бальмонта, открывавшее его сборник «Горящие здания»:
«О, да, их имена суть многи,
Чужда им музыка мечты.
И так они серо-убоги,
Что им не нужно красоты.
Их дразнит трепет скрипки страстный,
И роз красивых лепестки.
Едва махнёшь им тканью красной,
Они мятутся, как быки…
Подслеповатыми глазами
Они косятся на цветы.
Они питаются червями,
О, косолапые кроты!..
Но мне до них какое дело,
Я в облаках моей мечты.
С недостижимого предела
Роняю любящим цветы».
Лучше бы «темноволосый юноша» не упоминал о «врагах», поскольку в своём стихотворении Бальмонт дал этим «убогим» субъектам уничтожающую характеристику.
Но слово «враги» было произнесено.
И произнёс его футурист Маяковский.
Враг символиста
Газета «Речь»:
«Все насторожились… Должен отдать г. Маяковскому справедливость, говорить он умеет. И красиво и выразительно. Его слушали, и ему аплодировали».
Газета «Русское слово»:
«Г-н Маяковский начинает с того, что спрашивает г. Бальмонта, не удивляет ли его то, что все приветствия исходят от лиц, ему близко знакомых, или соратников по поэзии…
– Когда вы, – говорит он, – начнёте знакомиться с русской жизнью, то вы столкнётесь с нашей голой ненавистью. В своё время и нам были близки ваши искания, ваши плавные, мерные, как качалки и турецкие диваны, стихи. Вы пели о России – об отживающих дворянских усадьбах и голых, бесплодных полях. Мы, молодёжь, поэты будущего, не воспеваем всего этого. Наша лира звучит о днях современных, мы слитны с жизнью. Вы восходили по шатким, скрипящим ступеням на древние башни и смотрели оттуда в эмалевые дали. Но теперь в верхних этажах этих башен приютились конторы компаний швейных машин, а в эмалевых далях совершаются «звёздные» пробеги автомобилей».
Павлу Антакольскому это место выступления Маяковского запомнилось несколько иначе:
«Юноша говорил о том, что Бальмонт проглядел изменившуюся вокруг него русскую жизнь, проглядел рост большого города с его контрастами нужды и богатства, с его индустриальной мощью. И он снова цитировал Бальмонта:
"Я на башню всходил, и дрожали ступени,
и дрожали ступени под ногой у меня…"
А сегодня, дескать, на эту вершину взобралась реклама фабрики швейных машин».
Присутствовавшая в зале молодая москвичка Лили Юрьевна Брик потом записала в дневнике:
«Он говорил блестяще и убедительно, что раньше было красиво „дрожать ступеням под ногами“, а сейчас он предпочитает подниматься на лифте».
Что же касается упомянутых «эмалевых далей», то ими Маяковский хотел подковырнуть другого поэта – Валерия Брюсова, который вёл эту встречу. В его стихотворении «Творчество» говорилось (считалось, что фраза эта лишена всякого смысла):
«Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене».
Газета «Русское слово»:
«В завершение своей речи г. Маяковский ни с того ни с сего декламирует одно из старинных и пленительных стихотворений К.Д.Бальмонта…».
Павел Антакольский:
«Он усмехнулся и продолжал:
– «Тише, тише, совлекайте с древних идолов одежды, слишком долго вы молились, слишком долго вы мечтали…». Так писали когда-то вы, Константин Дмитриевич. Сегодня эти строки полностью применимы к автору. Вы сами сегодня – устаревший идол».
Газета «Речь»:
«Говорил он, как и полагается футуристу, о том, что они, футуристы, соль поэзии, что в них – спасение. Бальмонт – это отжитое, те политические бури, которые он когда-то поднял, давно улеглись, стихли. И наступил бы полный, удручающий штиль, если бы не они, футуристы. Теперь уже они делают то, что когда-то делал Бальмонт. Они – бродило, они – протест, они – дерзание и откровение. И потому Бальмонт, хоть он и враг, должен только радоваться их делу».
Павел Антакольский:
«Говорил он громко, по-ораторски, с великолепным самообладанием. Кончил объявлением войны Бальмонту и тому направлению поэзии, которому служит Бальмонт. Кончил и сел.
Долгое молчание. Брюсов по-прежнему казался бесстрастным. Бальмонт усмехался как-то криво и беспомощно. Его было жалко. По рядам, где-то сбоку и сзади, пронёсся шелестящий, свистящий шепот:
– Кто это?
– Кто это? Не знаете?
– Чёрт знает что! Какой-то футурист Маяковский… Училище живописи и ваяния…».
Вспомним ещё раз строки стихотворения, которое начал читать Маяковский:
«Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды,
Слишком долго мы молились, не забудьте прошлый свет.
У развенчанных великих, как и прежде, горды вежды,
И слагатель вещих песен был поэт и есть поэт.
Победитель благородный с побеждённым будет ровен,
С ним заносчив только низкий, с ним жесток один дикарь.
Будь в раскате бранных кликов ясновзорен, хладнокровен,
И тогда тебе скажу я, что в тебе – мудрец и царь».
Маяковский продекламировал всего полторы строки стихотворения, остального читать не стал.
Газета «Русское слово»:
«После речи г. Маяковского раздались шиканье и свистки».
Впрочем, кому-то, дерзкое выступление, видимо, понравилось, и раздались энергичные хлопки. Газета «Речь» сообщала:
«В.Я.Брюсов обиделся за чествуемого поэта и, оборвав рукоплескания, выразил надежду, что таких речей на этом празднике больше не будет. И действительно, г. Маяковский остался в единственном числе. Но только о его речи и говорили на празднике».
Лили Юрьевна Брик:
«Потом я слышала, как Брюсов отчитывал Маяковского в одной из гостиных Кружка: „В день юбилея… разве можно?!“ Но явно радовался, что Бальмонту досталось».
О том, как отреагировал на выпад футуриста сам виновник торжества, газета «Русское слово» написала:
«К.Д.Бальмонт отвечает г. Маяковскому одним из своих стихотворений, в котором говорится, что у поэта не может быть врагов, что он выше вражды».
Да, Бальмонту было чем ответить на дерзкий выпад футуриста – строк, годных для такого ответа в его книгах было превеликое множество. Взять, к примеру, стихотворение «Ожесточённому», которое словно к этому дню и было написано:
«Я знаю ненависть, и, может быть, сильней,
Чем может знать её твоя душа больная,
Несправедливая, и полная огней
Тобою брошенного рая.
С врагами – дерзкий враг, с тобой – я вечно твой,
Я узнаю друзей в одежде запылённой,
А ты, как леопард, укушенный змеёй,
Своих терзаешь, исступлённый».
Годился для ответа и сонет «Проклятие глупости», завершавшийся словами:
«Люблю я в мире скрип всемирных осей,
Крик коршуна на сумрачном откосе,
Дорог житейских рытвины и гать.
На всём своя – для взора – позолота.
Но мерзок сердцу облик идиота,
И глупостей я не могу понять!»
Впрочем, Константин Бальмонт никогда не позволил бы себе назвать критикующего его оппонента «идиотом» или «глупцом» — он слишком хорошо был воспитан.
Авторы тогдашних газетных статей, видимо, воспитывались как-то иначе, поэтому, описывая многочисленные выступления Маяковского, в выражениях не стеснялись. Как его только ни называли тогда! И «желторотым верзилой», и «ухарем с окраины», и «ломовиком из Замоскворечья», и «вышибалой», и «громилой-футуристом», а также «до хрипоты орущим о себе» и «самовлюблённым жокеем». Сам Маяковский, как мы помним, к этому перечню добавлял: «просто сукиным сыном».
Тогдашний товарищ Маяковского Лев Шехтель вспоминал:
«Я помню, после чествования Бальмонта мы с ним встретились на Садовой. Маяковский спрашивает о моём впечатлении. Я говорю, что всё очень блестяще, но почему такой полемический тон, это совсем не нужно.
– Нет, это как раз то, что нужно».
Бальмонт мог бы ответить Маяковскому ещё одним стихотворением – «Sin miedo» (из сборника «Будем как солнце»):
«Если ты поэт и хочешь быть могучим,
Хочешь быть бессмертным в памяти людей,
Порази их в сердце вымыслом певучим,
Думу запали на пламени страстей…
Чтоб твои мечты вовек не отблистали,
Чтоб твоя душа всегда была
Разбросай в напевах золото из стали,
Влей огонь застывший в звонкие слова».
Так уж получилось, что через несколько дней Маяковский опубликовал «звонкие слова» своего «вымысла певучего».
Глава четвертая Начало признания
Первая книжка
17 мая 1913 года вышла в свет первая книжка стихов Маяковского, названная им очень просто – «Я!». Кроме самого автора в процессе издания участвовали его друзья, соученики по Училищу: Лев Шехтель и Василий Чекрыгин.
Лев Шехтель:
«Штаб-издательской квартирой была моя комната. Маяковский принёс литографской бумаги и диктовал Чекрыгину стихи, которые тот своим чётким почерком переписывал особыми литографическими чернилами.
Наконец приготовленные к печати листки были собраны с большой осторожностью (ибо литографская бумага чувствительна к каждому прикосновению пальцев) и снесены в маленькую литографию, которая, как помнится, помещалась на Никитской, в Хлыновском тупике.
Через две-три недели книжонка «Я!» с рисунками Чекрыгина и моими была отпечатана в количестве триста экземпляров. Маяковский разнёс их по магазинам, где они были довольно скоро распроданы».
В книжке было всего четыре небольших стихотворения. Первым стояло то, что называлось «Я»:
«По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жёстких фраз пяты.
Где города
повешены
и в петле облака
застыли
башен
кривые выи, —
иду
один рыдать,
что перекрестком
распяты
городовые».
Любопытно, что у Бальмонта (в сборнике «Только любовь. Семицветник», вышедшем в 1903 году) тоже есть строки о «душе» и об отношении поэта к окружающим его людям:
«Я ненавижу человечество,
Я от него бегу спеша.
Мое единое отечество —
Моя пустынная душа».
У Маяковского прочитывается другое. Поэт заявляет о том, что события, связанные с кончиной отца, как бы прошагали, протопали по душе сына. И он, продолжая грустить по ушедшему лесничему, готов оплакивать уход из жизни других людей. Не случайно же поэт видит в перекрёстке крест, на котором «распяты городовые», и он «рыдает» по ним.
А тут же – с мостовой его «души изъезженной» — доносятся «шаги помешенных», которые «вьют жёстких фраз пяты». Кто они такие – эти «помешанные»? И что за «жёсткие фразы» нашёптывают они поэту? Ответа на вопросы стихотворение не даёт. Посмотрим, нет ли его в других стихах?
Следующим в книжке идёт стихотворение «Несколько слов о моей жене»:
«Морей неведомых далёким пляжем
идёт луна —
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая».
Здесь Маяковский выступил как провидец, указав цвет волос своей грядущей спутницы жизни, которой он станет посвящать свои стихи:
«… это ж дочь твоя —
моя песня…»
Далее следовало «Несколько слов о моей маме»:
«У меня есть мама на васильковых обоях.
А я гуляю в пёстрых павах,
вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу…»
Стихотворение перегружено образами, поэтому понять его трудно. Взять, к примеру, хотя бы строки:
«И когда мой лоб, венчанный шляпой фетровой,
окровавит гаснущая рама…»
Речь идёт всего лишь о заходе солнца – когда на лоб падает отблеск красного заката. Слово «окровавит» вставлено для усиления поэтического образа. Звучит, безусловно, красиво! Но до смысла попробуй доберись!
Завершало книжку стихотворение «Несколько слов обо мне самом».
Стих о себе
После прочтения первой же его строчки, желание читать и слушать поэтические «творения» Маяковского мгновенно пропадает – настолько чудовищно то, о чём так небрежно заявлял поэт-футурист. Вот эта первая строка:
«Я люблю смотреть, как умирают дети».
Слова страшные!
Сразу вспоминается стихотворение Бальмонта «Смех ребёнка» (из сборника «Фейные сказки»):
«Смех ребёнка за стеной,
Близко от меня,
Веет свежею весной,
Говорит о власти дня».
А то, что написал (и с гордостью издал!) Маяковский, просто чудовищно!
Эсер Иван Каляев, вышедший с бомбой в руках навстречу Великому князю Сергею Александровичу, когда увидел рядом с ним детей, не стал бросать своё взрывное устройство. Пожалел подрастающее поколение.
А Маяковский…
В шеститомном Собрании его сочинений это стихотворение прокомментировано так:
«В воспоминаниях одного из современников Маяковского читаем об их разговоре в 1928 году:
"Мы шли уже, кажется, по улице Дзержинского. Из школы выбежали дети. Очевидно, у них вечер был, или это была вторая смена. Маяковский остановился, залюбовался детьми. Он стоял и смотрел на них, а я, как будто меня кто-то дёрнул за язык, тихо проговорил:
– Я люблю смотреть, как умирают дети…
Мы пошли дальше.
Он молчал, потом вдруг сказал:
– Надо знать, почему написано, когда написано и для кого написано… неужели вы думаете, что это правда?"»
Есть в шеститомнике ещё одно пояснение:
«В своих ранних произведениях поэт часто использовал гротескные образы, прибегал к эзопову языку, к иносказаниям, к затемнению смысла. «Много в тогдашнем поведении Володи было лишь тактикой, единственно возможным в то время легальным способом борьбы с буржуазным искусством и строем». (Л.Маяковская «О Владимире Маяковском. Из воспоминаний сестры», Москва, издательство «Детская литература», 1968, стр. 165)».
Допустим, что это действительно так.
И всё же (при всех самых убедительных оправданиях и разъяснениях) того, кто написал подобные строки и любил читать их, шокируя публику, язык не поворачивается назвать не только поэтом, но даже признать человеком. Нормальным, воспитанным, цивилизованным.
Всего лишь одна строка, которой начинается стихотворение «Несколько слов обо мне самом», напрочь убивает всякий интерес к тому, кто написал эти безжалостные слова. После них вполне можно было бы поставить точку, и эту книгу дальше не продолжать.
Но… Попробуем всё-таки найти объяснения этим безжалостным виршам.
Первой их строкой Маяковский явно пытался убедить тогдашнюю публику, что, если ему поручат бросить бомбу в какую-то одиозную фигуру, он швырнёт её, даже если рядом будут находиться дети. Таких людей немного, говорил поэт, и я – один из них!
Есть в этом стихотворении и воспоминания о кончине отца:
«А я —
в читальне улиц —
так часто перелистывал гроба том».
И Маяковский, обращаясь к небу, кричит:
«Солнце!
Отец мой!
Сжалься хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льётся дорогою дольней.
Это душа моя
клочьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!»
Но ответа от отца солнца нет, и поэт обращается к времени:
«Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»
Маяковский громогласно заявляет, что он одинок, что его никто не понимает. И его, знающего, что жизнь человека конечна, какие-то «помешанные» посылают к тем, кто этого не знает (к «слепым»). Зачем? Чтобы помочь им распрощаться с жизнью?
И вновь вспоминаются строки из стихотворения Максима Горького «Человек»:
«– Иду, чтобы сгореть как можно ярче и глубже осветить тьму жизни. И гибель для меня – моя награда…
Вот снова, величавый и свободный, подняв высоко гордую главу, он медленно, но твёрдыми шагами идёт по праху старых предрассудков, один в седом тумане заблуждений, за ним – пыль прошлого тяжёлой тучей, а впереди – стоит толпа загадок, бесстрастно ожидающих его».
Складывается впечатление, что Маяковский просто перекладывал мысли Горького на новый футуристический лад. И о себе Маяковский говорил как о горьковском Человеке – все местоимения «Я», кроме одного, написаны в его стихотворении с большой буквы.
Именно так можно растолковать смысл четырёх стихотворений, вошедших в книгу «Я!».
А почему в последнем стихотворении время прихрамывает (оно – «хромой богомаз»), Маяковский разъяснит в своей трагедии. В ней же поэт вспомнит о своей душе {«клочьями порванной») и о своём спокойствии.
А пока триста экземпляров книги «Я!» поступили в продажу. Её заметили.
Одним из первых заговорил Корней Чуковский:
«Книжка называлась «Я!», буквы в ней были кривые, бумага шершавая, расположение строк очень дикое, но всё это шло к её теме, потому что из книжки нёсся пронзительный визг о неблагополучии мира».
Николай Асеев – о Маяковском:
«О нём заговорили как о непохожем и странном явлении в литературе».
Вадим Шершеневич – о книге «Я!»:
«Первая книга кубо-футуристов, о которой стоит писать. Среди стихов Хлебникова – воскресшего троглодита, Кручёных – истеричного дикаря Маяковский выгодно выделяется серьёзностью своих намерений. Он действительно ищет, и хотя достижений можно ждать, но ведь… заставить поверить в себя – это не малая заслуга.
Пока Маяковский как поэт ещё весь в будущем. Он пишет так, как никто не пишет, но у него ещё нет своего стиля. Его стих ещё весь построен на отрицании плохого чужого, но своего хорошего ещё нет. Его занимают пустяки… Рифмы скучны, ассонансов почти нет.
Несмотря на всё, в стихах Маяковского есть что-то новое, обещающее. Но это новое тонет в куче нелепостей, порождённых незнанием истории нашей поэзии. Кажется, период эпатажа кончился, и теперь Маяковский должен доказать, что он может творить. Отвергнуть гораздо легче, чем создать. Но только вторым оправдывается первое».
В статье Шершеневича очень точно подмечены все плюсы и минусы стихотворца, который только начинал свой творческий путь. Маяковскому прямым текстом говорилось, что он многого не знает, что ему необходимо получиться.
Вадим Шершеневич не был единственным высказавшимся о первой книге поэта. Лев Шехтель писал:
«Книжка… обратила на себя даже внимание самого „медного всадника русской речи“ – Валерия Брюсова».
Брюсов заметил эту самодельную книжицу и (в четвёртом номере журнала «Русская мысль» за 1914 год) написал:
«… больше всего счастливых исключений мы находим в стихах, подписанных В.Маяковский. У г. Маяковского много от нашего, "крайнего " футуризма, но есть своё восприятие действительности, есть воображение и есть умение изображать».
Правда, Валерий Брюсов (в той же статье) заметил:
«Конечно, не хитро сочинить метафору:
Я сошью себе штаны из бархата голоса моего
и по Невскому мира…
Но как в маленьком сборнике г. Маяковского, как и в его стихах, помещённых в разных сборниках, …встречаются и удачные стихи, и целые стихотворения, задуманные оригинально».
Брюсов процитировал стихотворение «Кофта фата», которое начинается так:
«Я сошью себе чёрные штаны
из бархата голоса моего.
Жёлтую кофту из трех аршин заката.
По Невскому мира, по лощёным полосам его,
профланирую шагом Дон-Жуана и фата».
Жёлтая кофта
В «Я сам» есть такое разъяснение:
«Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы – гнуснейшего вида. Испытанный способ – украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок жёлтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое главное и красивое в человеке – галстук. Очевидно – увеличишь галстук, увеличится и фурор. А так как размеры галстука ограничены, я пошёл на хитрость: сделал галстуковую рубашку и рубашковый галстук.
Впечатление неотразимое».
Ольга Маяковская:
«Мама рассказала:
– Утром принёс Володя бумазею. Я очень удивилась её цвету, спросила, для чего она, и отказалась было шить. Но Володя настаивал: «Мама, я всё равно сошью эту блузу… Я ведь не могу пойти в своей чёрной блузе! Меня швейцары не пустят. А этой кофтой заинтересуются, опешат и пропустят. Мне обязательно нужно выступить сегодня».
Слова сына показались ей убедительными. Она решила выполнить его просьбу и взялась шить».
Когда в начале ноября 1913 года приехавший в Петербург Давид Бурлюк прочёл лекцию в Тенишевском училище, газета «День» написала:
«На эстраде, позади лектора, оказался человек в жёлтой кофте. Через пять минут все знали, что это – поэт Маяковский».
Софья Шамардина, учившаяся на Высших женских (Бестужевских) курсах, вспоминала:
«Ещё в своей жёлтой кофте в Тенишевском училище, когда из публики на эстраду летели всякие непотребные предметы и несусветная ругань, перекрываемая спокойным, уверенным, весёлым голосом Маяковского, отвечавшего и на враждебные и на дружеские неистовства зала, – такой он был тогда, большой и сильный, этот двадцатилетний человек. <…> А рядом щупленький Кручёных, что-то уж очень заумно читающий, что-то про мать – и в заключение почему-то стукающий головой о пюпитр».
С этого момента, пожалуй, и начинается процесс раздвоения личности Владимира Маяковского. С одной стороны, он продолжал оставаться весёлым и компанейским молодым человеком, заводилой и душой любой компании, а с другой, это был одетый в жёлтую кофту суровый трибун, раздававший направо и налево увесистые пощёчины. В поэзии он считал себя лириком, пишущем о любви, но любовь в его стихах выходила несчастная, а потому мрачная. Впрочем, на подобную раздвоенность тогда мало кто обращал внимание.
В том же Петербурге через два дня после лекции Бурлюка прочёл доклад Корней Чуковский на тему: «Искусство грядущего дня (русские поэты-футуристы)». О том, как отреагировали на него сами представители этого «грядущего дня», газета «День» сообщила:
«Первым говорит футурист в жёлтой кофте Маяковский, поставивший К. Чуковскому вопрос „ребром“:
– Да понимаете ли вы, г. Чуковский, что такое поэзия, что такое искусство и демократия?.. Только та поэзия демократична, которая разрушает старую психологию плоских лиц и душ. Вашу старую парфюмерную любовь мы разбили!.. – восклицает Маяковский и заканчивает так: – Чуковский не может понять поэзии футуризма, ибо не знает её основ. Поэты – мы».
Бенедикт Лившиц:
«Чуковский разбирался в футуризме лишь немногим больше других наших критиков, …но всё же он был и добросовестней и несравненно талантливей своих товарищей по профессии, а главное – по своему как-то любил и Маяковского, и Хлебникова и Северянина. Любовь – первая ступень к пониманию, и за эту любовь мы прощали Чуковскому все его промахи…
О чём нам никак не удавалось договориться, это о том, кто же кому обязан деньгами и известностью. Чуковский считал, что он своими лекциями и статьями создаёт нам рекламу, мы же утверждали, что без нас он протянул бы ноги с голоду, так как футуроедство стало его основной профессией. Это был настоящий порочный круг, и определить, что в замкнувшейся цепи наших отношений является причиной и что следствием, представлялось совершенно невозможным».
На эту критику сам Корней Чуковский ответил так:
«Отношение моё к футуристам было в ту пору сложное: я ненавидел их проповедь, но любил их самих, их таланты».
Особое внимание Чуковский уделял молодому Маяковскому:
«… он представлялся мне совершенно иным, чем вся группа его сотоварищей: сквозь эксцентрику футуристических образов мне чудилась подлинная человеческая тоска, несовместимая с шумной бравадой его эстрадных высказываний…
Это душа моя
клочьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!..
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!
Этими стихами в ту пору был окрашен для меня весь Маяковский».
И всё-таки главным цветом, в который в ту пору был «окрашен» Маяковский, надо считать жёлтый – цвет его кофты. Она, по словам Бенедикта Лившица, представляла собой…
«… нечто среднее между курткой жокея и еврейским молитвенным плащом, – странным казалось, что у Володи есть дом, мать, сёстры, семейный быт. Маяковский – нежный сын и брат – это не укладывалось в им самим уже тогда утверждаемый образ горлана и бунтаря.
Мать явно была недовольна новой затеей Володи: её смущала зарождавшаяся скандальная известность сына, ещё мало похожая на славу. Володины «шалости», как любовно называли их родные, тяготели значительно больше к «происшествиям дня», чем к незримой рубрике: «завоевание славы». Но Володя был баловнем семьи: против его прихотей не могла устоять не только мать, но и сёстры, милые, скромные девушки, служившие где-то на почтамте».
Здесь Бенедикт Лившиц не совсем точен – на московском почтамте служила только одна сестра Маяковского, Ольга. Вторая сестра, Людмила, работала художником по тканям на фабрике Трехгорной мануфактуры.
Лекцию о футуризме Корней Чуковский читал и в Москве:
«Тогда это была модная тема. Лекцию пришлось повторять раза три, на лекции перебывала „вся Москва“: Шаляпин, граф Олсуфьев, Иван Бунин, Муромцев, сын Толстого Илья, Савва Мамонтов и даже почему-то Родзянко с каким-то из великих князей. Помню, Маяковский как раз в ту минуту, когда я бранил футуризм, появился в жёлтой кофте и прервал моё чтение, выкрикивая по моему адресу злые слова.
Эту жёлтую кофту я принес в Политехнический музей контрабандой. Полиция запретила Маяковскому появляться в жёлтой кофте перед публикой. У входа стоял пристав и впускал Маяковского только тогда, когда убеждался, что на нём был пиджак. А кофта, завёрнутая в газету, была у меня под мышкой. На лестнице я отдал её Владимиру Владимировичу, он тайком облачился в неё и, эффектно появившись среди публики, высыпал на меня свои громы».
Из упомянутых Чуковским слушателей его лекции Илья Львович Толстой был писателем, мемуаристом, Савва Иванович Мамонтов – предпринимателем и меценатом, политический деятель Михаил Владимирович Родзянко возглавлял партию «Союз 17 октября» (октябристов). И все они проявили интерес к внезапно возникшему течению – футуризму, в котором так ярко выделялся своей жёлтой кофтой Владимир Маяковский.
Алексей Кручёных даже рифмованные строчки о нём сочинил:
«Красноустый жёлтокофтский
фразовержец Маяковский».
Время любить
О тогдашнем Маяковском поэтесса Марина Ивановна Цветаева сказала:
«Этот юноша ощущал в себе силу, какую – не знал, он раскрыл рот и сказал: „Я!“ Его спросили: „Кто – я?“ Он ответил: „Я: Владимир Маяковский“. – „А Маяковский – кто?“ – „Я!“… Так и пошло: "Владимир Маяковский, тот, кто: "я"". Смеялись, но "Я" в ушах, но жёлтая кофта – остались».
Маяковский даже стихотворение написал под названием «Жёлтая кофта»:
«Не потому ли, что небо голубо,
а земля мне любовница в этой праздничной чистке,
я дарю вам стихи, весёлые, как би-ба-бо,
и острые и нужные, как зубочистки!»
Напомним, что «би-ба-бо» — это кукла, состоящая из головы и платья в виде перчатки. В перчатку просовывалась рука, указательный палец попадал в голову, а большой и средний – в руки, и кукла начинала двигаться.
Но неужели одетый в жёлтую кофту поэт писал свои стихи только для того, чтобы веселить людей, и чтобы им было чем чистить зубы? Нет, конечно! Поэтому у него появились и такие строки:
«Хорошо, когда в жёлтую кофту
душа от осмотров укутана!»
Эти слова лягут на бумагу через два года, войдя в поэму «Облако в штанах». А в 1913 году они, видимо, в голову поэту ещё не приходили.
Пока футуристы изо всех сил старались завоевать внимание публики обеих российских столиц, символисты тоже не сидели, сложа руки. В 1913 году вышло первое (в 17-ти томах!) собрание сочинений Дмитрия Мережковского. А Константин Бальмонт много ездил по стране, рассказывая о своих путешествиях по свету. Оказавшись в исконно русских местах на реке Оке, он написал в одной из статей:
«Я люблю Россию и русских. О, мы, русские, не ценим себя! Мы не знаем, как мы снисходительны, терпеливы и деликатны. Я верю в Россию, я верю в самое светлое её будущее».
В 1913 году Маяковскому исполнилось 20 лет. У него была тогда целая череда бурных романов.
Бенгт Янгфельдт пишет:
«Вопреки – или благодаря – своему нахальству Маяковский вызывал сильнейшие чувства у противоположного пола и переживал множество более или менее серьёзных романов. Уже при первой встрече Бурлюка поразило хвастовство, с которым тот рассказывал о своих многочисленных победах…
Его отношение к женщине было циничным, ион с лёгкостью мог охарактеризовать девушку как «вкусный кусок мяса».
Одной из его возлюбленных стала сестра Льва Шехтеля Вера.
Поскольку в стране поэзии, гражданином которой объявил себя Маяковский, всегда царила и торжествовала Её Величество Любовь – чувство, которое испокон веков воспевали поэты, он тоже стал писать о любви. В одном из его стихотворений той поры, названном «Скрипка и немножко нервно», рассказывается об оркестре, в котором «выплакивалась скрипка без слов, без такта». И в неё вдруг влюбился «геликон – меднорожий, потный»:
«Музыканты смеются:
"Влип как!
Пришёл к деревянной невесте!
Голова!"
А мне наплевать!
Я – хороший.
"Знаете что, скрипка?
Давайте – будем жить вместе!
А?"»
Этим стихотворением поэт как бы образно предсказал свою собственную судьбу – ровно через два года ему предстояло оказаться в роли описанного им «геликона», и ему надо было говорить «скрипке-невесте» те же самые слова.
Ещё одно стихотворение про любовь, написанное в 1913 году, появилось в футуристическом сборнике «Требник троих». Оно было без названия и с переставленными четверостишьями. Позднее оно получило название «А вы могли бы?». Эти восемь стихотворных строк тоже пророческие – в них поэт, любивший многих, выплёскивал свою поэтическую «краску из стакана», а на «чешуе жестяной рыбы» прочитывал «зовы новых губ». И у него сразу же возникала потребность сыграть ноктюрн не необыкновенном инструменте – «на флейте водосточных труб».
Нечто подобное произойдёт с Маяковским в июле 1915 года. Пока же, летом 1913 года, он узнал, что Вера Шехтель беременна. И что её, как сообщает в своей книге информированный Янгфельдт, «отправили за границу делать аборт».
Тем временем наступило лето.
18 июня в Санкт-Петербурге состоялся суд над членами ЦК РСДРП, арестованными во время благотворительного вечера, на котором собирались средства для большевистской газеты «Правда». Иосифа Джугашвили и Якова Свердлова приговорили к высылке «в Туруханский край под гласный надзор полиции на четыре года». 2 июля обоих приговорённых отправили по этапу в Сибирь.
Поэтические будни
Летом 1913 года Маяковский начал сочинять трагедию. Называлась она сначала «Железная дорога», потом появилось другое название – «Восстание вещей».
Бенедикт Лившиц:
«Он, как всегда, был полон собой, своими ещё до конца не оформленными строчками, обрывками отдельных фраз, ещё не сложившимися в задуманную им трагедию, и на ходу всё время жевал и пережёвывал, точно тугую резину, вязнувшие на его беззубых дёснах слова».
В августе футуристы выпустили альманах «Дохлая луна», объявленный как:
«СБОРНИК
ЕДИНСТВЕННЫХ ФУТУРИСТОВ МИРА! —
ПОЭТОВ
«ГИЛЕЯ»»
Там были и стихи Маяковского. Вадим Шершеневич отметил:
«Лучшие вещи в сборнике принадлежат Маяковскому».
На то, как происходило записывание строк, сочинённых поэтом-футуристом, обратил внимание Корней Чуковский:
«Записывал он большей частью на папиросных коробках, тетрадок и блокнотов у него, кажется, в то время ещё не было. Впрочем, память у него была такая, что никаких блокнотов ему и не требовалось: он мог в каком угодно количестве декламировать наизусть не только свои, но и чужие стихи и однажды во время прогулки удивил меня тем, что прочитал наизусть все стихотворения Ал. Блока из его третьей книги, страница за страницей, в том самом порядке, в каком они были напечатаны».
Александра Алексеевна Маяковская:
«Володя всё больше и больше писал и печатал свои стихи. Однажды он сказал мне:
– На столе у меня на клочках бумаги и на папиросных коробках записаны слова и строчки стихов, которые мне нужны, – не убирайте и не выбрасывайте их.
Я сказала ему, что хорошо бы всё же закончить художественное заведение. Володя в шутливом тоне ответил мне:
– Для рисования нужна мастерская, полотно, краски и прочее, а стихи можно писать в записную книжку, тетрадку, в любом месте. Я буду поэтом».
24 августа в «Кино-журнале» № 16 была напечатана прозаическая статья Маяковского, называвшаяся весьма пространно: «Уничтожение кинематографом „театра“ как признак возрождения театрального искусства». В ней, в частности, говорилось:
«Великая ломка, начатая нами во всех областях красоты во имя искусства будущего – искусства футуристов, не остановится, да и не может остановиться перед дверью театра…
Ненависть к искусству вчерашнего дня… заставляет меня выдвигать в доказательство неизбежности признания наших идей не лирический пафос, а точную науку, исследование взаимоотношений искусства и жизни».
Какая именно «точная наука» имелась в виду, в статье не указывалось. Но оттенок у неё наверняка был явно футуристический.
В начале октября 1913 года Маяковский на несколько дней съездил в Петербург. Встречал его Бенедикт Лившиц:
«Я не сразу узнал его. Слишком уж был он не похож на прежнего, на всегдашнего Володю Маяковского. Гороховое в искру пальто, очевидно купленное лишь накануне, и сверкающий цилиндр резко изменили его привычный облик. Особенно странное впечатление производили в сочетании с этим щегольским нарядом – голая шея и светло-оранжевая блуза, смахивавшая на кофту кормилицы.
Маяковский был детски горд переменой в своей внешности, но явно ещё не освоился ни с новыми вещами, ни с новой ролью, к которой обязывали его эти вещи.
В сущности, всё это было более чем скромно: и дешёвый, со слишком длинным ворсом цилиндр, и устарелого покроя, не в мерку узкое пальто, вероятно, приобретённое в третьеразрядном магазине готового платья, и жиденькая трость, и перчатки факельщика; но Володе его наряд казался верхом дендизма – главным образом оранжевая кофта, которой он подчёркивал свою независимость от вульгарной моды.
Эта пресловутая кофта, напяленная им якобы с целью «укутать душу от осмотров», имела своей подоплёкой не что иное как бедность: она приходилась родною сестрою турецким шальварам, которые носил Пушкин в свой кишинёвский период».
В те октябрьские дни 20-летний Владимир Маяковский и 27-летний Бенедикт Лившиц познакомились с 26-летним Игорем Северяниным. Знакомство это организовал 45-летний Николай Иванович Кульбин, человек необыкновенный. Служа приват-доцентом Военно-медицинской академии и являясь врачом Генерального штаба, он был ещё художником, музыкантом, теоретиком театра и российского авангарда, а также философом и меценатом. Иногда Кульбин появлялся в военном генеральском мундире с галунами и с улыбкой представлялся «доктором от футуризма» (такое было у него прозвище).
Контакта и взаимопонимания между молодыми поэтами (футуристами и эгофутуристом) сначала не возникло – слишком насторожённо присматривались они друг к другу. И тогда опытный Кульбин повёз их в ресторан «Вена». О том, что происходило потом – Бенедикт Лившиц:
«Действительно, к концу ужина от нашей мудрой осторожности не осталось и следа…
Неделю спустя мы уже выступали совместно в пользу каких-то женских курсов».
Софья Шамардина к этому добавляла:
«Маяковский стал иногда напевать стихи Северянина. Звучало хорошо».
В северную столицу Маяковский приехал по поручению Давида Бурлюка, велевшего ему привезти в Москву на вечер речетворцев Бенедикта Лившица: «живого или мёртвого». И оба поэта в Москву приехали. Лившиц потом вспоминал:
«Не помню, куда мы заехали с вокзала, где остановились, да и остановились ли где-нибудь. Память мне сохранила только картину сложного плутония по улицам и Кузнецкий мост в солнечный, не по-петербургскому тёплый полдень…
Сопровождаемые толпою любопытных, поражённых оранжевой кофтой и комбинацией цилиндра с голой шеей, мы стали прогуливаться. Маяковский чувствовал себя как рыба в воде.
Я восхищался его невозмутимостью, с которой он встречал устремлённые на него взоры. Ни тени улыбки. Напротив, мрачная серьёзность человека, которому неизвестно почему докучают бесконечным вниманием.
Это было до того похоже на правду, что я не знал, как мне с ним держаться. Боялся неверной, невпопад, информацией сбить рисунок замечательной игры.
Хотя за месяц до того Ларионов уже ошарашил москвичей, появившись с раскрашенным лицом на Кузнецком, однако Москва ещё не привыкла к подобным зрелищам, и вокруг нас разрасталась толпа зевак. Во избежание вмешательства полиции пришлось свернуть в одну из боковых, менее людных улиц».
Действительно, в сентябре 1913 года участники объединения художников «Ослиный хвост» начали появляться с раскрашенными лицами в разных аудиториях Москвы (на диспутах, вечерах и даже просто в кафе). А 14 числа, как о том сообщал своим читателям «Московский листок»…
«… художник М.Ларионов и поэт-футурист К.Большаков, раскрасив лица (как татуировка дикарей), гуляли по Кузнецкому мосту».
Вечер речетворцев
После гуляния на Кузнецком мосту Маяковский повёл Лившица в своё Училище:
«В Училище живописи, ваяния и зодчества, где он ещё числился учеником, его ждал триумф: оранжевая кофта на фоне казённых стен была неслыханным вызовом казарменному режиму школы. Маяковского встретили и проводили овациями.
Ему этого было мало. Решив, что его наряд уже примелькался, он потащил меня по мануфактурным магазинам… После долгих поисков он набрёл у Цинделя на черно-жёлтую полосатую ткань неизвестного назначения и на ней остановил свой выбор…
Сшила полосатую кофту Володина мать».
«Циндель», у которого Маяковский «набрёл» на понравившуюся ему материю, был магазином тканей Товарищества по производству мануфактуры «Эмиль Циндель».
После того, как новая кофта была сшита, у поэта-футуриста их стало две: одна жёлтая с чёрными полосами, другая просто жёлтая (или, скорее, оранжевая).
Софья Шамардина:
«Его жёлтая, такого тёплого цвета кофта. И другая – чёрные и жёлтые полосы…
– Я в этой кофте похож на зебру, – это про полосатую кофту – перед зеркалом.
– Нет, на спичечную коробку! – дразнила.
Он любил свой голос, и часто, когда читал для себя, чувствовалось, что слушает себя и доволен: «Правда, голос хороший?.. Я сошью себе чёрные штаны из бархата голоса моего…». Льется глубокий, выразительный, его особого, Маяковского тембра голос».
13 октября 1913 года в Москве, в зале «Общества любителей художеств» на улице Большая Дмитровка, состоялся «Первый в России вечер речетворцев». Бенедикт Лившиц писал:
«Аншлаги, конные городовые, свалка у входа, толчея в зрительном зале давно уже из элементов случайных сделались постоянными атрибутами наших выступлений. Программа же этого вечера была составлена широковещательнее, чем обычно. Три доклада. Маяковского – „Перчатка“, Давида Бурлюка – „Доители изнурённых жаб“ и Кручёных – „Слово“ – обещали развернуть перед москвичами тройной свиток ошеломительных истин…
Во мне ещё не дотлели остатки провинциальной, граничившей с простодушием, добросовестности, и я всё допытывался у Володи, что скажет он, очутившись на эстраде.
Маяковский загадочно отмалчивался».
И было из-за чего молчать – ведь в ту пору стихотворение Фридриха Шиллера под названием «Перчатка» было широко известно в переводах Василия Жуковского и Михаила Лермонтова. У всех на устах было и стихотворение Николая Гумилёва с тем же названием, в котором говорилось:
«Есть у каждого загадка,
Уводящая во тьму,
У меня – моя перчатка,
И о ней мне вспомнить сладко,
И её до новой встречи не сниму».
Маяковский вполне мог прочесть Лившицу эти строки. Но почему-то промолчал.
Газета «Русские ведомости» через два дня написала:
«Зала была переполнена до крайности, билеты были все проданы, фаланга городовых с околоточным и приставом отделяла несчастных безбилетных от тех, кому судьба улыбнулась билетом. Герои вечера появлялись тут и там, разжигая нетерпение и без того возбуждённой публики. Самый героический из них был в изысканной жёлто-чёрной кофте в полоску… и без пояса…
Не желая отодвигать события в будущее, хотя и близкое, молодой футурист в «полоску» прямо начал с дела:
– Мы разрушаем ваш старый мир… Вы нас ненавидите».
Обратим внимание, что полиция, заранее уверенная о том, что затеянное «речетворцами» мероприятие вызовет нарушение общественного порядка, скандал и даже свалку, не запретила их «вечер», а лишь устроила конное оцепление у входа. Это ли не говорит о том, что власти подобные столпотворения приветствовали?
Впрочем, когда в тот же день в Петербурге, в зале Тенишевского училища, была объявлена лекция Корнея Чуковского (всё о тех же футуристах), самим футуристам петербургский градоначальник выступать на ней запретил.
Почему?
Вероятно, потому, что их выступления были чересчур шумными и крикливыми. Не случайно же на футуристических вечерах из зала выкрикивали строки из басни Крылова:
Вот то-то мне и духу придаёт,
что я совсем без драки
могу попасть в большие забияки!
Пускай же говорят собаки:
ай, Моська, знать, она сильна,
что лает на слона!
Футуристов это не смущало. Энергия молодости била у них через край. Особенно у Маяковского.
Об этом – Бенедикт Лившиц:
«Успех вечера был в сущности успехом Маяковского. Непринуждённость, с которой он держался на подмостках, замечательный голос, выразительность интонаций и жеста сразу выделяли его из среды остальных участников. Глядя на него, я понял, что не всегда тезисы к чему-то обязывают… Эта весёлая чушь, преподносилась таким обворожительным басом, что публика слушала развесив уши… Всем было весело. Нас встречали и провожали рукоплесканиями. Мы не обижались на эти аплодисменты, хотя и не обманывались насчёт их истинного смысла».
После Маяковского на сцену вышел Алексей Кручёных. О том, что он читал, сведений не сохранилось. Скорее всего, прозвучало написанное в 1913 году стихотворение:
«Та самаэ
ха ра бау
Саем сию дуб
радуб мола
аль».
И уж наверняка Кручёных прочёл свои коронные «Дыр бул щыл».
По поводу этого выступления Лившиц написал:
«Публика уже не разбирала, где кончается заумь и начинается безумие».
Но народ, собравшийся в «Обществе любителей художеств», на аплодисменты не скупился.
Бенедикт Лившиц подводил итог:
«Газеты, объявившие нас не „доителями изнурённых жаб“, а доителями карманов одураченной нами публики, усматривали в таком поведении зрительного зала тонкую месть и предрекали нам скорый конец.
Но нас не пугали эти пророчества: напротив, в наступавшем зимнем сезоне мы собирались развернуть нашу деятельность ещё шире».
Развернутая деятельность
19 октября 1913 года в Мамонтовском переулке Москвы начало работать футуристическое кафе «Розовый фонарь». Одним из тех, кому удалось побывать на его открытии, был 22-летний студент Московского коммерческого института Лев Владимирович Ольконицкий (ставший впоследствии советским писателем Львом Никулиным). Он вспоминал:
«Зал был узкий, тесный, весь заставленный столиками… „Настоящая публика“, съехавшаяся в полночь, была уже сильно навеселе…
Вдруг на месте конферансье появилась высокая неподвижная фигура; прошло несколько минут, и эта неподвижность и молчание человека на авансцене возбудили любопытство публики.
Постепенно шум стих, и… поэт гаркнул во всю мощь своего могучего голоса «Нате!»
Это было загадочно. Все замерли.
Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, —
негромко и презрительно начал Маяковский.
Господа за столиками оцепенели.
Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош».
Газета «Руль» в номере от 21 октября продолжала:
«Маяковский читал:
– Вы будете топтать меня грязными калошами, мою грудь! – кричал он.
В воздухе стало пахнуть скандалом».
«Московская газета» добавляла подробностей:
«Публика пришла в ярость. Послышались оглушительные свистки, крики „долой“. Маяковский был непоколебим, продолжая в указанном стиле. Наконец, решил, что его миссия закончена, и удалился».
Лев Ольконицкий:
«Трудно описать скандал, который разразился в „Розовом фонаре“. Обиженная публика ринулась к дверям, кстати говоря, в гневе позабыв уплатить по счетам за выпитое и съеденное».
Подобные выступления 20-летнего Маяковского вряд ли совершались по одному его личному побуждению. Наверняка был кто-то ещё, чрезвычайно сильно влиявший на молодого поэта и подталкивавший его на шокирование публики. Николай Асеев считал, что таким человеком был Давид Бурлюк:
«Впечатление от дружбы с Бурлюком отложилось и в тексте стихов Маяковского. Говоря о серости и никчёмности тогдашней жизни Маяковский противопоставляет этой серости облик, темперамент, трагическую непохожесть Бурлюка на всё, что тогда окружало Маяковского в искусстве».
Когда же Давида Бурлюка рядом не было, Маяковский становился совсем другим человеком. Корней Чуковский, который уже тогда обнаружил, что в поэте-футуристе бушует «подлинная человеческая тоска», писал:
«Уезжая в Москву, я решил встретиться с Владимиром Владимировичем и поговорить с ним вплотную, так как мне хотелось дознаться, откуда в нем эта тоска.
Зайдя вечером по какому-то делу в Литературно-художественный кружок (Большая Дмитровка, 15), я узнал, что Маяковский находится здесь, рядом с рестораном, в биллиардной. Кто-то сказал ему, что я хочу его видеть. Он вышел ко мне, нахмуренный, с кием в руке, и неприязненно спросил:
– Что вам надо?
Я вынул из кармана его книжку и стал с горячностью излагать свои мысли о ней.
Он слушал меня не дольше минуты… и, наконец, к моему изумлению сказал:
– Я занят… извините… меня ждут… А если вам хочется похвалить эту книжку, подите, пожалуйста, в тот угол… к тому крайнему столику… видите, там сидит старичок… в белом галстуке… подите и скажите ему всё…
Это было сказано учтиво, но твёрдо.
– Причём же здесь какой-то старичок?
– Я ухаживаю за его дочерью. Она уже знает, что я великий поэт… А папаша сомневается. Вот и скажите ему.
Я хотел было обидеться, но засмеялся и пошёл к старичку.
Маяковский изредка появлялся у двери, сочувственно следил за успехом моего разговора, делал мне какие-то знаки и опять исчезал в биллиардной.
После этой встречи я понял, что покровительствовать Маяковскому вообще невозможно. Он был из тех, кому не покровительствуют. Начинающие поэты – я видел их множество – обычно в своих отношениях к критикам бывали заискивающи, а в Маяковском уже в ранней молодости была величавость».
Николай Асеев подметил другие черты:
«… уйти от обаятельности Маяковского я уже не смог. И начал встречаться с ним часто, одно время почти ежедневно. Общей страстью нашей стал азарт.
Бренча в горстях серебряной мелочью, на ходу, мы играли в «орла и решку» – сколько орлов и сколько решек окажется в раскрытой ладони. Играли на то, сколько шагов до конца квартала, какой номер первого встречного трамвая. Азарт был не в выгоде, а в удаче».
Сразу вспоминается любопытный пример из книги Чезаре Ломброзо – о странностях умалишённых пациентов итальянского психиатра:
«Иногда у них появляются чрезвычайно странные фантазии: например, считать камешки на мостовой, половицы в комнате…».
Николай Асеев эти строки вряд ли читал, а если и читал, то, видимо, не запомнил. Зато он обратил внимание на другие особенности характера тогдашнего Маяковского:
«Для меня Маяковский в то время был во многом ещё не раскрыт. Мало говоря о себе вообще, он никогда не касался своей партийности, почти не упоминал об отсидках в тюрьме, о деятельности своей как агитатора. Очевидно теперь, что он тогда уже дисциплинировал себя в немногословии из чувства конспирации, нежелания «размазывать манную кашу по мелкой тарелке», как выражался он впоследствии».
Как видим, и Николай Асеев обратил внимание на полное равнодушие Маяковского к «своей партийности», к «отсидкам в тюрьме» и к работе в качестве «агитатора». Только причиной этого вряд ли являлось «чувство конспирации». Поэт-футурист был просто далёк от своих подростковых увлечений, а так называемые «партийные» дела и вовсе основательно подзабылись.
Ещё одно замечание о Маяковском Корнея Чуковского:
«Познакомившись с ним поближе, я увидел, что в нём вообще нет ничего мелкого, юркого, дряблого, свойственного слабовольным, хотя бы и талантливым людям. В нём уже чувствовался человек большой судьбы, большой исторической миссии.
Не то чтобы он был надменен. Но он ходил среди людей как Гулливер, и хотя нисколько не старался в том, чтобы они ощущали себя рядом с ним лилипутами, но как-то так само собою делалось, что самым спесивым и заносчивым людям не удавалось взглянуть на него свысока».
«Молодой конь»
1 ноября 1913 года в «Обществе свободной эстетики» проходил музыкальный вечер, на котором исполнялись романсы на тексты Константина Бальмонта. Газета «Голос Москвы» на следующий день сообщила:
«По окончании музыкального отделения состоялся ужин, во время которого Бальмонт и Брюсов прочитали несколько своих новых стихотворений. Настроение вечера было несколько испорчено очередным выступлением „футуристов“. Г-н Маяковский в грубой форме объявил об отсталости бальмонтовского творчества».
Газета «Раннее утро» продолжала:
«Футуристу дал отповедь г. Брюсов, указавший на то, что гостям надлежит себя держать в гостях… прилично.
Г. Маяковский отрезал:
– Тогда до свиданья! Я ухожу.
– Кто сказал «до свиданья»? – спросил один из присутствовавших.
– Известный поэт Маяковский! – ответил, уходя, г. Маяковский.
– Мы такого не знаем в России! – заметил г. Брюсов.
Инцидент на этом и закончился».
2 ноября группа футуристов во главе с Давидом Бурлюком вновь отправилась в Петербург. Об этой поездке мы уже говорили в связи с появлением у Маяковского жёлтой кофты. Теперь чуть подробнее о докладе, который Бурлюк читал в Тенишевском училище. Об этом – Бенедикт Лившиц:
«Один и тот же доклад Бурлюк читал несколько раз и в Петербурге и в Москве, но в одном городе он назывался «Пушкин и Хлебников» («Ответ господам Чуковским»), а в другом был озаглавлен: «Утверждение российского Футуризма»; одни и те же тезисы для обеих столиц составлялись различным образом – для Петербурга более сдержанно, для Москвы более кричаще.
«Голых» докладов Москва не признавала. Поэтому на всех афишах значилось: «Лекцию иллюстрируют чтением поэты (следовал перечень наших фамилий)»».
4 ноября газета «Речь» привела слова из доклада Бурлюка:
«– Пушкин… – это мозоль русской поэзии. Он для нас устарел, и нам достаточно знакомиться с ним в отроческом возрасте.
– Мы, – подводит лектор итоги под громкий смех аудитории, – находимся к Пушкину под прямым углом. Совсем не то – Хлебников. Это мощный, необычный, колоссальный, гениальный поэт, и это не чувствуют только те, кто не способен оценить вазу, вне мысли о том, что налито в неё».
В конце первой декады ноября футуристы вернулись в Москву, где состоялось знакомство Маяковского с Василием Каменским.
Поэт-будетлянин, который после авиационной аварии приходил в себя в тихой уральской деревушке, незадолго до этого получил от Давида Бурлюка письмо с призывом:
«Приезжай скорей, чтобы ударить с новой силой „Сарынь на кичку“ по башкам обывателей. Прибыли и записались свежие борцы – Володя Маяковский и А.Кручёных. Особенно хорош Маяковский (ему семнадцать лет!), учится в школе живописи со мной. Дитя природы, как и мы. Увидишь. Он стремительно жаждет с тобой встретиться и поговорить об авиации, стихах и прочем футуризме. Находится Маяковский при мне неотлучно и начинает делать отличные стихи. Дикий, крупный самородок. Я внушил ему, что он молодой Джек Лондон. Он очень доволен. Рвётся на пьедестал борьбы за футуризм. Необходимо действовать. Бурно. Лети. Ждём».
Выражение, которое употребил Бурлюк («Сарынь на кичку»), взято из «воровского» языка волжских разбойников. «Сарынь» — это чернь, толпа, а «кичка» — возвышенная часть на носу судна. Когда разбойничья банда брала на абордаж купеческое судно, то раздавался крик «Сарынь, на кичку!» — это был приказ всем, кто находился на судне: лечь на «кичку» и лежать там, пока идет грабёж. Василий Каменский в тот момент сочинял поэму «Стенька Разин», а Разин, как известно, этими грабежами и занимался.
Если судить по указанному Бурлюком возрасту Маяковского («семнадцать лет»), дело происходило во второй половине 1910 года – в начале 1911-го. Но в Училище живописи, ваяния и зодчества Маяковский поступил только осенью 1911 года, когда ему было уже восемнадцать. А первые стихи он прочёл Давиду в девятнадцать. Так что Бурлюк тут немного ошибся.
Сам Маяковский считал, что его знакомство с Каменским состоялось в ноябре 1913 года.
Василий Каменский описал свой приезд с Урала так:
«Я пригнал в Москву и прямо к Давиду Бурлюку на Мясницкую… За столом двое – Бурлюк в малиновом жилете и рядом худой черноватый с „выразительными“ очами юноша в блестящем цилиндре… но одет неважнецки. Бурлюк, глядя в лорнет на юношу, басил:
– Это и есть Владим Владимыч Маяковский, поэт-футурист и вообще великолепный молодой конь. Мы пьём чай и читаем стихи».
В «Я сам» этому событию посвящена такая запись:
«К ватаге присоединился Вася Каменский. Старейший футурист.
Для меня эти годы – формальная работа, овладение словом».
Прибытие Каменского было весьма кстати – на 11 ноября в Политехническом музее был назначен вечер, названный «Утверждение российского футуризма».
Глава пятая Стихотворящие бунтари
Футуристы утверждаются
Василий Каменский вспоминал:
«Для привлечения внимания к нашему вечеру мы, разрисовав себе лица, пошли по Тверской к Кузнецкому. По дороге мы вслух читали стихи. Конечно, собралась толпа. Раздавались крики: „циркачи, сумасшедшие“. В ответ мы показывали нашу афишу.
Помогло нам ещё то, что в день выступления в «Русском слове» появилась статья Яблоновского «Берегите карманы», где он рекомендовал нас как мошенников. Публика, разумеется, захотела сама убедиться, как это футуристы будут чистить карманы, и аудитория была переполнена.
За 10–15 минут до начала мы вспомнили, что неизвестно, собственно, что будет читать Маяковский, который очень хотел этого выступления, очень ждал его. Когда мы его спросили об этом, он ответил: я буду кого-нибудь крыть.
– Ну, что же. Вот хотя бы Яблоновского!»
Автором статьи в «Русском слове» был журналист Сергей Викторович Потресов, писавший под псевдонимом Яблоновский.
Другая газета – «Русские ведомости» – сообщила, что делалось у входа в Политехнический музей:
«На входных дверях вместо афиши начертано кратко: „Сегодня футуристы“. Над окошком кассы объявление: „Присутствие корреспондентов не важно, а потому они особыми правами не пользуются“».
Василий Каменский к этому добавлял:
«Возле здания Политехнического музея, перед началом, творилось небывалое: огромная безбилетная толпа молодёжи осаждала штурмом входы.
Усиленный наряд конной полиции «водворял порядок».
Шум, крики, давка.
Подобного зрелища до нас писатели никогда не видели и видеть не могли, так как с толпой, с массой связаны не были, пребывая в одиночестве кабинетов…
Перед выходом нашим на эстраду сторож принёс поднос с двадцатью стаканами чая.
Даже горячий чай аудитория встретила горячими аплодисментами.
А когда вышли мы (Маяковский – в жёлтом распашоне, в цилиндре на затылке, Бурлюк – в сюртуке и жёлтом жилете, с расписным лицом, я – с жёлтыми нашивками на пиджаке и с нарисованным аэропланом на лбу), когда прежде всего сели пить чай – аудитория гремела, шумела, орала, свистела, садилась, хлопала в ладоши, веселилась.
Дежурная полиция растерянно смотрела на весь этот взбудораженный ад, не знала, что делать.
Какая-то девица крикнула:
– Тоже хочу чаю!
Я любезно поднёс, при общем одобрении».
После чаепития начались доклады, о которых «Русские ведомости» написали:
«Представляя современную критику как охранительницу литературных традиций, Д.Бурлюк не скупился на эпитеты и определения».
Газета особо выделила слова из его доклада:
«Серов и Репин – арбузные корки…
Досталось критике и от второго докладчика в жёлтой кофте – В.Маяковского. Попутно он оскорбился за российский футуризм, которому приписывается подражание Маринетти, тогда как на самом деле сборник поэта Хлебникова появился в 1908 году, а манифесты итальянских футуристов дошли до русских только в 1910 году».
Газета «Русское слово» передала такие слова Маяковского:
«– Виктор Хлебников – ваятель неологизмов, филологически правильно поставленных. Это поэт, от одного имени которого Русь содрогнётся.
Публика весело смеялась, требовала показать ей «ушкуйника». Новоявленное чудо оказалось молодым человеком в сереньком костюмчике».
«Ушкуйником» в древней Руси называли вольного человека, входившего в состав ватаги, которая разъезжала на «ушкуях» (легких ладьях) и занималась разбоем. Иными словами, «ушкуйник» — это просто разбойник.
«Русские ведомости»:
«В конце вечера Д.Бурлюк, Н.Бурлюк, В.Маяковский, В.Хлебников и В.Каменский читали свои стихи…».
«Русское слово»:
«Читали и „слововертни“ и „перевертни“ б<ратья> Бурлюки, Василий Каменский, Маяковский и „ушкуйник“ Хлебников, которого невозможно было расслышать».
Какие стихи прочёл на том вечере Виктор Хлебников, неизвестно. Но он вполне мог продекламировать и такие свои строки:
«Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй пелся облик,
Гзи-гзи-гзео пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо».
Начинающий литератор Иван Васильевич Евдокимов, побывавший на том вечере, занёс в дневник свои впечатления. Выступления Хлебникова он не отметил, написав:
«Вот посмотрел и футуристов… Впечатление на меня произвели Маяковский, И. Северянин и А.Кручёных очень сильное и приятное. Маяковский был в жёлтой блузе с бантом. Костюм этот мне очень понравился. У Маяковского огромный убедительный голос. Он высок, строен, прямо элегантен. Вообще, он произвёл на меня прекрасное впечатление…
Как бы там ни было, но интерес к футуристам огромнейший, публика идёт не только из-за скандала, публика изголодалась, публика жаждет новизны… Костюм этот (жёлтая кофта) положительно элегантен, гораздо лучше подлого пиджака. И плохо делают футуристы, что не ходят в нём постоянно – это был бы символ их группы».
Тем временем год 1913-ый подходил к концу. Его «поэтический» итог подвёл Вадим Шершеневич (в газете «Нижегородец» от 20 декабря):
«Если бы было можно отметить только хорошее – я сказал бы только о Маяковском. Его поэмы стали неожиданно сильны, интересны, образы помимо новизны отличаются меткостью; ритм интересен и своеобразен; сюжет всюду подходит под форму… Судя по этим пьесам, эпатаж не интересует больше сильного, хотя невыработавшегося поэта. Это обстоятельство позволяет надеяться на будущее Маяковского, особенно, если он обратит внимание на форму».
В то время Маяковский не только сочинял стихи. Было у него и то, что называется личной жизнью.
Очередная любовь
В 1913 году из Минска в Петербург приехала девятнадцатилетняя девушка, которую звали Софья Сергеевна Шамардина, и поступила учиться на Высшие женские (Бестужевские) курсы.
За нею ухаживал Корней Чуковский, живший тогда в гостинице «Пале-Рояль». Когда Софья к нему туда приходила, он (по её словам)…
«… бывало, довольно уныло жевал сырую морковку и тонким голосом говорил о пользе её».
Софья вскоре тоже стала вегетарианкой.
И вдруг в её жизнь ворвался Владимир Маяковский.
Поэт-футурист мгновенно вскружил голову юной курсистке, заставив забыть любителя сырой моркови. Маяковский называл её «Сотой» и очень скоро окончательно отбил девушку у Чуковского.
О том, как выглядел ухаживавший за нею футурист, она впоследствии написала:
«Не забывается весь облик Маяковского тех дней.
Высокий, сильный, уверенный, красивый. Ещё по-юношески немного угловатые плечи, а в плечах – косая сажень. Характерное движение плеч с перекосом – одно плечо вдруг поднимается выше и тогда, правда, – косая сажень.
Большой мужественный рот с почти постоянной папиросой, передвигаемой то в один, то в другой уголок рта. Редко – короткий смешок его…
Красивый был. Иногда спрашивал: «Красивый я, правда?..»
Какая сила, громадная, внутренняя, была в этом юноше! Я в то время не знала о его (тогда уже прежней) юношеской политической деятельности. Но сила протеста и вызова буржуазному обществу, мещанству в его стихах чувствовалась потрясающе… Поэзия Маяковского, хотя ещё и очень ранняя, жгла, как раскалённое железо».
Софья Шамардина стала свидетельницей появления новых стихов, рождавшихся прямо у неё на глазах:
«Вспоминается, как возвращались однажды с какого-то концерта-вечера. Ехали на извозчике. Небо было хмурое. Только изредка вдруг блеснёт звезда. И вот тут же в извозчичьей пролетке стало слагаться стихотворение: „Послушайте! Ведь если звёзды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно…“
Он держал мою руку в своём кармане и наговаривал о звёздах. Потом говорит: «Получаются стихи. Только непохоже это на меня. О звёздах! Это не очень сентиментально? А всё-таки напишу. А печатать, может быть, не буду»».
Трагедия, происшедшая в семье Маяковских в феврале 1906 года, продолжала тревожить Владимира. Он много размышлял об этом. И ему стало казаться, что, несмотря на то, что солнце неожиданно погасло, и всё вокруг окутала тьма, люди должны знать, что жизнь продолжается. Для этого на небе должны зажигаться звёзды – ведь не зря же считается, что, если в небесах вспыхнула звезда, значит, где-то родился человек, значит, жизнь продолжается. И поэт вопросительно восклицал:
«Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!»
Впрочем, это небольшое стихотворение в тот момент поэта не очень волновало – ведь он заканчивал своё первое крупное произведение, в котором говорилось совсем о другом. В «Я сам» об этом сказано:
«Это время завершилось трагедией "Владимир Маяковский "».
Об этой пьесе – речь впереди. А сейчас – о романе, который поэт-футурист не скрывал, но и не афишировал.
Софья Шамардина:
«Нас принимали за брата и сестру и даже находили сходство. Мне нравилось это…
Иногда он меня представлял так: «Сонечка-сестра». А потом, когда заканчивал «Владимира Маяковского», говорит: «Там есть Сонечка-сестра»».
Однажды Маяковский пригласил Софью на медицинские курсы, где футуристы знакомили студентов с тем, что представляет собой их движение. Об этом мероприятии – Василий Каменский:
«Каково же было всеобщее изумление, когда Маяковский в своей речи о футуризме перед медиками вдруг перешёл на достижения современной медицины. Меня затрясло от неожиданности и боязни за отважность оратора. Маяковский говорил о хирургическом вмешательстве футуристов в организм литературы и блестяще процитировал наизусть целый ряд высказываний из трудов мировых хирургов, остроумно сопоставляя нашу работу с доводами мировых учёных. Успех был громадный».
Аудитория, состоявшая из врачей и студентов-медиков, тоже была поражена – ведь поэт говорил как солидный университетский профессор. Как писал потом Каменский, тайна открылась, когда они возвращались с этого выступления:
«Оказалось, что пока выступали Бурлюк и я, Маяковский, ожидая своей очереди, просмотрел в библиотеке курсов несколько книг по хирургии. Он, как говорится, кокетничал своей памятью, не зная себе равных».
Съездив ненадолго в Москву, футуристы вернулись в Петербург, где 20 ноября на вечере в Троицком театре, устроенном обществом художников «Союз молодёжи», Маяковский делал доклад «О новейшей русской литературе», а читавшие стихи футуристы появлялись перед зрителями под удары гонга. В зале находилась и Софья Шамардина.
Первая пьеса
Первая пьеса Маяковского сочинялась всё лето 1913 года.
Алексей Кручёных потом вспоминал:
«Маяковский до того спешно писал пьесу, что даже не успел дать ей название, и в цензуру его рукопись пошла под заголовком: „Владимир Маяковский. Трагедия“. Когда выпускалась афиша, то полицмейстер никакого нового названия уже не разрешил, а Маяковский даже радовался: „Ну, и пусть трагедия так называется: „Владимир Маяковский“!“ О том, что поэма Уитмена „Песня о себе“ в первом издании называлась „Уолт Уитмен“, Маяковский знал от Корнея Чуковского».
В цензурный комитет трагедия была представлена 9 ноября, 15-го получено разрешение на её публичное представление.
На следующий день появился документ:
«Я, нижеподписавшийся, передаю Обществу художников „Союз молодёжи“ свою трагедию „Владимир Маяковский“ для постановки в Петербурге в сезон 1913–1914. Постановка ведётся по моим указаниям и под моим личным наблюдением за всей художественной частью пьесы. (Срок моего наблюдения и размер вознаграждения за оное устанавливается в согласии с „Союзом молодёжи“.) Плата поспектакльная 50 (пятьдесят) рублей за каждый вечер.
Владимир Маяковский.
16 ноября 1913 года».
О том, что «Союз молодёжи» собирается ставить пьесу Маяковского, узнал и Александр Авельевич Мгебров (Мгебришвили), игравший в Московском художественном театре, а затем – в театре Комиссаржевской и в петербургском Старинном театре. Он писал:
«До этого спектакля я мало был заинтересован футуризмом, и даже моё отношение к нему было, в сущности говоря, отрицательным…
Когда же поднялся разговор о предстоящем представлении футуристов на Офицерской в бывшем театре Комиссаржевской, я твёрдо решил не смотреть. Зачем видеть ужас человеческого падения, как казалось мне, и быть свидетелем неминуемого скандала, который, конечно, должен произойти там?»
23 ноября Маяковский отправил из Петербурга в Москву письмо матери:
«Милая, дорогая мамочка! Я по Вас соскучился. Придётся ещё жить в СПБ (2-го декабря первый спектакль моей трагедии)…
Я здоров, но работы по горло. В первый раз – целый день. Я рад…
Целую крепко, крепко Вас, Олю, Люду.
Володя.
Мой адрес: СПБ, Пушкинская ул., гостиница Поле-Рояль, № 126».
А тот же день было послано письмо и сёстрам:
«Дорогие Людочка и Оличка!
Напишите. Я соскучился. Право. Целые дни и ночи занят. Репетиции, лекции, лекции, концерты, концерты, репетиции и т. д. Целую вас всех и по очереди,
брат Володя».
О том, как развивались события дальше – Бенедикт Лившиц:
«В конце ноября во всех петербургских газетах появились анонсы, что 2,3,4 и 5 декабря в Луна-парке состоятся «Первые в мире четыре постановки футуристов-театра»: в чётные дни – трагедия «Владимир Маяковский», в нечётные – опера Матюшина «Победа над Солнцем»».
Михаил Васильевич Матюшин был музыкантом (скрипачом), художником, а также издавал книги в собственном издательстве «Журавль», в котором печатались и футуристы. Это он издал оба сборника «Садок судей». Писал Матюшин и музыку. Автором либретто его футуристической оперы «Победа над Солнцем» был Алексей Кручёных, пролог написал Виктор Хлебников, декорации и костюмы делал Казимир Малевич.
Бенедикт Лившиц:
«Финансировал предприятие „Союз молодёжи“, во главе которого стоял Л. Жевержеев. Цены назначили чрезвычайно высокие, тем не менее уже через день на все спектакли места амфитеатра и балкона были проданы. Газеты закопошились, запестрели заметками, якобы имевшими целью оградить публику от очередного посягательства футуристов на её карманы, в действительности только разжигавшими общее любопытство».
По Петербургу поползли слухи о том, что на футуристических спектаклях артистов станут бить и забрасывать (по выражению Маяковского) «падалью, селёдками и вообще всякой дрянью». И профессиональные актеры участвовать в представлении категорически отказались.
Софья Шамардина:
«… играла всяческая студенческая молодежь. Ставил сам, предлагал мне играть, и что участникам заплатят по 30 рублей – сказал…
Помню одну встречу в театре. Я пришла позже Маяковского. Нашла его за кулисами. Он стоял в окружении каких-то людей и что-то горячо доказывал. Здороваясь, поцеловались. Потом говорит: "Мне нравится, что ты так просто меня целуешь, а они стоят и смотрят. Ты не похожа на барышню "».
Скорее всего, Маяковский «горячо доказывал» самодеятельным артистам вздорность гулявшей по Петербургу молве о провале готовившегося спектакля. Но ему не верили, кричали и ругались до визга. Поэт послал всех к чёрту и ушёл. Пришлось набирать новый состав исполнителей.
А слухи, один другого невероятнее, продолжали распространяться по городу.
Бенедикт Лившиц:
«Масла в огонь подлило напечатанное не то в „Дне“, не то в „Речи“ дня за два до первого представления письмо кающегося студента: „Исповедь актёра-футуриста“».
Эта «Исповедь» была напечатана в газете «День» 30 ноября. В ней безымянный студент, назвавший себя «актёром», сообщал:
«… футуристы платят 2 руб. с репетиции, 5 руб. за спектакль».
Тем временем газеты стали впрямую называть футуристов (а Маяковского – в первую очередь) «безумцами», уже давно «сошедшими с ума». Студент, участвовавший в репетициях, утверждал, что текст трагедии переполнен непонятными словами, в которые их автор вкладывает свой особенный смысл. Газеты тут же привели высказывание Чезаре Ломброзо об одном помешанном, известным всей Италии…
«… прямым доказательством сумасшествия которого служат целые страницы горделивого бреда и самовозвеличения. Уже одна внешняя форма их, особенно слога, изобретение новых слов или же употребление их в особом смысле и прочее – всё это может служить доказательством его психического расстройства».
«Союз молодёжи» заволновался. И принял решение: устроить проверку умственных способностей драматурга. Маяковскому сказали, что надо сходить к психиатру.
– Когда? – удивился Маяковский.
Дальнейшие события описал Василий Каменский:
«– Как раз именно сегодня, – отвечал я, – мы приглашены в один культурный дом.
– Кто же там хозяин?
– Один известный профессор, психиатр…
– Кто? Кто?.. Да почему к психиатру? – недоумевал Володя. – Кто он такой?
– Дело не в психиатре, а в двух его дочках. Это Татьяна и Ольга, ты – Ленский, я – Онегин, Бурлюк – месье Трике…
Среди гостей было много студентов. И, наконец, «сам» – тихий, с голубыми глазами, профессор психиатрии, очень внимательный хозяин. Маяковский поговорил с ним о театре.
– Мы готовим к постановке в Петербурге футуристическую оперу «Победа над Солнцем», а также трагедию «Владимир Маяковский»».
Потом Маяковский прочёл несколько монологов из своей трагедии. Об этом – Каменский:
«Мастерское исполнение Маяковского покорило всех. Сам психиатр пожал ему руку.
– Не особенно нормально, но зато очень убедительно. Вы все трое – здоровенные люди и ничуть не сумасшедшие, как вас называют газеты».
Газеты тут же процитировали ещё один фрагмент из книги Чезаре Ломброзо:
«Сумасшедшие всегда трудятся над какими-нибудь утомительными, иссушающими мозг пустяками. Большинство из них состоит из поэтов или, скорее, рифмовальщиков, преобладающим свойством произведений которых служит оригинальность, нередко доходящая до абсурда, вследствие разнузданности воображения, не сдерживаемого более ни логикой, ни здравым смыслом, как это всегда бывает с ненормальными или неразвитыми умами».
Тем временем день премьеры стремительно приближался. Все продолжали ждать от представления чего-то очень скандального.
Александр Мгебров:
«Л скандал не мог не разыграться: билеты брались нарасхват, и люди, покупавшие их, по крайней мере, многие, заранее шли на скандал и для скандала. Но, так или иначе, футуристам несли деньги, их поддерживали. «Зачем же поддерживать тех, кто достоин лишь осмеяния? – Увы, таково уже время», – с грустью думалось мне».
Левкий Иванович Жевержеев, председатель общества «Союз молодёжи», организовавшего спектакли футуристов, впоследствии вспоминал, что на генеральную репетицию трагедии «Владимир Маяковский»…
«… помимо цензора и местного полицейского пристава, пожаловал сам полицмейстер (их всего на Петербург полагалось четыре). В перерывах между актами и по окончании репетиции он приставал ко мне с вопросами:
– Ну, ради бога, скажите по совести, действительно всё это лишь футуристическое озорство и ерунда? Я, честное слово, ничего не понимаю. А нет ли за этим чего-нибудь такого?.. Понимаете?.. Нет? Ну… крамольного? Придраться, собственно, не к чему, сознаюсь, но… чувствую, что что-то не так».
В царское время Левкий Жевержеев был успешным предпринимателем, владел магазином золотой и серебряной утвари, а также парчовой фабрикой, одевавшей Императорский двор и представителей церкви. В 1911 году в своем доме на Графском, 5, он открыл Троицкий театр. Здесь же состоялось первое заседание будущего общества «Союз молодёжи», председателем правления которого стал Жевержеев, давший путевку в жизнь «Первому в мире футуристическому театру».
Но вот, наконец, все подготовительные работы подошли к концу, и пьеса (как о том сказано в автобиографических заметках «Я сам»):
«Поставлена в Петербурге. Луна-Парк».
Первое представление
2 декабря 1913 года в петербургском театре «Луна-парк» состоялась премьера трагедии Маяковского. Повсюду напоминали, что автор является также режиссером и исполнителем главной роли. Газеты не преминули отметить:
«У подъезда театра и в вестибюле – полиция: городовые, околоточные надзиратели, пристав и даже помощник полицеймейстера полковник Галле. В Театре на Троицкой – ожидание скандала».
Софья Шамардина:
«Спектакля в Петербурге ждали. На спектакле было много друзей и врагов. Театр был полон. Были театральные люди».
Бенедикт Лившиц:
«… в ложах, в проходах, за кулисами набилось множество народа. Литераторы, художники, актёры, журналисты, адвокаты, члены Государственной думы – все постарались попасть на премьеру. Помню сосредоточенное лицо Блока, неотрывно смотревшего на сцену..».
Присутствовал и режиссер императорских театров Всеволод Мейерхольд.
Корней Чуковский:
«Театр был набит до последней возможности. Ждали колоссального скандала, пришли ужасаться, негодовать, потрясать кулаками, свистеть…».
Александр Мгебров тоже пришёл. И сразу обратил внимание на тех, кому предстояло играть спектакль:
«Участвующие… – это молодёжь, ничего общего с театром не имеющая. Настроение подавленное. Все немного сконфужены: сами не знают, что делают…
– Зачем вы здесь?
Ответ:
– Зачем? Жить надо.
На задней стене сцены и на грандиозной железной двери большими буквами надпись: «Фу-дуристы»… Это написали рабочие сцены. Футуристы не стёрли её. Не всё ли равно им, в конце концов? Но где же они? Вот Владимир Владимирович Маяковский, в пальто и мягкой шляпе. Величественный и самоуверенный и, как всегда, красивый. Однако я замечаю, что на этот раз Маяковский волнуется».
Софья Шамардина:
«Помню, как звучало каждое слово его, как двигался он. Скандала не было, и многие были разочарованы».
Александр Мгебров:
«Публика пробовала смеяться, но смех оборвался. Почему? Да потому, что это вовсе не было смешно, – это было жутко. <…> И когда с первого мгновения замолк смех – сразу почувствовалась насторожённость зрительного зала, и насторожённость неприятная. Ему ещё хотелось смеяться – ведь для этого все пришли сюда. И зал ждал, зал жадно глядел на сцену…
Вышел Маяковский. Он взошёл на трибуну без грима в своем собственном костюме…
Маяковский был в своей собственной жёлтой кофте; Маяковский ходил и курил, как ходят и курят все люди. А вокруг двигались куклы, и в их причудливых движениях, в их странных словах было много и непонятного и жуткого оттого, что и вся жизнь непонятна, и в ней – много жути».
К этому Корней Чуковский добавил, что зрители…
«… услышали тоскующий, лирический голос, жалующийся со страстной искренностью на жестокость и бессмыслицу окружающей жизни».
О чем же была первая пьеса Маяковского?
Действие первое
В специально отпечатанной програмке говорилось, что пьеса состоит из пролога, двух действий и эпилога. Также сообщалось, что в трагедии «действуют» Владимир Маяковский («поэт 20–25 лет»), его молчаливая знакомая («не разговаривает»), а также: «Старик с чёрными сухими кошками (несколько тысяч лет)», «Человек без глаза и ноги», «Человек без уха», «Человек без головы», «Человек с растянутым лицом», «Человек с двумя поцелуями», «Обыкновенный молодой человек» и ещё несколько персонажей. Одним словом, это были не люди, а так, людишки. А среди них – поэт, который в прологе обращался к зрителям со словами о том, что они вряд ли поймут его, внешне спокойного и насмешливого человека:
«Вам ли понять,
почему я,
спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду идущих лет.
С небритой щеки площадей
стекая ненужной слезою,
я,
быть может,
последний поэт».
Маяковский заявлял, что готов на блюдечке предоставить свою душу грядущим годам, оплакивая при этом настоящее «ненужной слезою».
Сразу возникает вопрос: почему молодой поэт, начавший свой творческий путь с мрачного стихотворения «Утро», первое крупное произведение назвал трагедией? Ответ может быть только один – это результат его душевных переживаний, вспыхнувших в связи с кончиной отца. Семь лет прошло уже с тех пор, но боль сына не утихла. Поэту кажется, что вместе с ним даже «небо плачет безудержно, звонко». И он заявляет об этом зрителям.
А о «небритости» (своей и своего собеседника) Маяковский скажет художнику Владимиру Осиповичу Роскину накануне собственной кончины. Но это случится через 17 лет. А пока двадцатилетний поэт (он же – главный герой трагедии) обращался в её прологе к зрителям, укоряя их и прочих людей, что они покорно, безропотно воспринимают всё то, что проделывает с ними злодейка-судьба: «в ваших душах выцелован раб».
Так как солнце способно гаснуть, обрекая людей на пребывание в кромешной тьме, Маяковский объявлял себя единственным «бесстрашным» человеком, провозгласившим «ненависть к дневным лучам», то есть ненависть к солнцу. Ополчившись на дневное светило, поэт объявил себя повелителем рукотворного света: «Я – царь ламп!» («с душой натянутой, как нервы провода»). И этот «царь» обещал «словами простыми, как мычание» дать всем людям «новые души», подарить им губы «для огромных поцелуев» и язык, «родной всем народам». Но при этом он предупреждал, что над облагодетельствованными им людьми всё равно будет зиять небо «с дырами звёзд по истёртым сводам». Да и сам он обречён, о чём говорит в самом конце пролога: «обнимет мне шею колесо паровоза».
Вот такие слова пролога предстояло произнести со сцены главному герою трагедии. Но могли ли зрители, услышав их, разобраться в том, что им предстояло увидеть? Вряд ли. Футуристический текст поражал своей элегантной отделкой, но смысл самой трагедии был затемнён до чрезвычайности.
Любопытный факт! Заявляя о своём намерении лечь головой под колёса паровоза, Маяковский словно предугадывал судьбу героя романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», в котором голову у Берлиоза отрезало колесо трамвая.
Но вернёмся к трагедии «Владимир Маяковский». Объявив в прологе об обречённости людей и каждого отдельно взятого человека, Маяковский покидал просцениум, и занавес открывался.
Что должны были увидеть зрители на сцене?
В авторской ремарке сказано:
«Весело. Сцена – город в паутине улиц. Праздник нищих. Один В.Маяковский».
О чём же готовился заявить стоявший уже на сцене поэт?
Он говорил о своей «порванной душе»:
«Милостивые государи!
Заштопайте мне душу…»
Затем неожиданно предлагал:
«Милостивые государи,
хотите —
сейчас перед вами будет танцевать
замечательный поэт?»
И Маяковский начинал танцевать, приговаривая:
«Разбейте днища у бочек злости,
ведь я горящий булыжник дум ем.
Сегодня в вашем кричащем тосте
я обвенчаюсь моим безумием».
Вот оно – неожиданное признание в собственном сумасшествии!
Но Маяковского никто не слышал. Зато появлялся тысячелетний (так было напечатано в програмке) Старик с чёрными сухими кошками и говорил ему:
«… в тебе на кресте из смеха
распят замученный крик».
А в это время, продолжал Старик, против людей подняли бунт вещи, а «обезумевший бог» кричит «о жестокой расплате» и карает всех без всякой жалости. И Старик предлагал всем гладить «чёрных и сухих кошек», тем самым производя электричество и делая совершенно ненужными небесные светила:
«Мы солнца приколем любимым на платье,
из звёзд накуём серебрящихся брошек.
Бросьте квартиры!
Идите и гладьте —
гладьте сухих и чёрных кошек!»
Начавшуюся после этого высказывания дискуссию Маяковский тут же останавливал, заявляя:
«Злобой не мажьте сердец концы!
Вас,
детей моих,
буду учить непреклонно и строго.
Все вы, люди, лишь бубенцы на колпаке у бога…
А сегодня
на жёлтый костёр…
я возведу и стыд сестёр
и морщины седых матерей!»
Маяковский срывал покрывало, открывая изваяние громадной женщины. Поэт, объявивший в своих стихах, что он любит смотреть, как умирают дети, теперь вознамерился предать огню матерей и сестёр.
Но тут на сцену выбегал Обыкновенный молодой человек и спрашивал:
«… это здесь хотят сжечь матерей?
Господа!
Мозг людей остёр,
но перед тайнами мира ник;
а ведь вы зажигаете костёр
из сокровищ знаний и книг!»
В 1913 году сжигание книг казалось диким средневековьем, немыслимым в XX веке. Но ведь костры из книг очень скоро заполыхали – сначала в Москве, а затем в Берлине. Маяковский как бы вновь предсказывал людям их недалёкое будущее.
Тем временем Обыкновенный молодой человек становился на колени и просил:
«Милые!
Не лейте кровь!
Дорогие, не надо костра!»
Но тут появлялся Человек без глаза и ноги и начинал кричать:
«… сейчас родила старуха-время
огромный
криворотный мятеж!..
Что же,
вы,
кричащие, что я калека?! —
старые,
жирные,
обрюзгшие враги!
Сегодня
в целом мире не найдёте человека,
у которого
две
одинаковые
ноги!»
Этими словами первое действие завершалось, и занавес закрывался.
Мнение публики
Что могли сказать об увиденном и услышанном зрители? Конечное же, очень и очень многое было им совершенно непонятно.
Выражать свои мысли не просто, а замысловато, с вывертом, чтобы разобраться в них можно было только изрядно поломав голову, Маяковского научил Давид Бурлюк, который любил повторять фразу английского поэта и художника Уильяма Блейка:
«То, что может понять каждый дурак, меня не интересует».
И Владимир Маяковский следовал совету своего старшего товарища. Впрочем, читая стихи, можно было что-то поправить выразительной декламацией. Сделать нечто подобное в театральной пьесе гораздо труднее. Да и сама трагедия была слишком декларативной – в ней ничего не происходило, действующие лица лишь обменивались монологами и репликами.
Бенедикт Лившиц:
«Центром драматического спектакля был, конечно, автор пьесы, превративший свою вещь в монодраму… Это был сплошной монолог, искусственно разбитый на отдельные части, еле отличавшиеся друг от друга интонационными оттенками… На сцене двигался, танцевал, декламировал только сам Маяковский, не желавший поступиться ни одним выигрышным жестом, затушевать хотя бы одну ноту в своём роскошном голосе…
Впрочем, именно в этом заключалась «футуристичность» спектакля, стиравшего – пускай бессознательно! – грань между двумя жанрами, между лирикой и драмой… Играя самого себя, вешая на гвоздь гороховое пальто, оправляя на себе полосатую кофту, закуривая папиросу, читая свои стихи, Маяковский перебрасывал незримый мост от одного вида искусства к другому и делал это в единственно мыслимой форме, на глазах у публики, не догадывавшейся ни о чём».
Софья Шамардина:
«В антракте после первого акта – стою в группе театральщиков. Сейчас никого из них вспомнить не могу, кроме Шора (или Шера?), известного тогда балетмейстера, не то танцовщика. Он взволнованно говорит о танце поэта в 1-ом акте: «Ведь этого человека никто не учил, ведь это он сам сделал, – удивительно! Хорошо!»
А танец, правда, был сделан очень хорошо. Очень скупо, несколько движений, не беспорядочных, а собранных, очень выразительных. И ещё – слышу – говорят об этом спектакле и о трагедии «Владимир Маяковский» как о значительном явлении, – и я счастлива».
Шор, которого упомянула Софья Шамардина, скорее всего, был пианистом, музыкально-общественным деятелем Давидом Соломоновичем Шором, который незадолго до этого вместе с писателем Иваном Буниным побывал в святой земле (Палестине). Мы с ним ещё встретимся – уже в годы советской власти он вновь окажется на жизненном пути Маяковского.
Но вернёмся в Троицкий театр, где начинался второй акт трагедии, и где на сцене вновь разворачивалась необычайная фантасмагория.
Александр Мгебров:
«Ничего нельзя было понять…
Футуристическая труппа – это молодёжь, только лепечущая. Разумеется, они плохо играли, плохо и непонятно произносили слова, но всё же у них было, мне кажется, что-то от всей души».
Бенедикт Лившиц:
«… единственным подлинно действующим лицом следовало признать самого Маяковского. Остальные персонажи – старик с кошками, человек без глаза и ноги, человек без уха, человек с двумя поцелуями – были вполне картонны: не потому, что укрывались за картонажными аксессуарами и казались существами двух измерений, а потому что, по замыслу автора, являлись только обличёнными в зрительные образы интонациями его собственного голоса».
Действие второе
Если в авторской ремарке представление того, с чего начиналось первое действие трагедии, начиналось со слова «весело», то начало второго действия представлялось так:
«Скучно. Площадь в новом городе. В.Маяковский переоделся в тогу. Лавровый венок».
Второй акт был короче первого. Сразу становилось понятно, что Маяковский своё обещание сдержал и дал людям «новые души», и у каждого выросли «губы для огромных поцелуев». И что же? Эти «огромные поцелуи» породили великое множество поцелуев и поцелуйчиков, а вместе с ними – море слёз, слезинок и слезигц. Появлявшиеся Женщины с узлами, «много кланяясь», предлагали одетому в тогу Маяковскому эти слёзки. Но тот не знал, что с ними делать.
Появлявшийся Человек с двумя поцелуями исполнял «танец с дырявыми мячами» и произносил монолог о некчёмности «губ для огромных поцелуев», так как в результате…
«… в будуарах женщины
– фабрики без дыма и труб —
миллионами выделывали поцелуи…»
А тут ещё вбегали дети-поцелуи со своими слезами, и Маяковский восклицал:
«Господа!
Послушайте, —
я не могу!»
Собрав все слёзы в чемодан, он говорил собравшимся вокруг него людям:
«Я добреду —
усталый,
в последнем бреду,
брошу вашу слезу
тёмному богу грёз…»
На этом занавес закрывался. Второй акт трагедии заканчивался.
Могут возникнуть вопросы. Ведь по ходу двух действий никто не погибал, все герои оставались живы, почему же пьеса названа трагедией? В чём её трагедийность?
Исходя их того, что мы уже знаем о Маяковском, на эти вопросы можно ответить так. Трагедия произошла у автора в 1906 году. С тех пор – на протяжении семи лет – он продолжал пребывать в угнетённо-трагическом состоянии, будучи чрезвычайно напуган тем, что человек смертен.
Через двадцать лет Михаил Булгаков устами Воланда уточнит:
«Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!»
В этой внезапности и в полной невозможности хоть как-то уберечься от неумолимости судьбы Маяковский и видел колоссальную трагедию человечества. Желая поделиться со своими согражданами накатившимися на него страшными предчувствиями, он и написал пьесу.
В завершавшем её эпилоге поэт вновь появлялся перед занавесом и довольно оскорбительно обращался к зрителям: «Я всё это писал о вас, бедных крысах». А затем вдруг вновь признавался в своей ненормальности:
«Я – блаженненький.
Но зато
кто
где бы
мыслям дал
такой нечеловечий простор!
Это я
попал пальцем в небо,
доказал,
он – вор!»
Поэт утверждал, что это Всевышний крадёт людские души и жизни!
После такого чрезвычайно отважного заявления неожиданно следовали две фразы, которые и в самом деле давали право заподозрить автора пьесы в «блаженности»:
«Иногда мне кажется —
я петух голландский
или я
король псковский.
А иногда
мне больше всего нравится
моя собственная фамилия,
Владимир Маяковский».
Всё. На этом трагедия «Владимир Маяковский» завершалась окончательно.
Мнение петербуржцев
Считается (а среди этих «считавших» был и сам автор пьесы), что представление завершилось оглушительным провалом. Бенедикт Лившиц:
«Ждали скандала, пытались даже искусственно вызвать его, но ничего не вышло: оскорбительные выкрики, раздававшиеся в разных концах зала, повисали в воздухе без ответа».
Александр Мгебров:
«После первого спектакля я почувствовал, что футуристы провалились. Они не выдержали экзамена перед современным зрителем. Зритель ушёл разочарованный. Были слабые аплодисменты и слабое шиканье. Публика вызывала автора, но больше для смеха. Пожалуй, хуже всего, что скандала большого не было, да и смеха особенного. Просто было что-то, не совсем то, что ожидала праздная толпа…
После конца спектакля, улыбаясь протестующей публике, пристав снисходительно, как добрая нянька, разгонял толпу, а толпа всё стояла недовольная и чего-то ждала. Потом она разошлась. Вот и всё».
Маяковский об этой пьесе (в «Я сам»):
«Просвистели её до дырок».
Бенедикт Лившиц с ним не согласился:
«Это – преувеличение, подсказанное, быть может, не столько скромностью, сколько изменившейся точкой зрения самого Маяковского на сущность и внешние признаки успеха: по тому времени приём, встреченный у публики первой футуристической пьесой, не давал никаких оснований говорить о провале».
Вот некоторые отклики прессы. «Петербургская газета» задавалась вопросом:
«Кто сумасшедший? Футуристы или публика?»
И сообщала, что говорили зрители о футуристах:
«– Это сумасшедшие!
– Господин Маяковский бездарен в самом умном и заумном смысле слова».
«Петербургский листок»:
«Текст пьесы – это бред больных белой горячкой людей!.. Такого публичного осквернения театра мы не помним».
«Театральная жизнь»:
«…стыд обществу, которое реагирует смехом на издевательство и которое позволяет себя оплёвывать!»
В газетах приводились и возгласы, раздававшиеся после спектакля:
«– Господин Маяковский, довольно морочить публику!»
«– Вам место в палате № 6!»
«– Долой футуристов!»
«– На одиннадцатую версту!».
А рецензия газеты «Русское слово» была снисходительно-доброжелательной:
«Автор, несомненно, талантлив… прекрасно то, что он пробует говорить в поэзии от лица апаша, стоящего на грани отчаяния и сумасшествия, но, к сожалению, это – единственная струна, на которой он умеет играть и играет хорошо, а потому обычно присутствие скуки».
Вернувшийся со спектакля в гостиницу «Пале-Рояль» Корней Чуковский записал в дневнике:
«Большинство было разочаровано, но кое-кому в этот день стало ясно, что в России появился могучий поэт с огромной лирической силой».
Бенедикт Лившиц:
«Спектакли на Офицерской подняли на небывалую высоту интерес широкой публики к футуризму. О футуризме заговорили все, в том числе и те, кому не было никогда дела ни до литературы, ни до театра…
Связав судьбу своей "трагедии "с собственной фамилией, Маяковский бил наверняка: его популярность после спектаклей в Луна-парке возросла чрезвычайно. Одевайся он тогда, как все порядочные люди, в витринах модных магазинов, быть может, появились бы воротники и галстуки "Маяковский "…
Маяковскому не хотелось уезжать в Москву: он как будто не мог всласть надышаться окружавшим его в Петербурге воздухом».
Вердикт «генералитета»
Одна из столичных газет, как бы подводя итог вспыхнувшей полемики, привела ещё одно высказывание Чезаре Ломброзо:
«… настоящие помешанные отличаются иногда таким выдающимся умом и часто такой необыкновенной энергией, которая невольно заставляет приравнивать их, по крайней мере на время, к гениальным личностям, а в простом народе вызывает сначала изумление, а потом благоговение перед ними».
Прочитав эти слова своим товарищам, Давид Бурлюк сказал, что теперь им остаётся только проверить на практике отношение к футуризму простого народа.
В начале второй декады декабря 1913 года гастролёры вернулись в Москву и сразу узнали, что педагогический совет Училища живописи, ваяния и зодчества категорически запретил воспитанникам публичные выступления.
Газета «Утро России» сообщила, что будущим художникам даже предложили провести сходку и обсудить на ней…
«… как оградить доброе имя училища от выступлений его воспитанников Маяковского и Бурлюка».
В «Я сам» об этом сказано так:
«Генералитет искусства ощерился. Князь Львов. Директор училища. Предложил прекратить критику и агитацию».
Князь Алексей Евгеньевич Львов был по профессии юристом, Училище возглавлял с 1896 года. Его предложение «прекратить критику и агитацию» было изложено вполне корректно и демократично. В «Хронике жизни и деятельности Маяковского» сказано:
«Сообщения об этом постановлении совета были напечатаны во многих столичных и провинциальных газетах под заголовками: «Борьба с футуризмом», «Мальчиков секут» и т. д.»».
Чем ответили футуристы?
«Ватага» Давида Бурлюка тут же написала очередной манифест, который был назван весьма решительно: «Идите к чёрту!». В нём, в частности, говорилось:
«Появление Новых поэзии подействовало на ещё ползающих старичков русской литературочки, как мраморный Пушкин, танцующий танго.
Коммерческие старики тупо угадали раньше одурачиваемой ими публики ценность нового и «по привычке» посмотрели на нас карманом.
К.Чуковский (тоже не дурак!) развозил по всем ярмарочным городам ходкий товар: имена Кручёных, Бурлюков, Хлебникова…
Василий Брюсов привычно жевал страницами «Русской мысли» поэзию Маяковского и Лившица.
Брось, Вася, это тебе не пробка!..»
Текст манифеста переполняли неджентельменские выражения. Даже поэт Валерий Брюсов был назван «Василием» и «Васей», и ему было рекомендовано не путать поэзию с пробкой.
Бенедикт Лившиц, потом писал:
«Действительно, ни одна из наших деклараций ещё не вызывала в литературной среде такого возмущения, как этот плод нашего совместного творчества. Каждое слово в нём как будто было рассчитано на то, чтобы кого-нибудь оскорбить.
Василий – не опечатка, а озорство: поэт любил своё имя, вводил его в стихи, злоупотреблял его благозвучием…
Пробка – тоже неспроста; это – намёк на принадлежащий Валерию Яковлевичу, а может быть, и никогда не существовавший пробковый завод».
Завершался манифест так:
«Сегодня мы выплёвываем навязшее на наших зубах прошлое, заявляя:
1) Все футуристы объединены только нашей группой.
2) Мы отбросили наши случайные клички «эго» и «кубо» и объединились в единую литературную компанию футуристов:
Давид Бурлюк, Алексей Кручёных, Бенедикт Лившиц, Владимир Маяковский, Игорь Северянин, Виктор Хлебников».
Манифест предназначался для сборника «Рыкающий Парнас», который должен был выйти в начале следующего года.
Кроме шести футуристов, подписавших манифест, был ещё и седьмой, чьей фамилии под ним не было. Об этом – Бенедикт Лившиц:
«Николай Бурлюк отказался присоединить свою подпись, резонно заявив, что нельзя даже метафорически посылать к чёрту людей, которым через час будешь пожимать руку».
Впрочем, рвавшимся к всеобщему признанию футуристам было уже не до этих мелочей – они энергично готовили свою агитационную поездку по городам России, чтобы узнать как к их авангардистским выходкам относится простой народ.
Глава шестая Лекционный вояж
Начало турне
В конце 1913 года обстоятельства сложились так, что Софье Шамардиной пришлось покинуть Петербург и уехать в свой родной Минск «с ворохом футуристических книг». Потом она писала:
«Когда я уезжала в Минск, провожали меня Северянин с голубыми розами и Маяковский с фиалками. Маяковский острил по этому поводу и, шутя, говорил: „Тебя провожают два величайших поэта современности“. А у Северянина было трагическое лицо».
Через какое-то время в Минск полетели телеграммы и письма Игоря Северянина, который сообщал, что организуется турне футуристов, и приглашал Софью принять в нём участие.
Поездку организовывал некий «меценат», крымский предприниматель Владимир Иванович Сидоров, писавший стихи под псевдонимом Вадим Баян.
Софья Шамардина вернулась в Петербург и отправилась в эту поездку. На выступлениях футуристов она читала их стихи.
Игорь Северянин начал всерьёз ухаживать за Софьей. Однако безуспешно. Из-за этого он страшно переживал. Шамардина потом писала, что после поэтических концертов-вечеров в её гостиничный номер…
«Иногда приходил по своей инициативе „меценат“:
– Ну, хоть пообедаем вместе. Смотрите, что с Игорем Васильевичем. Ведь сорвётся концерт.
Вот ведь злая девчонка какая была! Когда Игорь приходил ко мне в номер, я открывала окно – он очень боялся за своё горло и долго не выдерживал. Ужасно меня тошнило от страданий Северянина.
Кажется, скоро вслед за Северяниным отправился в поездку и Маяковский. Помню тревожное настроение по этому поводу Игоря. А мне хотелось, чтоб Маяковский нас догнал».
Маяковский в это время находился в Москве. Корней Чуковский писал:
«Мало кому известно, что Маяковский в те годы чрезвычайно нуждался. Это была весёлая нужда, переносимая с гордой осанкой миллионера и „фата“. В его комнате единственной, так сказать, мебелью был гвоздь, на котором висела его жёлтая кофта и тут же приютился цилиндр. Не было даже стола, в котором, впрочем, он в ту пору не чувствовал необходимости. Обедал он едва ли ежедневно. Ему нужны были деньги, ему нужен был издатель всех его тогдашних стихов, накопившихся за три года».
Но такого издателя, который мог бы улучшить материальное положение поэта, всё не находилось. Издание стихов проходило с величайшим скрипом. Зато наступил час лекционного вояжа.
Василий Каменский:
«В 1913 году мы, три главаря нового движения, предварительно выпустив ряд своих книг, поехали (Д.Бурлюк, В.Маяковский и В.Каменский) в турне по городам России, революционизируя умы и сердца молодёжи, читая доклады и стихи».
Маршрут поездки был намечен такой: Харьков-Симферополь-Керчь-Одесса-Кишинёв-Николаев-Киев-Минск-Москва-Казань-Пенза-Ростов-Саратов-Тифлис-Баку-Калуга– Москва.
13 декабря «три главаря» отправились в путь. Им предстояло прочесть доклады, которые объяснили бы периферийной публике, что же это такое – футуризм.
Российская провинция встречала столичных гастролёров с изумлением – как заезжий цирк с экзотическими зверями и фокусниками. И это понятно – ведь новое авангардистское движение в тихой периферии воспринималось как нечто абсолютно непонятное и совершенно бессмысленное.
Масла в огонь подливал и внешний вид глашатаев нового. Вот как появление десанта поэтов-футуристов описала одна из харьковских газет:
«Вчера на Сумской улице опять творилось нечто сверхъестественное! Громадная толпа запрудила улицу. Что случилось? Пожар? Нет. Это среди гуляющей публики появились знаменитые вожди футуризма – Бурлюк, Каменский, Маяковский. Все трое – в цилиндрах, из-под пальто видны жёлтые кофты, в петлицы воткнуты пучки редиски. Их далеко заметно: они на голову выше толпы и разгуливают важно, серьёзно, несмотря на весёлое настроение окружающих».
Лица приехавших знаменитостей были разрисованы изображениями самолетов, собак и замысловатых каббалистических знаков. Футуристы выглядели так, словно каждому из них (в полном соответствии со стихами Маяковского) кто-то выплеснул в лицо краску из стакана. Их цилиндры шокировали публику, так как сочетались с одеждой совсем иного стиля.
Заинтригованные харьковчане и во время вечернего выступления вправе были ожидать самого невероятного. Поэтому зал был переполнен.
Появившись на сцене, задорная троица села за столик и принялась пить чай. Публика весело зашумела, вызвав ответные весёлые реплики поэтов.
Потом начались доклады.
То, что прочёл Маяковский, называлось «Достижениями футуризма» (речь шла о поэзии), Бурлюк говорил о «Кубизме и футуризме» (о современной живописи), а лекция Каменского именовалась: «Аэропланы и поэзия футуризма» (здесь речь шла о влиянии технических изобретений на современную поэзию). Кроме этого читались стихи, а также демонстрировались диапозитивы, на которых были запечатлены живописные работы Бурлюка и Маяковского, а также произведения Пикассо и зарубежных кубистов.
Рецензент харьковской газеты, с явным сожалением отмечавший, что ожидавшегося скандала не произошло, всё же обратил внимание на отдельные моменты выступления заезжих гастролёров:
«… верзила Маяковский в жёлтой кофте размахивал кулаками, зычным голосом «гения» убеждал малолетнюю аудиторию, что он подстрижёт под гребенку весь мир, и в доказательство читал свою поэзию: «парикмахер, причешите мне уши». Очевидно, длинные уши ему мешают.
Другой, «поэт-авиатор» Василий Каменский, с аэропланом на лбу, кончив своё «пророчество о будущем», заявил, что готов «танцевать танго с коровами», лишь бы вызвать «бычачью ревность». Для чего это нужно, курчавый «гений» не объяснил, хотя и обозвал доверчивых слушателей «комолыми мещанами, утюгами и вообще скотопромышленниками»».
На этом первая атака на провинцию завершилась, и 18 декабря футуристы вернулись в Москву.
Поэт и писатель Алексей Николаевич Толстой через пять лет (уже находясь в Париже) написал о компании Бурлюка:
«Они появились в России года за два до войны как зловещие вестники нависающей катастрофы. Они ходили по улицам в полосатых кофтах и с разрисованными лицами; веселились, когда обыватели приходили в ужас от их стишков, написанных одними звуками (слова, а тем более смысл, они отрицали), от их «беспредметных» картин, изображавших пятна, буквы, крючки, с вклеенными кусками обоев и газет. Одно время они помещали в полотна деревянные ложки, подошвы, трубки и пр.
Это были прожорливые молодые люди с великолепными желудками и крепкими челюстями».
Вояж продолжается
В это время Владимир Сидоров (он же поэт Вадим Баян) организовывал выступления лидеров поэтического авангарда в Крыму. Игорь Северянин писал ему в Симферополь:
«Я на днях познакомился с поэтом Владимиром Владимировичем Маяковским, и он – гений. Если он выступит на наших вечерах, это будет нечто грандиозное. Предлагаю включить его в нашу группу».
Сидоров не возражал, и 26 декабря Маяковский (вместе с Северяниным) отправился в Крым.
Софьи Шамардиной на этот раз с ними не было – она срочно уехала в Петербург, так как была беременна. От Маяковского. Но держала это в тайне от него и ото всех прочих. Впрочем, приехав в Петербург, раскрыла свою тайну Корнею Чуковскому. И годы спустя написала:
«Старания Корнея Ивановича возымели своё влияние на сугубо личные мои отношения с Маяковским. Не хочется об этом вспоминать…».
Как бы там ни было, но Чуковский взял с неё слово, что она «больше встречаться с Маяковским не будет», наговорив ей «всяких ужасов о нём». И Шамардина обратилась к врачам, которые избавили её от неожиданного «положения».
Сам Маяковский ничего об этом не знал. Вместе с Игорем Северяниным он ехал в Крым. В своём спутнике очень скоро разочаровался, впоследствии написав:
«… когда мы доехали с ним до Харькова, то я тут только понял, что Игорь Северянин глуп».
31 декабря в симферопольском театре Таврического дворянства Владимир Маяковский, Игорь Северянин и Вадим Баян встречали Новый 1914-ый год.
1 января в Москву полетело письмо:
«Дорогие мамочка, Людочка и Оличка!
С Новым годом и с праздниками!
Как живёте? Я здоров и весел, разъезжаю по Крыму, поплёвываю в Чёрное море и почитываю стишки и лекции. Через неделю или через две буду в Москве. Сегодня я в Симферополе, отсюда в Севастополь и дальше, пока не доеду до вас и тогда поцелую всех крепко. Я ваш сын, брат и проч. и проч.
Володя.
1/1-14 г., Симферополь».
Заодно была отправлена телеграмма в Херсон Давиду Бурлюку:
«Дорогой Давид Давидович. Седьмого вечер. Выезжайте обязательно Симферополь, Долгоруковская семнадцать, Сидоров. Перевожу пятьдесят. Устроим турне. Телеграфируйте.
Маяковский».
И Бурлюк поспешил в Крым.
7 января в том же симферопольском театре Таврического дворянства состоялась «Первая олимпиада футуризма», на которой Маяковский сделал доклад «Достижения футуризма». Об этом мероприятии Владимир Сидоров (Вадим Баян) вспоминал:
«… занавес поднялся. Зал замер. На сцену, точно командир к войскам, бодро вышел Маяковский. Хлыст в правой руке вызвал движение в зале. На левой стороне хмыкнула какая-то ложа, но Маяковский повернул в её сторону жерновами глаз, – и смех потух. В зале наступила абсолютная почтительная тишина…
– Милостивые государыни и милостивые государи! – загремел он. – В каждом городе, куда бы ни приехали футуристы, из-под груды газетной мануфактуры выползает чёрная критика, утверждающая, что за раскрашенными лицами у футуристов нет ничего, кроме дерзости и нахальства, и что во всех скандалах российских литературных кабаков виноваты только футуристы. Это неверно. В лице футуристов вы имеете носителей протеста против шаблона, творцов нового искусства и революционного духа. Как недоваренное мясо, застряла в зубах нудная поэзия прошлого, а мы даём стихи острые и нужные как зубочистки.
Наши выступления после его речи и чтение стихов были бледными и легковесными».
9 января Давид Бурлюк, Владимир Маяковский, Игорь Северянин и Вадим Баян выступали в Севастополе. Местная газета «Свободное слово» поведала читателям:
«Маяковский читал лекцию о футуризме… Этот поэт безусловно даровитей остальных своих сотоварищей по ремеслу… Севастополь принёс им в дар битковый сбор».
13 января – выступление в Зимнем театре Керчи. Газета «Керченский курьер» отреагировала так:
«Марксист в… жёлтой кофте… Всё его „учение“ зиждется на материалистическом понимании истории… Футуризм – продукт современного капиталистического города, отражающий его темп, биение его пульса, его ритм. Футуристы – это провозвестники новой красоты, пришедшей на смену старой красоте. Новая красота – это новые формы речи, новые звуки и словообразования».
Другая керченская газета – «Южная почта»:
«В Керчи футуристам решительно не повезло. Послушать их доклады и их стихи собралась третьего дня весьма немногочисленная публика».
А «Петербургская газета» 18 января и вовсе сообщила:
«Получена телеграмма из Керчи, что гастроль петербургских футуристов закончилась грандиозным скандалом, так как публика страшно возмутилась невероятной чепухой, которою угощали её футуристы. Скандал особенно усилился, когда Маяковский назвал выдающихся критиков бараньими головами».
В Крыму от футуристической «ватаги» отпал Северянин. Оставшаяся троица (Бурлюк, Каменский и Маяковский) отправилась в Одессу, где 16 января выступила в Русском театре. Газета «Одесские новости» прокомментировала это событие так:
«Исступленного г. Маяковского интересует каждый предмет, понятие, даже слово. Дым, кирпич, фонарь…
Г. Маяковский – очень развязный молодой человек в розовом пиджаке. И опять были фразы, фразёрство, бесконечное, крикливое, вызывающее фразёрство о старых «палаццо», о моли, вьевшейся в голландские гобелены, о покрытом фабричной копотью городе, о юношах, вычерчивающих античные головки… И очень плохо, неумело скрываемое желание вызвать шум, скандал, протесты. Несколько раз повторял г. Маяковский, что он, чувствующий своё превосходство над толпой, будет очень рад, если его освищут. И никто ему не свистал…
Потом все трое читали свои плохие стихотворения, в которых было всё, что угодно, но только никак не новое искусство, потому что все они сделаны очень банально».
На первое выступление футуристов пришла 16-летняя одесситка Мария Александровна Денисова. Маяковский влюбился в неё с первого взгляда. Его приятели тоже не остались равнодушными. Василий Каменский потом написал:
«Вернувшись домой, в гостиницу, мы долго не могли успокоиться от огромного впечатления, которое произвела на нас Мария Александровна. Бурлюк глубокомысленно молчал, наблюдая за Володей, который нервно шагал по комнате, не зная, как быть, что предпринять дальше, куда деться с этой вдруг нахлынувшей любовью».
Мария появилась и на втором выступлении столичных гастролёров, и Маяковский совсем потерял голову. По словам того же Каменского, он…
«… совершенно потерял покой, не спал по ночам и не давал спать нам».
Влюблённый поэт объявил друзьям, что Мария напоминает ему Джиоконду, и он всерьёз думает о том, чтобы прервать турне и остаться в Одессе, если Мария Денисова согласится выйти за него замуж.
На третье выступление поэтической троицы Мария тоже пришла. Состоялось объяснение, после которого прерывать футуристический вояж уже не пришлось, так как девушка твёрдо заявила поэту, что любит другого.
Поражение, которое Маяковский потерпел в Одессе, вызвало в нём взрыв негативных эмоций: как это ему посмели сказать «нет!»?
Здесь вновь уместно привести высказывание Чезаре Ломброзо:
«Гений раздражается всем, и что для обыкновенных людей кажется просто булавочными уколами, то при его чувствительности уже представляется ему ударом кинжала».
Владимир Маяковский знал, чем может завершиться булавочный укол. Поэтому у него и рождались строки, уже приводившиеся нами:
«Кричу кирпичу,
слов исступлённых вонзаю кинжал
в неба распухшую мякоть:
"Солнце!
Отец мой!
Сжалься хоть ты и не мучай! "»
Как бы там ни было, но обрадованные тем, что их компания не распалась, Бурлюк и Каменский вместе с опечаленным Маяковским отбыли в город Кишинёв. Там 21 января состоялось их выступление в зале Благородного собрания. Местный журнал «Первогром» сообщал (в первом номере за 1914 год):
«Владимир Маяковский – яркий, внушительный мастер слова. Аплодисменты гулкие, долгие, яростные проводили его (эти же аплодисменты провожают и врагов футуризма)… Поэзы… Недоумённые улыбки, хохот. Маяковский читает поэзу. Хохот… Уходит. „Просим ещё“. Бросает в публику: "Вечер кончился "…
Вива, футуристы!»
Напомним, что «поэзами» называл свои стихотворения Игорь Северянин.
24 января футуристы прибыли в Николаев, где по традиции объявились перед народом в размалёванном виде. Местная газета «Свет» написала:
«В день «футуристического вечера» все билеты были заранее распроданы. Публика большими массами ходила за футуристами, и немало трудов стоило полицейской власти разогнать толпу…
Во время вечера наряд полиции дежурил в театре, не допуская скандала».
В «Я сам» говорится:
«Ездили Россией. Вечера. Лекции. Губернаторство настораживалось. В Николаеве нам предложили не касаться ни начальства, ни Пушкина. Часто обрывались полицией на полуслове доклада».
А в это время в «ежемесячном иллюстрированном ДЕТСКОМ ЖУРНАЛЕ для семьи и начальной школы», который назывался «Мирок», было напечатано стихотворение «Берёза»:
«Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой…»
Подписаны эти строки были явным псевдонимом – Аристон. Футуристы детских журналов не читали, поэтому «Берёза» прошла мимо их внимания. Но широкая публика встретила её с одобрением.
«Завоевание» киевлян
28 января футуристы прибыли в Киев. В городе мгновенно разнёсся слух о том, что в театре, где должно было пройти их выступление, к потолку над сценой подвешивают рояль.
После завершения футуристического «вечера» одна из местных газет сообщила:
«Вчера состоялось первое выступление знаменитых футуристов: Бурлюка, Каменского, Маяковского. Присутствовали: генерал-губернатор, обер-полицеймейстер, восемь приставов, шестнадцать помощников приставов, двадцать пять околоточных надзирателей, шестьдесят городовых внутри театра и пятьдесят конных возле театра».
Газета «Киевлянин» добавила подробностей:
«Маяковский очень убедительно и толково на языке обыкновенной человеческой речи изложил теорию новой поэзии… Горожанин, для которого музыкальные впечатления слагаются из воя фабричных гудков, дребезжания экипажей, гудения телефонных проволок, шума автомобилей, лязга якорных цепей, вряд ли способен правильно понять и оценить музыку Бетховена и Моцарта».
Другая газета – «Киевская мысль» – высказалась несколько иначе:
«Ничего оригинального на этом вечере в сущности не было: у „футуристов“ лица самых обыкновенных вырожденцев с придавленными головами и мутными взглядами – такие лица можно видеть в суде на неинтересных делах о третьей краже… И клейма на лицах заимствованы у типов уголовных. Речи футуристов так же банальны, как и их внешность».
И, тем не менее, публика на выступления гастролёров валила валом. Бенедикт Лившиц потом писал:
«Футуризм сделался бесспорным „гвоздём“ сезона. Бурлюк, измерявший славу количеством газетных вырезок, мог быть вполне доволен: бюро, в котором он был абонирован, присылало ежедневно ему десятки рецензий, статеек, фельетонов, заметок, пестревших нашими фамилиями. В подавляющем большинстве это были площадная брань, обывательское брюзжание, дешёвое зубоскальство малограмотных строкогонов, нашедших в модной теме неисчерпаемый источник доходов. Мы стали хлебом насущным для окололитературного сброда, паразитировавшего на нашем движении, промышлявшего ходким товаром наших имён».
Бенедикт Лившиц, не выбирая выражений, писал обо всём в грубом, вызывающе задиристом тоне. Поэтому не особенно хочется выяснять, кто для кого явился «хлебом насущным» и «неисчерпаемым источником доходов» — футуристы для «сброда» «зубоскаливших строкогонов» или наоборот.
Вскоре выяснилось, что киевляне с книгой Чезаре Ломброзо тоже хорошо знакомы, и одна из газет поместила высказывание итальянского психиатра о своих пациентах:
«Помешательство у некоторых из них проявляется нелепыми, но в то же время грандиозными идеями и такой несокрушимой верой в них, что невежественная толпа, невольно увлекается ими… Недаром же говорят, что толпа способна поклоняться лишь тому, чего не понимает».
Видимо, не случайно по рукам тогда начало ходить четверостишье, едко подковыривавшее покинувших обе столицы футуристов:
«Они ушли, забрав свои скрижали —
мы им за это свой поклон отвесим.
Как тараканы футуристы побежали
по самым разным городам и весям».
Видимо, эти стишки дошли и до Киева, где на представлении футуристов побывал студент Киевского университета Михаил Булгаков. Он не пропускал ни одного культурного мероприятия, особенно если в нём участвовали москвичи или петербуржцы. Так как Давид Давидович Бурлюк был самым старшим среди гастролёров, о нём говорили как о предводителе авангардистов.
Написав через десять с небольшим лет пьесу «Бег», Булгаков ввёл в неё «необыкновенного вида сооружение, вроде карусели, над которым красуется крупная надпись на французском, английском и русском языках: „Стой! Сенсация! „Тараканьи бега!“ Русская азартная игра с дозволения полиции“».
Хозяином этого заведения являлся некий «одетый во фрак» Артур Артурович, с которым генерал Чарнота обменивался репликами:
«ЧАРНОТА. Смотрю я на тебя и восхищаюсь, Артур!
Вот уж ты и во фраке. Не человек ты, а игра природы – тараканий царь. Ну и везёт тебе! Впрочем, ваша нация вообще везучая!
АРТУР. Если вы опять начнёте проповедовать здесь антисемитизм, я прекращу беседу с вами.
ЧАРНОТА. Да тебе-то что? Ведь ты же венгерец!
АРТУР. Тем не менее.
ЧАРНОТА. Вот я и говорю: везёт вам, венгерцам!»
Этой сценой Булгаков явно намекал на иудейское происхождение Артура Артуровича (явно списанного с Давида Давидовича Бурлюка) и на дозволенные полицией «тараканьи» футуристские забавы.
Кстати, и писатель Алексей Толстой, в своё время насмотревшийся на выходки футуристов, перебегавших с одного мероприятия на другое и всюду устраивавших громкие скандалы, тоже включил «тараканьи бега» в свою повесть «Похождения Невзорова или Ибикус» (она написана чуть раньше «Бега»).
Пока Бурлюк, Каменский и Маяковский гастролировали по городам и весям, в Санкт-Петербурге (в январе 1914 года) вышел альманах «Рыкающий Парнас», открывавшийся манифестом «Идите к чёрту!». Но издание это сразу было арестовано по распоряжению Главного управления по делам печати – из-за «непристойных» (как нашли цензоры) иллюстраций Давида Бурлюка и Павла Филонова. Однако 200 экземпляров альманаха всё-таки успели разойтись по рукам.
Этого, конечно же, было явно недостаточно для достойного ответа целой армии неумолкавших критиков. И тогда (как писал Бенедикт Лившиц)…
«Бурлюку пришла в голову остроумная мысль собрать всё самое гнусное, что писали о нас несчётные будетляноеды, и воспроизвести это без всяких комментариев: „Позорный столп российской критики“ должен был распасться сам в результате взаимного отталкивания составляющих его частей».
Тем временем детский журнал «Мирок» продолжал печатать стихи поэта, прятавшегося под псевдонимом Аристон. В новых номерах появились стихотворения «Пороша», «Поёт зима – аукает» и «С добрым утром!»:
«Задремали звёзды золотые
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона…
У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
"С добрым утром! "»
Эти строки уже не скрывались под псевдонимом – их предваряли имя и фамилия поэта, которые очень скоро станут знать все россияне: Сергей Есенин. Футуристы, начавшие познавать сладость популярности, на эти публикации внимания не обратили.
Цвет «танго»
Намеченное на начало февраля 1914 года выступление футуристов в городе Екатеринославе было запрещено. Но они спокойно отправились в Минск, где 11 февраля выступили в зале Купеческого собрания. Газета «Северо-западная жизнь» написала:
«Первым говорил Маяковский и, слушая его, нельзя отказать ему в талантливости оратора и логической последовательности развития мысли».
Газета «Минский голос»:
«Публика стала смеяться, когда В.Маяковский заявил, что он поэт нового направления и человек очень умный, но он был вправе сказать это, ибо он не только большой умница, но и, несомненно, очень талантливый человек. Его продолжительная речь-лекция, произнесённая с большим подъёмом и чувством, произвела на публику ошарашивающее действие: всё было так ново, так оригинально, так любопытно».
12 февраля футуристы вернулись в Москву, и уже вечером Маяковский принял участие в диспуте «Общество и молодёжь», который проходил в Политехническом музее. Газета «Русское слово» на следующий день написала:
«Г. Маяковский достаёт откуда-то огромный кнут и молча кладёт его перед собой на стол».
В это время в Москву приехал итальянский футурист Филиппе Томмазо Маринетти, и 13 февраля состоялась его встреча с москвичами. Газета «Голос Москвы» высказалась об этом событии так:
«Вчерашнее выступление г. Маринетти в „Обществе свободной эстетики“ не обошлось без инцидента… Г. Маринетти прочитал доклад о футуризме в искусстве вообще и в театре в частности… Желающим возразить было предложено сделать это на французском языке…
Встал Маяковский и громогласно заявил:
– Требование вести диспут на французском языке – это публичное надевание намордника на русских футуристов! В "Обществе свободной эстетики "можно свободно получать только кушанья по карточке…
Во избежание «осложнений» устроитель диспута объявил заседание закрытым».
На этом «инцидент» с итальянцем не завершился. 15 февраля в петербургской газете «Нева» было опубликовано письмо, подписанное Владимиром Маяковским, Константином Большаковым и Вадимом Шершеневичем, в котором категорически отрицалась «всякая преемственность» российских футуристов «от итало-футуристов». А в зале, где должен был выступать прибывший в Петербург Маринетти, распространялась листовка, написанная Виктором Хлебниковым и Бенедиктом Лившицем. В ней говорилось:
«Сегодня иные туземцы и итальянский посёлок на Неве из личных соображений припадают к ногам Маринетти, предавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести, и склоняют благородную выю Азии под ярмо Европы…».
Вечером было устроено торжественное застолье в честь итальянского гостя. Выступая на нем, Маринетти упрекнул россиян за то, что они продолжают восторгаться Пушкиным, и с гордостью заявил:
«Вот мы – мы разрушили синтаксис!.. Мы употребляем глагол только в неопределённом наклонении, мы упразднили прилагательные, уничтожили знаки препинания…».
Бенедикт Лившиц, сидевший рядом с итальянцем, на это сказал:
«У нас есть Хлебников. Для нашего поколения он – то же, что Пушкин для начала девятнадцатого века, то же, что Ломоносов для восемнадцатого».
Иными словами, российские футуристы не сдавались и выступали против энергичного вождя зарубежного футуризма единым фронтом.
17 февраля в Москве в Политехническом музее состоялась лекция, не имевшая отношения ни к поэзии, ни к футуризму. На афишах значилось: «Сказка и правда о женщине». Газета «Русское слово» на следующий день поведала читателям:
«В разгар лекции на эстраде среди оппонентов появился г. Маяковский. Одет он был в пёстрый костюм арлекина. Среди публики хохот. Устроители лекции, а за ними и представители администрации предложили г. Маяковскому уйти, т. к. своим видом он слишком возбуждает публику. Г-н Маяковский заявил, что он желает участвовать в прениях. Ему предложили поехать переодеться.
Через полчаса он снова появился в аудитории в розовом пиджаке».
Присутствовавший на той лекции видный социал-демократ Вацлав Вацлавович Боровский на следующий день написал жене:
«Вчера сделал непростительную глупость: пошёл слушать женскую лекцию о женском вопросе… Зря пропал вечер и 90 коп. кровных трудовых денег. Единственным развлечением в этой белиберде было появление футуриста Маяковского, который сначала явился в пиджаке какого-то ярко-пёстрого футуристического цвета, за что был выведен мерами устроителей и полицией. Через полчаса вернулся в пиджаке цвета танго и возражал ко всему общему удивлению толково и разумно».
Напомним, что выражение «цвет танго» пришло в Россию из Франции и Бельгии («couleur tango»), где оно означало ярко-оранжевый или красно-оранжевый цвет.
Город Казань
Во второй половине февраля 1914 года трио футуристов (Бурлюк, Каменский и Маяковский) прибыло в Казань, где тоже намечалось их выступление.
В ту пору в этом городе проживал (сосланный туда) бывший коллега Маяковского по подпольным делам Владимир Вегер (Поволжец), с которым поэт-футурист тотчас же встретился и пригласил на футуристическое действо.
Состоялось оно 20 февраля в зале Дворянского собрания.
Один из осведомителей Охранного отделения представил начальству донесение о том, что там происходило. Про Маяковского в нём говорилось:
«Вышел он на эстраду и заявил: „Я – умный“. В публике раздался гомерический хохот, но он нисколько не смутился этим и стал читать свою лекцию, стараясь доказать, что красота не есть вечное определённое понятие, и как это понятие постепенно изменяется в зависимости от культуры народов. Примером чему привел египетские пирамиды и мягкие формы живописи и ваяния древних эллинов…
Говоря о литературе, он всех поэтов и писателей называл мальчиками, не могущими в своих произведениях удовлетворить запросы современного человека, и что в своё время, когда русское общество только вступало на путь культуры, быть может, они и были хороши. На раздавшиеся в это время из публики по его адресу свистки он заметил, «что видит у людей, открывших для свиста свой рот, не прожёванные крики», и что те, кто хочет ему посвистеть, могут это сделать с успехом и после его доклада.
И в дальнейшей своей речи он порицал всё прошлое и, наоборот, когда начал говорить о своих товарищах, то видел в каждом из них Колумба, открывшего новую Америку. Закончил свою лекцию чтением поэтических произведений футуристов (своих и товарищей), в которых едва ли кто чего понял.
Лекция несколько раз прерывалась свистом и хлопаньем в ладоши».
Владимир Вегер тоже оставил свои воспоминания:
«Я был на этом вечере, и у меня в памяти осталось такое впечатление, что особенно большой скандал на вечере произошёл в тот момент, когда он читал свою вещь „Через час отсюда в чистый переулок“».
Вегер имел в виду стихотворение Маяковского «Нате!»:
«Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я – бесценных слов мот и транжир.
Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.
Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.
А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется – и вот
я захочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я – бесценных слов транжир и мот».
Здесь следует ещё учесть, что, читая это стихотворение, Маяковский (он был одет в свою традиционную жёлтую кофту) обращался непосредственно к кому-нибудь из публики – как бы к тому самому «мужчине» или к той «женщине», о которых говорилось в стихах.
Дальше – слово Вегеру:
«И когда он дошёл до этого „жира“, то началось большое смятение в первых рядах, и начал разыгрываться скандал. Публика была смешанная. В первых рядах была публика буржуазного типа, а дальше сидела студенческая молодёжь и т. д. Молодёжь, конечно, – ага, так им и надо! (по морде, значит), очень им понравилось. А в первых рядах несколько человек поднялось и ушло: дескать, недопустимая вылазка и т. п.».
На следующий день Маяковский пришёл в гости к Владимиру Вегеру, который написал:
«Это была очень приятная, радостная встреча. Были жена, моя тёща. И разговор начался о жёлтой кофте. Эта жёлтая кофта на Веру Александровну произвела очень неприятное впечатление, и она к нему пристала:
– Ты же умный парень, мы тебя знаем, брось эту ерунду!
Мать моей жены – сестра Найденова, автора «Детей Ванюшина». Это семья главным образом театральная. И Владимир использовал этот момент, парируя таким образом:
– Вы же любите театр! А разве нельзя ходить в том же костюме, в котором играешь?
И он её поставил в тупик таким образом».
Со своим недавним однопартийцем Вегеру хотелось поговорить на более серьёзные темы, и поэтому…
«Была устроена вечеринка с передовой интеллигенцией тамошних мест в центре города, в ресторане „Китай“. Были Маяковский, Бурлюк, Каменский. И публика главным образом вела разговор о том, что такое это направление, о Маринетти.
Публика была из Казанского университета, журналисты, доценты. Всего человек двенадцать было. Сидели в отдельной комнате в ресторане. Публика была мною собрана с тем, чтобы послушать (как договорились с Владимиром), какое течение он защищал.
Но не это меня интересовало. Меня интересовали его политические взгляды».
Пришлось Вегеру устраивать ещё одну встречу:
«Наша беседа была наедине. И вот что получилось. Владимир стоял на такой позиции, что взгляды его абсолютно не изменились, что он в политическом отношении совершенно тот же, каким был и раньше, что его отношение к буржуазии, к либеральной буржуазии, к её партнёрам, по всем основным вопросам рабочего движения ни в чём, ни в малейшей степени не изменились».
Когда (много лет спустя) у выступавшего со своими воспоминаниями Вегера спросили, а интересовался ли Маяковский его партийной работой, Вегер ответил:
«У него был стаж, который заставлял его молчать по этому вопросу. Он был человек, который прошёл инструктаж по части конспирации, знал, что нельзя говорить даже члену МК, если это не относится к его деятельности. А кроме того, зачем ставить человека в неловкое положение, задавая вопросы подпольщику».
Сам же Вегер напрямую, без стеснения спросил Маяковского, продолжает ли он подпольную работу. Вот что поэт ему ответил:
«Он говорил, что сейчас не работает в партийной организации, но в силу того, что он всецело сейчас ушёл в интересы поэзии, что это требует от него громадной работы, что у него очень мало времени».
И ещё Вегер отметил:
«Я от него узнал вещи, которых не знал. Например, о Маринетти, о происхождении футуризма. Меня беспокоило то, что эти люди в области политики стоят на чрезвычайно реакционных позициях.
Он отвечал на это, что это вопросы искусства, совсем другая вещь. И из этих его позиций в искусстве не было никаких выводов в область политики…
Он говорил:
– Моя задача заключается в другом. Я иду по самостоятельному пути, мне нужно проделать колоссальную работу для того, чтобы добиться результатов в этом направлении. Я знаю, как пишет Пушкин, но у меня свой путь. Я не хочу быть просто подражателем Пушкина, я хочу писать по-другому, мои потребности иначе об этом говорят. Кроме того, ты знаешь, я ведь и Пушкина-то толком не знаю.
Я относился к этому тогда довольно иронически, что бурлит в нём кровь, мол, послушайте его – он будет наряду с Пушкиным фигурировать! Но в искренности его, в том, что это его подлинное внутреннее настроение, а не простая шумиха, в этом я был уверен».
А вот как о футуризме и о футуристах высказался Константин Бальмонт (в том же 1914 году, в интервью газете «Виленский курьер»):
«То, что я знаю из футуристической литературы, настолько безграмотно, что говорить о футуризме как о литературном течении невозможно. Из Русского футуризма я ничего не вынес: в нём жалкие потуги, плоские и наглые выступления и беспрестанные скандалы.
В Италии футуризм умерен, ибо там на все течения в искусстве наложена печать законченности… Русские футуристы «обезьянничают» с Итальянского футуризма. Русский язык ещё эволюционизирует и отнюдь ещё не закончен. Мы переживаем в настоящем времени перелом. Он (русский футуризм) яркий выразитель происходящего на наших глазах перелома».
Поэт Николай Степанович Гумилёв высказался о новом направлении в поэзии ещё жёстче:
«Появились футуристы, эгофутуристы и прочие гиены, всегда следующие за львом».
Продолжение вояжа
Пока футуристы пытались убедить город Казань в том, какие они «умные», в Москве на очередное заседание собрался педагогический совет Училища живописи, ваяния и зодчества и исключил из числа учеников Бурлюка и Маяковского. Газета «Новь» прокомментировала это решение так:
«Исключены они на чисто формальном основании.
– Советом преподавателей, – говорит инспектор Училища В.П.Гиацинтов, – было сделано постановление о воспрещении нашим ученикам принимать участие в диспутах, быть лекторами, оппонентами и пр…. Ввиду того, что гг. Бурлюк и Маяковский продолжали выступать на диспутах, совет преподавателей вынужден был исключить их из числа учеников».
Иными словами, Училище не желало иметь в своих стенах тех, кто превращал Искусство в посмешище. А ведь именно этим, по мнению учёного совета, и занимались Бурлюк с Маяковским.
В автобиографических заметках «Я сам» об исключении сказано кратко и довольно грубовато (своих недавних преподавателей Маяковский даже художниками не посчитал, взяв это слово в кавычки):
«Совет «художников» изгнал нас из училища».
Весть об исключении «рыцарствующих клоунов» была растиражирована многими российскими газетами – их статьи имели заголовки: «Репрессии против футуристов», «Дурную траву из поля вон», «Финал футуристических выступлений».
Впрочем, на активность поэтов-авангардистов их исключение из Училища никак не повлияло. 2 и 4 марта они должны были выступить на «вечерах» в Гродно и Белостоке.
В каждом городе программу выступлений надо было утверждать в полиции. Для того, чтобы получить разрешение, иногда приходилось посещать даже генерал-губернатора. Такая была тогда житейская практика. Но что любопытно – отказы футуристы получали крайне редко. К примеру, в городе Елисаветграде местная газета «Голос юга» 7 февраля 1914 года сообщила:
«Второй вечер футуристов с участием Бурлюка и Маяковского местной администрацией не разрешён».
Но первый-то «вечер» (3-го февраля) – тот, что был с участием Игоря Северянина – всё-таки состоялся. Из-за чего было отменено второе выступление, неизвестно. Возможно, возникли какие-то местные причины, от самих футуристов не зависевшие.
А вот до губернатора города Гродно, видимо, дошли какие-то слухи о «репрессиях» против московских «поэтов-лекторов», и он направил о них запрос московскому градоначальнику. Тот в ответ послал справку Охранного отделения Москвы, в которой футуристы назывались «неблагонадёжными». И выступление «новых людей новой жизни» в Гродно тут же запретили.
Не принятые в Гродно, Бурлюк и Маяковский поехали в Пензу и 3 марта выступили там. В «Хронике жизни и деятельности Маяковского» приводятся воспоминания одного из зрителей:
«Читали Д.Бурлюк и Вл. Маяковский… Говорили здорово. Особенно Маяковский. Бурлюк ужасно жестикулировал. В своей речи Маяковский доказывал, что… когда читаются их произведения, то публика обыкновенно смеётся. Смеётся не потому, что их произведения смешны, а потому, что так новы, что кажутся смешными, и публика не в состоянии их разобрать и понять. Он разобрал несколько произведений, и после этого они уже не казались такими странными, как тогда, когда он эти произведения ещё только читал…
Маяковский закончил свою речь обращением к публике: «Так вот, господа, подумайте, достойны ли мы вашего свиста?» – и ему аплодировали без конца».
17 марта футуристы выступали в Ростове-на-Дону. Газета «Приазовский край» сообщала:
«Очень милое впечатление несомненно искреннего юноши произвёл Владимир Маяковский, который вполне откровенно рассказал о своих желаниях и тайных мыслях. Маяковский хочет создать песни сегодняшнего дня, дня, „когда носят ботинки Vera с загнутыми концами“, песни для толпы… Петь об аэропланах, экспрессах, автомобилях, а не о белых колоннах разрушающихся старых особняков… Горячий призыв юного поэта подкупил аудиторию (наполовину тоже юную), как подкупает всякий призыв к борьбе за новое».
Из Ростова-на-Дону футуристы двинулись в Саратов, где 19 марта выступили в зале Консерватории.
Никакого ажиотажа в этом волжском городе они не произвели. Зал, в котором выступали заезжие знаменитости, был наполовину пуст.
Газета «Саратовский листок» представила гостей так:
«В.Маяковский, весьма развязный молодой человек типа современной "тангизированной "молодежи, появился на эстраде в розовом пиджаке, с разноцветным торчащим из кармана платочком».
Газета «Саратовский вестник» продолжала:
«– Милостивые государыни и милостивые государи! – начал шаблонно г. Маяковский. – Вы пришли сюда, привлечённые слухами о наших скандалах. Вы слышали, что мы скандалисты, хулиганы, вандалы, явившиеся что-то разрушить. Успокойтесь, этого вы не увидите. Да, я люблю «скандал», но скандал искусств, дерзкий вызов во имя будущего».
«Саратовский листок»:
«Очень задорным тоном говорит Маяковский о старом искусстве и его заплесневелых формах, о ненужности старой красоты».
«Саратовский вестник»:
«Г. Маяковский цитирует многих поэтов-футуристов, в том числе и себя, а также Игоря Северянина, которого, впрочем, лектор считает не типичным, даже „бездарным“ представителем футуризма, хотя его „стихи-шансонетки“, которые надо петь, как шансонетки (г. Маяковский их поёт), очень типичны для поэзии города».
«Саратовский листок»:
«– Мы – люди города, люди завтрашней поэзии, мы – гаеры в искусстве! – восклицает Маяковский».
«Саратовский вестник»:
«Речь г. Маяковского, сказанная с большим ораторским мастерством, красиво построенная, ясная и содержательная, произвела впечатление на слушателей, и они покрывали её дружными и продолжительными аплодисментами. Г. Маяковский вышел на вызовы и… не мог обойтись без „штучки“: раскланиваясь с публикой, тут же в зале, во время поклонов, стал закуривать папиросу».
«Саратовский листок»:
«Итак, Саратов приобщился непосредственно к самоновейшему движению в искусстве, к его „последнему крику“. Приезжали и – увы! – уехали самые настоящие московские футуристы (не какие-нибудь саратовские „псевдо-психи“)».
В Саратове тогда жила Надежда Хлёстова, сестра Николая Хлёстова, не так давно снимавшего у Маяковских угол. Она увлекалась лепкой, мечтала стать скульптором. И вспоминала о поэте-футуристе:
«… я сделала первый раз в жизни с натуры две головы и показала ему.
Он отнёсся очень внимательно и посоветовал уехать из Саратова и серьёзно учиться, «только не у футуристов» (его подлинные слова).
– Почему? – спросила я.
И он ответил:
– Я бездарен в живописи, а вы, Надя, талант».
В марте 1914 года вышел «Первый журнал русских футуристов» с четырьмя стихотворениями Маяковского. Одно из них было озаглавлено «Ещё я» (впоследствии названное «А всё-таки»). В нём были такие строчки:
«Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в своё оправдание.
И бог заплачет над моей книжкой!
Не слова – судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами под мышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым».
В этих словах было не только самовосхваление – читатели тех лет сразу понимали, через какие «горящие здания» должны были пронести Маяковского проститутки. Это был очередной укол Бальмонту, самая известная книга которого называлась «Горящие здания».
Другие города
Через две недели Бурлюк и его команда были уже в Грузии. Газета «Тифлисский листок» в четверг 27 марта 1914 года сообщала:
«Во вторник на Головинском проспекте толпа зевак, состоявшая, главным образом, из подростков, сопровождала трёх субъектов в странном одеянии. В толпе, конечно, ещё не знали, что странно одетые люди – футуристы».
Отчёт о первом выступлении столичных гостей газета «Кавказ» поместила в отделе «Происшествия», предварив его следующим замечанием:
«Читатель сам, надеемся, понял, что отчёт о подобном вечере не может быть напечатан в отделе „Театр и музыка“, хотя вечер и состоялся в Казённом театре… По порядку действие происходило так: по поднятии занавеса, за большим столом, посреди сцены, оказались сидящими три человека неопределённых лет».
Газета «Тифлисский листок»:
«Три „пророка“, в шутовских нарядах, при поднятии занавеса сидели за длинным столом. В середине – Маяковский в жёлтой кофте, по одну сторону – Каменский в чёрном плаще с блестящими звёздами, по другую сторону – Бурлюк в грязно-розовом сюртуке. Тссс… тише, господа… это они, пророки, они, футуристы. Перед Маяковским большой колокол для водворения в публике тишины и порядка».
Газета «Кавказ»:
«На столе перед вышеупомянутыми футуристами стояли стаканы чая средней крепости, с лимоном, и колокол… Позвонив в означенный колокол, каковой приподнял с немалым трудом, отставной якобы коллежский асессор Маяковский вышел на возвышение в правом углу сцены».
Газета «Тифлисский листок»:
«– Нам не нужен здравый смысл! – вызывающе продекламировал Маяковский. – В поэзии мы нисколько не заботимся о содержании – нужна форма, через форму вырабатывается (!) и содержание!»
Газета «Кавказ»:
«Оный господин Маяковский в упомянутом сообществе футуристов является, по-видимому, главарём».
Вот так откликнулся Тифлис на выступление Бурлюка и его товарищей.
Между прочим, той же весной (в апреле) в Тифлис приехал и Константин Бальмонт. Он только что вернулся из Парижа, куда ненадолго съездил, и сразу отправился в Грузию. Там его ждала пышная встреча – его приветствовал сам Акакий Ростомович Церетели, патриарх грузинской литературы. Выступления Бальмонта перед публикой имели шумный успех. Окрылённый такой встречей, поэт начал изучать грузинский язык и взялся переводить поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
К слову, Маяковский, как известно, знал этот язык с детства, но неизвестно ни одного грузинского стихотворения, которое он перевёл бы на русский.
29 марта футуристы были в Баку.
Газета «Каспий» сообщила:
«Уже с утра они ходили по городу с размалёванными физиономиями. На сцене они восседали в театральных креслах с высокими спинками за большим столом, лица причудливо расписаны… В.В.Маяковский нарядился в жёлтую ситцевую кофту и красную феску…».
Выступлением в Баку «завоевание Кавказа» футуристами завершилось.
Поэт Владимир Маяковский, 1914 год. Репродукция Фотохроники ТАСС
Но уже в начале второй декады апреля турне продолжилось – двое «новых людей» (Владимир Маяковский и Константин Большаков) прибыли в Калугу. В городе запестрели афиши:
«Лекция Влад. Маяковского.
1. Ноктюрн на флейтах водосточных труб. О новейшей литературе, о дамах, о танго, о коровах. Почему футуристы. Самое красивое – вымазать лицо…
2. Сравнительное изучение стихов.
Мы и лысенькие.
3. К. Большаков.
Стихи свои, Шершеневича, Ивнева.
4. В. Маяковский.
Стихи Бурлюка, Каменского, Кручёных, Хлебникова, Северянина и свои».
Содержание афиши было рассчитано на привлечение провинциальной публики, не избалованной посещениями представителей столичной богемы.
Первое выступление состоялось 12 апреля. Особого успеха оно не принесло.
Но в городе появились плакаты, рекламировавшие второе выступление:
«Лекция Влад. Маяковского.
Тема: 1. «Египтяне и греки, гладящие чёрных и сухих кошек». Влияние на поэзию города. Поэзия качалок и сёл. Сегодняшний день. Поэзия аэропланов и машин. Здравый смысл и кухарка. Наши.
Лекция Конст. Большакова.
1. Задумчивые звёзды в эмалевых далях. От Пушкина до гримированных секунд.
2. В. Маяковский.
Отрывки из трагедии «Владимир Маяковский», прошедшей при переполненных сборах в обеих столицах.
Большаков и Маяковский.
Стихи всех футуристов».
Обратим внимание на откровенное лукавство – трагедия «Владимир Маяковский» никогда «в обеих столицах» не игралась.
О втором выступлении местная газета «Калужский курьер» отозвалась так:
«На вторую лекцию пришло десятка два. Игра не стоила свечей, и футуристический спектакль, то бишь доклад, подлежал отмене. И только благодаря любезности лично присутствовавшего в театре г. Чукмалдина, принявшего на себя убыток, вторая лекция состоялась. Она прошла более оживленно, нежели первая».
О выступлении Маяковского было сказано:
«Он импонирует хорошей дикцией и плавностью речи. В тоне слышится убеждённость, сплетающаяся с самомнением… „Я диктую России законы поэзии“. „Я учитель, и вам у меня, а не мне следует у вас учиться“».
Месяца не прошло, как Маяковского изгнали из Училища. Из гимназии, как мы помним, он ушёл сам. И вот теперь недоучившийся поэт-футурист выставлял себя пастором, учителем народа! В самом деле, самомнение удивительное!
Другие встречи
В «Я сам» (в главке «ВЕСЁЛЫЙ ГОД») о той поре говорится:
«Для меня эти годы – формальная работа, овладение словом.
Издатели не брали нас. Капиталистический нос чуял в нас динамитчиков. У меня не покупали ни одной строчки».
А поэтов, не нуждавшихся в средствах, издатели встречали с распростёртыми объятиями, их книги выходили одна за другой. Так, депутат Государственной думы Владимир Митрофанович Пуришкевич, монархист, черносотенец, придерживавшийся крайне правых взглядов (он говорил, что правее его – только стена), регулярно публиковал свои стихи. В его поэтическом сборнике «В дни бранных бурь и непогоды» были такие слова:
«Пусть одинок я, пусть я мал,
Пред сильным не склоняю выи,
Я не ищу людских похвал,
Служа на совесть лишь – России».
Наступила весна.
В начале мая 1914 года Маяковский познакомился с Борисом Пастернаком. Поэтесса Марина Цветаева говорила о них:
«Пастернак и Маяковский сверстники. Оба москвичи. Маяковский – по росту, Пастернак – по рождению. Оба в стихи пришли из другого, Маяковский – из живописи, Пастернак – из музыки… Оба нашли себя не сразу, оба в стихах нашли себя окончательно…
Маяковский ничего не боялся, стоял и орал, и чем громче орал – тем больше народу слушало, чем больше народу слушало, тем громче орал…
У Пастернака… множество одиноких, одинокое множество жаждущих, которых он, уединённый родник, поит».
А вот как ту встречу описал сам Борис Пастернак:
«Передо мной сидел красивый, мрачного вида юноша с голосом протодиакона и кулаком боксёра, неистощимо, убийственно остроумный, нечто среднее между мифическим героем Александра Грина и испанским тореадором.
Сразу угадывалось, что если он и красив, и остроумен, и талантлив, и, может быть, архиталантлив, – это не главное в нём, а главное – железная внутренняя выдержка, какие-то заветы или устои благородства, чувства долга, по которому он не позволял себе быть другим, менее красивым, менее остроумным, менее талантливым…
Природные внешние данные молодой человек чудесно дополнял художественным беспорядком, который он напускал на себя, грубоватой и небрежной громоздкостью души и фигуры и бунтарскими чертами богемы, в которые он с таким вкусом драпировался и играл».
В самом конце мая Маяковский принял участие в организационных собраниях общества «Живое дело». Во втором номере одноимённого журнала говорилось:
«Басит поэт-футурист В.В.Маяковский. Он возмущён условиями, в которых протекает работа современных писателей, он негодует на них, живущих „прежней славой“, уклоняющихся от встреч с противником лицом к лицу. И футурист с цветком в петлице модного пиджака, размахивая соломенной шляпой, зовёт к воскрешению забытых греческих истмийских игр, к воскрешению публичных состязаний поэтов.
– Пусть на этих состязаниях говорятся речи на заданную тему, пусть читаются экспромты, стихотворения, рассказы, пусть публика коронует «короля поэтов» – такая словесная Олимпиада должна оживить нашу литературу, – заключает Маяковский.
О предложении г. Маяковского говорят долго, говорят шумно. И в конце концов голоса скептиков тонут в хоре молодых оживлённо зазвучавших голосов».
Маяковский, видимо, забыл (или просто не знал), что Истмийские игры в честь бога Посейдона, каждые два года проводившиеся в Древней Элладе, были, как и игры Олимпийские, запрещены в IV веке нашей эры римским императором Феодосием I. Запрещены при введении христианства – из-за того, что языческие. Хотя усилиями француза Пьера де Кубертена Олимпийские игры были в 1896 году восстановлены, и царская Россия принимала в них участие, предложение Маяковского вполне могло встретить решительное неодобрение православных церковников.
Что же касается писателей, которые жили «прежней славой», то здесь следует сказать, что в 1914 году вышло второе (в 24 томах!) собрание сочинений Дмитрия Мережковского, после чего академик Нестор Александрович Котляревский выдвинул Мережковского кандидатом на соискание Нобелевской премии. Так что поэтам-футуристам, ещё только завоёвывавшим себе место под солнцем, было кому завидовать.
Издатели печатать футуристов по-прежнему не желали, но издавать свои произведения им всё же удавалось – в 1914 году вышел «Первый журнал русских футуристов». О его создателях в нём говорилось:
«Сотрудники – футуристы всей России
редактор – ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ
издатель – ДАВИД БУРЛЮК
РЕДАКЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
д. бурлюк, к. большаков,
в. каменский, в. маяковский,
в. шершеневич».
Журнал, как и положено журналу, издаваемому поэтами, открывался стихами. Вот стихотворение «Вызов»:
«ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ
эЛаСтИчНыМ пРопеЛЛерОм
ВВИНТИЛ ОБЛАКА
киНув Т А М
а визит
ДряБлоЙ смерти КОКОТКЕ
из ЖалоСти сшитое
ТАнгОВое МаНтО и
ЧУЛКИ с
ПАнТАЛОНАМИ».
Далее шло стихотворение Николая Бурлюка:
«Ко мне вот-вот вдруг прикоснутся,
Уж ветер волос шевелит,
И заклинанья раздаются
Под сводом безразличных плит…»
Маяковский был представлен так:
«Утро Петербурга
В ушах обрывки тёплого бала
А с севера снега седей
Туман с кровожадным лицом каннибала
Жевал невкусных людей
Часы нависали как грубая брань
За 5-м навис 6-й.
А с крыш смотрела какая-то дрянь
Величественно как Лев Толстой».
Вадим Шершеневич выступал со статьёй «Футуропитающиеся», в которой приводил высказывания Корнея Чуковского:
«Маяковский… чужой футуризму совершенно… Это кликуша, неврастеник, горластый».
«Кручёных – почешет спину об забор, этакий, ей-Богу, свинофил. Только Россия рождает таких коричнево-скучных людей – под стать своим заборам…»
«Бен. Лившиц – не футурист, а его пощёчина – не пощёчина, а бром».
Николай Бурлюк опубликовал в журнале открытое письмо «господам» Анатолию Луначарскому, Дмитрию Философову и Неведомскому (писателю Михаилу Петровичу Миклашевскому), которые подвергали футуристов уничтожающей критике. В письме, в частности, говорилось:
«Вы ругаете и унижаете моего брата Давида Давидовича, меня самого и наших милых друзей: Хлебникова, Маяковского, Лившица, и всё потому, что вы не чувствуете поэзии и никогда не были поэтами. И вот мы, "дети " по вашему мнению, а по мнению некоторых маленьких философов „сумасшедшие и шарлатаны“, просим на минутку оставить вожжи общества и послушать нас, "хулиганов "и „безумцев“.
Вы, воспитанные под знаменем свободы слова со знанием диалектики и уместности сказанного, стараетесь убедить ваших читателей, что мы подонки Нашей родины…
Если бы вы тонули, я не пожалел бы жизни, спасая вас, а вы нам говорите грубости… МЫ, ВАШИ БРАТЬЯ, а вы нас оскорбляете и унижаете за то, что мы не рабы и живём свободой… Вы были и есть азиаты, губящие всё молодое и национальное… в вас душа гонителей истинного искусства – духовных крепостников Белинского, Писарева, Чернышевского…».
Письмо обрывается на полуслове. Далее следует разъяснение издателя (Давида Бурлюка):
«Конец статьи Н.Бурлюка не мог быть напечатан по независящим от редакции обстоятельствам…».
Иными словами, статью Николая Бурлюка «зарезали» цензоры. О том, что там было написано, можно только догадываться.
Прежняя любовь
Турне по семнадцати городам России завершилось во второй половине апреля 1914 года, и футуристы, переполненные впечатлениями и гордостью за свалившееся на них признание, вернулись в Москву. Почти четырехмесячные гастроли принесли им невероятную популярность.
А в это время новый товарищ (заместитель) министра внутренних дел и шеф корпуса российских жандармов Владимир Джунковский предпринял решительный шаг по оздоровлению правоохранительных органов. Узнав, что агент охранки Роман Малиновский (являвшийся, как мы помним, членом большевистского Центрального Комитета) в прошлом имел три судимости за кражи, а последнюю – и вовсе за кражу со взломом, Джунковский, по его же собственным словам, «твёрдо решил прекратить это безобразие»:
«Когда я узнал, что он состоит в числе сотрудников полиции и в то же время занимает пост члена Государственной Думы, я нашёл совершенно недопустимым одно с другим. Я слишком уважал звание депутата и не мог допустить, чтобы членом Госдумы было лицо, состоящее на службе в департаменте полиции, и поэтому считал нужным принять все меры к тому, чтобы избавить от неё Малиновского».
Джунковский сообщил обо всём председателю Государственной думы Михаилу Владимировичу Родзянко. От Малиновского потребовали немедленно завершить депутатскую деятельность и уехать за границу. И 8 мая 1914 года он сложил с себя полномочия члена большевистской фракции, а на следующий день покинул Петербург.
Депутат Государственной думы большевик Григорий Иванович Петровский тотчас послал телеграмму за рубеж – своему партийному руководству:
«Малиновский без предупреждения сложил полномочия, дать объяснения отказался, выехал за границу. Петровский».
Разразился жуткий скандал.
Депутата, оставившего свой пост в Государственной думе, социал-демократы назвали «трусливым дезертиром» и устроили над ним суд. Ульянов-Ленин энергично защищал своего любимца. Но Малиновского из партии всё-таки исключили.
А жизнь продолжала идти своим чередом.
Наступило лето. В Москву приехала Софья Шамардина. И пришла к Маяковскому:
«Встретились мы бурно-радостно и всё общупывали друг друга – лицо, руки, плечи… Он… был болен корью. Уже поправлялся. Лежал на коротком диванчике – ноги висели. Ещё не вставал. Рубашка на локтях у него была дырявая, а рукава короткие, из них – большие ослабевшие руки. (А может быть, я придумала, что дырявая – просто стиранная.)
Познакомил с матерью и сёстрами. Чаем поили и всегда очень приветливо встречали…
В эти же дни встретила у Маяковского С.Третьякова – длинный, в парусиновом костюме: «А, вот она Сонка!»».
Сергей Третьяков – эта фамилия уже встречалась нам. Кто этот человек?
Сергей Михайлович Третьяков родился в Риге, там же учился в школе. Поступил в Московский университет на юридический факультет. Начал писать стихи и сблизился с московскими эгофутуристами.
Художница Елена Владимировна Семёнова впоследствии про него говорила:
«Третьяков – человек разносторонний – поэт, очеркист, драматург… Он обладал даром убеждать».
Впрочем, очерки и пьесы Третьяков стал писать позднее. А пока он был молодым поэтом, о котором (и о Маяковском тоже) Софья Шамардина написала:
«Втроём бродили».
Вскоре Маяковский выздоровел. Шамардина написала:
«В Москве в это лето он не ходил в своих жёлтых кофтах, помнится рубаха-ковбойка. Пиджачок какой-то…
Все свои новые стихи за это время, что встречались в Москве, прочитывал мне. А может быть, и не все?
К прежней близости не возвращались никогда. Последняя попытка с большим объяснением у калитки в Новинском переулке привела только к закреплению конца нашей любви. Любви ли?
– Ты должна вернуться ко мне.
– Я ничего не должна.
– Чего ты хочешь?
– Ничего.
– Хочешь, чтоб мы поженились?
– Нет.
– Ребенка хочешь?
– Не от тебя.
– Я пойду к твоей маме и всё расскажу.
– Не пойдёшь.
Это краткий конспект большого разговора летом 1914 года».
В ту пору у Маяковского накопился богатый материал для написания поэмы о любви. Любви безответной. Любви, которая принесла поэтической душе автора глубокие страдания.
А в автобиографических заметках – в главке, названной «НАЧАЛО 14-го ГОДА» — слово «любовь» отсутствует. Там говорится о совсем другой поэтической «теме»:
«Чувствую мастерство. Могу овладеть темой. Вплотную. Ставлю вопрос о теме. О революционной. Думаю над „Облаком в штанах“».
8 июля, когда работа над этой «революционной» исповедью была в разгаре, царское правительство закрыло легальную большевистскую газету «Правда».
А через двадцать дней началась война.
Глава седьмая Первая Мировая
Начало войны
Война началась 28 июля. Исходя из числа втянутых в неё стран, её назвали мировой. А когда – через двадцать лет после её окончания – мир снова ввергли в кровопролитные сражения, войну начала века стали именовать Первой мировой.
В России была объявлена всеобщая мобилизация – десятки тысяч молодых людей должны были отправиться на фронт. Бенедикт Лившиц этот момент описал так:
«Люди разделились на два лагеря: на уходящих и остающихся. Первые, независимо от того, уходили ли они по доброй воле или по принуждению, считали себя героями. Вторые охотно соглашались с этим, торопясь искупить таким способом смутно сознаваемую за собой вину.
Все наперебой старались угодить уходящим».
Маяковский на фронт не уходил. Этот период времени он отобразил в «Я сам» отдельной главкой – «ВОЙНА»:
«Принял взволнованно. Сначала только с декоративной, с шумовой стороны. Плакаты заказные и, конечно, вполне военные. Затем стих „Война объявлена“».
Вот четыре строки их этого стихотворения:
«Морду в кровь разбила кофейня,
звериным криком багрима:
"Отравим кровью игры Рейна!
Громами ядер на мрамор Рима! "»
Откликаясь на начавшуюся войну, Максим Горький тоже написал стихи:
«Как же мы потом жить будем?
Что нам этот ужас принесёт?
Что теперь от ненависти к людям
Душу мою спасёт?»
Чтобы откреститься от всего немецкого, 18 августа столица России, когда-то названая на германский лад Санкт-Петербургом, была переименована в Петроград.
Стихи о начавшейся войне сочиняли тогда практически все поэты, но только трое из них приняли непосредственное участие в боевых действиях: акмеист Николай Гумилёв, футуристы Бенедикт Лившиц и Константин Большаков. О том, как отнёсся к начавшейся войне Гумилёв, написал Юрий Анненков:
«Героически искренний патриот, Гумилёв, сразу же после её объявления ушёл добровольцем в действующую армию…».
Гумилёва направили служить в Лейб-Гвардии Уланский полк Её Величества.
Уходившего на фронт Лившица Корней Чуковский и Юрий Анненков встретили на Невском проспекте. Анненков вспоминал:
«Когда стали проходить мобилизованные, ещё не в военной форме, с тюками на плечах, то вдруг из их рядов вышел, тоже с тюком, и подбежал к нам поэт Бенедикт Лившиц».
Сам Бенедикт Лившиц потом написал:
«Наголо обритый, в жакете поверх косоворотки, заправив брюки в сапоги, я мчался куда-то по Невскому, когда меня окликнули Чуковский и Анненков, приехавшие из Куоккалы попрощаться со мною. Спустя минуту к ним присоединился Мандельштам: он тоже не смог усидеть в своих Мустомяках».
Юрий Анненков:
«Мы обнимали его, жали ему руки, когда подошёл незнакомый фотограф и попросил разрешения снять нас. Мы взяли друг друга под руки и были так вчетвером сфотографированы».
Осип Мандельштам, Корней Чуковский, Бенедикт Лившиц, Юрий Анненков. 1914 г. Автор: Карл Булла
У Бенедикта Лившица этот момент запечатлелся в памяти несколько иначе:
«Зашли в ближайшую фотографию, снялись».
Это было ателье знаменитого петербургского фотографа Карла Карловича Буллы. Та фотография сохранилась. На ней сидят на лавочке четверо друзей: поэт Осип Мандельштам, Корней Чуковский, Бенедикт Лившиц и художник Юрий Анненков.
Лившица направили в 146-ой Царицинский пехотный полк, вместе с которым он вскоре начал воевать. Но сначала…
В своих мемуарах («Полутоглазый стрелец») Лившиц писал:
«В столице все казармы были переполнены. Нам отвели здание университета. Не прошло и суток, как уборные засорились. Ржавая жижа, расползаясь по коридорам, затопила всё помещение…
Университет не в переносном, а в буквальном смысле сделался очагом заразы. Почему-то солдатам особенно нравилась парадная лестница: они сплошь усеяли её своим калом. Один шутник, испражнявшийся каждый раз на другой ступеньке, хвастливо заявил мне:
– Завтра кончаю университет.
Это был своеобразный календарь, гениально им расчисленный, ибо в день, когда он добрался до нижней площадки, нам объявили, что вечером нас отправляют на фронт».
Если бы Лившиц вспомнил читанную когда-то статью Дмитрия Мережковского, он сказал бы, что перед ним возникло Его Необразованное Величество – Всероссийский Хам, который ещё только собирался идти на Россию.
Очень скоро на всех пришло отрезвление от начальной «взволнованности». Об этом в «Я сам» – главка «АВГУСТ»:
«Первое поражение. Вплотную встал военный ужас. Война отвратительна. Тыл ещё отвратительней. Чтобы сказать о войне, надо её видеть».
Но так как «видеть» войну не удавалось, 14 октября футуристы выступили в большой аудитории Политехнического музея. Газета «Раннее утро» на следующий день сообщила:
«Футуристы устроили вечер „Искусство и война“, прошедший почти в пустой аудитории. Доклад В.В.Каменского „Культура и война“ почти сплошь состоял из следующих выражений по адресу немцев: „Идиотическое понимание Вильгельма“, „Дьявол в образе Вильгельма“, „Колбасники в касках“ и т. д.
Д.Д.Бурлюк уверял, что только футуристы смогут изобразить происходящую войну…
В.В.Маяковский прочёл два стихотворения, посвящённых войне…».
Мария Бурлюк к этому добавила:
«Лекция успеха не имела, и футуристы потерпели финансовые убытки. Для художников и поэтов наступили трудные дни…
Маяковский носился повсюду, не отказываясь ни от какой работы».
20-летняя Валентина Ходасевич, ставшая к тому времени художницей, писала:
«От непонимания война 1914 года казалась незначительной, ощущалась как далёкое несчастье. В Москве в то время появились мужчины в элегантной военной форме и много женщин, кокетливо одетых сёстрами милосердия… Вывешены портреты высочайших особ – группочки и по отдельности: императрица и великие княжны в лазаретах у кроватей хорошеньких воинов. Часто мелькают слова „бедные солдатики“».
А как начавшуюся войну встретили поэты-символисты?
Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус отнеслись к ней крайне отрицательно. Супруги наотрез отказались принимать участие в каких-либо верноподданнических манифестациях и весьма неодобрительно высказались по поводу переименования столицы. На какое-то время Мережковский вообще отошёл от политической деятельности, целиком переключившись на литературу и публицистику. Отдельным изданием вышел текст его лекции «Завет Белинского. Религиозность и общественность русской интеллигенции». В ней прямо говорилось о духовном лидерстве российской интеллигенции в истории России.
Но в автобиографии Мережковский всё равно с горечью написал:
«Вообще в русской литературе встречали меня недоброжелательно, и недоброжелательство это до сих пор продолжается. Я мог бы справить 25-летний юбилей критических гонений безжалостных».
Константин Бальмонт встретил начало войны во Франции, куда он поехал после пребывания в Грузии. Вплоть до весны 1915 года ему предстояло пробыть вдали от родины.
Желание служить
Через два с половиной месяца после начала войны Маяковский написал бумагу:
«Господину московскому градоначальнику
Дворянина
Владимира Владимировича
Маяковского
Прошение
Покорнейше прошу выдать мне свидетельство о благонадёжности для поступления добровольцем в действующую армию. При сём прилагаю свидетельство, выданное мне из 3-го участка Пресненской части за № 4170.
Владимир Владимирович Маяковский.
24 октября 1914 года».
«Свидетельство» из Пресненской полицейской части, которое «приложил» к своему прошению поэт, надо полагать, «благонадёжность» эту не отрицало. Иначе зачем тогда было обращаться к градоначальнику? Но 16 ноября в той же Пресненской части подателю прошения под расписку выдали бумагу, в которой канцелярия градоначальника просила объявить…
«… дворянину Владимиру Владимировичу Маяковскому, проживающему по Б. Пресне в д. № 36, в ответ на его прошение о выдаче свидетельства о благонадёжности, что таковое ему выдано быть не может».
В «Я сам» это событие прокомментировано так:
«Пошёл записываться добровольцем. Не позволили. Нет благонадёжности.
И у полковника Модля оказалась одна хорошая идея».
Но в справке, пришедшей из канцелярии градоначальника, не говорится о том, что поэт неблагонадёжен. Об этом речь не идёт! В бумаге всего лишь сообщается, что свидетельство о благонадёжности «ему выдано быть не может». То есть в армию идти не позволялось.
Почему?
Если следовать логике автобиографических заметок, то причину отказа должна разъяснить «очень хорошая идея», которая появилась вдруг у «полковника Модля».
Кто он такой – этот неизвестно откуда взявшийся полковник?
Впрочем, это нам, живущим в XXI веке, он неизвестен. А в 1922 году, когда писались автобиографические заметки, полковник Модль в представлении не нуждался – его ещё хорошо помнили.
Владимир Фёдорович Модль родился в 1871 году. В тринадцатитомном Собрании сочинений Маяковского он назван «начальником московского охранного отделения». Но это не так. В.Ф. Модль никогда никаких охранных отделений не возглавлял. В 1903–1906 годах он служил в Санкт-Петербурге, занимая пост помощника начальника Отдельного корпуса жандармов, затем его перевели в Москву, где он (в 1908–1915 годах) служил помощником градоначальника.
Вот что написал об этом человеке Владимир Джунковский (в той главе своих воспоминаний, где речь идет о 1908 годе):
«16 июня высочайшим приказом полковник Модль был назначен помощником московского градоначальника. Модль происходил из чинов Отдельного корпуса жандармов, принадлежал к хорошему составу офицеров этого корпуса, был безукоризненно честным человеком, человеком долга, справедливым, но чересчур горяч и вспыльчив, забывая в эти минуты всякое приличие и бывая груб, что, конечно, было не к лицу помощнику градоначальника… Он… оставался в этой должности до 1915 г., последние годы его характер значительно выровнялся, и он был хорошим помощником градоначальника. В бытность мою товарищем министра я его выдвинул на пост керченского градоначальника».
Владимир Маяковский, трижды сидевший в московских тюрьмах, был очень хорошо известен полковнику Модлю. С ним общалась и Александра Алексеевна Маяковская, когда подавала свои прошения градоначальнику Москвы. Именно Модль курировал освобождение Владимира Маяковского из Бутырок в 1910 году.
В 1915 году, когда антигерманские настроения в России достигли апогея, Модль сменил фамилию и отчество – стал Владимиром Александровичем Марковым.
Какую же идею подал он жаждавшему стать «добровольцем» поэту-футуристу?
Заглянем в комментарии к первому тому шеститомного Собрания сочинений Маяковского. Там повторяется ошибка тринадцатитомника, относящая Модля к московской охранке, и говорится:
«Начальник Московского охранного отделения В.Ф. Модль имел непосредственное отношение к отказу в выдаче Маяковскому справки о политической благонадёжности».
И никакого разъяснения, касающегося «очень хорошей идеи» полковника!
Некоторые публичные высказывания рвавшегося на фронт поэта дают возможность сделать предположение. Обратимся к ним. И, немного забегая вперёд, заглянем в петербургский (ставший к тому времени уже петроградским) артистический кабачок «Бродячая собака». 11 февраля 1915 года в самый разгар увеселительного мероприятия на его сцену вышел Маяковский и прочёл стихотворение «Вам!». В нём в предельно резких выражениях завсегдатаи кабачка обвинялись в прожигании жизни – в прожигании, которое проходило в то самое время, когда во фронтовых окопах гибли люди.
«Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..»
Публика, конечно же, мгновенно возмутилась. Поднялся шум. Зазвучали угрозы в адрес поэта-грубияна.
В тот вечер в «Бродячей собаке» находилась учившаяся в Петрограде и писавшая стихи Татьяна Ефимова (впоследствии ставшая Татьяной Толстой и взявшая себе псевдоним Вечорка). Она вспоминала:
«Очень изящно и нарядно одетая женщина, сидя на высоком стуле, вскрикнула:
– Такой молодой, здоровый! Чем такие мерзкие стихи писать, шёл бы на фронт!
Маяковский парировал:
– Недавно во Франции один известный писатель выразил желание ехать на фронт. Ему поднесли золотое перо и пожелание: оставайтесь, ваше перо нужней родине, чем шпага!
Женщина раздраженно крикнула:
– Ваше перо никому, никому не нужно!
– Мадам, не о вас речь, вам перо нужно только на шляпу.
Некоторые засмеялись…».
Возникают вопросы. Действительно ли «французскому» писателю сказали, что он в тылу нужнее, чем на фронте, или с этими словами обратились к российскому поэту-футуристу?
Не в этом ли заключалась «очень хорошая идея полковника Модля»?
И не её ли принялся упоминать Маяковский в своих публичных выступлениях?
Если так было на самом деле, то получается, что к отказу отпустить Маяковского на фронт его «благонадёжность» (или «неблагонадёжность») никакого отношения не имела. Просто власти тогда считали, что перо поэта-футуриста приносит России гораздо более ощутимую пользу, чем штык, который он хотел взять в свои руки.
Разумеется, это всего лишь наше предположение.
«Хороших идей» у Владимира Модля вполне могло быть и больше «одной». Например, именно он мог порекомендовать поэту переехать в Петроград, и там своим творчеством помогать отчизне.
Как бы там ни было, но вскоре после того, как Маяковскому не разрешили идти в армию, он покинул Москву. Его сестра Ольга потом написала:
«В конце 1914 года, собираясь ехать в Петроград, он сказал нам:
– Если придёт старьёвщик, то скажите ему, чтоб зашёл вечером. Я хочу кое-что продать.
Брату нужны были деньги на дорогу.
Вечером пришёл старьёвщик…
Так закончила своё существование жёлтая кофта, о которой не перестают вспоминать».
Если для Маяковского конец 1914 года связан с расставанием с жёлтой кофтой, то поэту-фронтовику Николаю Гумилёву декабрь 1914-го запомнился наградой – 24 декабря за удачную ночную разведку перед сражением рядовой Гумилёв был награждён Георгиевским крестом 4 степени и повышен в звании до ефрейтора. 15 января 1915 года его произвели в унтер-офицеры.
А Маяковский в январе 1915 года писал из Петрограда матери и сестрам:
«Дорогие мамочка, Людочка, Оличка!
Спасибо за письма. Я живу ничего. Пью, ем, сплю, одет и обут. Что же касается моих дел, то пока я сам об этом ничего не знаю. Во всяком случае, пока всё говорит за то, что я устроюсь хорошо. Приеду ли скоро в Москву, не знаю: как сложатся обстоятельства. Обо всём важном, конечно, немедленно же напишу вам. Вы меня не забывайте, пожалуйста.
Я ничего не пишу оттого, что у меня характер гнусный, письма же от вас жду с нетерпением.
Целую вас всех крепко.
Ваш Володя»
В Петрограде весь январь и февраль находились и Бурлюк с Каменским. Отношение к войне у поэтов-футуристов к тому времени сильно изменилось. Об этом – главка «ЗИМА» в «Я сам»:
«Отвращение и ненависть к войне. «Ах, закройте, закройте глаза газет» и другие.
Интерес к искусству пропал вовсе».
Слова, заключённые в кавычки, взяты Маяковским из его стихотворения «Мама и убитый немцами вечер». Оно написано в октябре 1914 года:
«По чёрным улицам белые матери
судорожно простёрлись, как по гробу глазет.
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»»
В другом написанном тогда стихотворении («Я и Наполеон») отчётливо видно, что у Маяковского произошла переоценка ценностей. Ежедневная гибель в бесконечных сражениях сотен, а иногда и тысяч человек изменила отношение поэта к солнцу, которое ещё совсем недавно он называл своим отцом. Теперь он со светилом не церемонился:
«Через секунду
встречу я
неб самодержца, —
возьму и убью солнце!»
А теперь обратимся к юной москвичке, которая в ту пору занимала огромную часть сердца поэта.
Любовная тема
Звали её Эльза Каган, она была на шесть лет моложе Маяковского, который познакомился с нею ещё осенью 1913 года. Эльза дружила тогда с девочками из семьи портных Хвасов, у которых, по словам Василия Васильевича Катаняна, «была маленькая мастерская возле Триумфальной площади, напротив Воротниковского переулка». Однажды у Хвасов собралось много гостей, среди которых был и Маяковский. Эльза Каган писала:
«Ужинали в портняжной мастерской за длинным столом. Сидели, пили чай».
Эльза слушала разговоры гостей, которые были чуть старше её, и…
«… теребила бусы на шее… нитка разорвалась, бусы покатились во все стороны. Я под стол, собирать, а Володя за мной, помогать. На всю долгую жизнь запомнились полутьма, портняжный сор, булавки, нитки, скользкие бусы и рука Маяковского, лёгшая на мою руку».
Вскоре началось энергичное ухаживание, визиты к Эльзе домой. Она писала:
«Не застав меня, Володя оставлял свою визитную карточку сантиметров в пятнадцать шириной, на которой жёлтым по белому во всю ширину и высоту было написано: ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ. Моя мама неизменно её ему возвращала и неизменно ему говорила: „Владимир Владимирович, вы забыли вашу вывеску“. Володя расшаркивался, ухмылялся и клал вывеску в карман».
Кавалер Эльзы вёл себя тогда чрезвычайно бесцеремонно, о чём она тоже упомянула:
«Под конец вечера, когда родители шли спать, мы с Володей переезжали в отцовский кабинет, с большим письменным столом, с ковровым диваном и креслами на персидском ковре, книжным шкафом…
Но мать не спала, ждала, когда же Володя, наконец, уйдёт, и по нескольку раз, уже в халате, приходила его выгонять: "Владимир Владимирович, вам пора уходить! "Но Володя, нисколько не обижаясь, упирался и не уходил».
Биографы Маяковского утверждают, что таков-де был необузданный темперамент у молодого поэта.
Старшая сестра Эльзы, которую звали Лили, впоследствии написала:
«Маяковский в то время был франтом – визитка, цилиндр. Правда, всё это со Сретенки, из магазинов дешёвого готового платья. И бывали трагические случаи, когда, уговорившись с вечера прокатить Эльзу в Сокольники, он ночью проигрывался в карты и утром, в визитке и цилиндре, катал её вместо лихача на трамвае».
Как-то Маяковский приехал в подмосковную Малаховку, где Каганы снимали дачу. Эльзе тот его визит запомнился так:
«Я не обращала внимания на то, что он поэт. И внезапно в тот вечер меня как будто разбудили, как будто зажгли яркий свет, меня озарило, и вдруг я услышала негромкие слова:
Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
И дальше…
Я остановилась и взволнованно спросила:
– Чьи это стихи?
– Ага! Нравится?.. То-то! – сказал Володя, торжествуя.
Мы пошли дальше, потом сели где-то, и на одинокой скамейке, под звёздным небом, Владимир Маяковский долго читал мне свои стихи…
Сознательная дружба с Маяковским началась буквально с этой строчки:
Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
В эту ночь зажглось во мне великолепное, огромное, беспредельное чувство восхищения и преданнейшей дружбы, и так по сей день мною и владеют».
Юная Эльза Каган влюбилась в молодого поэта-футуриста:
«… поражённая поэзией Маяковского, я немедленно привязалась к нему изо всех сил, я превратилась в страстную, ярую защитницу и пропагандистку его стихов! Всё тогда им написанное я знала наизусть и буквально лезла в драку, если кто-нибудь осмеливался критиковать поэзию Маяковского или его самого».
Кстати, не к отцу ли Эльзы Каган игравший в бильярд Маяковский направлял Корнея Чуковского, когда говорил:
«Я ухаживаю за его дочерью. Она уже знает, что я великий поэт… А папаша сомневается. Вот и скажите ему».
Другое воспоминание Эльзы:
«Вижу его у меня в комнате, он сидит, размалёвывает свои лубки военных дней (очевидно, то было в августе-сентябре 14-го года):
Плыли этим месяцем
турки с полумесяцем.
С криком «Дейчланд юбер аллес!»
немцы с поля убирались.
Австрияки у Карпат
поднимали благой мат…
Володя малюет, а я рядом что-нибудь зубрю, случалось, правлю ему орфографические ошибки».
Отец Эльзы был тогда серьёзно болен. И в Москву приехала его старшая дочь Лили (или Лиля), которая жила в северной столице:
«В Москву из Петрограда приехала Лиля. Здоровье отца опять ухудшилось. Как-то мимоходом она мне сказала: «К тебе тут какой-то Маяковский ходит… Мама из-за него плачет». Я необычайно удивилась и ужаснулась: мама плачет! И когда Володя позвонил мне по телефону, я тут же сказала ему: «Больше не приходите, мама плачет».
Я не хотела, чтобы мама плакала из-за меня».
А вот что написала об этом сама Лили:
«С Маяковским познакомила меня моя сестра Эльза… Мы сидели с ней и с Лёвой Гринкругом вечером на лавочке возле дачи.
Огонёк папиросы. Негромкий ласковый бас:
– Элик! Я за вами. Пойдём, погуляем?
Мы остались сидеть на скамейке…
Начался дождь…
Нудный дождь! Никакого просвета! Жаль, темно, не разглядела Маяковского. Огромный, кажется. И голос красивый…
Вот наконец огонёк папиросы. Белеет рубашка. На Эльзе накинут пиджак Маяковского.
– Куда же ты пропала? Не понимаешь, что я не могу без тебя войти в дом! Сижу под дождём, как дура…
– Вот видите, Владимир Владимирович, я говорила вам!
Маяковский прикурил новую папиросу о тлеющий окурок, поднял воротник и исчез в темноте. Я изругала Эльзу и мокрая, злая, увела её домой».
Война продолжается
10 февраля 1915 года начался суд над депутатами Государственной думы от большевистской фракции. Их арестовали три месяца назад (4 ноября) на конференции большевиков в дачном поселке Озерки под Петроградом. Алексей Егорович Бадаев, Матвей Константинович Муранов, Григорий Иванович Петровский, Фёдор Никитич Самойлов и Николай Романович Шагов обвинялись в том, что состояли членами организации, поставившей своей целью свержение царизма.
Знал ли что-нибудь об этом процессе Маяковский, следил ли за его ходом?
О суде писали все петроградские газеты. Маяковский читал их, поэтому должен был знать о судебных заседаниях и о сражениях на полях войны, о тех, кто погиб, и о тех, кого представили к наградам. 11 февраля, как мы помним, он вышел на эстраду артистического кабачка «Бродячая собака» и, обращаясь к сидевшим за столиками, прочёл стихотворение «Вам!»:
«Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и тёплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!»
В этом стихотворении присутствовало слово, которое принято относить к ненормативной лексике. Оно вызвало яростную вспышку гнева у слушателей.
Газета «Биржевые ведомости» написала:
«Эти ужасные строки Маяковский связал с лучшими чувствами, одушевляющими нас в настоящее время, с нашим поклонением тем людям, поступки которых вызывают восторг и умиление!..
Разросся скандал. Мужчины повскакали с криками негодования, дамы – в слезах. Артисты бросились к владельцу "Бродячей собаки "Пронину:
– После подобной мерзости мы считаем позорным ходить сюда!..
А Пронин ответил:
– И не надо».
15 февраля суд, лишив пятерых думцев всех прав состояния, приговорил их к вечному поселению в Сибири – в Туруханском крае.
Как отреагировал на это Маяковский, свидетельств нет. Известно лишь, что 20 февраля в той же «Бродячей собаке» он сделал доклад и прочёл отрывки из поэмы, над которой тогда работал. Газета «Голос жизни» сообщила читателям:
«В подвале «Бродячая собака» состоялся вечер Маяковского, недавно обновившего свою известность бурным инцидентом на одном из предшествовавших вечеров. Подробности последнего, к сожалению, не могут быть приведены, так как в печати по необходимости эти "подробности " заменяются точками».
Журнал «Наши дни»:
«Маяковский на этом вечере выступал не только как поэт, а как законодатель нового искусства, теоретик новой поэзии, обоснованию которой он посвятил специальный „доклад“…
Конечно, он не Верхарн, и не Уолт Уитмен, но он безусловно болен образами и видением. А это – святая болезнь…
Как удивился бы Маяковский, если б знал, насколько он, уничтожающий Пушкина, сродни психологически неистовым романтикам первой эпохи романтизма».
Газета «Голос жизни»:
«Стихотворения Маяковского, представляющие в звуковом отношении невыносимую какофонию, хороши тем, что не являются принадлежностью футуристической теории, – хороши своей остротой и выпуклой образностью…
К сожалению, Маяковский производит впечатление жестоко ушибленного критикой человека».
Оценивать поэму, с которой начал знакомить публику «ушибленный критикой» стихотворец, газеты не спешили. Лишь во второй половине февраля 1915 года, когда в первом номере альманаха «Стрелец» был напечатан отрывок из неё, журнал «Наши дни» наконец-то откликнулся. Не на поэму, нет. На её автора:
«Но вот мы подходим к самому „Далай-Ламе“ от футуризма, затмившему своей ярко огненной звездой (нахальство – говорят одни, гениальность – утверждают другие) Хлебникова, Кручёных и Бурлюков – к Владимиру Маяковскому…
Дитя больного века, упадочник, Маяковский жаждет прикоснуться к земле, к реальности и обманывает себя, думая, что это достижимо при помощи резких, грубых слов; но, увы, идя по этому пути, он попадает в объятия того, что он больше всего ненавидит – бессильного, словесного романтизма. И в этом зачаток намечающейся трагедии его творчества – пышного, многообещающего».
25 февраля в «Бродячей собаке» праздновали выход «Стрельца». В этом альманахе были напечатаны (в расчёте на коммерческий успех) произведения символистов и их заклятых врагов – футуристов. Ватага Давида Бурлюка ликовала – ведь ещё совсем недавно литературные мэтры смеялись над ними, а теперь вынуждены шагать с ними в ногу. Впрочем, и по поводу такого «шагания» у вчерашних гилейцев было что сказать. Об этом – газета «Современный мир»:
«… г. Маяковский, наидерзостнейший футурист, презрительно заявил, говоря о возможном воздействии символистов на футуристов, что он не желает, чтобы ему «прививали мёртвую ногу»…».
В тот вечер в «Бродячую собаку» пришёл и Максим Горький. Уже целый год «буревестник революции» редактировал газеты большевиков «Звезда» и «Правда», а также художественный отдел большевистского журнала «Просвещение». Он как бы сам стал завзятым большевиком.
О встрече Горького и футуристов вспоминал художник Юрий Анненков:
«В уже довольно поздний час Владимир Маяковский, как всегда – с надменным видом, поднялся на крохотную эстраду под привычное улюлюканье так называемых «фармацевтов», то есть посетителей, не имевших никакого отношения к искусству. Маяковский произнёс, обращаясь к ним:
– Я буду читать для Горького, а не для вас!
Гул «фармацевтов» удвоился. Максим Горький, равнодушный, оставался неподвижен».
Маяковский прочёл несколько своих стихотворений и покинул эстраду. О том, что произошло дальше – в рассказе Анненкова:
«– Болтовня! Ветряная мельница! – кричала публика.
Нахмурив брови, Горький встал со стула и твёрдым голосом произнёс:
– Глумиться здесь не над чем. Это очень серьёзно. Да! В этом есть что-то большое. Даже если это большое касается только формы.
И, протянув руку гордо улыбавшемуся Маяковскому, он добавил:
– Молодой человек, я вас поздравляю!
Мы устроили овацию Горькому, и эта ночь превратилась в подлинный триумф Маяковского. Даже "фармацевты "аплодировали».
На следующий день (26 февраля) «Биржевые ведомости» сообщали читателям:
«Встреченный продолжительными аплодисментами собравшейся многочисленной публики, Горький с необычной теплотой и подъёмом произнёс краткую речь о "молодом " в жизни, о ценности этого „молодого“ и значении „активности“».
Газета «День» привела такое высказывание Горького:
«Футуристы, – говорит он, – скрипки, хорошие скрипки, только жизнь ещё не сыграла на них скорбных мотивов. Талант у них, кажется, есть, – запоют ещё хорошо. Над символистами в своё время смеялись и ругали их точно так же, а теперь они всеми признаны, в славе… У футуристов есть одно бесспорное преимущество – молодость. Жизнь же принадлежит молодым, а не убелённым сединами…
Много лишнего, ненужного у футуристов, они кричат, ругаются, но что же им делать, если их хватают за горло! Надо же отбиваться.
Конечный вывод Максима Горького: «В футуризме всё-таки что-то есть!»»
Выступление Владимира Маяковского (по свидетельству литературоведа Александра Николаевича Тихонова, писавшего под псевдонимом А.Серебров) Горькому очень понравилось:
«– Зря разрывается по пустякам! – сказал Горький, выходя из подвала. – Такой талантливый! Грубоват? Это от застенчивости. Знаю по себе. Надо бы с ним познакомиться поближе».
В комментариях к первому тому шеститомника Маяковского, изданного в 1973 году, даётся прямо противоположное мнение «великого пролетарского писателя»:
«Отношение М.Горького к футуризму в целом было резко отрицательным. Он рассматривал это течение в ряде других антиреалистических, буржуазно-эстетических группировок начала XX века. "Большинство этих течений, – справедливо отмечал Горький, – явно антисоциальны, антидемократичны и не жизнеспособны, ибо чисто литературны, выдуманы, искусственно внесены на русскую почву, в русский быт "».
Неискушенному читателю, который ознакомится с этими высказываниями советских искусствоведов, будет трудно разобраться, как же на самом деле относился Горький к молодым поэтам-авангардистам. Поэтому заглянем в его статью «О русском футуризме», напечатанную 15 апреля 1915 года в первом номере «Журнала журналов»:
«Русского футуризма нет. Есть просто Игорь Северянин, Маяковский, Бурлюк, В.Каменский… Они мало знают, мало видели, но они, несомненно, возьмутся за разум, начнут работать, учиться».
Как точно углядел Горький в шумных, дерзко крикливых футуристах их необразованность и отсутствие жизненного опыта. Обратим внимание также на то, что первым Алексей Максимович поставил Игоря Северянина (даже по имени его назвал) и лишь затем упомянул Маяковского.
Далее Горький писал:
«Их много ругают, и это, несомненно, огромная ошибка. Не ругать их нужно, к ним нужно просто тепло подойти, ибо даже в этом их крике, в этой их ругани есть хорошее: они молоды, у них нет застоя, они хотят нового, свежего слова, и это достоинство несомненное…
Они молоды… молоды.
Я только недавно увидел их впервые живыми, настоящими, и, знаете, футуристы не так уж страшны, какими выдают себя и как разрисовывает их критика.
Вот возьмите для примера Маяковского – он молод, ему всего 20 лет, он криклив, необуздан, но у него, несомненно, где-то под спудом есть дарование. Ему надо работать, надо учиться, писать хорошие, настоящие стихи. Я читал его книжку стихов. Какое-то меня остановило. Оно написано настоящими словами…».
Итак, великий Горький заявил, что в России «футуризма нет». Маяковский спорить с ним не стал и вскоре написал (в статье «Капля дегтя»):
«Футуризм умер как особенная группа, но во всех нас он разлит наводнением. Но раз футуризм умер как идея избранных, он нам не нужен. Первую часть нашей программы – разрушение – мы считаем завершённой. Вот почему не удивляйтесь, если сегодня в наших руках увидите… чертёж зодчего, и голос футуризма… выльется в медь проповеди».
Прочитав это высказывание, Зинаида Гиппиус тут же написала статью, которую опубликовала в газете «Утро России». В ней говорилось:
««Футуризм умер», – заявил единственный талантливый его представитель Маяковский, но при этом делает такие странные оговорки, которые оправдывают нашу прежнюю интуитивную ненависть к футуризму».
Написав про «нашу» ненависть, Гиппиус тем самым как бы заявляла, что и Дмитрий Мережковский к футуризму относится по-прежнему отрицательно.
19 апреля 1915 года в Петроградском Народном доме давалась опера Мусоргского «Борис Годунов». Александр Тихонов повёл на неё Маяковского:
«Спектакль был устроен Горьким и Шаляпиным специально для рабочих… Маяковскому очень хотелось посмотреть, как будут рабочие принимать оперу и самого Шаляпина.
В антрактах мы толкались с ним в коридорах театра и подслушивали, что говорят о спектакле рабочие. Своего мнения он не высказывал. В последнем акте, когда Годунов умирал, Маяковский, сидевший рядом со мной, стал ёрзать в кресле и украдкой сморкаться.
После окончания оперы он попросил познакомить его с Шаляпиным. Мы пошли за кулисы. Шаляпин, ещё в гриме и царском одеянии, лежал глыбой в кресле, вытянув вперёд ноги в расшитых татарских сапогах, жадно курил.
Маяковский не выдержал:
– Что вы делаете? Разве вам можно курить? – набросился он на Шаляпина.
Тот понял это по-своему:
– Знаю, что вредно. Давно собираюсь бросить!..
Маяковский, стоя в углу, руки в карманах, вглядывался в него, скосив глаза, с таким вниманием, как будто старался его рисовать.
– Жалко вас, такого, тратить на царей! – сказал он грубовато. – Вот бы написал кто-нибудь музыку на мою трагедию, а вы бы сыграли!
Шаляпин снял парик и грим Годунова и сразу стал незначительным белобрысым блондином.
– Вы, как я слышал, в своем деле тоже Шаляпин?
– Орать стихами научился, а петь еще не умею! – сказал Маяковский, смутившись от похвалы».
Первая поэма
Весной 1915 года из Москвы в Петроград приехал Сергей Есенин. Он разыскал Александра Блока, пришёл к нему и прочёл свои стихи, которые были встречены с восторгом. Блок познакомил талантливого стихотворца с молодыми петроградскими поэтами. Был среди них и девятнадцатилетний Леонид Каннегисер, с которым Есенин быстро подружился и даже пригласил его в своё родной село Константинове на Рязанщине. Марина Цветаева впоследствии вспоминала:
«Лёня. Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь разительно-разных лицах их сошлись, слились две расы, два класса, два мира. Сошлись – через всё и вся – поэты. Лёня ездил к Есенину в деревню, Есенин в Петербурге от Лёни не выходил. Так и вижу их две сдвинутые головы – Лёнина чёрная головная прядь, Есенинская сплошная кудря, курча, Есенинские васильки, Лёнины карие миндалины… Удовлетворение, как от редкой и полной рифмы».
А троица футуристов (Бурлюк, Каменский и Маяковский) в это время вновь объявилась в Москве. Поселились в Большом Гнездниковском переулке в доме Эрнеста Карловича Нирензее (Нирнзее). Мария Бурлюк впоследствии вспоминала:
«Весной 1915 года Маяковский жил напротив нас (в доме Нирнзее)…
Тогда Маяковский имел обыкновение каждое утро стучаться к нам и узнавать: «что нового?» Спрашивал: «Почему вы запираетесь? Боитесь, что ваши дети сбегут?»»
В Московском охранном отделении возращение Маяковского в Москву тоже отметили – сохранилась бумага, в которой говорится, что он остановился в доме Нирнзее по Большому Гнездниковскому переулку в доме № 4, в квартире 317, что он…
«… художник, пишет картины и продаёт; прописан… до 15 августа 1915 года. Более подробных сведений никаких не имеется».
А этот «художник» в тот момент складывал стихи про других поэтов:
«И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк —
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк…
А из сигарного дыма
ликёрною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.
Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!»
Так начинала создаваться первая поэма Маяковского. Корней Чуковский потом писал:
«Начала поэмы тогда ещё не было. Был только этот отрывок, где говорится о Северянине и Бурлюке. Этот отрывок Маяковский прочитал мне… на крыше гнездниковского небоскрёба, бывшего дома Нирензее».
В Москве тогда открывалась «Выставка в салоне Михайловой. Татлин, Маяковский, Василий Каменский». Там же экспонировались и картины Валентины Ходасевич, которая вспоминала:
«На одной из стен зала, под самым потолком в стене – круглое отверстие вентиляции. Маяковский, с умилением глядя на него, сказал:
– Вы тут постойте, а я пойду проверю включение.
Вентилятор действовал и я, не ожидая такой мощи звука, похожего и на сирену и на рычание, и от сильной струи холодного воздуха отскочила к противоположной стене. Вернулся довольный Маяковский.
– Ну, как? Ведь здорово будет привлекать публику?.. Вот смотрите, – из кармана он вынул водочную бутылку, а из свёртка бумаги – два старых башмака, связанных шнурком. – Завтра, перед самым открытием, прикреплю башмаки к кронштейну: они будут свободно висеть в воздухе, а бутылка – стоять на полке. Под всем этим крупно и красиво будет написано: «Владимир Маяковский»».
У Василия Каменского тоже планировалась «передвижная выставка» да ещё «во всех залах». В день открытия, по словам Валентины Ходасевич, произошло следующее:
«Публики уже набралось много – все залы полны… Вдруг раздался рёв и треск вентиляторов, все ринулись в соседний зал, где около своего произведения стоял с презрительной, но торжествующей усмешкой Маяковский. Раздались возгласы возмущения. Кричали:
– Выключайте!..
Вентилятор был выключен, и тут появился Василий Каменский, являвший собой синтетический экспонат: он распевал частушки, говорил прибаутки, аккомпанировал себе ударами поварёшки о сковородку, на верёвках через плечо висели – спереди и сзади – две мышеловки с живыми мышами. Сам Вася, златокудрый, беленький, с нежным розовым лицом и голубыми глазами, мог бы привлекать симпатии, если бы не мыши. От него с ужасом шарахались, а он победно шёл по залам. Это и была его «передвижная выставка»».
А где-то на западе в это время продолжались военные действия.
Бывшая возлюбленная поэта, Софья Шамардина, стала к тому времени сестрой милосердия и работала в госпитале города Люблин, где продолжала с энтузиазмом пропагандировать творчество поэта-футуриста:
«Помню, милый толстяк главврач охал и ахал вместе с женой, когда я читала стихи Маяковского:
– Ну, что вы мяса не едите – это ещё ничего, но что вы считаете это поэзией – это уж, знаете ли..».
Наступил май 1915 года.
Маяковский вернулся в Петроград, написав впоследствии в «Я сам»:
«Выиграл 65 рублей. Уехал в Финляндию. Куоккала…
Семизначная система (семипольная). Установил семь обеденных знакомств. В воскресенье «ем» Чуковского, понедельник – Евреинова и т. д. В четверг было хуже – ем репинские травки. Для футуриста ростом в сажень – это не дело.
Вечера шатаюсь пляжем. Пишу «Облако»».
Одним из тех семерых, которых в Куоккале «ел» Маяковский, был художник Юрий Анненков, впоследствии написавшей о тогдашнем творчестве поэта-футуриста:
«Марксизм ещё не успел проникнуть в его поэзию, тогда ещё бесстрашно своеобразную».
Что же касается «репинских травок», то тут история такая. Скончавшаяся незадолго до того супруга художника Репина Наталья Борисовна Нордман-Северова была убеждённой вегетарианкой. Юрий Анненков писал:
«Она… кормила Репина и посетителей его „сред“ блюдами, приготовленными из сена. Одни в шутку называли репинские обеды „Сенным рынком“, другие – „сеновалом“».
Вот эти «обеды» не очень нравились верзиле Маяковскому.
О процессе написания первой его поэмы Корней Чуковский потом вспоминал:
«Это продолжалось часов пять или шесть – ежедневно. Ежедневно он исхаживал по берегу моря 12–15 верст. Подошвы его стёрлись от камней. Нанковый сиреневый костюм от морского ветра и солнца давно уже стал голубым, а он всё не прекращал своей безумной ходьбы.
Так Владимир Маяковский писал свою поэму «Облако в штанах».
Дачники смотрели на него с опаской. Когда он захотел прикурить и кинулся к какому-то стоявшему на берегу джентльмену, тот в панике убежал от него…
Иногда – в течение недели ему удавалось создать семь или восемь стихов, и тогда он жаловался, что у него —
Тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.
Иногда какая-нибудь рифма отнимала у него целый день, но зато, записав сочинённое, он уже не менял ни строчки. Записывал он большей частью на папиросных коробках..».
«Нанковой» тогда называли хлопчатобумажную ткань, произведённую в китайском городе Нанкине.
Писатель Борис Александрович Лазаревский высказался о тогдашнем творчестве поэта-футуриста очень резко:
«… поэзия Маяковского есть, несомненно, творчество голодного, озлобленного зверя… Демонизм его – злоба на бога, который ничего ему не дал, ибо он и не просит».
Корней Чуковский так не считал, и потому охарактеризовал поэму Маяковского иначе:
«У него был хорошо разработанный план: „долой вашу любовь“, „долой ваше искусство“, „долой ваш строй“, „долой вашу религию“ – четыре крика четырех частей поэмы».
К лету 1915 года поэма о любви, поначалу названная "Тринадцатым апостолом", а потом (по требованию цензуры), переименованная в "Облако в штанах", была почти завершена. Читавшие её вряд ли могли сходу обнаружить эти четырежды повторённые «долой!» — ведь поэма была написана так, что очень многое понять в ней было чрезвычайно трудно. Пересказать её содержание тоже непросто. Но кое-что всё же бросается в глаза и остаётся в памяти.
Футуристское «Облако»
В прологе поэмы, явно для того, чтобы утвердить себя в звании настоящего лирического поэта, имеющего право писать о любви, Маяковский объявил, что он «вывернул» себя наизнанку, превратившись в «одни сплошные губы». Поэтому он готов давать уроки любви и призывал: «Приходите учиться!» А чтобы в его внешности ни у кого не возникало никаких сомнений, он заявляет:
«У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огро́мив мощью голоса,
иду – красивый,
двадцатидвухлетний».
Вот таким представал перед читателями автор футуристической поэмы: молодым, красивым, талантливым. Казалось бы, все женщины мира должны влюбляться в него с первого взгляда. Ан нет! На собственном любовном фронте у него возникли проблемы – некая Мария, в которую он пылко влюблён, не пришла на обещанное свидание.
««Приду в четыре», – сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять».
Тут же возникли вопросы:
«Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?»
Влюблённый поэт, не удостоившийся ответного чувства, готов был рвать и метать, раскидывая в стороны своих более удачливых соперников. И он восклицал:
«Нам, здоровенным,
с шагом саженным,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!»
Нет, внешне он был спокоен. Но на всякий случай напоминал о том душевном состоянии, которое было у него в день кончины отца:
«… а самое страшное
видели —
лицо моё,
когда
я
абсолютно спокоен?»
Терзания поэта продолжаются на протяжении всей первой главы поэмы. Вторая начинается с призыва Маяковского прославлять. Его, перечеркнувшего своё прошлое:
«Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано, ставлю «nihil»».
И он надменно заявлял о том, что его обучение закончено, что больше учиться ему нечему:
«Никогда ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!»
Даже вчерашнее солнце уже не вдохновляло поэта-нигилиста и его сподвижников-футуристов:
«Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!»
Да что там солнце! Даже строки, написанные Маяковским, ничто в сравнении с жизнью, такой бесценной и такой беззащитной:
«Я,
златоустейший,
чьё каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!»
Даже Мария и его не нашедшая отклика любовь к ней оказались забыты. Продолжая славить самого себя, Маяковский торжественно провозглашал:
«я,
осмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрёзный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.
Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венке революций
грядёт который-то год.
А я у вас – его предтеча…»
Свою душу (как горьковский Данко – своё сердце) поэт готов отдать людям – тем, кто будет совершать этот революционный бунт:
«И когда
приход его
мятежом оглашая,
выйдите к спасителю —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя».
Этим торжественным обещанием вторая глава завершается.
В третьей главе самовосхваление продолжается. Правда, пока нет революций, поэт свою душу тщательно оберегает от посторонних взглядов:
«Хорошо, когда в жёлтую кофту
душа от осмотров укутана».
Обращаясь к тем, кто видел его танцующим на сцене, Маяковский говорил с язвительной усмешкой:
«Вы,
обеспокоенные мыслью одной —
«изящно пляшу ли» —
смотрите, как развлекаюсь
я —
площадный сутенёр и карточный шулер!
От вас,
которые влюблённостью мокли,
от которых в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз».
Мало того, что Маяковский собирался уйти, он грозился, что при этом ещё…
«… впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса».
А о грядущих революционных потрясениях и о явно сочувствовавшем им отце ему напоминало угасающее солнце:
«На небе красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат».
Удивляться этой многих поражавшей экстравагантности Маяковского было не надо, ведь он не просто поэт, не просто пророк и провидец:
«Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто
в самом обыкновенном Евангелии
тринадцатый апостол.
И когда мой голос
похабно ухает —
от часу к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки».
Этими словами завершается третья глава. В четвёртой, вспомнив, наконец, о своей несчастной любви, поэт вновь начинает рваться к своей любимой:
«Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!..
Открой!..
Видишь – натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!»
«Булавки»! Это опять воспоминание о безвременно ушедшем отце. Вскоре последует ещё одно:
«И когда моё количество лет
выпляшет до конца —
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца».
Ещё одно обращение к Марии:
«Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотные женщины мокрой горою сидят, —
это сквозь жизнь я тащу
миллион огромных чистых Любовей…».
Довольно оригинальное обращение к любимой. Но возникает вопрос: почему поэт с таким упорством добивается любви отвергнувшей его Марии? Ведь она же сказала ему (ещё в середине первой главы поэмы): «Знаете – я выхожу замуж». То есть выбор ею сделан! Она предпочла другого. И поэтому пора бы начать поиски той, кто отдаст ему руку и сердце. Но Маяковский знает, что его сердце может остановиться, уколи он случайно палец булавкой. Стало быть, ждать он не может. И он заявляет Вседержителю:
«– Послушайте, господин бог!..
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!
Я думал – ты всемогущий божище,
а ты недоучка, крохотный божик..
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик».
И недоучка-поэт, собираясь привести свою угрозу в исполнение, кричит:
«Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!»
Всё. Поэма «Облако в штанах» закончилась.
Так как никаких денег она пока не принесла, приходилось искать другие способы их получения. В «Я сам» об этом сказано:
«65 рублей прошли легко и без боли. „В рассуждении чего б покушать“ стал писать в „Новом сатириконе“».
В журнале «Новый сатирикон» было напечатано несколько его стихотворений. Художник Алексей Александрович Радаков вспоминал:
«В 1915 году, когда Маяковский жил в Петрограде, в «Новом сатириконе» я иллюстрировал ряд стихов Маяковского – «Гимн судье», «Гимн взятке», «Гимн учёному», «Гимн здоровью». Мне было очень трудно. Я чувствовал, что Маяковского надо иллюстрировать как-то иначе, не так, как других поэтов. Не удавался рисунок «Гимн учёному», рисунок получался какой-то неубедительный. Маяковский долго смотрел на рисунок и сказал:
– А вы спрячьте голову учёного в книгу, пусть с головой уйдёт в книгу.
Я так и сделал. И рисунок тематически очень выиграл, тема стихотворения была раскрыта».
Глава восьмая Судьбоносные знакомства
Знакомство с Горьким
Однажды (скорее всего, это произошло в июне 1915 года) в дачное местечко под Петроградом… Впрочем, пусть об этом расскажет актриса Мария Фёдоровна Андреева (Желябужская), гражданская жена Горького:
«Как-то… в местечко Мустамяки, где Алексей Максимович жил на вилле Ланг, приехал какой-то человек. Ко мне пришла снизу служащая и сказала:
– Мария Фёдоровна, там пришёл какой-то длинный, очень длинный человек и хочет видеть непременно Алексея Максимовича».
Андреева пошла взглянуть на гостя, но кто это, не узнала. Выяснила только, что незнакомец действительно хочет встретиться с Горьким.
«– Вы что, к нему по делу пришли?
– Не знаю, как вам сказать. Должно быть, по делу… По всей вероятности, по делу. А, в общем, просто мне его видеть хочется».
Дело было около полудня, но вставали на этой вилле поздно. Завтракали тоже поздно.
«У нас стоял ещё утренний завтрак на столе. Спрашиваю:
– Вы кофе хотите? Или, может быть, чаю?
– Да, не откажусь.
– Вот и хорошо. Вы посидите, я пойду, скажу, чтобы подогрели.
И пошла из комнаты, а он мне вдогонку:
– А вы не боитесь, что я у вас серебряные ложки украду?
Помню, так это мне странно показалось, что я немножко оторопела, но говорю:
– Нет, не боюсь. Да, по правде сказать, у нас и ложки-то не серебряные.
Я ушла.
Потом пришла, принесла кофе, подвинула хлеб, ветчину, что там ещё было, прошу:
– Угощайтесь, пожалуйста!
Он посмотрел на меня и говорит:
– Вы на меня не обиделись?
– Нет, не обиделась… А вы не Маяковский?
– Маяковский.
Он широко и весело улыбнулся, и мне бросилось в глаза – молодой, а зубов у него нет».
Эпизод этот без последствий не остался – через год во втором альманахе «Стрелец» было напечатано стихотворение Маяковского «Анафема», в котором были строки:
«Хорошо —
я ходил,
я дарил цветы,
я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!»
Горький в этот момент работал, писал. Поэтому после завтрака Мария Фёдоровна пригласила гостя в лес – грибы собирать. И там он стал читать ей стихи.
«Помню, мне очень понравилось одно, оно начиналось так:
Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
Голос у него хороший был, читал он, как хороший актёр. Он был бы великолепным актёром, если бы он этим делом занимался».
Когда вернулись из леса, произошла встреча с Горьким.
«Слышим: лестница скрипит, спускается Алексей Максимович. Очень было занятно смотреть, как волновался Маяковский. У него челюсти ходили, он им места как бы не находил, и руку в карман то положит, то вынет, то положит, то вынет.
Алексей Максимович вышел, посмотрел на него:
– А, здравствуйте! Вы кто – вы Владимир Маяковский?
– Да.
– Ну, отлично, чудесно, чудесно. Давайте обедать!»
После обеда Маяковский познакомил Горького со своим поэтическим творчеством, о чём потом и в автобиографических заметках написал:
«М.Горький. Читал ему части „Облака“. Расчувствовавшийся Горький обплакал мне весь жилет. Расстроил стихами. Я чуть загордился. Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете. Всё же жилет храню. Могу кому-нибудь уступить для провинциального музея».
Об этой встрече и о чтении Маяковским стихов написал впоследствии и Александр Тихонов:
«Читал, от волнения, плохо и дольше, чем бы следовало.
Горький слушал внимательно, покуривал и чему-то в усы улыбался.
– Хорошие стихи, – сказал он решительно, – особенно те, где про господа бога. Влетело старику! После Иова ему, пожалуй, ни от кого ещё так не доставалось!.. Про звёзды тоже – хорошо… Только зачем вы размахиваете во все стороны руками? И гоняетесь за побрякушками? Не надо… Отвлекает… В драке самое главное собрать себя в кулак. Поверьте – испытано… Драться вам придётся немало. Возьмите себя в руки и бейте наверняка… Под микитки!
Смотрины прошли удачно. Обе стороны остались довольны друг другом».
Мария Андреева:
«Алексей Максимович восхищался им, хотя беспокоила его немножко, если можно так выразиться, зычность поэзии Владимира Владимировича. Помнится, как-то он ему даже сказал: „Посмотрите, – вышли Вы на заре и сразу заорали, что есть силы-мочи. А хватит ли Вас, день-то велик, времени много?“»
Сам Алексей Максимович в одном из своих писем (написанном в мае 1930 года) об этой встрече с Маяковским высказался так:
«Стихи очень понравились мне, и читал он отлично, даже разрыдался, как женщина, чем весьма испугал и взволновал меня. Жаловался на то, что «человек делится горизонтально по диафрагме». Когда я сказал ему, что – на мой взгляд – у него большое, хотя, наверное, очень тяжёлое будущее, и что его талант потребует огромной работы, он угрюмо ответил: «Я хочу будущего сегодня», и еще: «Без радости – не надо мне будущего, а радости я не чувствую!».
Вёл он себя очень нервозно, очевидно, был глубоко расстроен…
Он говорил как-то в два голоса, то – как чистейший лирик, то – резко скептически. Чувствовалось, что он не знает себя и чего-то боится… Но – было ясно: человек своеобразно чувствующий, очень талантливый и – несчастный».
Прощаясь, Горький подарил Маяковскому свою повесть «Детство», сделав на ней надпись:
«Без слов, от души. Владимиру Владимировичу Маяковскому М.Горький».
Знакомство с Репиным
В конце мая 1915 года в Россию из Франции вернулся Константин Бальмонт – окружным путем (через Англию, Норвегию и Швецию).
В Европе шли сражения, а в Петрограде и его окрестностях войны почти не ощущалось. Корней Чуковский зафиксировал тех, кто обитал тогда неподалёку от северной столицы:
«В Куоккале жил тогда Репин. Он с огненной ненавистью относился к той группе художников, которую называл «футурнёй». "Футурня "со своей стороны, уже три года поносила его. Поэтому, когда у меня стал бывать Маяковский, я испытывал немалую тревогу, предвидя его неизбежное столкновение с Репиным.
Маяковский был полон боевого задора. Репин тоже не остался бы в долгу».
Великий русский художник Илья Ефимович Репин разменял тогда уже восьмой десяток – в июле 1914 года ему исполнилось 70 лет.
21 июня 1915 года писатель Борис Лазаревский записал в дневнике (обратим внимание, что «поэмами» он назвал всё, что читал Маяковский):
«… после обеда я надумался пойти к Чуковскому… и встретил там «поэта» Маяковского и художника И.Е.Репина…
Я предложил прочесть кое-что из Шевченко. Читали я и Чуковский. Репин искренне радовался…
Затем началась «Маякоккала». Явление совсем новое. Это сплошное издевательство над красотой, над нежностью и над богом.
Началась «Маякоккала» длинной поэмой нараспев. Сущность её: ненависть и отрицание всего…
Затем он прочёл поэму о повесившемся дирижёре, о трубах, плюющих в морду медными плевками. Затем «Марию» – вещь, несомненно, глубоко трагическую – и ещё что-то четвёртое – самовлюблённое, где говорится, что он, Маяковский, поведёт Наполеона на цепочке, как мопса…
Репин отказался дать своё мнение, и, видно было, что поражён».
Судя по описаниям Лазаревского, было прочитано стихотворение «Кое-что по поводу дирижёра», а также отрывки из «Облака в штанах».
У Корнея Чуковского о той же встрече сохранились иные воспоминания – по его словам, прослушав Маяковского, Репин был в неописуемом восторге:
«Репин восхищается всё жарче.
– Темперамент! – кричит он. – Какой темперамент!
И, к недоумению многих присутствующих, сравнивает Маяковского с Гоголем, с Мусоргским».
Репин на этом не остановился. Он (по словам Чуковского) сказал Маяковскому:
«– Я хочу написать ваш портрет! Приходите ко мне в мастерскую.
Это было самое приятное, что мог сказать Репин любому из окружавших его. «Я напишу ваш портрет!» – эта честь выпадала немногим. Репин в своё время наотрез отказался написать портрет Ф.М.Достоевского, о чём сам неоднократно вспоминал с сожалением.
Но Маяковскому он при первом же знакомстве сказал:
– Я напишу ваш портрет.
– А сколько вы мне за это заплатите? – отозвался Маяковский.
Дерзость понравилась Репину.
– Ладно, ладно, в цене мы сойдемся! – ответил он вполне миролюбиво и встал, чтоб уйти (уходил он всегда внезапно, отрывисто, без долгих прощаний, хотя входил церемонно и медленно).
Мы всей компанией взялись проводить его до дому.
Он взял Маяковского дружески под руку, и всю дорогу они о чём-то беседовали…
На прощанье Репин сказал Маяковскому:
– Уж вы на меня не сердитесь, но, честное слово, какой же вы, к чертям, футурист!..
Маяковский буркнул ему что-то сердитое но через несколько дней, когда Репин пришёл ко мне снова и увидел у меня рисунки Маяковского, он ещё настойчивее высказал то же суждение:
– Самый матёрый реалист. От натуры ни на шаг, и… чертовски уловлен характер».
Что же касается портрета Маяковского, который собирался написать Репин, то история эта, по словам Корнея Чуковского, продолжилась следующим образом:
«Когда Маяковский пришёл к Репину в Пенаты, Репин снова расхвалил его рисунок и потом повторил снова:
– Я всё же напишу ваш портрет!
– А я ваш! – отозвался Маяковский и быстро-быстро тут же в мастерской, сделал с Репина несколько моментальных набросков, которые, несмотря на свой карикатурный характер, вызвали жаркое одобрение художника:
– Какое сходство!.. И какой – не сердитесь на меня – реализм!
Это было в июне 1915 года…
А портрета Маяковского Репин так и не написал. Приготовил широкий холст у себя в мастерской, выбрал подходящие кисти и краски и всё повторял Маяковскому, что хочет изобразить его "вдохновенные "волосы. В назначенный час Маяковский явился к нему (он был почти всегда пунктуален), но Репин, увидев его, вдруг вскрикнул страдальчески:
– Что вы наделали!.. О!
Оказалось, что Маяковский, идя на сеанс, нарочно зашёл в парикмахерскую и обрил себе голову, чтобы и следа не осталось от тех «вдохновенных» волос, которые Репин считал наиболее характерной особенностью творческой личности.
– Я хотел изобразить вас народным трибуном, а вы!..
И вместо большого холста Репин взял маленький и стал неохотно писать безволосую голову, приговаривая:
– Какая жалость! И что это вас угораздило?
Маяковский утешал его:
– Вырастут!»
Большого портрета поэта-футуриста кисти художника-реалиста мир так и не увидел, но суждение Репина о Маяковском, сохранённое Корнеем Чуковским, осталось:
«Репин сквозь чуждые и непривычные ему формы стиха инстинктом большого художника сразу учуял в Маяковском огромную силу, сразу понял в его поэзии то, чего ещё не понимали в ту пору ни редакторы журналов, ни профессиональные критики».
Во второй половине июля Маяковский завершил работу над поэмой, которой была названа «Облаком в штанах». О той поре – Корней Чуковский:
«… я был очень изумлён, когда через год после начала войны, в спокойном дачном затишье он написал пророческие строки о том, что победа революции близка.
Мы, остальные, не предчувствовали её приближение и не понимали его грозных пророчеств…
Я говорил о нем: «Он поэт катастроф и конвульсий», а каких катастроф – не догадывался. Я цитировал его неистовые строки:
Кричу кирпичу,
слов исступлённых вонзаю кинжал
в неба распухшую мякоть, —
и видел в этих стихах лишь «пронзительный крик о неблагополучии мира». Их внутренняя тревога была мне непонятна. Этот крик о неблагополучии мира так взбудоражил меня, что я в маленьком дачном театрике пытался истолковать Маяковского как поэта мировых потрясений, всё ещё не понимая, каких.
Понял я это позже, когда Маяковский с гениальной прозорливостью выкрикнул:
Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венке революций
грядёт который-то год.
А я у вас – его предтеча…».
Первые три строки, процитированные Чуковским, взяты им из книги «Я!» («Несколько слов обо мне самом»), следующие пять строчек – фрагмент из «Облака в штанах», который не пропустила цензура.
И ещё о Маяковском той поры – Корней Чуковский:
«Кто напечатает „Облако“? Где найти издателя для „Облака“? – этот вопрос всё чаще тревожил его, по мере того, как поэма приближалась к концу.
Маяковский в отчаянье строил самые безумные планы, но все они рушились один за другим».
И тут произошло событие, которое повернуло жизнь Владимира Маяковского самым решительным образом.
Судьбоносная встреча
В автобиографических заметках главка, описывающая то, что произошло, названа «РАДОСТНЕЙШАЯ ДАТА»:
«Июль 915-го года. Знакомлюсь с Л.Ю. u O.M. Бриками».
Случилось это в конце июля. С Бриками Маяковского познакомила Эльза Каган, родной сестрой которой была Лили Юрьевна Брик (до замужества – Лили Каган).
Лили и её муж, Осип Максимович Брик, жили в Москве, когда началась мировая война, заставившая их искать способ, как избежать фронтовых окопов.
Василий Васильевич Катанян по этому поводу пишет:
«Брик, по протекции знаменитого тенора Виталия Собинова, дабы не идти на фронт, поступил на службу в автомобильную роту…».
Рота эта располагалась в Петрограде, и Брики перебрались в город на Неве, где сняли небольшую квартирку. Осип Максимович надел армейскую форму, приколов к гимнастёрке значок об окончании Московского университета.
Писарем автомобильной роты был некто Игнатьев, откровенный взяточник, но ценимый всеми за свою обязательность. Получив хорошее вознаграждение, он вычеркнул фамилию Брика из воинских списков, и вскоре про него забыли. Правда, Осипу пришлось безвылазно находиться дома, чтобы случайно не попасться на глаза кому-нибудь из начальства.
Летом 1915 года Эльза Каган приехала в Петроград навестить сестру. И однажды привела к Брикам Маяковского. Впоследствии она написала:
«Я знала, я твёрдо знала, что за Маяковским надо следить, что он не просто поэт, а поэт воинствующий, что он не просто человек, а человек, несущий в себе всю боль человеческую, и что от любви и счастья жизни он требует невозможного, беспредельного, бессмертного … Мне было 19 лет».
О том, как встретили Брики «воинствующего» стихотворца-футуриста – в воспоминаниях Лили Юрьевны:
«Как-то вечером после звонка в передней услышала знакомый голос, и совершенно неожиданно вошёл Маяковский – приехал из Куоккалы, загорелый, красивый, сразу занял собой всё пространство и стал хвастаться, что стихи у него самые лучшие, что многих не понимаем, и что прочесть-то их не умеем, и что кроме его стихов гениальны также стихи Ахматовой.
Я была уверена, что хвастаться стыдно, и сказала, стараясь быть вежливой, что произведения его я, к сожалению, не читала, но попробую понять их, если они у него с собой. Есть «Мама и убитый немцами вечер». Я прочла стихотворение вслух. Маяковский удивился, что без запинок, и спросил недоверчиво: «Не нравится?». Я ответила: «Не особенно»».
Осип в тот день плохо себя чувствовал (или просто делал вид, что ему нездоровиться). Он лег на диван, повернулся к стене и накрылся с головой одеялом. Это означало, что гостю пора уходить.
Маяковский и его возлюбленная ушли.
Но Эльзу прохладность первой встречи не остановила – она во что бы то ни стало хотела убедить сестру и её мужа в том, что Маяковский великий поэт. И через несколько дней вновь привела его к Брикам. Лили Юрьевна потом вспоминала:
«Мы шепнули Эльзе: не проси его читать. Но она не вняла нашей просьбе, и мы в первый раз услышали „Облако в штанах“. Он прочёл пролог и спросил – не стихами, прозой – негромким, с тех пор незабываемым голосом:
«Вы думаете, это бредит малярия? Это было. Было в Одессе».
Мы подняли головы и до конца не опускали глаз с невиданного чуда. Маяковский ни разу не переменил позы, он жаловался, негодовал, издевался, требовал, впадал в истерику».
Иными словами случилось то, чего добивалась Эльза – Бриков ошеломило услышанное.
Лили Юрьевна:
«Первым пришёл в себя Осип Максимович. Он не представлял себе! Думать не мог! Это лучше всего, что он знает в поэзии! Маяковский – величайший поэт, даже если ничего больше не напишет.
Он отнял у него тетрадь и не отдавал весь вечер. Это было то, о чём так давно мечтали, чего ждали. Последнее время ничего не хотелось читать. Вся поэзия казалась никчёмной – писали не те, и не так, и не про то, а тут вдруг и тот, и так, и про то».
Столь высокой оценки прочитанная поэма удостоилась, вероятно, ещё и потому, что создавалась в долгих и глубоких раздумьях, и каждая её строка отшлифовывалась самым тщательным образом.
О том, как на восторженный приём отреагировал сам поэт – Лили Брик:
«Маяковский сидел рядом с Эльзой и пил чай с вареньем. Он улыбался и смотрел большими детскими глазами. Я потеряла дар речи.
Маяковский взял тетрадь из рук О.М., положил её на стол, раскрыл на первой странице, спросил: «Можно посвятить вам?» – и старательно вывел над заголовком: «Лиле Юрьевне Брик»».
С этого момента и до конца дней поэту предстояло прошагать по жизни рядом с этой женщиной. Практически все произведения, которые были написаны им за эти 15 лет, посвящены Лили Брик. Мало этого, любой (даже весьма незначительный) факт из жизни Маяковского его биографы соотносят с тем, что по этому поводу сказала (или что написала) Лили Юрьевна Брик. О ней сочинены книги, о ней сняты фильмы, она даже стала героиней балета.
Все те, кому удавалось встретиться и побеседовать с Лили Брик (с Л.Ю., как её ещё называли – по инициалам), пользовались у биографов Маяковского непререкаемым авторитетом. Про одного из её собеседников – шведского писателя Бенгта Янгфельдта – российский маяковсковед Александр Алексеевич Михайлов написал:
«Поскольку Янгфельдт много общался с Л.Ю. и ссылается на "разговоры " с нею, то есть все основания с доверием относиться к биографическим подробностям, сообщаемым им».
Но мы всё же отнесёмся к тому, о чём рассказывала и о чём писала Лили Юрьевна, с большой осторожностью. Будем сопоставлять всё сказанное ею со свидетельствами других людей, современников Маяковского. И с теми событиями, которые в те времена происходили. Иными словами, попробуем взглянуть на образ поэта совершенно непредвзято. Со своего ракурса.
И возвратимся в лето 1915 года. О том, как отразилась на Маяковском его встреча с Бриками, Корней Чуковский написал:
«Когда он на минуту вернулся в Куоккалу, он был уже другим человеком: другие жесты, другая походка. Он сразу стал спокойнее, взрослее. С этого дня началась новая полоса его жизни и творчества».
Маяковский сказал Чуковскому, что наконец встретил свою «единственную» женщину, которую полюбил навсегда. И Чуковский записал в дневнике:
«Сказал это так торжественно, что я тогда же поверил ему, хотя ему было 23 года, хотя на поверхностный взгляд он казался переменчивым и беспутным».
Дальнейшие события
Прочитав Брикам свою только что завершённую поэму, Эльзин ухажёр вскоре (12 августа) опубликовал в «Журнале журналов» статью, которая называлась «О разных Маяковских». В ней прямо говорилось о раздвоенности, свойственной его личности. С одной стороны, публика видела в поэте нахала, циника, извозчика и рекламиста, «для которого высшее удовольствие ввалиться, напялив жёлтую кофту, в сборище людей, благородно берегущих под чинными сюртуками, фраками и пиджаками скромность и приличие». С другой стороны, утверждалось в статье, он – «совершенно незнакомый поэт Владимир Маяковский», которому по плечу создание такого поэтического шедевра как «Облако в штанах».
Встал вопрос об издании поэмы. Лили Брик вспоминала:
«О<сип>.М<аксимович>. спросил, где будет напечатана поэма, и бурно возмутился, когда узнал, что никто не хочет печатать её. А сколько стоит самим напечатать? Маяковский побежал в ближайшую типографию и узнал, что тысяча экземпляров обойдётся в 150 рублей (насколько помню), причём деньги не сразу, можно в рассрочку. О.М. вручил Маяковскому первый взнос и сказал, что остальное достанет. Маяковский унёс рукопись в типографию».
К этой истории информированный Бенгт Янгфельдт добавляет, что Маяковский…
«… указал завышенную сумму, положив часть денег в собственный карман. Когда много лет спустя он понял, что Лили и Осип знали об этом, ему было очень стыдно».
В «Я сам» об этом поступке весьма щекотливого характера, конечно же, нет ни словечка.
Любопытна ещё одна подробность, связанная с изданием «Облака». О ней сообщила Лили Брик:
«Перед тем как печатать поэму, Маяковский думал над посвящением „Лиле Юрьевне Брик“, „Лиле“. Очень нравилось ему „Тебе, Личика“ – производное от "Лилечка „и „личико“ – и остановился на „Тебе, Лиля““.
К тому времени, по словам самой Лили Брик, она со своим мужем давно уже разошлась. В подобных ситуациях супруги, как правило, разъезжаются. Но Лили и Осип продолжали жить вместе.
В «Я сам» о наконец-то напечатанной поэме сказано:
««Облако» вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек. С тех пор у меня ненависть к точкам, к запятым тоже».
Здесь Маяковский лукавит. О его «ненависти» к запятым и точкам была заявлено гораздо раньше – второй альманах «Садок судей», вышедший в феврале 1913 года, открывался манифестом, шестой пункт которого гласил:
«Нами уничтожены знаки препинания, чем роль словесной массы выдвинута впервые и осознана».
Провозглашённые футуристами правила Маяковский воспринял с радостью – ведь из-за своего незавершённого образования он не мог назвать себя грамотным. Поэтому орфографией и синтаксисом во всех написанных им с этого момента произведениях (стихотворных и прозаических) принялся, по утверждению Лили Юрьевны, заниматься Осип Брик, расставляя знаки препинания и исправляя ошибки.
Мало этого, Осип Максимович стал вскоре поступать точно так же, как некогда вёл себя Давид Бурлюк, который, как мы помним, Маяковскому…
«Выдавал ежедневно 50 копеек. Чтоб писать не голодая».
В «Я сам» появилась такая запись:
«Осип Брик радует. Покупает все мои стихи по 50 копеек строку».
И так поступал тот, про кого Василий Васильевич Катанян написал:
«Если человек не был ему интересен, он посреди разговора вставал и уходил к себе».
А к Маяковскому Осип Брик относился совсем иначе. Лили Юрьевна как-то потом сказала:
«Володя для него был не человек, а событие».
О том, что в «Облаке в штанах» оставила цензура – Виктор Шкловский:
«Из книги вырезано почти всё, что являлось политическим credo русского футуризма, остались любовь, гнев, прославленная улица и новое мастерство формы».
Поэт-футурист Константин Большаков:
«Критики Маяковского, по крайней мере, большинство, восторгались молодостью, жизненностью, здоровьем книги, приветствовали сильную безболезненную молодость, идущую на смену неврастенической дряблости декаденства…
Поэты же пленились в Маяковском сжатостью его образов, лаконической аграмматичностью его периодов, простой каждодневностью его словесного обихода, словом, всем, «что есть в Маяковском и в чём есть Маяковский»».
Вышедшее из печати «Облако в штанах» Маяковский подарил Горькому, сопроводив книгу дарственной надписью:
«Алексею Максимовичу с любовью Вл. Маяковский».
И, конечно же, Маяковский познакомил Бриков со своими друзьями-футуристами: Давидом и Николаем Бурлюками, Василием Каменским, Виктором Хлебниковым, Николаем Асеевым, Виктором Шкловским. Лили Брик вспоминала:
«Бурлюк пришёл к нам, поздоровался и сказал: "Встаньте, пожалуйста, под лампу, так, повернитесь "и остался очень доволен осмотром».
А Николай Асеев впоследствии написал об Осипе Максимовиче:
«Вообще О.М. был кладезем премудрости, и Маяковский как-то совершенно серьёзно сказал мне:
– Почему вы не напишете поэму о Брике?»
Высказался Асеев и о Лили Брик, точнее, о её глазах {«яркие жаркие глаза хозяйки») и её суждениях:
«Мы – я, Шкловский, кажется, Каменский – были взяты в плен этими глазами, этими высказываниями, впрочем, никогда не навязываемыми, сказанными как бы мимоходом, но в самую гущу, в самую точку обсуждаемого».
В свою очередь, Лили Юрьевна рассказывала о Маяковском:
«Когда мы познакомились, он сразу бросился бешено за мной ухаживать, а вокруг ходили мрачные мои поклонники, и, я помню, он сказал: "Господи, как мне нравится, когда мучаются, ревнуют… "»
Вскоре Лили Брик стала для него просто Лилей.
Новая любовь
Василий Васильевич Катанян:
«Маяковский ухаживал за Лилей бурно, безоглядно. Ему нравилось и то, что перед ним была дама, женщина другого круга – элегантная, умная, воспитанная, до конца непознаваемая, с прекрасными манерами, интересными знакомыми и лишённая всяких предрассудков. Когда ей хотелось, то „светскость“ она приглушала ироничной богемностью: и эксцентричными клетчатыми чулками, и расписной шалью с лисьим хвостом и варварскими украшениями – смотря по настроению. Непредсказуемость была у неё в крови. Она была начитана не меньше Бурлюка, который был для него авторитетом, и в дальнейшем таким же авторитетом станет для него и Лиля».
Сама же Лили Юрьевна по этому поводу писала:
«Это было нападение. Володя не просто влюбился в меня, он напал на меня… И хотя фактически мы с Осипом Максимовичем жили в разводе, я сопротивлялась поэту. Меня пугала его напористость, его рост, его громада, неуёмная, необузданная страсть. Любовь его была безмерна».
И ещё много лет спустя Лили Юрьевна написала:
«Я сразу поняла, что Володя гениальный поэт, но он мне не нравился. Я не любила звонких людей – внешне звонких. Мне не нравилось, что он такого большого роста, что на него оборачиваются на улице, не нравилось, что он слушает свой собственный голос, не нравилось даже, что фамилия его – Маяковский – такая звучная и похожая на псевдоним, причём на пошлый псевдоним».
Впрочем, «сопротивляемость» Лили Юрьевны продолжалась не очень долго. Бенгт Янгфельдт пишет:
«Маяковский и Лили начали встречаться, в его квартире или в каком-нибудь доме свиданий, где, по словам Лили, Маяковскому нравилась необычная обстановка, красный бархат и позолоченные зеркала… Они были неразлучны, ездили на острова, гуляли по Невскому, Маяковский в цилиндре, Лили в большой шляпе с перьями. По ночам они часто бродили по набережной. По сравнению с Лили все женщины казались Маяковскому неинтересными, любовь к ней одной одним махом изменила всю его жизнь».
Василий Васильевич Катанян:
«Они встречались каждый день и стали неразлучны, но его чувства доминировали. Лиля же была спокойнее и умела держать его на расстоянии, от которого он сходил с ума. Она любила его, но не без памяти. Он скоро стал звать ее Лилей и на „ты“, а она долго обращалась к нему на "вы " и звала по имени и отчеству, соблюдая „пафос дистанции“. Она была то нежна с ним, то отчужденно-холодна, и Маяковскому казалось, что Лиля околдовала его, вселила в него безумие».
Но возникает вопрос: а как же Эльза Каган?
Василий Васильевич Катанян написал об этом:
«По письмам Маяковского и Эльзы той поры, когда он уже увлёкся Лилей, видно, что разрыв прошёл нелегко для Эльзы. Письма свидетельствуют о том, что чувства Эльзы ещё не остыли, она ревнует и досадует:
«Жду тебя с нетерпением, люблю тебя очень. А ты меня не разлюбил? Ты был такой тихий на вокзале… Целую тебя, родненький, крепко, крепко».
«Как у тебя там всё? Жду тебя очень, неужели не приедешь? Напиши хоть, что любишь меня по-прежнему крепко. Целую тебя, милый, много раз».
И так из письма в письмо.
Но ЛЮ с детства умела влиять на сестру и подчинять её своей воле. И Эльза не порвала ни с Лилей, ни с Владимиром Владимировичем, а, страдая и досадуя, подчинилась "обстоятельствам " и сохранила с Маяковским прекрасные отношения до конца его дней. А до конца своих – восторг перед его поэзией, который она испытала ещё в ранней юности».
А что Маяковский?
У него и у Осипа Брика появились новые прозвища. Дело в том, что Лили называла мужа «Ося» или «Осик». Маяковского она стала звать не Володей, а на привычный манер – «Волосиком».
Как истинный поэт-футурист Маяковский произвёл «звуковую инструментовку» этих слов. Прежде всего, он прочёл оба прозвища – Осик и Волосик – справа налево. Получилось «Кисо» и «Кисолов».
Сразу возник вопрос: кто же это такой – Кисолов? Найти ответ было проще простого: Кисолов – это тот, кто занимается ловлей Кис. То есть маленькая собачка – щенок!
И появились два прозвища: «Киса» и «Щен» (чуть позднее – «Счен»), а также объединяющее их словечко «зверята».
Когда в одном из петербургских альманахов была напечатана статья антисемитского содержания, возмутившая Бриков, Маяковский тут же разыскал издателя (оказавшегося евреем) и влепил ему оглушительную пощечину («дал по морде», как написала потом Лили Брик). Издатель вызвал обидчика на дуэль. Но Маяковский, по утверждению Лили Юрьевны…
«… но Маяковский отказался, сославшись на дуэльный кодекс, запрещавший дворянину драться с евреем».
Маяковский продолжал навещать Горького. Несколько раз ходил с ним по грибы. Об этом – Александр Тихонов:
«Маяковский мог часами, отвесив по-детски губу, упиваться рассказами Горького; мог, как мальчишка, конфузиться и отпираться, что, дескать, это не он, а кто-то другой спутал и положил в кошёлку Горького вместо белого гриба – поганку. В грибах он плохо разбирался. Он мог без краю вышагивать лес и, натыкаясь от восторга на сосны, орать наизусть всего „Медного всадника“.
– Ишь какой леший! – любовно говорил о нём Горький, прислушиваясь к его завываниям. – Какой он футурист! Те головастики – по прямой линии от Тредьяковского. И стихи такие же – скулы от них ноют, – да и зауми у Василия Кирилловича сколько вам угодно. Пожалуйста! А у этого – темперамент пророка Исайи. И по стилю похож. «Слушайте, небеса! Внимай, земля! Так говорит господь!» Чем не Маяковский!
– Алексей Максимыч! Идите сюда! Отсюда озеро видно-о! – орал откуда-то с горы Маяковский».
19 августа 1915 года генерал Владимир Джунковский попытался конфиденциально сообщить Николаю Второму, как подрывает престиж императора «святой старец» Григорий Распутин, на самом деле являющийся проходимцем и авантюристом. Однако царь на этот счёт придерживался иного мнения. И Джунковского отставили от всех его высоких должностей, отправив служить на фронт.
Хочется упомянуть ещё об одном событии той поры – по настоятельному совету Лили Брик Маяковский пошёл к дантисту (Янгфельдт называет его фамилию – Добрый) и вставил себе зубы. Похорошел ещё больше. По совету Лили он коротко подстригся, купил себе английские пиджак, пальто с кепкой, жёлтые ботинки и модный галстук, стал ходить с тростью.
Софья Шамардина:
«Летом 1915 года встретились в Москве. Жил Маяковский в Б. Гнездниковском, в девятиэтажном доме, где-то очень высоко.
И вот тут – я помню – увидела его ровные зубы, пиджак, галстук и хорошо помню, как подумала – это для Лили. Почему-то меня это задевало очень. Не могла я не помнить его рот с плохими зубами – вот так этот рот был для меня прочно связан с именем поэта».
Об этом своем преображении Маяковский написал 21 августа и в письме в Москву:
«Дорогие мамочка, Оличка и Людочка!
Здоров я ужасно. Живу в Петрограде. Стараюсь пока что наладить к зиме какую-нибудь денежную комбинацию. Не сердитесь на меня, я похорошел страшно.
Целую всех.
Ваш Володя».
Однако наступившая осень принесла с собой совсем иную «комбинацию», которую пришлось срочно «налаживать» — Маяковского призвали в армию.
Глава девятая Воинская служба
Нежелание служить
В «Я сам» о новом повороте судьбы сказано следующее:
«Забрили. Идти на фронт не хочу».
Пришлось (явно не без подсказки Бриков) срочно изыскивать способы, которые помогли бы уклониться от отправки на передовую, в окопы.
Есть свидетельство, что помощь Маяковскому оказал А.М.Горький, по рекомендации которого его направили в армейскую школу, обучавшую новобранцев водить автомобили – там требовался чертежник.
Писатель Борис Лазаревский, живший в той же гостинице, что и Маяковский (в «Пале-Рояле»), записал в дневнике:
«6 сентября. Заходил ко мне Маяковский. Завтра его берут в солдаты как ополченца 2-го разряда».
Да, армии требовался солдат, ополченец, а не поэт. Пришлось срочно учиться чертёжному делу, о чём в автобиографии сообщено так:
«Притворился чертёжником. Ночью учусь у какого-то инженера чертить авто».
7 сентября состоялось знакомство Маяковского с писателем Александром Ивановичем Куприным. Встретились они в гостиничном номере Бориса Лазаревского:
«Точно Рейнеке-лис вошёл Маяковский и поздоровался с Куприным.
– А я думал, вы маленький и толстенький, – сказал Куприн.
Сразу друг-другу и очень понравились… Куприн сказал, что первым футуристом был Пушкин. Маяковскому это не понравилось. Тогда Куприн продекламировал «На почтовой станции» Пушкина. Маяковскому понравилось. Я попросил Маяковского прочесть «Музыкантов», тоже понравилось, и ещё больше… Куприну. Куприн почуял в Маяковском силу, а это главное. С каждым новым стихотворением Куприн радовался…
Маяковский тоже влюбился в Куприна… Вероятно, Маяковский совсем другой, он даже начал подавать пальто Куприну, чем меня удивил…».
Борис Лазаревский, скорее всего, не совсем точен – стихотворения «Почтовая станция» у Пушкина нет, «Станция» есть у Вяземского. А упомянутые «Музыканты» – это, надо полагать, стихотворение «Кое-что по поводу дирижёра».
Через две с небольшим недели в дневнике Лазаревского появилась новая запись:
«Маяковский ещё до сих пор в штатском, но мрачный, мрачный, между футуризмом и автомобильной ротой – дистанция огромного размера».
В октябре «ратник 2 разряда» отправил в Москву письмо:
«Дорогие мамочка, Людочка и Оличка!
Только сейчас окончательно окончились мои мытарства по призыву, спешу вам написать и успокоить.
Я призван и взят в Петроградскую автомобильную школу, где меня определили в чертёжную как умелого и опытного чертёжника.
Беспокоиться обо мне совершенно не следует. После работы в школе я могу вести все те занятия, какие вёл и раньше…
Целую вас всех крепко.
Володя.
Пришлю свою «военную» карточку».
И на этот раз Маяковский тоже явно лукавил, когда писал, что никаких мытарств у него нет. Проблемы с воинской службой, конечно же, возникали, о чём вскользь сказано в автобиографических заметках:
«С печатанием ещё хуже. Солдатам запрещают».
Да, солдатам категорически не разрешалось издавать что бы то ни было и выступать с публичными заявлениями. Но Маяковский с запретами не считался. Он и печатался, и выступал с чтением стихов, и жил не в казарме, а в той же гостинице, где жил до призыва. Поэт Сергей Спасский оставил описание его тогдашнего жилья:
«Он жил в довольно просторной комнате, обставленной безразлично и просто. Комната имела вид временного пристанища, как и большинство жилищ Маяковского. Необходимая аккуратная мебель, безотносительная к хозяину. Ни книг, ни разложенных рукописей – этих признаков оседлого писательства».
Письмо сестре от 20-го октября:
«Дорогая Людочка!
Большое тебе спасибо за доброе и нежное письмо.
Я обмундировываюсь и устраиваюсь. На это уходит много времени и нервов. Устал порядочно.
Милая Люда, ты в письме спрашивала меня, не нужны ли мне деньги. К сожалению, сейчас нужны и очень. Мне сейчас себе приходится покупать форменную одежду, делаю я это на свои деньги. Так нужно. Поэтому пока что запутался изрядно…
Адрес мой прежний: Пале-Рояль.
Деньги прошу, если можно, прислать поскорее.
Новостей пока нет никаких.
Я послал вам мою новую книгу.
Целую всех вас крепко.
Ваш Володя.
Не забывайте».
«Новая книга», которую Маяковский послал родным – это «Облако в штанах».
Что касается усталости, то она у него возникла не случайно – ведь Военная автомобильная школа стала первым местом, где ему пришлось по-настоящему работать. До сих пор он нигде не служил, был вольным художником.
Сергей Спасский описал рабочий момент ратника-поэта:
«Он стоял перед наколотым на стену листом плотной бумаги. Он раскрашивал на ней какой-то ветвистый чертёж. Это входило в его военные обязанности: поставлять для отряда графики и диаграммы. Примеряясь и прикасаясь кистью к листу, Маяковский вёл разговор.
Он выглядел возмужавшим и суровым. Пропала мальчишеская разбросанность движений. Он двигался на ограниченном пространстве, отступая и приближаясь к стене.
Одет он был на штатский лад – в серую рубашку без пиджака. Чтоб избегнуть назойливого козыряния, он разрешал себе такую вольность и на улицах. Но волосы сняты под машинку, и выступала крепкая лепка лица. Он разжёвывал папиросу за папиросой, перекатывая их в углу рта».
А Константин Бальмонт в конце сентября 1915 года отправился в двухмесячную поездку по России. Только что вышла его литературоведческая книга «Поэзия как волшебство», в которой слову приписывалась «заклинательно-магическая сила» и даже «физическое могущество».
Вторая поэма
Кроме чертёжных занятий осенью 1915 года у Маяковского было ещё одно чрезвычайно важное дело – он сочинял стихи, посвящённые даме его сердца. Они сначала так и назывались – «Стихи ей». Лили Брик рассказывала, что писались они…
«… медленно, каждое стихотворение сопровождалось торжественным чтением вслух, сначала стихотворение читалось мне, потом мне и Осе и наконец всем остальным».
В стихах речь шла о неразделённой любви поэта. Когда стало ясно, что на свет появляется очередная поэма, у неё появилось название – «Флейта-позвоночник». Почему такое странное? Об этом – в прологе:
«Я сегодня буду играть на флейте.
На собственном позвоночнике».
В финале (после многостраничного объяснения в любви) следовали слова, обращённые к той, для кого он играл на необычной флейте:
«Сердце обокравшая,
всего его лишив,
вымучившая душу в бреду мою,
прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю».
Почему Маяковский высказал это неожиданное сомнение – в возможности написать нечто подобное? Потому что цель он поставил себе необыкновенную – переписать «Евгения Онегина», одним из героев которого является поэт Владимир Ленский, погибавший на дуэли. Маяковский решил осовременить великую поэму, перенеся её действие в XX век. Он сделал себя главным героем, заявив в самом начале (в прологе):
«Всё чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в самом конце.
Сегодня я
на всякий случай
даю прощальный концерт».
В самом начале первой главы Маяковский сразу заявил, что у него есть любимая женщина, но любовь к ней у него безответная. И он вопрошает:
«Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?»
Таким образом, поэма начиналась с проклятия, после которого поэт вновь заявлял о том, что готов расстаться с жизнью:
«Мне,
чудотворцу всего, что празднично,
самому на праздник выйти не с кем.
Возьму сейчас и грохнусь навзничь
и голову вымозжу каменным Невским!»
В том, что любимая женщина его не любит, Маяковский винит не кого-нибудь, а самого Всевышнего. Это он…
«… бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
вывел и велел:
люби!»
Но поэту не нужна такая возлюбленная, и он кричит:
«На надо тебя!
Не хочу!
Всё равно
я знаю,
я скоро сдохну».
И Маяковский обращается ко Всевышнему, что если Он решил его за что-то покарать, пусть карает:
«Делай, что хочешь.
Хочешь четвертуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только – слышишь! —
убери проклятую ту,
которую сделал моей любимою!»
Этими словами заканчивается первая глава. Вторая начинается с напоминания, что в Европе идёт мировая война, на которой каждый день гибнут люди. А Маяковский, который уже объявил, что и ему суждено погибнуть, давал свой «прощальный концерт», воспевавший любовь. Поэт обращался к людям:
«Радостью покрою рёв
скопа
забывших о доме и уюте.
Люди,
слушайте!
Вылезьте из окопов.
После довоюете».
Обращаясь к воевавшим, Маяковский неожиданно на все лады принимался восхвалять свою желанную (любившую красить свои волосы в рыжий цвет):
«Тебя пою,
накрашенную,
рыжую».
И добавлял, называя свою любимую по имени:
«… на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелую во мраке каторги».
И всё потому, что любовь эта у него – последняя.
Третья глава начинается с предсказания:
«Забуду год, день, число.
Запрусь одинокий с листом бумаги я.
Творись, просветлённых страданием слов
нечеловечья магия».
Подобное произойдёт с ним через семь лет, когда он станет писать очередную поэму о безответной любви.
Далее следуют описания очередного визита к любимой и её холодной неприветливой встречи. А тут ещё её муж вернулся, «весельем улиц орошён». И тогда:
«Я
как надвое раскололся в вопле.
Крикнул ему: «Хорошо, уйду, хорошо!»»
Поэта начинает жечь, тяготить, взрывать и мучить невероятная ревность. И он признается:
«Я хочу одной отравы —
пить и пить стихи».
И он начинает писать их. Пишет и пишет. И объявляет в конце поэмы:
«В праздник красьте сегодняшнее число.
Творись,
распятью равная магия.
Видите —
гвоздями слов
прибит к бумаге я».
Этим признанием поэма и «прощальный концерт», обещанный поэтом, завершаются.
Что можно сказать о содержании того, что было сыграно на собственном позвоночнике Маяковского? Если «Облако в штанах» наполовину состояло из самовосхваления, а наполовину – из уговоров Марии полюбить выдающегося поэта, то новая поэма практически целиком состояла из безудержного плача ревнивого стихотворца.
Впрочем, это мнение читателя начала XXI века. А как к «Флейте» отнеслись современники Маяковского, жившие, как и он, в начале двадцатого столетия?
Мнение читателей
Только что написанную «Флейту» автор тотчас же прочёл Горькому. Тот высказался как-то очень отвлечённо, не по существу:
«Собственно говоря, никакого футуризма нет, а есть только Владимир Маяковский. Поэт, большой поэт».
Но самого главного ответа на вопрос – какой он поэт? – Маяковский ждал от Лили Брик, которая воспевалась в поэме, которой поэма эта была посвящена и отрывки из которой ей регулярно представлялись на отзыв.
Как раз в этот момент Маяковский познакомил Бриков с поэтом Спасским, который вспоминал:
«… мы попали на Жуковскую к Брикам.
– Вот, Спасского привёл, – втолкнул меня Маяковский.
Две маленькие нарядные комнатки… Здесь единственное место в Питере, показавшееся мне тогда уютным. Может, оттого, что и сам Маяковский становился тут домашним и мягким. Здесь он выглядел словно в отпуску от военных и поэтических обязательств. Он пошучивал свойственным ему образом – громоздко, но неожиданно и смешно. Здесь он обычно обедал. Здесь было его первое издательство».
Заметил Спасский и лист плотной бумаги, приколотый к стене – как в номере гостиницы, в котором обитал Маяковский. И поэт…
«Подсаживался к широкому бумажному листу, растянутому на стене, испещрённому остротами и рисунками посетителей, и вносил в эту „стенгазету“ очередной каламбур».
В эту-то пору и создавалась «Флейта-позвоночник», о которой Василий Васильевич Катанян писал:
«Каждая вновь написанная глава торжественно читалась Лиле. Она приходила к нему в комнату, уставленную цветами и угощением, купленным на деньги Брика, которые тот ему выплачивал построчно, добавляя и свой выигрыш на биллиарде».
Катанян не очень удачно выразился – не совсем ясно, чей выигрыш на бильярде имеется в виду – Брика или Маяковского? В мемуарах их современников не приходилось встречать рассказов об увлечении Осипа Максимовича игрой в бильярд. Так что «добавлявшиеся» деньги наверняка принадлежали поэту.
Но вернёмся к воспоминаниям Катаняна о чтении «Флейты»:
«У Елисеева покупался кровавый ростбиф, соус тартар и камамбер. У „Де Гурме“ – пьяные вишни и миндальные пирожные в огромном количестве. Цветы от Эйлерса. Фрукты вымыты в двух кипячёных водах. Начищены башмаки. Повязан самый красивый галстук».
Когда поэма была написана, состоялась самая торжественная читка.
Василий Васильевич Катанян:
«ЛЮ впоследствии говорила, что поэма прекрасная, но ей непонятно, почему он продолжал ревновать и мучиться, когда ему уже ответили взаимностью?»
Вероятно, Маяковский ответил ей не очень понятно, поэтому Лили Юрьевне было нечего сказать Катаняну. И он дал своё объяснение:
«Ревность, видимо, нужна была Маяковскому как объект описания, для выражения своих чувств по отношению к героине, в которой он не был уверен никогда, даже в разгар романа. Когда она после любовного свидания с поэтом возвращалась к себе в квартиру, где жил Брик, с которым у ЛЮ „всё было кончено“, его терзали неуверенность и ревность. Впрочем, ревновать он продолжал почти всю жизнь, но не к Брику, а к остальным».
Ещё Лили Брик не могла не обратить внимания на странные строки в посвящённой ей поэме, в которых говорилось о желании автора поставить «точку пули» в конце жизни. Строки эти очень её пугали.
Выяснив отношение Лили Юрьевны к тому, что было сыграно им на «собственном позвоночнике», Маяковский поинтересовался её отношением к нему самому. О том, какой услышал он ответ, поведал Бенгт Янгфельдт:
«Когда после читки Лили сказала, что он ей нравится, Маяковский взорвался: „Нравится? И только? Почему не любишь?“ Лили ответила, что, конечно, любит его – но в глубине души думала: „Люблю Осю“».
К этому у Янгфельдта следует продолжение: провожая Лили Юрьевну домой, Маяковский был таким мрачным и подавленным, что встретивший их Осип удивился и спросил, в чём дело. И Янгфельдт привёл воспоминания Лили, в которых она «говорит о себе в третьем лице»:
«Маяковский всхлипнул, почти вскрикнул и со всего роста бросился на диван. Его огромное тело лежало на полу, а лицом он зарылся в подушки и обхватил руками голову. Он рыдал. Лиля растерянно нагнулась над ним.
– Володя, брось, не плачь. Ты устал от таких стихов. Писал день и ночь.
Ося побежал на кухню за водой. Он присел на диван и попытался силой приподнять Володину голову. Володя поднял лицо, залитое слезами, и прижался к Осиным коленям. Сквозь всхлипывающий вой выкрикнул – «Лиля меня не любит!» – вырвался, вскочил и убежал в кухню. Он стонал и плакал там так громко, что Лиля и Ося забились в спальне в самый дальний угол».
Если бы у Бриков была в тот момент под рукой книга Чезаре Ломброзо «Гениальность и помешательство», они бы могли прочесть:
«… у гениев и помешанных много общего – усиленная чувствительность, экзальтация, сменяющаяся апатией, оригинальность творчества и громадное тщеславие».
Осенью 1915 года Маяковский покинул гостиницу «Пале-Рояль». Этот его переезд явно был результатом того эмоционального всплеска, что случился после читки «Флейты-позвоночника». Смена места жительства стала следующим шагом в его «бешеном ухаживании» за Лили Брик. Василий Васильевич Катанян говорит об этом без обиняков:
«Маяковский переехал на Надеждинскую улицу, чтобы быть поближе к Лиле».
Маяковский сообщил об этом матери в письме от 9 ноября:
«Дорогая мамочка.
Здоров я по-прежнему хорошо. Работаю тоже по-прежнему. Переехал из Пале-Рояля. Так что пишите мне сейчас по такому адресу: ул. Жуковского, д. № 7, кв. № 42, кварт<ира> Брик, для Маяковского. Дорогая мамочка, у меня к Вам большущая просьба. Выкупите и пришлите мне зимнее пальто…».
Александра Алексеевна пальто выкупила и послала в Петроград. И Маяковский во внеслужебное время стал выходить на улицу в присланном ему одеянии. И шляпу надвигал на самые глаза, опасаясь, по словам поэта Сергея Спасского…
«… опасаясь встретить военное начальство».
А Николай Гумилёв 5 декабря 1915 года был, по словам Юрия Анненкова, «за своё бесстрашие» награждён вторым Георгиевским крестом (3-й степени).
Другой поэт-фронтовик Бенедикт Лившиц тоже стал Георгиевским кавалером, был ранен и из армии демобилизован.
Дела литературные
В декабре 1915 года вышел первый номер журнала «Летопись», который редактировался Горьким. В журнале активно сотрудничали Лариса Рейснер, Вячеслав Полонский и Виктор Шкловский. Алексей Максимович задумал привлечь к журналу и Маяковского, считая (по словам Александра Тихонова)…
«… что мы сделаем полезное дело, если будем – печатать Маяковского в «Летописи».
И, тем не менее, со стороны сотрудников «Летописи» (за исключением меня) это предложение Алексея Максимовича было встречено довольно холодно. Некоторые даже обиделись. В их представлении Маяковский был «хулиганом в жёлтой кофте», и вдруг этакого скандалиста да в солидный, толстый марксистский журнал!
Главными противниками Маяковского были… И.И.Скворцов, Ногин и другие. …но в конце концов с желанием Горького нельзя было не считаться, и Маяковский был привлечён».
Обратим внимание, что журнал предполагалось сделать «марксистским», а среди тех, кто был против привлечения в него Маяковского, первым назван видный деятель РСДРП(б) Иван Иванович Скворцов, писавший под псевдонимом Степанов, которого называли наставником юного пропагандиста «товарища Константина». Выходит, что Иван Скворцов был очень обижен на Маяковского за его «дезертирство» из партии? Или он вообще не знал такого эсдека – «товарища Константина»?
Александр Тихонов продолжал:
«В «Летопись» Маяковский привёл своих друзей… Перед выходом каждого номера происходила баталия: «футуристы» спорили с «марксистами»… Маяковский от этих споров держался в стороне».
Среди этих «футуристов» были Осип Брик и Виктор Шкловский, среди «марксистов» — Лариса Рейснер и Вячеслав Полонский. Вспомним, кем были спорщики.
Осип Максимович Брик был на пять лет старше Маяковского, родился в Москве, имел высшее юридическое образование. Был, как мы помним, призван служить в петроградскую автомобильную роту, но дал взятку писарю, и тот вычеркнул его из послужных списков.
Виктор Борисович Шкловский был старше Маяковского на полгода. Родился и вырос в Петербурге. Ещё гимназистом стал печататься в журнале Николая Шебуева и Василия Каменского «Весна». Учился в Петербургском университете на историко-филологическом факультете. Осенью 1914 года ушёл добровольцем в армию, но в 1915-ом вернулся в Петроград, где стал служить инструктором в военной школе, обучавшей управлению броневиками.
Лариса Михайловна Рейснер была на два года моложе Маяковского. Родилась в польском городе Люблине в дворянской семье юриста и профессора права Михаила Андреевича Рейснера. Окончив петербургскую гимназию и Психоневрологический институт, она (вместе с отцом и матерью) выпускала литературный журнал «Рудин», о котором Александр Блок сказал:
«…журнальчик „Рудин“, так называемый „пораженческий“ в полном смысле, до тошноты плюющий злобой и грязный, но острый..».
Лариса, которая была в тот момент возлюбленной поэта Николая Гумилёва, публиковала в «Рудине» статьи и стихи.
О её внешности написано немало. Ровесник Ларисы, поэт-акмеист Всеволод Рождественский, писал:
«Стройная, высокая… В правильных, слово точёных, чертах её лица было что-то нерусское и надменно холодноватое, а в глазах – острое и насмешливое».
Жена поэта Осипа Мандельштама, Надежда, писала, что Лариса Рейснер…
«… была красива тяжелой и эффектной германской красотой».
Поэт и прозаик Вадим Андреев (сын писателя Леонида Андреева) к этому добавлял:
«Когда она проходила по улицам, казалось, что она несёт свою красоту, как факел…
Не было ни одного мужчины, который бы прошёл мимо, не заметив её, и каждый третий – статистика, точно мною установленная – врывался в землю столбом и смотрел вслед, пока мы не исчезали в толпе».
Вячеслав Павлович Полонский (настоящей его фамилией была Русин) родился в 1886 году в семье ремесленника-часовщика. С четырнадцати лет содержал себя собственным трудом, отдавая всё свободное время самообразованию. С 1905 года – меньшевик. В 1907 году сдал экзамен на звание учителя и поступил в Петербургский Психоневрологический институт, откуда был вскоре исключён за участие в студенческой забастовке. Однако потом этот институт он всё же окончил.
Вот такие были сотрудники в журнале «Летопись». В их споры Маяковский не вмешивался, потому что дискуссии затевали его друзья, которым он доверял. Николай Асеев написал:
«Их было не так много в то время, но это была настоящая дружина при великом уделе искусства, команда при капитане, почти что семья при патриархе, хотя самому патриарху было зачастую лет меньше его литературных деток. Да и не только литературных: сюда входили и художники, и критики, и поэты, и театральные деятели…
Круг самых близких, без рассуждения почувствовавших полную меру гениальности их современника, можно сказать, влюблённых в него как в явление, близ которого находиться было уже счастьем жизни…».
В самом конце 1915 года состоялось знакомство Маяковского со знаменитейшим режиссером Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом. Одна из учениц его Петроградской студии, Александра Васильевна Смирнова, впоследствии писала:
«По просьбе одной из студиек Мейерхольд разрешил привести Маяковского. В то время только что вышла поэма „Облако в штанах“ – маленькая книжечка в жёлтой обложке. Маяковский захватил с собой стопку экземпляров этой книжки.
Все мы во главе с Мейерхольдом расселись на стульях, расставленных полукругом против эстрады, а для Маяковского был приготовлен столик. Столиком Маяковский пренебрёг…
Маяковский прочёл нам «Флейту-позвоночник» (он как раз в это время заканчивал её), потом – «Облако в штанах»…
Вёл он себя дружелюбно. Каждому подарил по экземпляру «Облака в штанах» с автографом. Размашисто написав что-то карандашом на книжке, он поднёс её Мейерхольду, а тот прочёл написанное и быстро сунул в карман.
Когда Маяковский распрощался и ушел, Мейерхольд вынул из кармана книжку и показал мне надпись, сделанную Маяковским: «Королю театров от короля поэтов», – а потом снова спрятал книжку в карман».
4 декабря военная цензура дала разрешение на печатание поэмы «Флейта-позвоночник». Правда, некоторые слова и даже строки опубликовывать запретили.
Мария Фёдоровна Андреева писала, что Маяковский в ту пору часто заходил к Горькому:
«Очень часто он бывал у нас в Петербурге, на Кронверкском проспекте… Это было в 1915–1916 годах.
Маяковский писал в это время свои большие поэмы, приносил к Алексею Максимовичу почти каждую главу отдельно, советовался с ним…
Про Маяковского много времени спустя он говорил также, что это чудесный лирический поэт, с прекрасным чувством, что хорошо у него выходит и тогда, когда он и не лирикой мысли выражает».
В январе 1916 года издательство «Парус» (им руководили Горький и Тихонов) выпустило книгу стихов Маяковского. Долго искали название. Поэт предлагал: «Тринадцатый апостол», «Пять распятий» и даже «Фуфайка».
Александр Тихонов:
«Книга вышла под названием „Простое как мычание“.
С орфографией тоже не поладилось. Маяковский требовал, чтобы стихи печатались без заглавных букв и знаков препинания.
Заглавные буквы издательство ему уступило, знаки препинания приказала цензура».
Горькому эта книга (по словам Тихонова) очень понравилась:
«Стихотворение „О звёздах“ он часто цитировал, когда говорил о Маяковском… И ещё Горькому нравилась вещь, которая кончается словами: „А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?“»
В это время (в январе 1916-го) призвали в армию ещё одного поэта – Сергея Есенина. Хлопоты его друзей увенчались успехом, и рядовой Есенин «с высочайшего соизволения» получил назначение в Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 Её Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны, где стал служить санитаром. Вскоре Сергей познакомился и подружился с другим санитаром и тоже поэтом (с Вологодчины) Алексеем Ганиным.
По поводу этой новой дружбы другой друг Есенина, Леонид Каннегисер, написал стихи:
«Для Вас в последний раз, быть может,
Моё задвигалось перо —
Меня уж больше не тревожит
Ваш образ нежный, мой Пьеро!
Я вам дарил часы и годы,
Расцвет моих могучих сил,
Но, меланхолик от природы,
На вас тоску лишь наводил.
И образумил в час молитвы
Меня услышавший Творец:
Я бросил страсти, кончил битвы
И буду мудрым наконец».
В феврале 1916 года Владимир Хлебников основал «Общество председателей Земного шара» и стал одним из председателей. Затем он поставил во главе нашей планеты своих коллег-футуристов (порою, даже без их ведома): Давида Бурлака, Василия Каменского, Владимира Маяковского, Николая Асеева и даже Рабиндраната Тагора.
В этот момент из печати вышла поэма «Флейта-позвоночник». Издал её всё тот же Осип Брик. Тираж был – 600 экземпляров, посвящение: «Лиле Юрьевне Б.».
Может возникнуть вопрос: а как к роману Маяковского и Лили Брик относился Осип Брик?
Василий Васильевич Катанян по этому поводу пишет:
«Конечно, Брик не мог не догадываться об их отношениях, хотя поначалу встречи происходили скрытно… Но никто из троих не говорил на эту тему, ибо Лиля наложила запрет на выяснение отношений. А её решение было непререкаемым и для Брика, и для Маяковского. Всегда».
В Москву Маяковский слал письма бодрые и жизнерадостные. 24 апреля он написал:
«Дорогие мои мамочка, Люд очка и Оличка!..
Мои дела по-прежнему. Разница только та, что сейчас приходится очень много работать (часов девять-десять). Но это пустяки, только на пользу, т. к. я здоров и настроение у меня очень хорошее…
Пишите мне все и больше.
Целую вас крепко.
Ваш Володя».
Над чем тогда приходилось «очень много работать» Маяковскому?
В автошколе работал заведующим гаражом капитан Иван Николаевич Бажанов, участник русско-японской и первой мировой войн. Сражаясь с немцами, он создал бронированный грузовой автомобиль, на котором были установлены пулеметы. Об этой машине сам он впоследствии сказал:
«Это была первая броневая машина русской армии, вооружённая двумя пулеметами и замаскированная под грузовик».
Чертежи для первых российских броневиков, стало быть, и делал тогда Маяковский.
А поэт-фронтовик Николай Гумилёв 28 марта 1916 года был произведён в прапорщики.
Первая «увольнительная»
В конце марта 1916 года в Астрахань навестить родителей приехал Велимир Хлебников. 8 апреля он был мобилизован в отправлен в Царицын – в 93-й запасной пехотный полк. Служить ему было очень тяжело, и в середине мая он написал письмо с просьбой о помощи, послав его своему давнему знакомцу Николаю Ивановичу Кульбину, который стал военным врачом-психиатром. Кульбин сразу же поставил диагноз: «состояние психики, которое никоим образом не признаётся врачами нормальным». И Хлебникова отправили на медицинские комиссии.
А Маяковский в конце мая получил двадцатидневный отпуск. И сразу же поехал в Москву, где выступил в Большой аудитории Политехнического музея. Среди его слушателей был и Лев Ольконицкий:
«Я был в Большой аудитории днём, когда Маяковский читал здесь „Облако в штанах“… В первом ряду сидел знакомый москвичам полицейский пристав Строев, на его мундире красовался университетский значок – редкостное украшение полицейского чина… Наружность Строев имел обыкновенную полицейскую, с лихо закрученными чёрными усами; его посылали на открытия съездов, на собрания, где можно было ожидать политических выпадов против правительства, и на публичные литературные вечера. Так что присутствие этого пристава никого особенно не тревожило, но странно было, что он держал в руках книгу и, пока читал Маяковский, не отрывался от неё. Вдруг, в середине чтения, он встал и сказал:
– Дальше чтение не разрешается!
Оказывается, он следил по книге, чтобы Маяковский читал только разрешённое цензурой, когда же Владимир Владимирович попробовал прочитать запрещённые строки, тут проявил свою власть образованный пристав.
Поднялась буря, свистки, послышались крики: «Вон!» Тогда полицейский знаток литературы сказал, обращаясь не к публике, а к поэту:
– Попрошу очистить зал!»
В этой ситуации обращает на себя внимание не столько её комизм, сколько довольно любопытное своеобразие: Маяковского никто не преследовал, его выступление не запрещалось, поэту лишь не позволяли читать то, что было запрещено цензурой. Цензурой, между прочим, военной, потому как шла война. Так что в Политехническом музее всё происходило в рамках закона.
Вернувшись по окончании отпуска в Петроград, он написал (29 июня) матери и сёстрам:
«Милые и дорогие мои мамочка, Людочка и Оличка!
Доехал я в Петроград шикарно. До сего времени здоров, молод, красив и весел. Много работаю: работать теперь трудно, вчера было 32 ° жары. Не забывайте меня. Пишите чаще и больше.
Целую вас всех крепко.
Ваш Володя».
Примерно в это же время им было написано стихотворение «Дешёвая распродажа», в котором говорилось о грядущем:
«Через столько-то, столько-то лет
– словом, не выживу —
с голода сдохну ль,
стану ль под пистолет —
меня,
сегодняшнего рыжего,
профессора разучат до последних нот,
как,
когда,
где явлен.
Будет с кафедры лобастый идиот
что-то молоть о богодьяволе».
В стихотворении были слова и о сегодняшнем не очень радостном дне:
«Слушайте
всё, чем владеет моя душа,
…великолепие,
что в вечность украсит мой шаг,
и самое моё бессмертие,
которое, громыхая по всем векам,
коленопреклонённых соберёт мировое вече, – всё это – хотите? —
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье».
И в «Я сам» (в главке «СОЛДАТЧИНА») о той поре тоже сказано печально:
«Паршивейшее время. Рисую (изворачиваюсь) начальниковы портреты. В голове разворачивается „Война и мир“, в сердце – „Человек“».
Поэма «Война и мир» писалась после «Флейты-позвоночника». Она тоже автобиографична – в самом её начале даже стоит дата начала воинской службы Маяковского:
«8 октября.
1915 год.
Даты времени,
смотревшего в обряд
посвящения меня в солдаты».
Любопытное воспоминание о тогдашнем Маяковском оставил Роман Якобсон:
«Как-то я спросил:
– Чем ты занимаешься?
Он ответил:
– Я переписываю мировую литературу. Я переписал «Онегина», потом переписал «Войну и мир», теперь переписываю «Дон Жуана»…
Он читал мне небольшие отрывки. Тема произведения: Дон Жуан – это однолюб, но все его увлечения ненастоящие, и, наконец, последнее – случайная любовь – настоящая, стала печальной трагедией».
Дон Жуан
Практически все биографы Маяковского упоминают поэму о Дон Жуане, поскольку о ней много раз высказывалась Лили Брик. Вот один из ее рассказов:
«Я не знала о том, что она пишется. Володя неожиданно прочёл мне её на ходу, на улице, наизусть, всю. Я рассердилась, что опять про любовь – как не надоело! Володя вырвал рукопись из кармана, разорвал в клочья и пустил по Жуковской улице по ветру».
На этом история поэмы про очередную «несчастную любовь» не завершилась.
В воспоминаниях Лили Брик есть эпизод, в котором рассказывается, как рано утром в её квартире зазвонил телефон (это случилось, судя по всему, на следующий день после читки «Дон Жуана»):
«Глухой, тихий голос Маяковского: „Я стреляюсь. Прощай, Лилик!“ Я крикнула: „Подожди меня!“, что-то накинула поверх халата, скатилась с лестницы, умоляла, била извозчика в спину. Маяковский открыл мне дверь. В его комнате на столе лежал револьвер. Он сказал: „Стрелялся, осечка, второй раз не решился, ждал тебя“. Я была в неописуемом ужасе, не могла прийти в себя».
Если безоговорочно верить тому образу Маяковского, который возникает в воспоминаниях Лили Брик, именно такая его реакция должна была последовать на её рассерженную встречу поэмы «Дон Жуан».
Дальнейшие события описал Бенгт Янгфельдт (в книге «Ставка – жизнь»):
«Она лихорадочно увозит Маяковского к себе домой. Там он заставляет её играть в преферанс. Они играют, как одержимые… Лили проигрывает первую партию, а затем, к его радости, и все остальные…».
Других свидетелей этого инцидента нет – только одна Лили Брик. И причины, из-за которой Маяковский решил вдруг покончить с собой, она почему-то не указала.
О том, когда именно всё это происходило, у Янгфельдта сказано:
«По воспоминаниям Лили, этот эпизод имел место в 1916 году, но, скорее всего, он относится к следующему году; …и в письме 1930 года Лили говорит о попытке самоубийства Маяковского „тринадцать лет назад“».
Как бы там ни было, но над странной безысходностью поэта задумывались многие. И возникали вопросы.
Почему в ранних произведениях Маяковского речь постоянно заходит о несчастной любви и самоубийстве?
В самом ли деле поэт рвался поставить «точку пули в конце»?
Неужели он действительно бредил тем, что хотел покончить с собой?
Вопросы возникали. Но строки, которые оставил Роман Якобсон, при этом почему-то забывались. А ведь в них – убедительнейший ответ на все подобные вопросы: Маяковский поставил перед собой задачу – «переписать мировую литературу». И он начал переписывать её, выбирая произведения, герои которых погибали.
Но почему поэта интересовали те, кто расставался с жизнью, кто уходил, не долюбив, не доделав многих важных дел? Происходило это потому, что Маяковский всё ещё находился под впечатлением внезапной смерти своего отца. И он продолжал делиться впечатлениями от той невосполнимой утраты. Он по-прежнему очень боялся того, что и его жизнь может оборваться так же неожиданно. И ему очень хотелось, чтобы его героя (и его самого) пожалели. Но этого не происходило.
Маяковский пытался напомнить людям, что человек не просто смертен – он «внезапно смертен», как об этом через пару десятилетий скажет устами Воланда Михаил Булгаков. Но люди не понимали его. И тогда своим собственным самоубийством он хотел продемонстрировать реальность того, чему никто не хотел верить.
Из жизни ему уйти не удалось – помешала осечка. И тогда он принялся сочинять следующую поэму, «переписывая» роман Льва Толстого «Война и мир».
Антивоенная поэма
Когда (до начала войны) Маяковский в своих произведениях постоянно заявлял о том, что дни его сочтены, это у многих вызывало изумление – с чего это вдруг станет расставаться с жизнью он, «красивый, двадцатидвухлетний»? Но вот начались боевые действия, уносившие сотни, тысячи жизней враз, и удивить кого-либо своей смертью было уже нельзя. Но поэт для своих произведений по-прежнему брал трагедийные сюжеты, в которых на главного героя сыпались самые разные беды, ставившие его на край пропасти. Беззаботно веселить людей Маяковский не мог, потому что знал главную человеческую тайну: человек обречён, он смертен. Ничего другого писать он просто не мог.
Вот почему в прологе новой своей поэмы Маяковский сразу же задался вопросом:
«А мне
сквозь строй,
сквозь грохот
как пронести любовь к живому?»
И поэт начал немножко хвастать, заявляя:
«Я знаю,
и в лаве атак
я буду первый
в геройстве,
в храбрости».
И тут же объяснял, откуда у него эта неожиданная отвага:
«… я
на земле
один
глашатай грядущих правд».
После пролога в поэме следует «Посвящение», в котором описан процесс превращения поэта в российского солдата:
«От уха до уха выбрили аккуратненько.
Мишенью
на лоб
нацепили крест
ратника».
Первые три главы поэмы описывают ужасы войны. Описывают очень сложно, чересчур образно, сходу – не понять. А в главе четвёртой Маяковский неожиданно предлагает считать его виновником всех убийств, что были совершены за прошедшие тысячелетия, включая и мировую войну:
«… каюсь, я один виноват в растущем хрусте ломаемых жизней»,
«Это я, Маяковский Владимир…»,
«Люди!
Дорогие!
Христа ради,
ради Христа,
простите меня!»
Маяковский прямо говорил о том, как трудно ему было описать все эти кровавые побоища:
«Лучше
язык узлом завяжу,
чем разговаривать.
Этого
стихами сказать нельзя.
Выхоленным ли языком поэта
горящие жаровни лизать!»
Но он всё же пытался «это» высказать. И закончил свою поэму здравицей людям, которые не убивают себе подобных:
«Славься, человек,
во веки веков живи и славься!..
И он,
свободный,
ору о ком я,
человек —
придёт он,
верьте мне,
верьте!»
Этим восклицанием как бы давалась клятва посвятить свою следующую поэму «свободному человеку». Правда, было неясно, от кого будет «свободен» её герой – от своей «рыжеволосой» любимой, от которой он наконец-то освободится, или свобода эта будет совсем иного рода.
Жаждущим получить разъяснения предстояло запастись терпением и подождать написания очередной поэмы.
В автобиографических заметках (в главке «16-й ГОД») сказано:
«Окончена «Война и мир». Немного позднее – «Человек». Куски печатаю в «Летописи». На военщину нагло не показываюсь».
Комментарии на «Войну и мир» в маяковсковедении практически отсутствуют – биографы поэта избегали что-либо говорить об этом весьма загадочном произведении. Пожалуй, только Артемий Григорьевич Бромберг, один из создателей «Бригады Маяковского» в 1930 году, высказался на эту тему. Правда, поэму «Война и мир» Бромберг прочёл только во второй половине двадцатых годов, так как в год опубликования её ему было всего 13 лет. «Беседа с тов. Бромбергом» была проведена 10 мая 1933 года:
«Тов. Бромберг вначале отнёсся критически к произведениям Маяковского. „Война и мир“, например, показалось сначала ему бессмыслицей, набором слов. Всячески издеваясь над автором, показывал и читал он стихотворение друзьям и знакомым. Читать приходилось довольно часто. Тов. Бромберг как-то незаметно вник в сущность поэзии Маяковского и понял его, и, конечно, изменил своё отношение к его творчеству. Но его выступления в защиту поэта не имели никакого успеха, быть может, потому, что сам он недавно всячески третировал его произведения».
А обстановка в стране тем временем стремительно ухудшалась. Юрий Анненков писал:
«Это было время, когда начинались уже продовольственные нехватки. Вести с фронта становились всё более и более пессимистическими. Народные демонстрации недовольства и волнения вспыхивали то там, то сям».
Но Маяковского всё это как будто не задевало. Следующим произведением, которое он начал «переписывать», стала поэма Максима Горького «Человек». В ней были слова:
«Иду, чтобы сгореть как можно ярче и глубже осветить тьму жизни. И гибель для меня – моя награда».
Впрочем, иногда печальные мысли отодвигались в сторону событиями, если не радостными, то достаточно забавными. Так, например, в том же 1916 году произошло знакомство Маяковского с Сергеем Есениным. Об этом – в его статье «Как делать стихи?»:
«В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками… Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет своё одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским. Тем более что он уже писал нравящиеся стихи и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы.
Как человек, уже в своё время относивший и отставивший жёлтую кофту, я деловито осведомился относительно одёжи:
– Это что же, для рекламы?
Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы, может быть, ожившее лампадное масло. Что-то вроде:
– Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем… мы уж как-нибудь… по-нашему… в исконной, посконной…
Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны.
Но малый он был как будто смешной и милый.
Уходя, я сказал ему на всякий случай:
– Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!
Есенин возражал с убеждённой горячностью».
В августе 1916 года очередная медицинская комиссия дала, наконец, Владимиру Хлебникову месячный отпуск. Маяковский тоже получил отпуск. Еще один. Но осенью.
«Глупые» вырезки
В сентябре 1916 года Маяковский написал родным:
«Дорогие мамочка, Людочка, Оличка!
Целую вас всех крепко. Я здоров. Живу не хуже остальных, а это уже не так плохо. Спасибо за посылку, съел замечательно.
Не читайте, по возможности, глупых газет и вырезок не присылайте. Пирожки куда вкуснее и остроумнее.
Я получил отпуск до середины октября. Приеду позднее в Москву. Сначала попробую немножко одеться…
Работаю много.
Не ругайте меня мерзавцем за то, что редко пишу. Ей-богу же, я, в сущности, очень милый человек.
Я переехал в другую комнату. Пока пишите по старому адресу на Жуковскую, Брик.
Целую вас крепко.
Володя».
Видимо, после очередного эмоционального всплеска Маяковский и переехал ещё поближе к Брикам.
А по поводу «глупых газет», которых он советовал не читать своим родным и «вырезок» из них просил не присылать, то вот одна из таких публикаций. Известный литературовед-пушкинист Павел Елисеевич Щёголев, прочитав сборник «Простое как мычание», опубликовал в газете «День» (21 октября 1916 года) небольшую статью, которую подписал инициалами («П.Щ.») и назвал «Мычание». В ней говорилось:
«Маяковский не первый год шумит на литературной улице. Пора юности и первой молодости для него прошла, и юношеская звонкость голоса сменилась слегка зажиревшей зычностью. Зык – основной элемент его стиходелия, на зыке зиждется вся его шумливая известность. Назойливо кричит он в уши:
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека.
Или:
Я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам,
я – бесценных слов транжир и мот».
Щёголев привёл ещё несколько фрагментов, завершавшихся отрывком из трагедии «Владимир Маяковский», на представлении которой он, надо полагать, тоже побывал:
«Я, бесстрашный,
ненависть к дневным лучам пронёс в веках;
с душой натянутой, как нервы провода,
я —
царь ламп!
Вот уже в течение нескольких лет наполняет такими выкриками свои произведения Маяковский. Так было два года тому назад, так обстоит дело теперь, так и будет впредь. Я внимательно следил за творениями Маяковского, но тщетно я старался уловить какие-нибудь признаки движения, роста. Как начал, так и продолжает – без всяких отмен и перемен. Зычный крикун остаётся только крикуном и не только не превращается, но и не обнаруживает никакого стремления к превращению в поэта. Через все изделия его музы проходит настроение учителя из «Трёх сестёр», который всем доволен. А самодовольство Маяковского – жирное, грузное, как-то по особенному выпирающее из него. До смешного!»
Напомнив читателям стихотворение Маяковского «А всё-таки», в котором говорится, что «бог заплачет над моей книжкой!» и станет читать стихи из неё «своим знакомым», Щёголев продолжил безжалостный разбор творчества поэта:
«Изделия стихотворные Маяковского не имеют ничего общего с поэзией, искусством, художеством. Это – литература весьма своеобразная; эмоции, ею вызываемые, тоже порядка особого. Изделия Маяковского производят действие физиологическое на организм читателя. Зычное чиканье "Царя ламп "наполняет уши, поражает барабанную перепонку, действует на мозг. Впечатление такое, будто за стеной несколько папуасов упражняются на рояле.
Маяковский щеголяет необщим выражением своей музы, своей необычностью, экстравагантностью, но необычное в его стихах стало уже надоедливо пошлым».
И Щёголев привёл отрывок из раннего стихотворения Маяковского «Из улицы в улицу»:
«У-
лица.
Лица
У
догов
годов
рез-
че.
Че-
рез
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы».
И сделал вывод:
«Какой густой налёт пошлости на этой дребедени! Настаиваю именно на пошлом выражении музы Маяковского. В его стиходельческой работе – глубокая тривиальность, мирно сожительствующая с безграмотностью и провинциальной наглостью».
Статью, подобную этой, конечно же, никому не хотелось рекомендовать читать. Тем более родным и близким. А ведь Павел Щёголев не только высказывал свои впечатления, он и приговор выносил. И какой:
«Совсем было поставили крест на „творчестве“ Маяковского, но вдруг его стихи издаёт издательство, девиз которого: „Сейте разумное, доброе, вечное“. Издательство, возникшее при „Летописи“. Большой грех на душе издателей Маяковского!»
Это был сильный удар по самолюбию «Летописи». Не ответить на него было нельзя. И «Летопись» ответила, написав (в первом номере за 1917 год):
«Наиболее замечательной является книга Вл. Маяковского „Простое как мычание“. В ней Маяковский не дал почти ничего нового, но сделал первую попытку собрать воедино стихи, разбросанные ранее по сборникам и тощим брошюрам. И теперь уже ясна стала и значительность Маяковского как поэта, и его место в современной поэзии. Поэт города – со стороны содержания, поэт гиперболы – со стороны приёма, Маяковский – „трагик поневоле“, мятущийся пленник жизни… Его поэзия – продукт городской динамики, глубоко индивидуалистическая по существу, являет, однако, изредка некоторый уклон в сторону поэзии социальной. В его бунте есть что-то от бунта миллионов индивидуальностей, мечущихся по городу».
А вот что писала газета «Русская воля» (в номере от 6 февраля 1917 года):
«У русских футуристов никакого футуризма нет. Единственное общее у них – это преодоление вчерашнего дня искусства. Но это было у всех и всегда…
Из этой группы, например, Вл. Маяковского без сомнения следовало бы выделить. Ему как будто есть что сказать. У него, при всей болезненности, слышится сила, борьба и протест, чувствуются мускулы. Правда, здесь многое гиперболизировано, оснащено многими громоздкими ненужностями. Наверченное и часто навинченное, – всё же тут и подлинная боль и подлинный крик… Во всяком случае, это не «футурист» и совсем не «простое как мычание».
Читал ли все эти статьи Борис Пастернак, неизвестно. Но на сборник «Простое как мычание» он откликнулся (3 января 1917 года) с восторгом:
«Какая радость, что существует и не выдуман Маяковский, талант, по праву переставший считаться с тем, как пишут у нас нынче… приревновавший поэзию к её будущему, творчество – к судьбе творения. Оно ему не изменит. Поэзию привяжут к поэту две вещи. Ярость творческой его совести. Чутьё не назревшей ещё ответственности перед вечностью – его судилищем…
Маяковский начинает поэзию столь же живо, как когда-то по одному мгновению очей схватывал мысли улицы и неба над ней. Он подходит к поэзии всё проще и уверенней, как врач к утопленнице, заставляя одним уже появлением своим расступиться толпу на берегу. По его движениям я вижу, он живо, как хирург, знает, где у ней сердце, где лёгкие, знает, что надо сделать с ней, чтобы заставить её дышать. Простота таких движений восхищает. Не верить в них нельзя».
Константин Бальмонт в течение двух лет (1915-го и 1916-го) тоже писал не переставая, особенно много у него выходило сонетов – их было создано 255! Они были опубликованы, встречены достаточно тепло и приветливо, но критики всё же нашли в них «однообразие и обилие банальных красивостей».
А бельгийский поэт Эмиль Верхарн в ноябре 1916 года неожиданно погиб под колёсами поезда. Маяковский упомянул об этом трагическом событии в стихотворении «Мрак»:
«Сегодня на Верхарна обиделись небеса.
Думает небо – дай зашибу его.
Господа, кому теперь писать?
Неужели Шибуеву?»
Маяковский, в талант которого не поверил Щёголев, сам не очень-то верил в талант Шибуева, потому и написал о нём так уничижительно.
Накануне бунта
В декабре 1916 года Владимира Хлебникова перевели в Саратов, и он снова стал рядовым. Армейские медики не сочли его «невменяемость» несовместимой с воинской службой. И Хлебников продолжил своё служение.
А Маяковский в самом конце года отправил родным в Москву очередное письмо:
«Дорогие мамочка, Людочка и Оличка!
Поздравляю вас всех с праздниками.
Мне очень хочется в Москву.
В первых числах января мне разрешают на недельку отпуск. Приеду к вам…
Целую всех.
До скорого свидания.
Любящий Володя».
А незадолго до отправки этого письма в Петрограде произошло событие, которое многие историки называют судьбоносным. Его застрельщиком стал депутат Государственной думы Владимир Пуришкевич, о котором начальник одной из думских канцелярий Яков Васильевич Глинка писал (в книге воспоминаний «Одиннадцать лет в Государственной думе»):
«Он не задумывается с кафедры бросить стакан с водой в голову Милюкова. Необузданный в словах, за что нередко был исключаем из заседаний, он не подчинялся председателю и требовал вывода себя силой. Когда охрана Таврического дворца являлась, он садился на плечи охранников, скрестивши руки, и в этом кортеже выезжал из зала заседаний».
Пуришкевичу, который, как мы помним, был не только скандалистом, но и поэтом, выпустившим несколько стихотворных сборников, в конце 1916 года должны были всё чаще вспоминаться строки из его стихотворения «Туман»:
«Когда всё смутно впереди,
Так всё полно сомненьем,
В моей измученной груди
Нет места песнопеньям».
Вполне возможно, эти строки повторял он про себя и в ночь на 17 декабря, когда вместе с Великим князем Дмитрием Павловичем и князем Феликсом Юсуповым отправился убивать царского любимца Григория Распутина. Всесильный «старец» был убит.
Юнкер Михайловского артиллерийского училища Леонид Каннегисер откликнулся на это событие стихами:
… подо льдом, подо льдом,
Мёртвым его утопили в проруби,
И мёрзлая вода отмывает с трудом
Запачканную кровью бороду.
Он бьётся, скрючившись, лбом о лёд,
Как будто в реке мёртвому холодно,
Как будто он на помощь царицу зовёт
Или обещает за спасение золото..»
Солдат Фёдор Семёнович Житков, оказавшийся невольным участником этого убийства, впоследствии рассказывал, что Пуришкевич тогда сказал:
«Это первая пуля революции».
И вскоре наступил год, которому суждено было стать революционным – 1917-ый.
Отпуск, о котором Маяковский оповещал родных, был у него с 4 по 25 января. Поэт вовсю обдумывал свою новую поэму, в которой ему предстояло родиться, прожить жизнь, расстаться с нею, вознестись на небо, а затем вновь вернуться к жизни и обратиться к грядущим векам.
А в самом конце января в Военно-автомобильной школе Петрограда состоялось награждение личного состава. В приказе от 31 числа был перечислены фамилии нижних чинов, «высочайше награждённых 13 января за отлично ревностную службу и особые труды, вызванные обстоятельствами текущей войны, медалями с надписью "За усердие "». Всего награждению подлежало 190 человек. «Ратник 2 разряда» Владимир Маяковский получил медаль на Станиславской ленте.
Так российское самодержавие отметило службу чертёжника автомобильной школы. Само же оно было уже приговорено к тому, чтобы своё существование прекратить.
Часть третья Российский бунт
Глава первая Взбунтовавшиеся бунтари
Возникновение смуты
Прошло три с половиной недели со дня награждения ратника Маяковского медалью «За усердие». Атмосфера в стране становилась всё более предгрозовой. Давний знакомый Бриков, друг детства Эльзы Каган, 21-летний студент Московского университета Роман Осипович Якобсон вернулся из Петрограда в Москву в полной уверенности в том, что Россия находится накануне революции – это чувствовалось по тому, как были настроены московские студенты.
Бунтарские настроения охватывали не только учащуюся молодёжь. В стране ширилось забастовочное движение. В годовщину «кровавого воскресенья» (9 января) в Петрограде бастовало 150 тысяч человек. 14 февраля прошла политическая стачка под лозунгами «Долой войну!» и «Да здравствует республика!». 17 февраля забастовал Путиловский завод.
А тут из-за снежных заносов начались трудности со снабжением Петрограда хлебом. Поползли слухи о скором введении хлебных карточек.
Посетив 20 февраля 1917 года министерство внутренних дел, жандармский генерал Александр Спиридович записал:
«Надвигается катастрофа, а министр, видимо, не понимает обстановки, и должные меры не принимаются. Будет беда. Убийство Распутина положило начало какому-то хаосу, какой-то анархии. Все ждут какого-то переворота. Кто его сделает, где, как, когда – никто ничего не знает. А все говорят, и все ждут… Царицу ненавидят, Государя больше не хотят. Об уходе Государя говорили как бы о смене неугодного министра».
Газета «Биржевые ведомости» в номере от 21 февраля сообщила, что на Петроградской стороне начался разгром булочных и мелочных лавок. Толпа с криками «Хлеба, хлеба!» окружила пекарни и булочные, а затем двинулась по улицам.
22 февраля администрация Путиловского завода объявила об увольнении всех бастовавших рабочих.
23 февраля состоялась демонстрация женщин, решивших своим мирным выступлением отметить День работниц (в советские времена его назвали Международным женским днём). Демонстрантки несли лозунги и транспаранты с требованием хлеба и мира.
На следующий день началась всеобщая забастовка рабочих, студентов и курсисток Высших женских (Бестужевских) курсов. Проспекты и площади северной столицы заполнили многотысячные колонны. То тут, то там вспыхивали антиправительственные митинги. Полиция, по словам Петроградского градоначальника, была не в состоянии «остановить движение и скопление народа». Для охраны правительственных зданий, почты, телеграфа и мостов через Неву направляли солдат гвардейских запасных полков.
25 февраля император Николай Второй (как верховный главнокомандующий он находился в ставке русской армии в Пскове) издал указ, согласно которому деятельность Государственной думы приостанавливалась до 1 апреля. Для ликвидации возникшей «смуты» было рекомендовано привлечь 170-тысячный воинский гарнизон, расквартированный в Петрограде.
Однако приказ применять против демонстрантов огнестрельное оружие вызвал у солдат бурные протесты. В полках начались стихийные митинги, на которых звучал единодушный и решительный отказ стрелять в мирных граждан.
Маяковский потом напишет стихи, которые назовёт «Революцией»:
«В промозглой казарме
суровый,
трезвый
молился Волынский полк…
Первому же,
приказавшему —
«Стрелять за голод!» —
заткнули пулей орущий рот.
Чьё-то – «Смирно!».
Не кончил.
Заколот.
Вырвалось городу буря рот».
Митинг прошёл и в Военной автошколе.
«На своём постоянном месте
в Военной автомобильной школе
стоим,
зажатые казарм оградою.
Рассвет растёт,
сомненьем колет,
предчувствием страша и радуя».
В этом радостном «предчувствии», видимо, и проходило избрание солдатского комитета во главе с рядовым Владимиром Маяковским.
Два дня в Петрограде царило фактическое безвластие.
А 27 февраля началось вооружённое восстание. Солдаты Преображенского, Литовского и Волынского полков начали громить жандармские казармы, избивая, а порою и убивая полицейских в форме. Захватывались городские тюрьмы, две из них были сожжены. Заключённых выпустили на свободу.
Вечером того же дня думские политики после долгого заседания в Таврическом дворце (в том самом, где до этого проходили заседания Государственной Думы) образовали, наконец, Временный Комитет, который возглавил Михаил Владимирович Родзянко, председатель «приостановленной» царём Думы. Было объявлено, что этот Комитет берёт на себя полномочия и функции верховной власти.
Впрочем, власть Временного Комитета оказалась не полной (точнее, не безграничной), так как в тот же вечер 27 февраля в том же Таврическом дворце был сформирован Петроградский Совет Рабочих Депутатов во главе с одним из лидеров партии меньшевиков Николаем Семёновичем Чхеидзе. Товарищами (заместителями) председателя были избраны меньшевик Матвей Иванович Скобелев и трудовик Александр Фёдорович Керенский. Петросовет поддержали солдаты военного гарнизона и рабочие столичных предприятий.
Александр Тихонов потом вспоминал:
«На первом заседании Петроградского совета – 27 февраля 1917 года – было поручено трём депутатам, в том числе и мне, составить и напечатать к утру первый номер „Известий“. Мы реквизировали попавшийся нам навстречу грузовик и двинулись на нём от Таврического дворца на Лиговку, в типографию „Копейка“, где у меня были знакомые рабочие».
К утру 28 февраля первый номер газеты «Известия Петроградского Совета Рабочих Депутатов» был напечатан. На первой странице было помещено обращение, которое начиналось так:
«К населению Петрограда и России
от Совета Рабочих Депутатов
Старая власть довела страну до полного развала, а народ – до голодания. Терпеть дальше стало невозможно! Население Петрограда вышло на улицу…».
Вслед за обращением следовал манифест социал-демократической партии, которая, собственно, и образовала Петроградский Совет:
«Ко всем гражданам России
Граждане! Твердыни русского царизма пали. Благоденствие царской шайки, построенное на костях народа, рухнуло. Столица в руках восставшего народа.
По всей России поднимается красное знамя восстания! По всей России берите в свои руки дело свободы, свергайте царских холопов, зовите солдат на борьбу!
Вперёд! Возврата нет! Беспощадная борьба!
Под красное знамя революции!
Да здравствует демократическая республика!
Да здравствует революционный рабочий класс!
Да здравствует революционный народ и восставшая армия!
Центральный Комитет Российской Социал-Демократической Рабочей Партии».
И вновь воспоминания Александра Тихонова, который поручение Петросовета выполнил – газету напечатали:
«На рассвете, с кипой сырых оттисков, я вышел на улицу.
Город трясло в лихорадке.
Невзирая на ранний час, на улицах было много народа.
Около Невского на меня налетел Маяковский в расстёгнутой шинели и без шапки. Он поднял меня и все лицо залепил поцелуями, он что-то кричал, кого-то звал, махал руками:
– Сюда! Сюда! Газеты!
Я стоял перед ним, как дерево перед ураганом.
Около вокзала послышалась перестрелка. Маяковский бросился в ту сторону.
– Куда вы?
– Там же стреляют! – закричал он в упоении.
– У вас нет оружия.
– Я всю ночь бегаю туда, где стреляют.
– Зачем?
– Не знаю. Бежим!
Он выхватил у меня пачку газет и, размахивая ими, как знаменем, убежал туда, где стреляли».
О первом дне февральской революции вспоминала и художница Валентина Ходасевич:
«Утром, услышав выстрелы и шум, мы с мужем выскочили на улицу и были вовлечены в энтузиазм мчащихся грузовиков, наполненных рабочими с красными флагами, стрелявшими по крышам и окошкам чердаков кадетского корпуса, где укрывалась полиция. Перестрелка. Кто-то, взобравшись на крышу, тащил и сбрасывал на улицу укрывшихся на чердаке полицейских, лилась кровь, раздавалось пение революционных песен и проклятия противников».
Видимо, в тот же день Маяковского встретил на квартире Горького видный социал-демократ Василий Алексеевич Десницкий, впоследствии написавший:
«Улица его пьянила, и в сообщениях о своих уличных впечатлениях он забывал о всякой сдержанности и насторожённости».
Оставил воспоминания писатель и поэт Михаил Васильевич Бабенчиков, зашедший в один из тех мятежных дней в мастерскую художника Алексея Радакова, который тоже служил в Военной автошколе:
«… раздался нетерпеливый, заставивший невольно насторожиться стук. «Это я, отворите!» – послышался за дверью зычный голос Маяковского.
Не здороваясь ни с кем, когда ему открыли, он одним махом перешагнул через порог и, не снимая кожанки и головного убора, возбуждённо спросил: «Слышите? Шарик-то вертится? Да ещё как, в ту сторону, куда надо!» Было ясно, что он говорит о событиях последних дней, да и самый вид его подтверждал это.
Лицо Маяковского выглядело помятым и донельзя утомлённым.
Он был небрит. Но карие его глаза весело улыбались, а сам он буквально ликовал.
– Зашёл мимоходом. Забыл записную книжку, а в ней – адреса. Да вот она! Закурить есть? Два дня не курил. А курить хочется до одури. Даже не думал, что так бывает, – скороговоркой сказал он, обращаясь к Радакову.
Говорил Маяковский осипшим голосом человека, которому пришлось много выступать на воздухе, а в тоне его речи и порывистости движений чувствовалось, что нервы его напряжены до последнего предела.
Походив беспокойно по комнате, Маяковский на минуту присел на край стола, устало вытянув длинные ноги. И, жадно вдыхая табачный дым, не без некоторого, как мне показалось, задора добавил: «У нас в автошколе основное ядро большевиков. Н-да. А вы думали…»
При последних словах он… шумно спрыгнул со стола и, не прощаясь, быстро исчез, уже в дверях весело крикнув: «Буржуям крышка!»
Было ясно, что Владимир Владимирович не только захвачен происходящими событиями, но что он сам «сеет бурю»».
В своём стихотворении «Революция» он потом напишет:
«Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова».
Становление демократии
В Военной автошколе «Известия Петроградского Совета» тоже читали и перечитывали. Манифест эсдеков и все их призывы солдаты поддержали безоговорочно. Со всех сторон звучали голоса, требовавшие свергнуть начальника автошколы генерала Секретарёва.
1 марта вышел второй номер «Известий». Газета сообщала:
«Москва
Трамваи не ходят. Митинги по всему городу… Ждут с часу на час присоединения войск, среди которых ведётся агитация.
Петроград
Занятие Зимнего дворца революционными войсками.
Петропавловская крепость перешла на сторону народа».
Петроградцам было уже известно, что царские министры арестованы и перевезены в Таврический дворец.
Узнав об этом, солдаты автошколы решили расправиться и со своим командиром, генерал-майором Павлом Ивановичем Секретарёвым, царским холопом, держимордой и взяточником.
Капитан Иван Николаевич Бажанов, занимавший должность помощника начальника школы по технической части, потом рассказывал:
«Я шёл к Секретарёву. Внизу, у дверей, увидел солдата с винтовкой.
– Ты что тут стоишь? – спросил у него.
– Да вот жду, как генерал выйдет, я застрелю его.
– Ну, жди, жди! – сказал я и пошёл наверх к генералу.
Предупредил его, чтобы он не выходил из кабинета и даже не подходил к окнам. А сам сел в авто и помчался к Маяковскому, о котором знал только, что он председатель Комитета солдатских депутатов.
Услышав о назревавшем самосуде, Маяковский сел со мною в машину. Подъехали с чёрного хода, взяли Секретарёва и отвезли в Думу».
Другой участник ареста генерала, художник Алексей Радаков, описал это событие несколько иначе:
«Решили, что раз министров свезли в Думу, надо, значит, и этого господина туда представить… Ну, посадили генерала в его прекрасный автомобиль. Он стал так заикаться, что ничего сказать не мог. Человек пять было солдат, Маяковский, я. Генерала этого в карцер сдали».
Маяковскому посещение Думы тоже запомнилось. Об этом – в «Я сам», в главке «26 ФЕВРАЛЯ, 17-й ГОД»:
«Пошёл с автомобилями к Думе. Влез в кабинет Родзянки. Осмотрел Милюкова. Молчит. Но мне почему-то кажется, что он заикается. Через час надоели. Ушёл».
Как бы там ни было, а Маяковский и его сослуживцы генерала Секретарёва от самосуда уберегли. Но автошкола своего командира-начальника лишилась.
В Государственной думе в те дни побывал и другой поэт-футурист, Николай Бурлюк, учившийся в Петроградской школе Инженерных прапорщиков. В письме матери и брату Давиду он писал:
«В Г. Думе, когда я протискался в вестибюль, было нечто необычное. Сбежались в кучу военные всех чинов, начиная от грязной солдатской шинели, до генеральских и адмиральских погон. Мелькали лица бледных рабочих, фигуры депутатов – недоумённые мужички…
Нас по длинным коридорам повели в оружейную, заваленную винтовками, пулемётами и патронами, где мы из рук генерала получили по винтовке. Когда мы ушли по узким коридорам, то послышались крики: «Дорогу председателю Г. Думы!», и мы, расступившись, пропустили Родзянко – высокого, упитанного, чёрного мужчину в шубе и остроконечной барашковой шапке. Он шёл твёрдо, со взором, не то надменным, не то обалделым, и казалось никого не замечал, что-то азиатское и слегка напоминающее папу я заметил в его фигуре. Оно мне более всего остального врезалось в память».
О том, как вели себя те, кто обязан был обеспечивать в стране спокойствие и порядок, написал жандармский генерал Александр Спиридович:
«Революционному фанатизму корпус жандармов противопоставил фанатизм долга и службы. Корпус жандармов грудью защищал государственный порядок царской России».
Но было уже поздно – 2 марта царь подписал документ, начинавшийся так:
«Высочайший Манифест
Божиею Милостию
Мы, Николай Вторый,
Император и Самодержец
Всероссийский,
Царь Польский, Великий Князь Финляндский,
и прочая, и прочая, и прочая,
объявляем всем верным Нашим подданным…»
Далее шла речь о судьбе этих подданных:
«Судьба России, честь геройской Нашей Армии, благо народа, всё будущее дорогого Нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца… В эти решительные дни в жизни России почли Мы долгом совести облегчить Народу Нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственной Думою, признали Мы за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с Себя Верховную Власть. Не желая расставаться с любимым сыном Нашим, Мы передаем наследие Наше брату Нашему ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и благословляем Его на вступление на престол Государства Российского…
Да поможет Господь Бог России.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою написано:
«НИКОЛАЙ»
День 2 марта 15 часов 1917 г.
Город Псков».
Отречение Николая Второго приняли депутаты приостановленной им Государственной Думы Александр Иванович Гучков и Василий Витальевич Шульгин (кстати, тоже поэт, соперничавший с Пуришкевичем).
Россия на какое-то время осталась без верховного правителя.
Тот мартовский день остался в памяти и у Николая Бурлюка:
«… (2 марта – четверг) я попал в милицию от юнкеров – на Литейный – в здание финансового коммерческого собрания – сперва караульным начальником у догорающего окружного суда, а затем комендантом здания. По поручению командира милиции, я прекратил грабёж мастерских и дома предварительного заключения, а затем расставил часовых. До полуночи я был командиром здания и наблюдал сцены вроде этой. Приходит жандармский полковник:
– Арестуйте меня, пожалуйста. Я уже второй раз прихожу.
– Подождите же, у нас масса дел.
Ему дают чай, и он ждёт.
– Вы бы сами отправились к коменданту Г. Думы, а то у нас некому вас вести.
– Я один боюсь идти.
Наконец, после долгих пререканий, один из секретарей "Коменданта " поднимает воротник и ведёт «арестованного» полковника в думу».
Покомандовал те дни и Маяковский. Об этом как всегда кратко – в «Я сам»:
«Принял на несколько дней команду Автошколой. Гучковеет. Старое офицерьё по-старому расхаживает по Думе. Для меня ясно – за этим неизбежно сейчас же социалисты. Большевики».
Офицеры надеялись, что ситуация изменится, и всё восстановится по-прежнему.
Бывший начальник Московского охранного отделения Сергей Зубатов, давно уже отошедший от дел, тоже сохранял (по словам Александра Спиридовича) верность старому «государственному порядку»:
«Начитанный, хорошо знакомый с историей, интересовавшийся всеми социальными вопросами, Зубатое был убеждённым монархистом. Он считал, что царская власть, давшая России величие, прогресс и цивилизацию, есть единственная свойственная ей форма правления.
– Без царя не может быть России, – говорил он нам не раз, – счастье и величие России – в её государях и их работе. Возьмите историю!
И доказательства сыпались, как из рога изобилия.
– Так будет и дальше. Те, кто идут против монархии в России – идут против России; с ними надо бороться не на жизнь, а на смерть».
Но начавшаяся всеобщая смута поставила под вопрос само существование монархии. Тем более, что Великий князь Михаил Александрович в ответ на предложение отрёкшегося брата заявил:
«… принял Я твёрдое решение в том лишь случае восприять Верховную власть, если таковая будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, через представителей своих в Учредительном Собрании, установить образ правления и новые основные законы Государства Российского…
Михаил
3/III 1917
Петроград».
4 марта ответ Великого князя был опубликован в печати.
Когда принесли свежие газеты, Василий Зубатов обедал в своей квартире в Замоскворечье – на Пятницкой улице в доме № 49. Услышав ответ Михаила Александровича, он молча встал из-за стола, вышел в соседнюю комнату и там застрелился.
Зубатов был слишком хорошо знаком с мстительностью тех, кого он в своё время так истово пытался направить на путь истинный. Его предчувствия вряд ли назовёшь ошибочными, ведь в тот же день другой бывший начальник Московского охранного отделения Михаил Фридрихович фон Коттен был убит под Гельсингфорсом (ныне – Хельсинки) разбушевавшейся толпой.
Российский бунт, бессмысленный и беспощадный, только начинался. А письмо юнкера Николая Бурлюка матери и брату Давиду заканчивалось так:
«Мамочка, я очень увлекаюсь теософией – мир так призрачен. Тем более я убеждаюсь в жизни и открытии духа, а раз так, то всё понятно и оправдано, и я опять стал любить жизнь и людей».
Новая жизнь
Время наступило необыкновенное. События, тесня друг друга, обрушивались на россиян стремительно, каждый день приносил что-то новое.
Вечером 2 марта (сразу же после отречения Николая Второго) Временный Комитет Государственной думы образовал Временное правительство и объявил его состав:
Министром-председателем и министром внутренних дел стал член партии кадетов князь Георгий Евгеньевич Львов.
Министром иностранных дел был назначен другой кадет – Павел Николаевич Милюков.
Пост министра юстиции занял член «трудовой группы» Государственной думы (трудовик) Александр Фёдорович Керенский.
Военным и (временно) морским министром стал октябрист Александр Иванович Гучков.
Одним из первых решений новой российской власти было утверждение нового государственного гимна (вместо «Боже, царя храни») – гимном России становилась «Марсельеза», песня, которую каждый день {«всегдашне») напевал багдадский лесничий Владимир Константинович Маяковский.
3 марта «Известия Петроградского Совета» сообщили о первых шагах министра юстиции Керенского:
«Прекращение политического сыска
Решено прекратить впредь по всей России привлечение по политическим делам.
Освобождение всех политзаключённых
Решено немедленно освободить всех политических заключённых и подследственных из всех российских тюрем.
Приём всех евреев в адвокатуру
Решено принять в адвокатуру всех евреев помощников присяжных поверенных».
«Известия» сообщили также, что Керенский отправил телеграмму енисейскому губернатору «с требованием немедленного и полного освобождения членов Государственной думы Петровского, Муранова, Бадаева, Шагова, Самойлова, с возложением на губернатора обязанности и личной ответственности обеспечения им почётного возвращения в Петроград».
И в северную столицу помчались поезда из Сибири со вчерашними каторжниками, ссыльными и заключёнными пересыльных тюрем. А из-за рубежа потянулись на родину политэмигранты.
4 марта «Известия» поместили объявление:
«Сегодня выходит первый номер ежедневной газеты Центрального органа РСДРП „Правда“».
Россия начала жить по-новому. Это чувствуется даже в письмах Эльзы Каган Маяковскому. В одном из них (от 8 марта) она радостно восклицала:
«Милый дядя Володя, что творится-то, великолепие прямо!»
Эльза также сообщала, что вернувшийся из Петрограда в Москву Роман Якобсон вместе с другими студентами Московского университета вступил в милицию, что он наводит порядок на улицах, носит оружие и арестовал уже шесть бывших городовых.
Иными словами, Роману Якобсону пришлось делать то, чем ещё совсем недавно занимались работники спецслужб царского режима.
Изменилась и судьба рядового Хлебникова – очередная медкомиссия назначила ему пятимесячный отпуск. Обрадованный Велимир тут же уехал в Харьков и в армию уже не вернулся.
А Маяковский в это время организовывал митинги и ораторствовал на них. Заседал в солдатском комитете автошколы, часто заглядывал в Академию художеств и на квартиру Горького, где собирались деятели искусств. Сочинял лозунги, подписывал манифесты. И почти на каждом массовом мероприятии его обязательно куда-нибудь избирали.
В этой послереволюционной суете и сутолоке произошла ещё одна встреча его с Есениным, которую он впоследствии описал в статье «Как делать стихи?»:
«Плотно я его встретил уже после революции у Горького. Я сразу со всей врождённой неделикатностью заорал:
– Отдавайте пари, Есенин, на вас и пиджак и галстук!
Есенин озлился и пошёл задираться».
Общественностью Петрограда был образован Союз деятелей искусств, куда вошли представители самых разнообразных политических и художественных направлений, готовые начать борьбу за независимость искусства от государства. Выступая на одном из заседаний, Маяковский провозгласил:
«Мой девиз и всех вообще: да здравствует политическая жизнь России, и да здравствует свободное от политики искусство! Лично я не отказываюсь от политики, только в области искусства не должно быть политики!»
Впрочем, далеко не всегда и не везде терпеливо воспринимали активность поэта-футуриста. Он сам через десять лет в статье «Только не воспоминания…» рассказал о ситуации, сложившейся во время одной из дискуссий в Академии художеств:
«Здесь под председательством академика Таманова собрался Союз деятелей искусств. Неестественным путём революции перемешались все, от беспардонного осликохвостца юнца Зданевича до каких-то ворочающих неслышащими, заткнутыми ватой ушами профессоров, о которых, я думаю, уже появились некрологи.
Ярость непонимания доходила до пределов. Не помню повода, но явилось чьё-то предложение, что я могу с какой-то организационной комиссией влезть в академию. Тогда один бородач встал и заявил:
– Только через мой труп Маяковский войдёт в академию, а если он всё-таки войдёт, я буду стрелять.
Вот оно внеклассовое искусство!»
Родившийся в Тифлисе «ослинохвостец» Кирилл Михайлович Зданевич был, между прочим, на год старше Маяковского, так что не совсем понятно, почему поэт называл художника «беспардонным юнцом».
В другой своей статье «Как делать стихи?» Маяковский тоже вспоминал то время:
«…революция выбросила на улицу корявый говор миллионов, жаргон окраин полился через центральные проспекты; расслабленный интеллигентский язычишко с его выхолощенными словами: „идеал“, „принципы справедливости“, „божественное начало“, "трансцедентальный лик Христа и Антихриста " – все эти речи, шопотком произносимые в ресторанах, – смяты. Это – новая стихия языка. Как его сделать поэтическим?»
Константин Бальмонт тоже задумывался над этим вопросом, ив 1917 году издал поэтический сборник– «Сонеты солнца, меда и луны», в котором было стихотворение «Умей творить»:
«Умей творить из самых малых крох,
Иначе для чего же ты кудесник?
Среди людей ты Божества наместник,
Так помни, чтоб в словах твоих был Бог».
На этот призыв поэта-символиста ответил поэт-футурист Владимир Маяковский. О своём ответе (в «Я сам») он сообщил следующее:
«Пишу в первые же дни революции Поэтохронику „Революция“. Читаю лекции – „Большевики искусства“».
Ещё он сочинил стихотворение, посвящённое некоей особе женского рода, и назвал его – «Ода революции»:
«Тебе,
освистанная,
осмеянная батареями,
тебе,
изъязвлённая злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
оды торжественное
"О"!..
Вчерашние раны лижет и лижет,
и снова вижу вскрытые вены я.
Тебе обывательское
– о, будь ты проклята трижды! —
и моё,
поэтово
– о, четырежды славься, благословенная!»
Бальмонт, видимо, стараясь не отстать от стремительно мчавшегося времени, тоже воспел женщину. 12 марта 1917 года он написал небольшое – всего восемь строк – стихотворение, назвав его очень просто – «Женщина» и посвятил «Московской работнице»:
«Женщина – с нами, когда мы рождаемся,
Женщина – с нами в последний наш час.
Женщина – знамя, когда мы сражаемся,
Женщина – радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюблённость и счастие,
В лучшем стремлении – первый привет,
В битве за право – огонь соучастия,
Женщина – музыка, женщина – свет».
Неизвестно, эти ли бальмонтовские строки имела в виду Марина Цветаева (сопоставляя их со стихами других поэтов), но однажды она высказалась так:
«Если бы мне дали определить Бальмонта одним словом, я бы, не задумываясь, сказала: поэт… Этого я бы не сказала ни о Есенине, ни о Мандельштаме, ни о Маяковском, ни о Гумилёве, ни даже о Блоке, ибо у всех названных было ещё что-то кроме поэта в них. Большее или меньшее, лучшее или худшее, но – ещё что-то. В Бальмонте, кроме поэта, в нём нет ничего. Бальмонт – поэт-адекват. На Бальмонте – в каждом его жесте, шаге, слове – клеймо-печать-звезда поэта».
14 марта квартиру, где жили поэты-символисты Дмитрий Мережковский и его жена Зинаида Гиппиус, навестил их старый знакомец Александр Керенский, ставший министром Временного правительства. Он пришёл с просьбой – написать популярную брошюру о декабристах, для распространения в войсках. Мережковский с воодушевлением согласился. Однако, посетив через несколько дней Керенского в Зимнем дворце, Дмитрий Сергеевич был настолько разочарован царившей там обстановкой, что, вернувшись домой, погрузился в депрессию и предсказал скорое падение Временного правительства и грядущую диктатуру рвавшихся к власти бунтовщиков, безжалостных и беспринципных.
У Владимира Маяковского претензий к Временному правительству не было, он продолжал гореть энтузиазмом. И хотя в его автобиографических заметках лидер кадетов Павел Милюков, ставший российским министром иностранных дел, описан весьма пренебрежительно, газету «Речь», которую издавала партия кадетов, поэт уважал. «Речь» сообщала читателям:
«В ночь на 17 марта поэт В.В.Маяковский принёс в редакцию «Речи» 109 р. 70 коп., собранные им "за прочтение стихотворения « в „Привале комедиантов“ в пользу семейств, павших в борьбе за свободу»».
Заметим, что не в большевистскую «Правду», а в кадетскую «Речь» принёс поэт собранные деньги. Это говорит о том, к каким политическим силам тяготел тогда Маяковский.
В тот же день (17 марта) в журнале «Новый сатирикон» были напечатаны отрывки (75 строк) из «Облака в штанах», в своё время не пропущенные царской цензурой. Поэту стало казаться, что настало его время, и управлять им следует именно ему. Поэтому 21 марта в Троицком театре во время собрания Федерации «Свобода искусств» он вышел на трибуну и заявил… Об этом – газета «Речь»:
«В.Маяковский высказался против Федерации и настаивал на необходимости идейной борьбы, создания особого органа и нового синдиката футуристов, во главе которых должен быть поставлен он».
Газета «Русская воля»:
«Несколько раз поднимался неистовый и непримиримый Маяковский. Его раздражают слова, он требует революционных выступлений. Он не замечает противоречий в своих положениях, – но это неважно. Он, автор „Облака в штанах“, со своими единомышленниками в данный момент левее „левой федерации“. Не сегодня-завтра они начинают издание газеты, в которой… станут до конца, открыто и смело провозглашать принцип свободы их личного, индивидуального творчества. Что им за дело до других талантов, не идущих с ними в ногу?»
Вздохнув полной грудью воздуха свободы, Маяковский больше не желал находиться под чьим-то контролем, хотел сам управлять своим творчеством.
Долгожданная свобода
Отвыступав на митингах, поучаствовав в многочисленных заседаниях и вернувшись к себе домой (в комнату, снимавшуюся в доме на улице Жуковского), Маяковский приходил к своим соседям – Брикам. Туда же заглядывали другие футуристы. И начинали строить планы дальнейшей жизни, в которой поэты должны были декламировать на улицах стихи, писатели – писать воззвания и прокламации, а художники – создавать плакаты и транспаранты для уличных демонстраций.
В конце марта Маяковский ненадолго приехал в Москву и 26 числа выступил в театре Эрмитаж на «Первом республиканском вечере искусств», организованном Василием Каменским. Туда же были приглашены художники Давид Бурлюк, Аристарх Лентулов, Казимир Малевич, Владимир Татлин. О чём они, выступая, говорили, можно понять по принятому ими обращению, которое назвалось «На революцию!». Его 28 марта опубликовала газета «Русская воля»:
«Товарищи!
Петроградские деятели искусств – художники, поэты, писатели, актёры и музыканты – образовали общество "На революцию " с целью помочь революционным партиям в проповеди революционных идей путём искусства.
Товарищи, – если вы хотите, чтобы ваши манифестации, плакаты и знамёна были заметней, – дайте вам помочь художникам.
Если вы хотите, чтобы ваши прокламации и воззвания были громче и убедительней, – дайте вам помочь поэтам и писателям.
Обращайтесь за содействием в общество «На революцию»…
Работа бесплатная…
Организационное бюро: О.Брик, …В.Маяковский, Вс. Мейерхольд, В.Татлин, …В.Шкловский».
Тем временем в Петроград продолжали прибывать бывшие «государственные преступники», которым Временное правительство даровало свободу.
28 марта большевистская «Правда» поместила на второй странице объявление:
«Приехавшие из ссылки товарищи: член Центрального Органа партии т. Ю.Каменев и член Центрального Комитета партии т. К. Сталин вступили в состав редакции „Правды“, причём общее руководство газетой взял на себя депутат от рабочих в Государственной Думе, тоже вернувшийся из ссылки, т. Муранов».
29 марта «Известия Петроградского Совета» опубликовали список членов Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, в котором были фамилии большевиков: В.М.Скрябин (А.Молотов) и И.В.Джугашвили (К.Сталин).
Всё то, что происходило тогда в стране, чем-то очень напоминало закипание готовящегося супа – когда на забулькавшей поверхности начинают появляться хлопья белой пены, которую повар удаляет шумовкой. В Петроград, который бурлил, как закипавший суп, из самых глубин страны устремлялись те, кого царская власть считала ненужной и даже вредной «пеной» и старательно удаляла, отсылая подальше от больших городов. И вот теперь освобождавшиеся из застенков революционеры направлялись в столицу. А там уже не было никакого «повара», который мог бы снять эту «пену» и удалить её.
Бывшие узники царских застенков считали себя победителями. И, хотя они в большинстве своём были плохо образованы и не имели служебного опыта (никогда нигде толком не работали), им не терпелось поскорее взять власть над страной в свои руки.
Владимир Маяковский тоже был не особенно образован. Но в отличие от прибывавших в Петроград бунтарей-партийцев он успел обрести популярность, сделать себе довольно громкое имя. Кто в тогдашней России знал Владимира Вегера (Поволжца), Георгия Оппокова (Ломова), Григория Бриллианта (Сокольникова), Льва Розенфельда (Каменева), Иосифа Джугашвили (Сталина), Вячеслава Скрябина (Молотова)? А Маяковского знали очень и очень многие. Его имя было на устах толпы.
К процессу стремительного поднимания на поверхность российского революционного «супа» хлопьев разноцветной (разнопартийной) «пены» подключились и власти Германии. Они решили забросить в столицу страны-противника ещё одного революционера – Владимира Ульянова, писавшего под псевдонимом Н.Ленин, проживавшего в нейтральной Швейцарии и считавшегося в эмигрантских кругах «королём раскола». Ему выделили колоссальную сумму денег. И вместе с ближайшими соратниками в специально предоставленном вагоне (в историю он войдет как «пломбированный») перевезли через территорию враждебной Германии, доставив к Балтийскому морю. Оттуда Ленин и его товарищи переправились на пароходе в Швецию, затем добрались до Финляндии.
В начале апреля по Петрограду разнеслась весть, что 3 числа на Финляндский вокзал прибывает поезд, в одном из вагонов которого в Россию возвращаются большевики во главе со своим вождём.
Прибывших встречали торжественно: играл военный оркестр, председатель Петросовета Николай Чхеидзе произнёс приветственную речь. Потом заговорил молоденький флотский офицер, высказавший пожелание, чтобы Ульянов-Ленин в самое ближайшее время вошёл в состав Временного правительства.
Вождь большевиков от предложенного решительно отказался, заявив:
– Никакой поддержки Временному правительству! Вся власть Советам!
Затем он взобрался на пришедший с встречавшими броневик и обратился к толпе, заполнившей привокзальную площадь, выкрикивая:
– Долой войну! Братание на фронте! Долой постоянную армию! Полный разрыв с международным капиталом! Земля – народу! Конфискация помещичьей земли и её национализация! Банки – из рук капиталистов! Долой чиновников! Создадим революционный Интернационал для борьбы с мировым империализмом!
Маяковского среди встречавших Ленина не было – по свидетельству Романа Якобсона, он всю ночь играл в бильярд, тем самым продемонстрировав исключительное равнодушие и к партии социал-демократов, и к их вождю.
Но может быть, поэт просто не знал о возвращении Ленина?
Знал. К Финляндскому вокзалу ходил Осип Брик. Послушал вождя, выступавшего с броневика, и, вернувшись домой, сказал:
«– Кажется, сумасшедший, но страшно убедительный».
Вместе с Лениным на родину вернулся и Григорий Бриллиант-Сокольников. Бывшему создателю молодёжной ячейки московских большевиков было 29 лет. В России его никто не знал. Даже москвичи-однопартийцы основательно подзабыли.
Ещё один политэмигрант, Овсей Радомысльский (Григорий Зиновьев), прибыл в Петроград в ранге второго человека партии ленинцев. Большевистская газета «Правда» в номере от 6 апреля сообщила читателям:
«Вернувшиеся из эмиграции члены редакции Центрального органа тт. Н.Ленин и Г.Зиновьев вступили в редакцию «Правды»».
В одном поезде с Лениным и его соратниками в столицу приехал и Борис Савинков, один из руководителей «Боевой организации» партии эсеров, организатор многочисленных террористических актов. Вот он-то (в отличие от Ленина) стал сотрудничать с Временным правительством и через какое-то время был назначен комиссаром Временного правительства в Ставке верховного главнокомандующего.
Вскоре большевики официально выделились в самостоятельную (не зависевшую от меньшевиков) партию, добавив к аббревиатуре РСДРП буковку «б», стоявшую в скобках, и стали именоваться Российской социал-демократической рабочей партией большевиков.
В Петрограде развернулась бешеная конкуренция между партиями и их программами. Кадеты, октябристы, трудовики, эсеры, эсдеки – все обещали России прекрасное будущее и призывали народ идти только за ними. И в этом никто не видел ничего сверхъестественного – ведь Россия стала страной долгожданной свободы.
Весна 1917-го
4 апреля 1917 года Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов провозгласил новым государственным гимном России (вместо ранее объявленной «Марсельезы») «Интернационал». Эту песню, написанную французами Эженом Потье и Пьером Дегейтером, конгресс Социалистического Интернационала уже признал в 1910 году гимном международного социалистического движения. Теперь депутаты Петросовета с воодушевлением исполнили её прямо в зале заседаний как новый гимн страны:
«Весь мир насилья мы разроем
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим, —
Кто был никем, тот станет всем».
Именно так пелся тогда этот куплет – «разроем», а не «разрушим», как стали петь в советские времена.
Впрочем, новый гимн не был единодушно поддержан обществом, и Временное правительство постановило перенести решение этого вопроса на усмотрение Учредительного собрания, которое ещё предстояло избрать.
18 апреля 1917 года министр иностранных дел Временного правительства Павел Милюков направил ноты союзникам России – Великобритании и Франции. В посланиях заявлялось, что российская держава будет воевать с Германией до победного конца.
Это заявление возмутило оппозиционные партии (особенно большевиков, ратовавших за скорейшее прекращение военных действий). Тотчас было организованы демонстрации протеста. Многотысячные колонны заполонили улицы и площади Петрограда. Митингующие требовали немедленной отставки Милюкова, а заодно и других министров-кадетов.
Для партии Ленина эти манифестации стали своеобразной репетицией будущих мятежей и бунтов.
Протестовавшие своего добились – 19 апреля министры-кадеты (Милюков и Гучков) подали в отставку. Освободившийся пост военного министра занял Александр Керенский, вступивший к тому времени в партию социалистов-революционеров.
А чем в тот момент был занят Владимир Маяковский?
В газете «Новая жизнь», которую с 18 апреля 1917 года стал выпускать Максим Горький (совместно с Александром Тихоновым, Николаем Сухановым и другими), Маяковский опубликовал стихотворение, которое мы уже цитировали – «Революция (Поэтохроника)». В нём были слова:
«Радость трубите всеми голосами!..
Мы победили!
Слава нам!
Сла-а-ав-а-ва нам!»
Завершалась «поэтохроника» так:
«… небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!»
Каких именно «социалистов» имел в виду поэт – социалистов-революционеров (эсеров), эсдеков-большевиков или эсдеков-меньшевиков – понять невозможно. Да и называть «ересью» идеи победивших революционеров было тоже довольно необычно.
Под стихотворением стояла дата – 17 апреля 1917 года, то есть написано оно было уже после приезда в Петроград вождя РСДРП(б). Но об этом в стихотворении не говорилось ни слова – как будто социал-демократы к революции никакого отношения не имели. Между тем, до приезда в Петроград Ленина, среди революционеров всех мастей (от эсдеков до кадетов) было очень популярно стремление к объединению – Временное правительство поддерживалось тогда почти всеми, а большевики были готовы протянуть руку дружбы меньшевикам. Но у вернувшегося на родину «короля раскола» были свои планы.
А объявившийся в Петрограде Владимир Хлебников написал и опубликовал своё понимание ситуации в стране:
"Свобода приходит нагая,
Бросает на сердце цветы,
И мы, с нею в ношу шагая,
Беседуем с небом на ты".
Тем временем газета «Новая жизнь» быстро завоевала популярность. В качестве постоянного её сотрудника Горький пригласил Маяковского.
Александр Тихонов:
«При газете „Новая жизнь“ Маяковский предлагал выпустить сатирический журнал „Тачка“. В тачках рабочие вывозили в те годы неугодных им директоров фабрик».
Предложение поэта было принято, и журнал стали готовить.
14 апреля в Тенишевском училище состоялся «Вечер свободной поэзии», о котором «Петроградская правда» на следующий день сообщала:
«В публике едва не началась паника, ибо Маяковский, этот «большевик» в поэзии, иногда опасен… Сначала К.Чуковский пожелал охарактеризовать поэзию Маяковского… Вл. Маяковский перебил лектора: «Довольно вам говорить. Теперь я буду читать…»»
И он прочёл третью часть поэмы «Война и мир».
«Петроградская правда»:
«Кто-то неосторожно закричал „бис“. Маяковский за кулисами поспешно закурил и вышел на эстраду читать „Облако в штанах“ с папиросой во рту».
16 апреля рядовому Военно-автомобильной школы Маяковскому вновь дали отпуск – на этот раз на 14 дней.
А 22 мая во дворце Кшесинской, ставшем штаб-квартирой большевиков, состоялось совещание «поэтов, беллетристов, художников и музыкантов-интернационалистов», в котором принял участие и поэт Маяковский.
В конце мая в редакции «Новой жизни» произошло знакомство Маяковского с социал-демократами Анатолием Васильевичем Луначарским и Платоном Михайловичем Лебедевым (В.Керженцевым), только что вернувшимися из эмиграции. Луначарский был на 18 лет старше Маяковского, Лебедев-Керженцев – на 12, у обоих был большой стаж революционной деятельности. Но так как в тогдашней России их никто не знал, этим безвестным сотрудникам «Новой жизни», надо полагать, льстило внимание 24-летнего стихотворца, которого знали все.
А теперь…
Теперь настала пора появиться в нашем рассказе ещё одному персонажу, которому предстояло (вместе с Бриками) немало лет прошагать рядом с Маяковским.
Глава вторая Активизация бунтарей
Новый персонаж
Звали его Абрам Моисеевич Краснощёк. Родился он в 1880-ом в небольшом украинском городке Чернобыле в семье приказчика. Когда мальчику исполнилось 15 лет, он поехал в Киев – готовиться к поступлению в университет. Судьба распорядилась так, что репетитором его стал студент Моисей Урицкий – тот самый, что через двадцать с небольшим лет возглавит петроградскую ЧК. Неудивительно, что очень скоро Абрам Краснощёк стал членом социал-демократического кружка, а затем и профессиональным революционером с подпольной кличкой «товарищ Михаил».
В 1898 году его впервые арестовали и выслали в город Николаев. Когда стала выходить газета социал-демократов «Искра», Абрам Краснощёк стал её распространителем. Но в 1902 году его вновь арестовали. К этому времени двадцатидвухлетний «товарищ Михаил» успел хорошо показать себя как революционер-подпольщик, и партия решила, что ему лучше уехать за границу. Вместе с Юлием Мартовым и Любовью Радченко (женой Степана Радченко, избранного в состав первого ЦК РСДРП) Абрам Краснощёк покинул родину. Прибыв в Берлин, Мартов и Радченко поехали в Женеву, где их встретил Ульянов-Ленин, а «товарищ Михаил», прожив год в Германии, отправился за океан – в Северо-Американские Соединённые Штаты (в САСШ – как тогда называли нынешние США).
В Америке Краснощёк сменил фамилию, так как она с трудом произносилась американцами, и придумал себе новую, по имени матери – Тойба, и стал Александром Тобинсоном.
В Нью-Йорке начал работать. Сначала маляром, оклейщиком обоев, затем портным. Быстро выучив английский язык, стал печататься в профсоюзной прессе, подписывая свои статьи псевдонимом Stroller (Бродяга). Сразу вспоминается, что Маяковский в ранней молодости придерживался стиля vagabond, что в переводе с французского тоже означает «бродяга».
Но вернёмся в САСШ, где «бродяга» Александр Тобинсон стал членом рабочей партии и поступил в Чикагский университет на факультет экономики и права. Днём работал, вечером учился.
Во время выступления на профсоюзном митинге в нью-йоркском Луэлла-парке мистера Тобинсона увидела молодая польская революционерка Гертруда, на которую зажигавший слушателей оратор произвёл неизгладимое впечатление. Потом она написала:
«Высокий, сильный, красивый, интеллигентный, полный энтузиазма в пропаганде своих идеалов».
Молодые люди познакомились, стали встречаться. Вскоре поженились. В 1910 году у них родилась дочь, которую назвали Луэллой – в честь места знакомства родителей.
Окончив университет, Александр Тобинсон стал адвокатом, выступал в судах, защищая рабочих. Открыл в Чикаго на Ашланд-авеню Рабочий университет для рабочих-эмигрантов, в котором занял пост ректора. Это не помешало ему собственноручно выкрасить трёхэтажное университетское здание.
Революция, в результате которой в России пало самодержавие, взбудоражила мистера Тобинсона, и он вместе с семьёй стал собираться на родину.
Драматичный момент
Как складывались дни «ратника» и поэта Маяковского весной 1917 года, его биографы описывали неоднократно. Внес свою лепту и Александр Алексеевич Михайлов – в книге «Жизнь Владимира Маяковского. Точка пули в конце»:
«Дома по-прежнему шли нескончаемые литературные дискуссии, прерываемые карточной игрой. Лили её обожала, но всё же не так, как Маяковский: он вносил в игру азарт, который вообще сопутствовал ему на всех этапах его жизни. Играли в винт, покер, „железку“, „девятку“ – непременно на деньги, как требовал Маяковский. Лили сердилась – потому ли только, что он часто выигрывал и не прощал никому карточных долгов? Сердилась, разумеется, не по скупости, а зная, к чему нередко приводит ничем не сдерживаемый азарт. Похоже, в этом, и только в этом, он ей не уступал. Боялся её, нервозно выслушивал упрёки, но стоял на своём».
Так что жизнь, вроде бы, шла по прежней, давно уже устоявшейся колее.
И вдруг настроение «ратника» резко изменилось.
В книге «Ставка – жизнь» Янгфельдт пишет:
«Именно в этот период, весной 1917 года, он переживал "очень <…> драматичный момент "и был „в очень тяжёлом состоянии“, – вспоминал Роман Якобсон. К этому времени относятся несколько угроз и попыток самоубийства».
Причину «тяжёлого состояния» Маяковского Роман Якобсон не указал. Янгфельдт тоже промолчал.
Попробуем поискать эту загадочную причину. Для этого присмотримся со вниманием к тому, что происходило тогда в Петрограде.
И сразу возникает некая «зацепочка».
Дело в том, что Временное правительство с первых дней своего существования учредило Чрезвычайную следственную комиссию для расследования преступлений старой власти. Курировал её деятельность министр юстиции Александр Керенский. Секретарём комиссии был поэт Александр Блок, одним из её членов – уже знакомый нам пушкинист Павел Щёголев. Комиссия рассматривала деятельность многих царских чиновников, в том числе и бывшего депутата Государственной думы Малиновского.
Роман Вацлавович Малиновский родился в 1876 году. В молодости занимался воровством и грабежами. Затем вступил в РСДРП и примкнул к большевикам. Был активен и непримирим к тем, кто не поддерживал Ульянова-Ленина, и на него обратили внимание вожди партии. От партии большевиков был избран депутатом 4-ой Государственной думы. Но в 1913 году он, как мы помним, покинул её ряды («дезертировал», как говорили его однопартийны). Эсдеки заподозрили, что он агент Охранного отделения, и что это по его доносу пять других депутатов-большевиков, избранных, как говорили тогда, «от рабочих», были осуждены и сосланы в Сибирь.
РСДРП устроила внутрипартийное расследование. Подозрения подтвердились. Но на защиту своего любимца встал Ульянов-Ленин, и дело было закрыто. Хотя Малиновского из партии всё-таки исключили.
Временное правительство до истины решило докопаться. Началось следствие.
«Известия Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов» регулярно сообщали читателям о ходе расследования. Приведём одну из тех публикаций – из субботнего номера за 17 июня:
«Дело Малиновского
В качестве свидетелей допрошены журналист Радомысльский (Зиновьев) и Ульянов (Ленин)».
Кроме Зиновьева и Ленина были подвергнуты допросу также Бадаев, Бухарин и Крупская.
Сам Малиновский находился в это время в немецком плену, поэтому в расследовании участвовать не мог.
Как к этому процессу относился Маяковский?
Если он на самом деле активно занимался революционной деятельностью, как о том писалось в советское время, то за работой следственной комиссии он должен был следить чрезвычайно внимательно – ведь судьба Малиновского очень напоминала его собственную судьбу, включая и дезертирство из рядов социал-демократической партии. Среди прибывавших в Петроград освобождённых революционеров Маяковский мог встретить и своих бывших соратников. И кто-то из них вполне мог бросить ему в лицо:
– Погоди! И до тебя, товарищ Константин, доберёмся! С провокатором Малиновским разберёмся, возьмёмся за дезертира Маяковского!
А кто-то и вовсе мог ему сказать:
– Вот ты где пристроился, предатель! Из-за тебя я годы провёл в заключении и ссылке! Знай, возмездие – не за горами!
Разве это не повод для тревожных раздумий?
Рассмотрим другой аспект этого дела. Оказавшись свидетельницей попытки самоубийства Маяковского, Лили Юрьевна Брик могла (просто должна была) настоятельно поинтересоваться, в чём заключается причина его драматичного поступка. И поэт, которого спасла осечка, мог рассказать ей о том, что мучило его все эти годы, и что побудило взяться за револьвер.
То есть Лили Юрьевна вполне могла узнать некую тайну Маяковского. И даже (что тоже не исключено) познакомила с нею Осипа Максимовича Брика.
Брики, надо полагать, принялись успокаивать Маяковского, говоря, что ничего страшного ему не грозит. И поэт успокоился. Тем более, что по Петрограду поползли слухи о том, что вернувшийся из-за границы вождь большевиков тоже не ангел.
Революция продолжается
Весной 1917 года вся российская столица вдруг заговорила о том, что Ульянов-Ленин подослан в Россию германскими властями – для дестабилизации обстановки в охваченной революцией стране. Об этом наперебой сообщали петроградские газеты. Даже большевистская «Правда» в номере от 21 апреля (накануне дня рождения Ульянова-Ленина!) была вынуждена познакомить читателей с тем, как относятся петроградцы к их вождю:
«17 апреля на улице Достоевского, около дома Зигеля, собрались солдаты и говорили, что он германский шпион.
Вчера на углу Литовского и Невского собралась кучка людей, высказывавшая обвинения по адресу т. Ленина, что он взял, якобы, взятку от германцев.
В воскресенье 16 апреля во время заседания Кронштадтского Комитета в помещении ПК РСДРП в зал заседаний ворвался пьяный офицер с криком «арестовать Ленина!»».
Иными словами, прошло всего около двух недель с тех пор, как пассажиры «пломбированного» вагона благополучно прибыли в Петроград, а его жители уже в открытую называли приехавших большевиков вражескими лазутчиками.
Как отнёсся к обвинениям в адрес Владимира Ильича Маяковский? Трудно сказать. Ведь нет ни одного его стихотворения, ни одного высказывания, в которых брался бы под защиту Ульянов-Ленин.
Почему?
Не говорит ли это о том, что поэту было абсолютно всё равно, что происходило в рядах большевистской партии?
Существуют свидетельства, которые говорят о другом. Вот, например, как описал Маяковского той поры Владимир Вегер– Поволжец:
«Я приезжаю в Питер на 1 мая 17 года. На Невском проспекте – толпа народу. Полагаясь на свою квалификацию и на опыт работы среди интеллигентной публики, я организую выступление со ступенек Михайловской столовой (называлась она тогда Польской кофейней – напротив Гостиного двора).
Выступление очень трудное. Из масс всё время идёт противодействие позициям антивоенным. Период был такой, что только недавно в Литовском полку чуть было не побили меня, несмотря на накопившийся большой опыт того, как надо выступать, как надо подводить к чему что.
Я помню, у меня было одно такое место, для интеллигенции оформление такое:
– Дым труб остановившихся предприятий…
Или:
– Где же дым труб предприятий? Буржуазия локаутирует предприятия!
И вот какой-то крупный офицер рвётся к тем, которые читают лозунг «Долой войну». И публика его поддерживает:
– Граждане! Это ленинец! Это германофил!
Толпа напирает. Сбросит, не даст кончить, побьют.
Я не очень хорошо вдаль вижу. И в это время стоящий в толпе высокий малый, оказывается, ведёт линию на поддержку меня.
Офицер орёт:
– Уберите этого ленинца!
И в то время, когда он кричит: «Дайте ему в морду!», тот ведёт линию поддержки зычным голосом:
– Граждане! Этот офицер бил солдат в зубы!
И как только начинаются выклики: «В морду!», опять слышен очень зычный голос:
– Граждане! Вы же за свободу слова!
Таким образом я кончаю благополучно и полагаю, что я кое-кого в этой толпе убедил. А потом из этой толпы выходит в кожаной куртке здоровый малый:
– Ну, товарищ Поволжец, с точки зрения поэзии у тебя одно место было хорошее – «дым труб».
Значит, встретились. И пошли мы с ним сначала по Невскому. Тут была история. Стоят кучки народу. Подходим к одной кучке. Одна дама надрывается:
– Ленин – германский шпион! Мы точно это знаем! У нас – неопровержимые доказательства!
И вдруг Владимир делает такой номер:
– Гражданка! Отдайте кошелёк! Вы у меня вытащили кошелёк!
Та – в полной растерянности. Публика тоже в растерянности. Она ему говорит, наконец:
– Как вы смеете говорить такие гадости?
– А как вы смеете говорить, что Ленин шпион? Это ещё большая гадость!
Растерянность публики. Ну, великолепный номер, конечно, для пропаганды, лучше не придумаешь. А сначала кажется, будто бы хулиганская шутка».
Наталья Фёдоровна Рябова в своих воспоминаниях привела рассказ самого Маяковского, который два первомайских события объединил в одно:
«Рассказал, как во время очень многолюдного митинга после Февральской революции толпа, предводительствуемая какой-то истеричной бабёнкой, чуть не разорвала большевистского оратора, призывавшего к окончанию войны. Тогда, перекрывая весь поднявшийся рёв и гул, Маяковский крикнул:
– Граждане, осторожнее! У меня эта самая дамочка кошелёк только что вытащила.
Все схватились за свои карманы. Кровавая расправа была предотвращена».
Впрочем, не будем забывать, что все эти воспоминания появились на свет уже тогда, когда Маяковский был официально признан «лучшим, талантливейшим поэтом» советской эпохи. А иным «поэт революции» быть просто не мог. И Владимир Вегер представлял его в своих воспоминаниях именно таким:
«Потом мы с ним пошли ко мне в гостиницу „Гермес“. Засиделись долго, ночевал у меня Владимир. Говорили о позициях большевистских, что это единственное, за что стоит драться. И он стоял на этих позициях абсолютно и безоговорочно:
– Власть – Советам! Буржуазию – к чёрту!
Причём у него это звучало особенно лихо и резко. В особенности резко отрицательное отношение у него было к Временному правительству:
– Что такое Гучков, Милюков? Та же самая сволочь!
Вот позиция какая была!»
Тем временем состав Временного правительства пополнился новыми «социалистами» — «Известия Петроградского Совета» в номере от 6 мая поместили список, озаглавленный «Представители демократии в составе Временного правительства». Под первым номером шёл Александр Фёдорович Керенский, после фамилии которого стояло: «эсер». Пятым был указан министр почт и телеграфов Ираклий Георгиевич Церетели, «народный социалист» (так стали называть себя меньшевики-эсдеки).
Накануне бунта
Началось лето 1917 года.
Полным ходом шла работа Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, искавшей преступления в деятельности царской власти. Секретарь комиссии Александр Блок 2 июня описал в дневнике облик бывшего командира Отдельного корпуса жандармов и товарища (заместителя) министра внутренних дел Владимира Фёдоровича Джунковского, которого тоже вызвали в Петроград на допрос:
«В.Ф.Джунковский… Теперь начальник 15-й Сибирской стрелковой дивизии. Неинтересное лицо. Голова срезана. Говорит мерно, тихо, умно. Лоб навис над глазами, усы жёсткие. Лицо очень моложавое и загорелое… Нет, лицо значительное. Честное. Глаза прямые, голубовато-серые. Опять характерная печать военного. Выражения (удрали, уйма, надуют, как стёклышко). Прекрасный русский говор».
Большевики в тот момент всюду громогласно заявляли, что они и только они отстаивают интересы народа. А сами лихорадочно готовили новый бунт, который (и это понимали все) должен был резко дестабилизировать обстановку в стране.
Выступая 4 июня на Первом съезде Советов, министр Временного правительства Ираклий Церетели сказал:
«… в России нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть…».
Сидевший в зале Владимир Ульянов-Ленин с места выкрикнул:
«Есть такая партия! Это партия большевиков!»
В зале разразился гомерический хохот.
Однако Ираклий Церетели ничего смешного в ленинской реплике не нашёл и в речи, произнесённой 11 июня, на полном серьёзе заявил:
«… с большевиками надо бороться не словами, не резолюциями, а надо лишить их всех имеющихся в их руках технических средств».
Однако призвать к лишению «технических средств» было легко, а вот изъять их из рук сторонников Ленина оказалось намного сложнее – за долгие годы подполья партия научилась действовать тайно. Зато своих намерений вожди РСДРП(б) не скрывали. И 16 июня «Правда» опубликовала статью Григория Зиновьева, одно название которой прямо предупреждало:
«Будет буря
Будет буря… надвигается всеочистительная гроза.
Пусть сильнее грянет буря…
Да здравствует мировая революция – освободительница народов!»
Как нетрудно заметить, Зиновьев использовал текст горьковской «Песни о Буревестнике». Но сам Алексей Максимович открыто поддерживал тогда демократическое Временное правительство и большевистский экстремизм решительно осуждал.
А как отнесся к приготовлениям большевиков Маяковский? Что известно об этом?
Во второй половине июня он вновь поехал в Москву, где 27 числа вступил в профсоюз живописцев. Художница Надежда Андреевна Удальцова вспоминала:
«На одно из заседаний являются двое: один большой, другой маленький, оба в военной форме. Это были Маяковский и Якулов… Мандаты получили оба. Маяковский много выступал на этих собраниях…
Временное правительство Керенского выпустило обращение с просьбой об общественной поддержке. Председательствующий Шабшал зачитал обращение и поставил вопрос о поддержке правительства Керенского…
Маяковский произнёс громовую речь, и резолюцию провалили».
Георгий Богданович Якулов был художником-авангардистом, в 1917 году он (как и Маяковский) служил в армии.
Что же касается выражения «Временное правительство Керенского», то Надежда Удальцова не совсем точна – в июне 1917 года Керенский был ещё военным и морским министром.
Пребывание Маяковского в Москве запечатлено и в воспоминаниях Льва Ольконицкого:
«Однажды мы возвращались, не помню, откуда, и гурьбой шли по Тверской; был четвёртый час ночи, стало совсем светло, в утренней дымке возникали силуэты вооружённых людей – ночных патрулей. Время было тревожное, лишь недавно был ликвидирован мятеж левых эсеров».
Лев Ольконицкий явно ошибся. Мятеж левых эсеров произошёл в июле 1918-го, когда Маяковский уже больше месяца жил в Петрограде. Событие, о котором идёт речь, следует отнести к июню 1917 года – время тогда тоже было «тревожное», так как большевики готовились к захвату власти, а в четвёртом часу ночи было «совсем светло». И именно тогда в Москве появился «футурист жизни», 26-летний Владимир Робертович Гольцшмидт, которого Лев Ольконицкий представил так:
««Футурист жизни» ездил по городам, произносил с эстрады слова о «солнечном быте», призывал чахлых юношей и девиц ликовать, чему-то радоваться и быть сильными, как он. В доказательство солнечного бытия он почему-то ломал о голову не очень толстые доски. Довольно красивый, развязный молодой человек, он выступал перед публикой в шёлковой розовой тунике и с золотым обручем на лбу».
И вот теперь этот Гольцшмидт и Маяковский оказались в одной компании, шедшей по Тверской улице Москвы. Продолжим рассказ Льва Ольконицкого:
«Маяковский шёл немного впереди и слушал атлетически сложенного молодого человека, называвшего себя „футуристом жизни“, – одно из тех странных явлений, которые возникали в то бурное время… Он шёл рядом с Маяковским и рассуждал вслух о своих успехах:
– Вот я всего месяц в Москве, и меня уже знают. Выступаю – сплошные овации, сотни записок, от барышень нет отбою. Как хотите – слава…
Мы спускались по Тверской: навстречу в гору поднимался красноармейский патруль – молодые и пожилые рабочие в косоворотках, пиджаках, подпоясанных пулемётными лентами, с винтовками через плечо.
Маяковский слегка отстранил «футуриста жизни», подошёл к краю тротуара и сказал, обращаясь к красноармейцам:
– Доброе утро, товарищи!
Из ряда красноармейцев ответили дружно и весело:
– Доброе утро, товарищ Маяковский!
Маяковский повернулся к "футуристу жизни "и, усмехаясь, сказал:
– Вот она слава, вот известность… Ну что ж! Кройте, молодой человек».
Владимир Гольцшмидт был знакомым Василия Каменского, вместе с которым участвовал в лекционном турне по стране. Совсем недавно они оба появились в Москве, в которой красноармейцев тогда ещё не было – Красную армию начали создавать лишь весной 1918 года. Футуристам встретился отряд городской милиции – точно такой же, в каком служил и Роман Якобсон, арестовывавший городовых.
Во всём остальном воспоминания Льва Ольконицкого вполне достоверны. Во всяком случае, они очень наглядно свидетельствуют о том, кто в ту пору пользовался в стране достаточно большой популярностью.
Вернувшись в Петроград, Маяковский застал там относительное спокойствие. Культурная жизнь кипела, интеллектуальная элита проводила вечера (а то и ночи напролёт) в многочисленных кабачках и кафе, самым модным из которых стал «Привал комедиантов». Туда часто заглядывал Маяковский и читал свои стихи.
Через десять лет в статье «Только не воспоминания…» он написал:
«Кабачок-подвал „Бродячая собака“ перешёл в „Привал комедиантов“.
Но собаки всё же сюда заглядывали.
Перед Октябрьской революцией я всегда видел у самой эстрады Савинкова…».
А однажды в «Привале комедиантов» за одним столиком оказались морской офицер Александр Колчак, эсер-террорист Борис Савинков и уж совсем в ту пору никому не известный эсдек Лев Бронштейн, только-только примкнувший к большевикам. Наверное, по пальцам можно было пересчитать тех, кто знал его партийную кличку – Троцкий.
В конце июня Михайловское артиллерийское училище посетил Александр Керенский. Юнкер Леонид Каннегисер написал об этом посещении стихотворение «Смотр»:
«На солнце, сверкая штыками —
Пехота. За ней, в глубине, —
Донцы-казаки. Пред полками —
Керенский на белом коне.
Он поднял усталые веки,
Он речь говорит. Тишина.
О, голо! Запомнить навеки:
Россия. Свобода. Война».
Речь военного министра воодушевила юнкера. Даже то, что он может пасть в грядущем бою, ему уже было не страшно:
«Тогда у блаженного входа
В предсмертном и радостном сне
Я вспомню – Россия, Свобода,
Керенский на белом коне».
Однако Петроград ожидали совсем иные сражения.
Июльский бунт
Июль 1917 года начался с известия о том, что делегация Временного правительства (Керенский, Терещенко, Церетели) признала автономию Украинской Центральной рады и согласилась на включение в её состав всех юго-западных губерний России. В знак протеста против этого все министры-кадеты вышли из Временного правительства.
Петроград на это событие отреагировал спокойно. Сохранилось письмо той поры, написанное в самом начале июля Анатолием Луначарским жене, Анне Александровне, оставшейся в Швейцарии. В нём, в частности, говорилось:
«… иду в редакцию «Новой жизни» на 2-е собрание имеющего скоро выходить лево-социалистического журнала «Тачка». Редактор его футурист с.-д. Брик. В литотделе участвуют футурист с.-д. Маяковский, А.М. Горький-Пешков, твой слуга, Эмиль Короткий, Эль д'Ор, Базаров, Левидов и др. В художественном: А.Бенуа, Петров-Водкин, Альтман, Маяковский (всё тот же, преталантливый, молодой полувеликан, заряжённый кипучей энергией, на глазах идущий в гору и влево), Лебедев и др. Издатели: Тихонов, Гржебин».
Любопытно, что, назвав Маяковского «с.-д.», то есть социал-демократом, Луначарский добавляет, что он шагает «в гору и влево». РСДРП, как мы знаем, была уже давно расколота на большевиков и меньшевиков, то есть у партии было как бы два направления – «левое» и «правое». Выходит, что Маяковский (и Луначарский подтверждает это) находился где-то посреди, всего лишь направляясь «влево», к большевикам.
Обращает на себя внимание и то, что Осип Брик назван футуристом и социал-демократом. Больше никто его так не называл. И членом РСДРП он тоже тогда не был.
Письмо Луначарского подтверждает также, что какая-то часть тогдашних большевиков предполагала начать борьбу с теми, кто мыслил иначе, чем они, с помощью сатиры. Для этого и учреждался журнал «Тачка». Но, как показали дальнейшие события, главные большевистские вожди думали иначе – заглянем в «Известия Петроградского Совета». В номере от 4 июля на первой странице помещено срочное сообщение с тревожным заголовком:
«События 3-го и 4-го июля
Петроград вновь переживает трагически беспокойные дни.
С одной стороны – кризис власти, вызванный отставкой кадетов-министров, с другой – уличное движение, подготовленное большевистской агитацией».
Главными ораторами партии Ульянова-Ленина были в эти дни Лев Троцкий, Анатолий Луначарский и особенно Яков Свердлов, которого по цвету его кожаной куртки прозвали «чёрным дьяволом большевиков». О том, к чему призывали эти агитаторы, можно составить представление, ознакомившись с обращением партии меньшевиков, опубликованном в тех же «Известиях» на следующий день:
«Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Над улицами Петрограда снова реет призрак гражданской войны, раздаются выстрелы, и уже пролилась кровь.
Вооружённое меньшинство хочет силой навязать свою волю гражданскому большинству.
Долой междоусобную войну в рядах революционной демократии!
Организационный Комитет РСДРП»
Распропагандировав расквартированный в Петрограде воинский гарнизон и выведя на улицы рабочих, большевики хотели повторить то, что происходило в феврале, когда было свергнуто самодержавие. На этот раз, отрабатывая деньги, полученные от немцев, Ульянов-Ленин намеревался свалить Временное правительство.
Однако военный министр Александр Керенский действовал не менее решительно. «Известия Петроградского Совета» в номере от 6 июля сообщили:
«Сегодня в Петроград прибывают части революционной армии с фронта».
Фронтовики быстро навели в городе порядок – большевистский путч был подавлен.
Подводя первый итог двум тревожным июльским дням, «Известия» задавались вопросом:
«Чего они добивались?
Чего же добивались демонстранты 3 и 4 июля и их признанные официальные руководители – большевики?
Они добивались разгрома и ограбления частных квартир,… гибели 400 рабочих, солдат, матросов, женщин и детей, раскола, взаимного озлобления отдельных частей демократии».
Как отреагировали на своё поражение большевики?
6 июля вышел «Листок правды», открывавшийся заявлением:
«Не имея возможности выпустить сегодня очередной номер „Правды“, мы выпускаем „Листок правды“».
Затем шла статья большевистского вождя, пытавшегося оправдаться:
«Из-за чего идёт борьба?
Контрреволюционная печать капиталистов изображает дело так, будто бы в последние три дня борьба в Петрограде шла из-за того, что партия большевиков хотела захватить власть в свои руки и для этого свергнуть Всероссийский Центральный Совет Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Это – ложь, это сознательная клевета.
Н.Ленин».
Решительные действия военного министра Александра Керенского, сумевшего быстро подавить большевистский мятеж, и растерянность главы Временного правительства Георгия Львова привели к изменениям во властных структурах. О них в воскресном номере от 9 июля «Известия» сообщили:
«Ушёл князь Львов, министром-председателем назначен А.Керенский».
Пост военного и морского министра Керенский сохранил за собой. Министром внутренних дел в новом правительстве стал (по совместительству – сохранив за собой министерство почт и телеграфа) меньшевик Ираклий Церетели, который 13 июля подписал распоряжение о запрещении всех уличных шествий и манифестаций.
Большевистская «Правда» лишь в конце июля вновь смогла выходить в свет, и в третьем её номере (от 26 числа) большевик Николай Подвойский возмущался той напраслиной, которую якобы возводили на вождя РСДРП(б), скрывшегося, как известно, в Разливе:
«… т. Ленина… объявили и немецким шпионом, и провокатором, и «зачинщиком» июльских событий».
В номере от 14 июля «Известия Петроградского Совета» сообщили:
«К последним арестам
4 июля Временное Правительство, принуждённое применить решительные меры к подавлению мятежа, предписало арестовать целый ряд лиц, так или иначе прикосновенных к движению 3–5 июля. <…> В этот список входили Ленин, Каменев, Зиновьев и другие..»
А жизнь тем временем продолжалась. И 15 июля поэт Николай Бурлюк закончил школу Инженерных прапорщиков. Его направили на фронт – в 9-й Радиодивизион, и он стал там помощником начальника Учебной команды, а затем его назначили начальником Полевой Радио-Телеграфной учебной школы.
Другой поэт – Алексей Ганин – влюбился в секретаря-машинистку эсеровской газеты «Дело народа», в которой печатались его стихи. Девушка только что закончила историко-литературный факультет Высших женских курсов, где изучала иностранные языки и брала уроки скульптуры. Звали её Зинаида Райх. Она была очень красива, и в неё были влюблены многие. В том числе и Владимир Маяковский. Но Ганин ещё написал и прочёл Зинаиде посвящённые ей стихи:
«Сегодня целый день я пил Твоё дыханье,
Я – радостный гусляр таинственного сна.
И дивно было мне в бреду очарований
твердить священное – Весна…
Да снидет на поля Твой голос ароматом,
чтоб корня горький сок во злаке мёдом стал;
и мир о имени Твоём крылатом
взывать не уставал».
Зинаида Райх уже было ответила Алексею взаимностью, но тут в редакции появился ещё один поэт – друживший с Ганиным Сергей Есенин. Он мгновенно вскружил красавице-эсерке голову и сделал ей предложение.
Маяковский узнал об этом, и в его записной книжке появилась запись, смысл которой его биографы объяснить не могут:
«18 июля 8.45. Сразу стало как-то совершенно не для чего жить».
А ведь это явная реакция на появление возле Зинаиды Райх Сергея Есенина.
19 июля «Известия Петроградского Совета» сообщали:
«Судебными властями сделано постановление о привлечении к ответственности Ленина, Зиновьева, Коллонтай, … мичмана Раскольникова, прапорщиков Семашко и Сахарова в качестве обвиняемых в измене и организации вооружённого восстания».
Та же газета 24 июля:
«Арест Троцкого и Луначарского».
Ни о каком выпуске сатирического журнала «Тачка», конечно же, речи уже не шло. Правда, горьковская «Новая жизнь» 22 июля объявила о скором выходе этого журнала. Но он так и не вышел.
А как к большевистскому мятежу отнёсся Маяковский?
В сочинениях поэта, огромными тиражами издававшимися в последние 50 лет советской власти, такие упоминания отсутствуют.
А в это время в Америке адвокат Александр Тобинсон отказался от американского гражданства и заявил о том, что хочет вернуться в Россию, чтобы участвовать там в создании демократического режима. Тобинсон уезжал не один – вместе с ним на родину возвращались более ста русских эмигрантов. И несколько сотен человек пришли на вокзал Чикаго, чтобы проводить покидающих Америку. Хор созданного Тобинсоном Рабочего университета исполнил специально сочинённую по этому поводу песню, текст её передали в окно вагона. Поезд двинулся в сторону канадского города Ванкувера. Там пересели на пароход, который направлялся в Японию.
Лето 1917-го
В конце июля 1917 года Алексей Ганин, Зинаида Райх и Сергей Есенин втроём отправились на Вологодчину, в родную деревню Ганина. Там состоялось венчание. Сергея и Зинаиды. Алексей Ганин был свидетелем со стороны невесты.
И он написал грустное стихотворение «Русалка», которое посвятил ставшей для него чужой Зинаиде:
«Она далеко, – не услышит,
Услышит, – забудет скорей;
ей сказками на сердце дышит
разбойник с кудрявых полей…
Не вспенится звёздное эхо
над мёртвою зыбью пустынь,
и вечно без песен и смеха
я буду один и один».
Венчание Есенина и Райх произошло 30 июля.
В этот же день горьковская газета «Новая жизнь» опубликовала стихотворение Маяковского «Сказка о красной шапочке». В ней речь шла о кадетах, которых «сожрали» (несмотря на алый цвет их шапочек) «волки революции». Публикация имела подзаголовок:
«Сказочка. Цвету интеллигенции посвящается».
Сохранился приказ по 1-й запасной автомобильной роте от 3 августа 1917 года:
«Прикомандированного к Технической части Управления… ратника Маяковского Владимира, отправленного к Петроградскому уездному воинскому начальнику для увольнения по болезни в трёхмесячный отпуск…».
Прервём цитирование документа и зададимся вопросом: какая именно болезнь свалила с ног «ратника 2 разряда»? В приказе о том не говорится – это же не медицинская справка. В нём – совсем другая, более существенная информация:
«… исключить с провиантского, приварочного, чайного и табачного довольствия при роте с 26 июля, мыльного и денежного – с 1 августа с.г.».
Бенгт Янгфельдт в своей книге поясняет:
«Маяковскому предоставили отпуск в автомобильной роте, так как у него были проблемы с зубами, и в конце сентября он уехал в Москву».
Неужели для лечения зубов требовалось три месяца?
Вся Москва, в которую прибыл поэт, была оклеена предвыборными плакатами и листовками, поскольку 17 сентября должны были состояться выборы в Учредительное собрание. Шагая как-то вместе с Николаем Асеевым по Тверской, Маяковский предложил составить свой избирательный список, футуристический: Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Василий Каменский и так далее.
«На моё недоумённое возражение о том, что кто же за нас голосовать будет, Владимир Владимирович ответил задумчиво:
– Чёрт его знает! Теперь время такое – а вдруг президентом выберут».
Ежедневная газета «Свободный народ» партии народной свободы (кадетов) в номере от 1 августа сообщала с усмешкой:
«Блюстители революции
В старой, царской России были «блюстители порядка». В новой России есть «блюстители революции», и именуются они «Советами»…»
2 августа та же газета оповестила читателей о том, чем занимаются эти «блюстители»:
«На рассвете 1 августа Николай Романов и Александра Романова вместе в сыном Алексеем и дочерьми отправлены из Царского Села для поселения в Сибирь».
9 августа Временное правительство перенесло выборы во Всероссийское учредительное собрание на 12 ноября 1917 года, а созыв избранных депутатов назначило на 28 ноября.
20 августа «Свободный народ» с тревогой информировал:
«Граждане Петрограда должны знать, что на столицу надвигается голод.
Шпионы мобилизуются
Большевики опять поднимают голову… «Пломбированная» нравственность «пломбированных» политиков».
22 августа:
«В Москве голод
В Москве наступил голод. Распределены последние запасы хлеба… В Москве хлеба хватит на два-три дня».
Именно в этот момент Андрей Белый написал стихотворение «Родине»:
«Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня!
Россия, Россия, Россия, —
Безумствуй, сжигая меня!»
Поэт-символист словно предчувствовал, какие страшные испытания предстоит пережить любимой им Родине.
В субботнем номере «Свободного народа» от 26 августа – ироничное замечание:
«Когда большевики в июльские дни устроили заговор против Временного Правительства и Совета и ознаменовали его кровавой июльской бойней, то орган „культурнейшего“ в мире человека Максима Горького „Новая жизнь“ сделал вид невинной институтки, скромно обрывающей лепестки благоухающей розы».
Об этом драматичном моменте российской истории упоминается и в автобиографических заметках Маяковского (в главке «АВГУСТ»):
«Россия понемногу откеренщивается. Потеряли уважение. Ухожу из „Новой жизни“. Задумываю „Мистерию-буфф“».
Эту «Мистерию» Маяковский «задумывал» не сам – ему помогали. Ведь приближалась годовщина февральской революции, и появилась мысль отметить это событие постановкой на сцене Петроградского Народного дома политического обозрения. Горький идею поддержал. Во главе комиссии городской думы, ведавшей делами Народного дома, был тогда только что вышедший из тюрьмы Луначарский. В художественный совет Дома входила актриса Мария Фёдоровна Андреева. Написать обозрение предложили Маяковскому. Он предложение принял и стал над ним «задумываться».
А вот другая фраза – «Ухожу из "Новой жизни "» — удивляет. С чего это вдруг поэт решил покинуть горьковскую газету?
Василий Абгарович Катанян, составитель «Хроники жизни и деятельности Маяковского», связывал «уход» поэта из горьковской газеты с постановлением ЦК РСДРП(б) от 20 августа 1917 года, которое призывало всех большевиков-ленинцев покинуть «Новую жизнь» (за её поддержку Временного правительства и за то, что в составе её редакции было много меньшевиков).
Но Маяковский в партии не состоял. И всё же из «Нового времени» ушёл. Почему?
Осип Брик, между прочим, в газете остался. А Маяковский ушёл. Видимо, на это была какая-то причина, гораздо более существенная, чем постановление какого-то «ЦК».
А не послужила ли поводом к разрыву с Горьким новая поэма Маяковского?
Глава третья Новая поэма
«Человек» Маяковского
В конце лета 1917 года произошло событие, о котором художник Юрий Анненков написал:
«Однажды, в августе 1917 года, Мейерхольд зашёл ко мне и, зная, что я был в дружеских отношениях с Борисом Викторовичем Савинковым, спросил меня, не смогу ли я устроить их встречу в моей квартире. Мейерхольд сказал, что положение театра, ввиду политических событий, становится всё более безнадёжным, и в особенности театра новаторского, театра исканий. Театр выдыхается, и для его спасения нужны деньги, нужны материальные возможности, которыми в данных исторических условиях располагает исключительно правительство. Но всякие правительства поддерживают главным образом театры академического характера.
– Савинков же является не только министром, не только членом правительства, – продолжал Мейерхольд, – но также другом искусства, и его содействие могло бы оказаться весьма существенным. На те или иные политические тенденции мне наплевать с высокого дерева. Я хочу спасти театр, омолодить его несмотря на события.
Встреча состоялась. Савинков, как известно, не принадлежал к коммунистам: он был их противником. Впрочем, политические темы во время беседы, как это ни странно, не были даже затронуты. Идеи Мейерхольда чрезвычайно заинтересовали Савинкова, и он обещал сделать всё необходимое, чтобы они могли осуществиться».
Борис Савинков начал действовать.
В это же самое время Маяковский завершил свою новую поэму Он создавал её в течение всех семи месяцев 1917 года. И названа она была не случайно точно так же, как опубликованное в 1904 году стихотворение Максима Горького – «Человек». Поэма «Война и мир», как мы помним, завершалась так:
«Смотри,
мои глазища —
всем открытая собора дверь.
Люди! —
любимые,
нелюбимые,
знакомые,
незнакомые,
широким шествием влейтесь в двери те.
И он,
свободный,
ору о ком я,
человек —
придёт он,
верьте мне,
верьте!»
А ведь именно этот Человек (с большой буквы) воспевался Горьким, который говорил о нём в самом начале своего стихотворения:
«Идёт он, орошая кровью сердца свой трудный, одинокий, гордый путь, и создаёт из этой жгучей крови – поэзии нетленные цветы… и, каждым шагом украшая жизнь, как солнце землю щедрыми лучами, – он движется всё – выше! и – вперёд! звездою путеводной для земли…».
А Маяковский начинал свою новую поэму с торжественного прозаического заявления о том, что он примирился с солнцем:
«… солнца ладонь на голове моей».
Затем следовало признание (тоже прозаическое), что Любовей у автора поэмы было невероятное количество, и что им он посвящает эту книгу:
«Дней любви моей тысячелистное Евангелие целую».
Далее шли стихотворные строки, в которых Маяковский задавал вопрос:
«Солнце снова
зовёт огневых воевод.
Барабанит заря,
и туда,
за земную грязь вы!
Солнце!
Что ж,
своего
глашатая
так и забудешь разве?»
Маяковский как бы выбирал между теми, о ком говорили Горький и Мережковский. И остановился между Человеком и Хамом. Назвав себя «новым Ноем», «огневым воеводой» и «глашатаем солнца», то есть Человеком, несущим людям огонь Солнца, тот самый огонь, который даёт людям жизнь, поэт, таким образом, как бы становился Человеком, про которого Горький писал:
«Вооружённый только силой Мысли, которая то молнии подобна, то холодно спокойна, точно меч, – идёт свободный, гордый Человек далёко впереди людей и выше жизни, один – среди загадок бытия, один – среди толпы своих ошибок… и все они ложатся тяжким гнётом на сердце гордое его, и ранят сердце, и терзают мозг, и, возбуждая в нём горячий стыд за них, зовут его – их уничтожить».
Так говорил Горький, воспевая своего героя – Человека с большой буквы.
Маяковский дал этому Человеку имя. Своё имя. И свою биографию. Поэтому первая глава поэмы названа им по-евангельски: «Рождество Маяковского». Сразу после названия следует прозаическая фраза, которая явно должна была опровергнуть стихи, которые шли за нею. Вот эта фраза:
«Пусть, науськанные современниками, пишут глупые историки: „Скушной и неинтересной жизнью жил замечательный поэт“».
Обратим внимание, что, оскорбительно назвав своих будущих биографов, («товарищей-потомков») «глупыми», свою стихотворную биографию Маяковский стал сопоставлять с фактами жития Иисуса Христа.
Революционное Евангелие
Своё самовозвеличивание поэт объяснил так:
«Как же
себя мне не петь,
если весь я —
сплошная невидаль,
если каждое движение моё —
необъяснимое чудо».
«Необъяснимо чудесно» устроено и тело поэта (об этом сообщается в главе «Рождество Маяковского»): у него «прекрасные» руки и язык, «драгоценнейший» ум и «необычайнейшее» сердце.
Совершенно неожиданно в поэме возникают «Булочная» и «Сапожная», в которых священнодействует стихотворец. Сразу вспоминаются строки, которые вскоре появятся в «Я сам»:
«Пропагандист. Пошёл к булочникам, потом к сапожникам…»
Как мы помним, о том, чем конкретно занимался юный Володя Маяковский, оказавшись среди московских булочников и сапожников, документальных свидетельств нет. Но повзрослевшему поэту, видимо, очень хотелось, чтобы булки и сапоги украсили его биографию. И он возвещает:
«Что булочник?
Мукой измусоленный ноль…
Сапожник.
Прохвост и нищий».
Но когда к ним приходит поэт Маяковский, они преображаются. Булочник…
«… играет. Всё в него влюблено».
Сапожник…
«Он в короне.
Он принц.
Весёлый и ловкий».
Почему? Да потому что Маяковский, как горьковский Данко, освещавший своим сердцем дорогу людям, развернул своё красное знамя:
«Это я
сердце флагом поднял.
Небывалое чудо двадцатого века!
И отхлынули паломники от гроба господня.
Опустела правоверными древняя Мекка».
Поэт не просто приравнял себя к Иисусу Христу, он поставил себя чуточку выше. От главного персонажа «Нового Завета» герой поэмы «Человек» отличается, пожалуй, только тем, что вновь (в который уже раз) оказался неудачником в любви. Из всех многочисленных людских занятий, увлечений и ремёсел герой поэмы «Человек» признаёт лишь два: он – неотразимый герой-любовник, и он необыкновенный поэт, «бесценных слов транжир и мот». И он же – человек, которого не любит та, кого любит он.
Эти две темы у Маяковского той поры переходили из стихотворения в стихотворение, из поэмы в поэму. Неудивительно, что Лили Брик с таким негодованием встретила очередной любовный перепев в его «Дон Жуане».
Вспоминается и стихотворение 1916 года, названное «Себе, любимому, посвящает эти строки автор». Завершается оно так:
«Пройду,
любовищу мою волоча.
В какой ночи
бредовой,
недужной,
какими Голиафами я зачат —
такой большой
и такой ненужный?»
Вторая глава поэмы, названная «Жизнь Маяковского», об этой жизни рассказывает так:
«Загнанный в земной загон,
влеку дневное иго я.
А на мозгах
верхом
«Закон»,
на сердце цепь —
«Религия»».
Однако любовным отношениям поэта эти ограничения не мешают, и он говорит:
«Я бы всех в любви моей выкупал,
да в дома обнесён океан её!»
И хотя на полях Европы идёт мировая война, гибнут люди, Маяковский, по его собственным словам, продолжает находиться «в плену» закона и религии. Но он знает, что посреди этого мирового столпотворения мирно «живёт Повелитель Всего – соперник мой, мой неодолимый враг». И поэт с возмущением восклицает:
«Встряхивают революции царств тельца,
меняет погонщиков человечий табун,
но тебя,
некоронованного сердец владельца,
ни один не трогает бунт».
В третьей главе – «Страсти Маяковского» — поэт сообщает о том, как к этому Божеству любви «идут, идут горожане выкупаться в Его изобилии». И среди тех, кто ушёл к Нему, поэт увидел свою возлюбленную. Разумеется, после такого открытия он с огорчением произносит слова, которые звучат в следующей главе – «Вознесение Маяковского»:
«А сердце рвётся к выстрелу,
а горло бредит бритвою».
После этого признания (как бы в продолжении темы, начатой во «Флейте-позвоночнике») начинаются поиски способов ухода в мир иной. Во «Флейте», как мы помним, поэт восклицал: «Я хочу одной отравы – пить и пить стихи». Теперь поэтической отравы ему уже мало, и он…
«Звонюсь в звонок.
Аптекаря!
Аптекаря!..
Протягивает череп.
«Яд»»
Маяковский принимает это снадобье. И начинается его вознесение…
«… в американском пиджаке
и в блеске жёлтых ботинок».
Начинается следующая глава – «Маяковский в небе». К вознёсшемуся поэту любезно обращается ангел:
«"Ну, как вам,
Владимир Владимирович,
нравится бездна?"
И я отвечаю так же любезно:
"Прекрасная бездна.
Бездна – восторг!"»
Продолжение Евангелия
Поэт принимается выше, осматривается вокруг, встречает «новых» вознесшихся:
«И если
знакомые
являлись, умирав,
сопровождал их,
показывая в рампе созвездий
величественную бутафорию миров».
Но когда его, попавшего на «Центральную станцию всех явлений», откуда и происходит управление мирами, просят сделать что-нибудь, чтобы бессмысленные войны прекратили поливать землю кровью, он отвечает (в пику своей поэме «Война и мир»):
«Шут с ними!
Пусть поливают,
плевать!»
Но вот вознесённый на небеса поэт начинает скучать. Его тянет на покинутую землю. И он говорит отцу-лесничему встреченному там же, на небесах: «Мне скушно, папаша!» После этого начинается глава под названием «Возвращение Маяковского».
Он возвращается на землю. Спустя много тысяч лет после своего вознесения. И видит, что на земле мало что изменилось. Как и при его жизни…
«… из Чикаг
сквозь Тамбовы
катятся рубли».
И всем по-прежнему управляет всё тот же «главный танцмейстер земного канкана». И людям, поклоняющимся этому «танцмейстеру», ничем не поможешь. И поэт восклицает:
«Тише, философы!
Я знаю —
не спорьте —
зачем источник жизни дарен им.
Затем, чтоб рвать,
затем, чтоб портить
дни листкам календарным».
И Маяковский решает отомстить «главному танцмейстеру». Он покупает у антиквара кинжал, чтобы «сладко чувствовать, что вот перед местью я».
И начинается последняя глава – «Маяковский – векам». В ней говорится о том, что поэт попал на реку, которая когда-то «называлась Невою». Он в Петрограде, в «бессмысленном городе». Находит улицу, на которой когда-то жил:
«"– Прохожий!
Это улица Жуковского?"
Смотрит,
как смотрит дитя на скелет,
глаза вот такие,
старается мимо.
"Она – Маяковского тысячи лет,
он здесь застрелился у двери любимой".
Кто,
я застрелился?
Такое загнут!»
А что стало с его любимой? – интересуется поэт. Ему отвечают, что она выбросилась из окна:
«Легенда есть:
к нему
из окна.
Вот так и валялись
тело на теле».
Вот, собственно, и всё. Поэма подошла к концу.
Если сравнить небольшое (полуторастраничное) стихотворение Максима Горького «Человек» с солидной поэмой Владимира Маяковского того же названия, то сразу бросится в глаза отсутствие в поэме глубоких мыслей – её автору просто нечего сказать. Горьковский «Человек» заканчивается так:
«Всё в Человеке – всё для Человека! Вот снова, величавый и свободный, подняв высоко гордую главу, он медленно, но твёрдыми шагами идёт по праху старых предрассудков… и Человеку нет конца пути! Так шествует мятежный Человек – вперёд! и – выше! всё – вперёд! и – выше!»
А вот как заканчивается поэма Маяковского того же названия:
«Куда теперь?
Куда глаза
глядят.
Поля?
Пускай поля!
Траля-ля, дзин-дза,
тра-ля-ля, дзин-дза,
тра – ля – ля – ля – ля-ля – ля – ля!
Петлей на шею луч накинь!
Сплетусь в палящем лете я!
Гремят на мне
наручники,
любви тысячелетия…»
Получается, что именно это и хотел сказать векам Владимир Маяковский.
Возникает вопрос, а в здравом ли уме это всё сочинялось? В трагедии «Владимир Маяковский» поэт уже признавался в своём «безумии». Во «Флейте-позвоночнике» он писал:
«А я…
крики в строчки выгранивал,
уже наполовину сумасшедший ювелир».
В «Человеке» восклицал:
«Да здравствует
– снова! —
моё сумасшествие!»
Вот такую поэму написал в разгар революционного 1917 года Маяковский.
Мнение Горького
Только что завершённую поэму Маяковский как всегда понёс Алексею Максимовичу и прочёл её ему. О том, какое впечатление произвела она на «буревестника революции», сказать трудно – горьковских комментариев на эту тему встретить не пришлось. Скорее всего, Горький был в ужасе. Такого услышать он не ожидал. И когда? В тот момент, когда Россия переживала драматичнейший момент своей истории!
Алексей Максимович мог сразу вспомнить о Чезаре Ломброзо, книгу которого «Гениальность и помешательство» он не только читал, но и мог даже познакомиться с её автором во время своего проживания в Италии. Достав из шкафа эту книгу и найдя соответствующее место, Горький мог прочесть:
«… чрезвычайно любопытная для психиатров статья одного из сумасшедших, – «Замогильные записки». Он описывает в них свою духовную жизнь после того, как "оставил человеческую оболочку, жил на земле в образе духа, над облаками и созерцал оттуда красоты природы во всевозможных её проявлениях "».
Перелистнув несколько страниц, Горький мог прочесть фрагмент из этих «Замогильных записок»:
«Смертные часто смеялись надо мной, и я слышал, как они потихоньку называли меня сумасшедшим. „Ты сам сумасшедший, о человек, рождённый женщиной, – думал я тогда, – ты, дрожащий от страха при одном только имени твоей истинной единственной освободительницы – смерти, которую ты изображаешь в ужасном виде, хотя она так прекрасна, хотя она-то и есть настоящая жизнь. Да знаешь ли ты, что твоё существование есть ни что иное, как постоянная смерть, а моя смерть – вечная жизнь?“»
Алексей Максимович мог прочесть Маяковскому и фрагмент из критической статьи Дмитрия Философова о горьковском «Человеке», написанной в 1904 году:
«"Человек" – это квинтэссенция банальности, и вовсе не только с эстетической точки зрения. По своей форме это стихотворение в прозе ничтожно… В нём нет никакой глубины, никаких загадок, никаких проблем. Всё плоско, самодовольно и мало. В нём есть бесконечность, но нет вечности. Есть проповедь прогресса, но нет самого прогресса».
Горький мог достать из шкафа и статью Философова 1907 года:
«Горький думает, что он уже нашёл „имя“ для опустошённой души, нашёл рычаг для приложения босяцкой силы, и рычаг этот – социализм».
– А какое имя для «опустошённой души» россиянина нашёл Маяковский? – мог спросить Горький. – Своё собственное? В тот момент, когда страна раздирается противоречиями, когда самые оголтелые силы рвутся к власти, объявлять себя продолжателем дела Иисуса Христа, выставляя себя в качестве его преемника – это не просто самовосхваление, это признак явного сумасшествия.
Так или примерно так мог сказать Горький. Он мог ещё добавить, что собирался написать продолжение своего «Человека». Главным героем там должен был стать Мещанин, идущий по пятам Человека и воздвигающий позади него всякую мерзость. Но теперь продолжение писать не нужно – оно уже написано. Маяковским.
Обидчивый поэт-футурист вряд ли оправдывался. Скорее всего, по примеру Осипа Брика, который, когда ему что-то не нравилось в собеседнике, молча вставал и уходил, Маяковский, не сказав ни слова, покинул квартиру «буревестника революции». Покинул навсегда.
А в Петрограде тех дней то и дело заводили речи о новых героях, вознесённых революционным процессом на вершину власти. Юрий Анненков писал:
«… поэт Зданевич, блуждая со мной по Петербургу, уже республиканскому, сказал, говоря о Керенском, ставшем председателем Временного правительства:
– Надо бы издать сборник, посвящённый Керенскому как первому вождю футуристического государства!»
Тем временем после долгих дней пути по Тихому океану пароход, на котором из канадского Ванкувера плыли на родину россияне, прибыл в японский город Иокагаму. Отсюда перебрались в другой порт, Цуругу, где вновь сели на пароход, который направился во Владивосток.
Встречавший прибывших работник Владивостокского порта, вполне мог, заглянув в паспорт, сказать по-английски:
– Хау ду ю ду, мистер Тобинсон!
А тот на чисто русском языке мог ответить:
– Мистер я там – за океаном.
Работник порта мог тут же поправиться, сказав:
– Тогда здравствуйте, господин Тобинсон!
– И господин я тоже там! – прибывший махнул рукой на восток.
– Ясно! – улыбнулся работник порта. – Здравствуйте, товарищ Тобинсон!
– И Тобинсон я – для Америки. Моя настоящая российская фамилия пылает революционным цветом!
Был ли такой разговор во Владивостокском порту или ничего подобного не было, о том свидетельств не сохранилось. Зато доподлинно известно, что прибывший в Россию американец сразу же вступил в партию большевиков, и началась его головокружительная политическая карьера. Но не будем забегать вперед – всему свое время. Вернёмся в Петроград.
Осень 1917-го
В сентябре всех большевиков, арестованных за июльский мятеж, из тюрем выпустили, и Лев Троцкий вернулся в Петросовет. Газета «Известия Петроградского Совета» в номере от 12 сентября опубликовала его речь, произнесённую на одном из заседаний. В ней, в частности, затрагивались и июльские события:
«Нам говорят, что 3–5 июля вооружённые солдаты и рабочие вышли на улицы для свержения Временного правительства. Это ложь! Так как вышли они для демонстрации верности революции, для демонстрации своих сил против контрреволюции!..
О Ленине первое время я думал, что Ленин должен отдаться в руки власти, но когда я посидел в республиканской тюрьме, то сказал: Ленин был прав, отказавшись…
(крики с мест: «Ленин трус!»)»
А как в это время обстояли дела у Маяковского?
Во второй половине сентября он поехал в Москву и 24 числа выступал в Политехническом музее, где его встретила Софья Шамардина:
«… зал Политехнического. В Москве я проездом – еду в Сибирь. Афиши: Маяковский. Нельзя не пойти. Вытащил меня из зала, посадил на эстраде, там у стенки, сзади, сидели друзья. В перерыве выясняет моё отношение к революции. Говорю – муж большевик. Мне кажется, что это определяет и меня. Усмехнулся. И опять на эстраде – всё тот же, но более взрослый – великан-человечище, громкий, сильный, знающий, чего хочет. И опять в зале война: два лагеря – враги и друзья».
А большевики уже вновь готовились к новому выступлению против власти. Находившийся в Москве Маяковский 25 сентября (ровно за месяц до Октябрьского переворота) написал письмо в Петроград Брикам:
«Вчера читал. Был полный сбор, только, к сожалению, не денег, а хороших знакомых…
Живу на Пресне. Кормят и ходят на цыпочках.
Первое – хорошо, второе – хуже. «Семейный гений»».
О той же поре – воспоминания Валентины Ходасевич:
«Осенью 1917 года, возвращаясь из Коктебеля, я остановилась у родителей в Москве. Утром звонок – иду открывать. С удивлением вижу Маяковского. Он никогда ни у меня, ни у моих родителей не бывал. В руках у него шляпа и стек. Пиджак чёрный, рубашка белая, брюки в мелкую клетку, чёрную с белым. Лицо – не понять, весёлое или насмешливое. Веду его в кабинет отца:
– Садитесь.
– Нет времени, не за тем пришёл… В три часа дня вы должны прийти на Тверскую, угол Настасьинского переулка, там на днях открываем «Кафе поэтов» в полуподвальном этаже дома, принадлежащего булочнику Филиппову. Мы уговорили его дать это помещение нам. Так вот: вам предстоит расписать один зал. Помещение сводчатое – имейте в виду. Клеевые краски, кисти, вёдра, стремянка – всё имеется. Не опаздывайте! Дело срочное, серьёзное, а Филиппов будет хорошо платить.
Во время этой словесной пулемётной очереди я не могла вставить ни слова. Интонация была повелительной – я рассердилась и обиделась. Очевидно, Маяковский заметил это и сказал:
– Мы с Васей Каменским были уверены, что вы вполне надёжный товарищ и не подведёте. Ждём вас в «Кафе поэтов» в три часа! – кричал он уже с лестницы.
В три часа я была в указанном месте…
Застала там Маяковского, Каменского и "футуриста жизни "Владимира Гольцшмидта.
Мне было предоставлено под роспись по чёрному фону второе от входа помещение…
Маяковский сказал:
– Основное – валяйте поярче, и чтобы самой весело было! А за то, что пришли, спасибо! Ну, у меня дела поважнее, ухожу. К вечеру вернусь, всё должно быть готово».
Как видим, жизнь в Москве кипела, и никакого предчувствия эпохальных событий у футуристов не ощущалось.
А на Дальнем Востоке ещё вчера никому не известный американец Тобинсон, стал Александром Михайловичем Краснощёковым и 5 октября как делегат от города Никольска-Уссурийского участвовал во второй конференции дальневосточных большевиков. На этом форуме было отмечено, что необходимость перехода всей власти в стране в руки революционного народа (то есть Советов) уже назрела. А так как на Дальнем Востоке было сильно влияние эсеров и меньшевиков, их объявили врагами революции.
В это время петроградские власти, зная о готовящемся большевистском мятеже, спешно перестраивали свои ряды. Было сформировано третье коалиционное правительство. Эсер Александр Керенский сохранил за собой пост министра-председателя, но стал ещё и верховным главнокомандующим.
А Лев Троцкий, вновь возглавивший Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, стал фактическим хозяином северной столицы.
Подготовка к вооружённому перевороту шла полным ходом. В Петроград из Финляндии вернулся Ленин. 10 октября на квартире большевички Галины Сухановой собрались члены ленинского ЦК: Владимир Ульянов-Ленин, Андрей Бубнов, Феликс Дзержинский, Григорий Зиновьев, Лев Каменев, Александра Коллонтай, Георгий Оппоков (Ломов), Яков Свердлов, Григорий Сокольников, Иосиф Джугашвили-Сталин, Лев Троцкий и Моисей Урицкий. Эти двенадцать человек решали судьбу страны. Центральный комитет большевистской партии (его заседание вёл Яков Свердлов) десятью голосами против двух (Зиновьева и Каменева) проголосовал за вооружённое восстание.
А вернувшийся в Петроград Маяковский продолжал выступать с докладами и чтением стихов. Вот программа его выступления 11 октября (по газете «Речь»):
«I. Наше искусство – искусство демократии (речь).
II. «Человек» (вещь)».
Художник Яков Мордухаевич Кругер (Черняк) вспоминал:
«В круглый Тенишевский зал в этот вечер собралось немного народа… Из маленькой дверцы в глубине эстрады вышел широкоплечий, ладный, высокий человек – вышел быстро… Какой-то оттенок вызова и озорства был в чёрных блестящих глазах, в резком изгибе широкого рта, в тяжёлом рисунке нижней челюсти. Она странно шевелилась. Мы вгляделись – жуёт. Это казалось наглостью, нарочитой дерзостью, грубостью и вызовом. Дожёвывал бутерброд. Постоял и, когда увидел, что «дошло» – помахал рукой, дескать, садитесь ближе к эстраде».
Тем временем большевистские вожди в своих публичных речах принялись заявлять, что их выступление следует ждать чуть ли не со дня на день.
18 октября в горьковской «Новой жизни» появилась заметка Льва Каменева и Григория Зиновьева, в которой выражался решительный протест против решения Центрального комитета РСДРП(б) совершить вооружённое восстание. В том же номере «Новой жизни» Горький поместил свою статью «Нельзя молчать!», в которой большевики призывались отказаться от намеченного «выступления», так как, предупреждал «буревестник революции»:
«… на сей раз события примут ещё более кровавый и погромный характер, нанесут ещё более тяжкий удар по революции».
20 октября «Правда» в ответ на эти две статьи напечатала заметку Кобы Сталина (К.Сталина), в которой говорилось:
«Большевики дали клич: быть готовым!..
Рабочие стали вооружаться… Солдаты от рабочих не отстали…
А перепуганным неврастеникам из «Новой жизни» невмоготу стало, ибо они «не могут больше молчать» и умоляют нас сказать, когда же выступят большевики».
В том же номере «Правды» было помещено письмо Троцкого:
«В последних номерах «Буржуазных ведомостей» упорно передаётся слух, будто бы ко мне обратились официальные представители городской милиции с запросом о готовящемся якобы выступлении…
Заявляю, что всё это известие от первого до последнего слова – вымысел».
Но подготовка тем не менее шла.
Генерального штаба генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев, занимавший весной 1917 года пост Верховного главнокомандующего Русской армии, находился тогда в Петрограде, где готовил «организованную военную силу», которая была бы способна «противостоять надвигающейся анархии и немецко-большевистскому нашествию». 22 октября он писал своей жене в Смоленск:
«Никогда ещё не охватывала мою душу такая давящая тоска, как в эти дни, дни какого-то бессилия, продажности, предательства. Всё это особенно чувствуется здесь, в Петрограде, ставшем осиным гнездом, источником нравственного, духовного разложения государства. Как будто по чьему-то приказу исполняется чей-то предательский план, власть в полном значении этого слова бездействует и ничего не хочет делать, зато говоренья бесконечно много… Предательство явное, предательство прикрытое господствует во всём».
23 октября Велимир Хлебников отправил в Мариинский дворец письмо от имени «председателей земного шара». Летом 1917 года в этом дворце находилась резеденция Временного правительства, а с октября там заседал Временный совет Российской республики (парламент). Хлебников писал:
«Правительство земного шара постановило считать Временное правительство временно не существующим.»
На «постановление» поэта-футуриста, конечно же, никто не обратил внимания. А глава Временного правительства Александр Керенский, выступая на очередном заседании Временного совета Российской республики, в частности, сказал:
«Господа!.. Я процитирую вам здесь наиболее определённые места из ряда прокламаций, которые помещались разыскиваемым, но скрывающимся государственным преступником Ульяновым-Лениным в местной газете „Рабочий путь“».
И Керенский процитировал ленинские высказывания, вызвавшие шумное возмущение членов Совета. Но это опять-таки были всего лишь громкие слова.
А «государственный преступник» Ульянов-Ленин тем временем уже составлял список нового большевистского правительства. До вооружённого переворота оставались считанные часы.
Что делал в те судьбоносные дни Маяковский?
Вечером 24 октября он был в Смольном институте, где начал свою работу Второй съезд Советов. Поприсутствовав на его открытии, Маяковский, скорее всего, поспешил домой – на улицу Жуковского, где в квартире Бриков на склоне каждого дня в ту пору устраивали карточную игру – резались в «тётку». К Брикам в тот день зашёл и Алексей Максимович Горький – он тоже в этой компании с удовольствием играл в карты.
Игра шла весело, с шутками и прибаутками, и потому никакого «октябрьского переворота», никакой «социалистической революции» игроки не ощутили.
Глава четвертая Диктатура бунтарей
Октябрьский переворот
Смольный институт, куда в ночь с 24 на 25 октября заглядывал Владимир Маяковский, был основан императрицей Екатериной Второй в 1764 году при Воскресенском Смольном Новодевичьем монастыре. Он был назван тогда «Императорским Воспитательным Обществом благородных девиц». В августе 1917 года из Таврического дворца в Смольный переехал Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Одна часть воспитанниц института была переведена в другие учебные заведения, другая какое-то время продолжала оставаться в северной части здания.
Так как председателем Петросовета являлся Лев Троцкий, избранный на этот пост 20 сентября, Смольный институт благородных девиц стал ещё и штабом большевиков, активно готовившихся к захвату власти.
Ночью 25 октября 1917 года большевистский переворот совершился.
Среди юнкеров, до последнего патрона защищавших Зимний дворец, был и поэт Леонид Каннегисер.
Во время штурма Зимнего началось первое заседание съезда Советов. Узнав об аресте министров Временного правительства, делегаты от партий эсеров и меньшевиков покинули зал заседаний – в знак протеста против большевистского «военного заговора, организованного за спиной Советов».
Члены Центрального Комитета партии кадетов в ту же ночь вступили в состав антибольшевистского Комитета спасения родины и революции, который образовала городская дума Петрограда.
26 октября на втором заседании съезда Советов его делегаты без обсуждения приняли два декрета: о мире (с призывом к народам и правительствам воевавших стран заключить мир без аннексий и контрибуций) и о земле (с объявлением национализации земли и запрещением наёмного труда). Было также объявлено о создании советского правительства – Совета Народных Комиссаров (Совнаркома). Его возглавил Владимир Ульянов-Ленин. Второй человек в большевистской иерархии, Лев Троцкий, занял пост народного комиссара (наркома) иностранных дел. Иван Скворцов-Степанов стал народным комиссаром финансов, Григорий Оппоков-Ломов – наркомом юстиции. Для двух других Григориев (Зиновьева и Сокольникова), ехавших в Россию из Швейцарии вместе с Ульяновым-Лениным в «пломбированном вагоне», комиссарских должностей не нашлось.
Совнарком тотчас же обратился к Германии с предложением прекратить войну и как можно скорее заключить мир.
Поэт и композитор Михаил Алексеевич Кузмин записал в дневнике 26 октября 1917 года:
«Чудеса совершаются. Всё занято большевиками… Пили чай. Потом пошли к Брикам. Тепло и хорошо. Маяковский читал стихи… На улицах тепло и весело. Дух хороший».
27 октября газета «Правда», всё еще называвшаяся «Рабочим путём», поместила восторженную здравицу:
«Да здравствует Революционное Правительство Советов!»
В тот же день руководители кадетов обратились к населению с призывом не подчиняться постановлениям Совета Народных Комиссаров. Конституционные демократы ещё надеялись спасти демократию.
Реакция интеллигенции
Лев Троцкий впоследствии написал:
«В первый по-октябрьский период враги называли коммунистов «кожаными» – по одежде. Думаю, что во введении кожаной «формы» большую роль сыграл пример Свердлова. Сам он ходил в коже с ног до головы, т. е. от сапог до кожаной фуражки. От него, как от центральной организационной фигуры, эта одежда, как-то отвечавшая характеру того времени, широко распространилась».
Но не кожаные куртки тех, кто захватил власть, раздражали тогда россиян, а то, что страной стали управлять те, кого считали «уголовными преступниками», люди, никогда ничем не руководившие, не имевшие зачастую образования и прожившие многие годы вдали от России.
Поэт Константин Бальмонт к произошедшему октябрьскому перевороту отнёсся резко отрицательно, назвав его «ураганом сумасшествия», а то, что ожидало Россию в ближайшее время – «хаосом» и «смутными временами». Что же касается «диктатуры пролетариата», которую большевики обещали установить в стране, то она, по его мнению, очень скоро должна была превратится в «узду на свободном слове».
А вот как в описании Юрия Анненкова выглядел в этот момент «буревестник революции»:
«Октябрьская революция. Обширная квартира Горького на Кронверкском проспекте полна народу. Горький, как всегда, сохраняет внешне спокойный вид, но за улыбками и остротами проскальзывает возбуждение. Люди вокруг него – самых разнообразных категорий: большевистские вожди, рабочие, товарищи по искусству, сомневающиеся интеллигенты, запуганные и гонимые аристократы… Горький слушает, ободряет, спорит, переходит от заседания к заседанию, ездит в Смольный».
Только Маяковского не было в том окружении Горького.
У Дмитрия Мережковского события октября 17 года тоже вызвали яростнейший протест. Большевистский переворот он назвал «разгулом хамства», победой «надмирного зла» и воцарением «народа-Зверя», опасного для всей мировой цивилизации. Первое, чем занялись Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, они стали стараться поскорее освободить министров Временного правительства, заключённых большевиками в Петропавловскую крепость.
Зинаида Гиппиус написала о той поре так:
«Мы стали злыми и покорными,
Нам не уйти.
Уже развёл руками чёрными
Викжель пути».
ВИКЖЕЛЬ – это Всероссийский исполнительный комитет профсоюза железнодорожников. Он одним из первых выступил против новой власти, потребовав «прекращения гражданской войны и создания однородного социалистического правительства от большевиков до народных социалистов включительно», к тому же без участия в нём Ленина и Троцкого. ВИКЖЕЛЬ грозил в случае невыполнения его требований объявить всеобщую забастовку на транспорте. И 29 октября объявил её.
В знак солидарности с требованиями ВИКЖЕЛЯ 4 ноября подали заявления о выходе из состава ЦК Зиновьев, Каменев, Рыков и некоторые другие видные большевики. Ленин назвал их «дезертирами», и вместо покинувшего свой пост Каменева главой Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета был назначен Яков Свердлов. 32-летний иудей, никому в православной стране неизвестный, стал её некоронованным царём.
Владимир Пуришкевич, которого большевики арестовали 18 ноября, в речи на состоявшемся вскоре суде назвал их «контрреволюционерами», которые отправляют за решётку «истинных защитников революции».
А теперь – о судьбе россиянина, который чуть было не стал одним из первых большевистских наркомов. О нём в своих воспоминаниях рассказал Юрий Анненков, одним из предков которого был декабрист Иван Александрович Анненков, женатый на француженке Полине Гебль. Другим предком был известный пушкинист Павел Васильевич Анненков.
Отец Юрия, Павел Семёнович Анненков, состоял членом партии «Народная воля». После убийства Александра Второго его сослали на Камчатку, где у него и родился сын Юрий. В начале 90-х годов XIX века, живя уже в Самаре, Павел Анненков познакомился (в воспоминаниях его сына даже сказано «сблизился») с Владимиром Ульяновым и с мужем его сестры Марком Елизаровым. Но в июле 1917-го, когда большевики подняли в Петрограде мятеж, возмущённый Павел Анненков сжёг все письма Ленина к нему.
Дальнейшие события его сын описал так:
«В ноябре от имени Ленина к отцу приехал Марк Елизаров с предложением занять пост народного комиссара по социальному страхованию. Отец ответил категорическим отказом, заявив, что он является противником произведённого вооружённого переворота, свергнувшего демократический строй, противником всяческой диктатуры – личной или классовой».
Марк Елизаров уехал ни с чем. И тотчас заработал ленинский принцип: «кто не с нами, тот против нас» — большевики обид никому не прощали, даже давним друзьям-товарищам. К тому же отказ на предложение Ленина был высказан в откровенной (и обидной для большевиков) форме. Месть, по словам Юрия Анненкова, последовала мгновенно:
«Через день все деньги отца в банках были конфискованы большевиками. Отец вернулся домой нищим. В 1920 году он умер. Когда весть о его смерти дошла до Ленина, моей матери была неожиданно назначена неплохая пенсия как вдове революционера».
Другой видный социал-демократ и один из авторитетнейших лидеров меньшевиков Георгий Валентинович Плеханов тоже встретил Октябрьскую революцию без всякого энтузиазма, заявив, что «русская история ещё не смолола той муки, из которой со временем будет испечён пшеничный пирог социализма». А про захват власти «одним классом или – ещё того хуже – одной партией» сказал, что он чреват печальными последствиями.
Сразу же после большевистского переворота Союз солдатского и крестьянского просвещения начал издавать газету «Луч правды». В первом её номере (датированном «ноябрь 1917») передовая статья была написана епископом Иосафом, князем Владимиром Давидовичем Жеваховым (Джавахишвили), который обращался к россиянам:
«… вы верите, что власть в ваших руках? Неужели Зиновьев-Радомысльский, Троцкий-Бронштейн и Ленин-Ульянов, люди, не знающие России, не жившие её скорбями, неужели это «ваши руки»? Опомнитесь, поймите, с кем вы имеете дело».
Так реагировала на смену власти, произошедшую в стране, её интеллигенция.
А наш герой?
Реакция Маяковского
В «Я сам» в главке «ОКТЯБРЬ» о большевистском перевороте сказано кратко:
«Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других футуристов-москвичей) не было. Моя революция. Пошёл в Смольный. Работал. Всё, что приходилось».
Каких-либо документов, свидетельствующих о том, чем именно занимался Владимир Маяковский в большевистском Смольном, не сохранилось. Да и что мог делать беспартийный и далёкий от политики интеллигент в штабе революции? Мало этого, ни одного высказывания Маяковского об октябрьском перевороте (ни стихотворного, ни прозаического) до наших дней не дошло. Его в тот момент гораздо больше волновало совсем иное событие – 30 октября военная медицинская комиссия (старые структуры ещё работали), осмотрев вернувшегося из очередного отпуска Маяковского, вчистую его демобилизовала. Он тут же написал коротенькое письмецо в Москву – матери и сёстрам:
«Дорогие мамочка, Людочка и Олинька!
Ужасно рад, что все вы целы и здоровы. Всё остальное по сравнению с этим ерунда. <…> …письмо… передаю через знакомого москвича; почте не очень сейчас доверяю.
Я здоров. У меня большая и хорошая новость: меня совершенно освободили от военной службы, так что я опять вольный человек. Месяца 2–3 пробуду в Петрограде. Буду работать и лечить зубы и нос. Потом заеду в Москву, а после думаю ехать на юг для окончательного ремонта.
Целую вас всех крепко.
Ваш Володя.
Пишите!»
Дата в этом послании отсутствует, но написано оно явно через несколько дней после октябрьского переворота – Маяковский знал, что большевики встретили в Москве мощное сопротивление со стороны войск, сохранивших верность Временному правительству. Завязывались бои. Звучала не только ружейная стрельба, палили пушки!
О том, как встретили сообщения об этом Горький и Луначарский – Юрий Анненков:
«Бомбардировка Кремля подняла в Горьком бурю противоречивых чувств. Пробоину в куполе собора Василия Блаженного он ощутил как рану в собственном теле. В эти трагические дни он был далеко не один в таком состоянии – среди большевиков и их спутников. Я видел Анатолия Луначарского, только что назначенного народным комиссаром просвещения, дошедшим до истерики и пославшим в партию отказ от какой-либо политической деятельности. Ленин с трудом отговорил его от этого решения…».
Через год (7 ноября 1918 года) Маяковский опубликовал стихотворение «Ода революции», в котором октябрьские события в Москве отображены в торжествующе-радостных тонах:
«А завтра
Блаженный
стропила соборовы
тщетно возносит, пощады моля, —
твоих шестидюймовок тупорылых боровы
взрывают тысячелетье Кремля».
А в письме, написанном в начале ноября 1917 года, Маяковский радовался тому, что кровопролитное свержение демократической власти пронеслось, не задев никого из его семьи. Воцарение в стране большевиков он отнёс к категории «всё остальное», являющейся «ерундой» по сравнению безопасностью его родных. О самом же перевороте в письме не сказано ни словечка. И это с некоторых пор станет своеобразным стилем Маяковского – во всём им написанном искать упоминания о политике бессмысленно, их там нет.
А большевики тем временем продолжали прибирать к рукам власть. Троцкий потом написал:
«Я очень хорошо помню, как в первый период, в Смольном, Ленин на заседаниях Совнаркома неизменно повторял, что через полгода у нас будет социализм, и мы станем самым могущественным государством».
Поэтому неудивительно, что большевики были настроены очень решительно. Всего через полторы недели после Октябрьского переворота (4 ноября), выступая в Петроградском Совете, Ульянов-Ленин, в частности, сказал:
«Нас упрекают, что мы арестовываем. Да, мы арестовываем. Нас упрекают, что мы применяем террор. Нас осыпают градом обвинений, что мы действуем террором и насилием, но мы спокойно относимся к этим выпадам… Наша задача – строить новое государство – государство социалистическое… С нашей стороны всегда последуют меры принуждения в ответ на попытки – безумные, безнадёжные попытки! – сопротивления Советской власти. И во всех этих случаях ответственность за это падёт на сопротивляющихся».
Подобные высказывания вождя приводили к тому, что недругов и открытых противников большевистского режима становилось всё больше и больше. Генерал Михаил Васильевич Алексеев, переодетый в штатское, сразу же после октябрьского переворота выехал на Дон, и приступил там к созданию добровольного вооружённого формирования, способного противостоять большевикам и «спасти Родину».
А в Брест-Литовске уже шли переговоры с немцами о сепаратном мирном договоре. В состав российской делегации входил и хорошо нам знакомый Григорий Сокольников.
Горький в это время высказывался в газете «Новая жизнь»:
«Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся якобы по пути к „социальной революции“ – на самом деле это путь к анархии, к гибели пролетариата и революции. Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт, стремится довести революционное настроение пролетариата до последней крайности и посмотреть, что из этого выйдет? Рабочие не должны позволять авантюристам и безумцам взваливать на голову пролетариата позорные, бессмысленные и кровавые преступления, за которые расплачиваться будет не Ленин, а сам пролетариат».
Большевики Горькому не отвечали. Пока не отвечали.
Назначенные на 12 ноября 1917 года (ещё Временным правительством) выборы в Учредительное собрание Совет Народных Комиссаров не отменил.
А на Дальнем Востоке уже избрали Краевой комитет Советов, председателем которого стал Александр Михайлович Краснощёков.
Владимир Маяковский в этот момент получил приглашение из Смольного. Об этом в «Я сам» сказано совсем коротко:
«Начинают заседать».
Здесь Маяковский явно хотел изобразить себя провидцем, чуть ли не самым первым заметившим непреодолимую тягу большевиков к заседаниям.
Зов большевиков
Видный революционер-подпольщик (с 1908 года – член ЦК партии левых эсеров) 27-летний Борис Фёдорович Малкин вспоминал:
«Через неделю после Октябрьского переворота мы в Смольном от имени Всероссийского ЦИК пытались собрать всю тогдашнюю интеллигенцию Петрограда. Перед этим было много объявлений в газетах, масса было расклеено в городе афиш. Крупнейшие писатели, артисты, художники были приглашены в Смольный на заседание.
И вот в семь часов вечера всё, что представляло интеллигенцию Петрограда, состояло из пяти-семи человек, которые все уместились на общем диване. Помню, там были Ал. Блок, Маяковский, Всеволод Эмильевич Мейерхольд, Лариса Рейснер».
О том, как Петроградская интеллигенция отнеслась к большевистскому перевороту, хорошо заметил (имея в виду и себя тоже) Юрий Анненков. Она, по его словам, встретила его…
«… как многие из нас – художники, писатели, поэты, люди искусства, как Александр Блок, как Сергей Есенин, как Владимир Маяковский, – скорее фонетически, как стихийный порыв, как метель, как «музыку» (по словам Блока)».
И вот эти «пять-семь человек», решивших послушать «музыку», которую заиграли большевики, и заявились в Смольный. Иными словами, никто их здравомысливших людей не желал иметь с новой властью никаких дел. Даже член РСДРП и близкий друг Ленина Максим Горький никаких контактов с захватившими власть однопартийцами устанавливать не захотел.
Кроме перечисленных Борисом Малкиным представителей «интеллигенции Петрограда», на той встрече присутствовали также Натан Альтман, Кузьма Петров-Водкин и Давид Штеренберг, только что приехавший из Парижа.
Вспомним, кем были приглашённые в Смольный люди.
Блок и Маяковский – поэты, Мейерхольд – театральный режиссер, Лариса Рейснер – поэтесса, прозаик, драматург. 28-летний Натан Исаакович Альтман, 39-летний Кузьма Сергеевич Петров-Водкин и 36-летний Давид Петрович Штеренберг были художниками.
Восьмым участником той встречи вполне мог быть Осип Максимович Брик – ведь он успел к тому времени перезнакомиться чуть ли не со всей творческой элитой Петрограда, со многими политиками и общественными деятелями. К тому же известно, что именно ему Луначарский поручил пригласить в Смольный членов Союза деятелей искусств.
Есть рассказ Маяковского, повествующий о той поре:
«Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним дворцом костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского проезда. Спрашиваю: „Нравится?“'– „Хорошо“, – сказал Блок, а потом прибавил: „У меня в деревне библиотеку сожгли“.
Вот это «хорошо» и это «библиотеку сожгли» было два ощущения революции, фантастически связанные в его поэме «Двенадцать».
Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, другие – славу ей».
Как видим, раздвоенность, свойственную натуре Маяковского, сам он разглядел в Блоке.
Павел Лавут (речь о нём – впереди) написал:
«– Это правда, что вы ночью встретили Блока? – спросил я как-то. – Или сочинили?
– Наивный человек – такого не сочинишь! – сказал Маяковский».
Но вернемся в Смольный. Что же происходило там?
Борис Малкин:
«Вся ночь прошла в разговорах, как нужно организовать интеллигенцию, что нужно сделать для этого. И Маяковский всё это воспринимает как-то пламенно, радостно. Он поразил всех нас своим кипучим темпераментом и остроумием. Маяковский рассказал, что при старом режиме он дважды сидел в тюрьме и привлекался по делу московской большевистской организации».
Как видим, никаких особых привилегий за свои сидения в царских тюрьмах «по делу» большевиков поэт не требовал – рассказал об этом и стал рассказывать что-то другое. Правда, любопытно, что упомянул он только две свои «сидки», третьей «сидки» (по делу эсеров) как будто не было.
Луначарский объявил, что новая власть хочет создать государственный совет по делам искусств. Но эту идею не поддержали – ведь точно с таким же проектом совсем недавно выступало Временное правительство, и он был отвергнут.
Иными словами, ничего особо существенного на том совещании не произошло. Обменялись мнениями, повспоминали прошлое («вся ночь прошла в разговорах»), попросили организовать издательство «АСИС» («Ассоциация социалистического искусства»)и всё.
Впрочем, не всё. Борис Савинков, всего два месяца назад обещавший Мейерхольду помочь в осуществлении его театральных планов, теперь вынужден был скрываться. Но появилась новая власть, которая сама предлагала помощь. Юрий Анненков задался вопросом:
«Что оставалось делать Мейерхольду для «спасения» театра? Объявить себя коммунистом и записаться в партию. Мейерхольд так и поступил».
Александр Блок тоже сказал, что готов служить большевикам (и какое-то время он даже поработал секретарём наркома Луначарского). Даже Осип Брик вскоре пошёл трудиться в советское учреждение. Виктор Шкловский написал об этом:
«Брик – комиссар Академии художеств и называет себя швейцаром революции, говорит, что он открывает ей дверь».
А Маяковский?
В прологе уже сочинённой тогда поэмы «Человек» уже появились слова:
«В ковчеге ночи,
новый Ной,
я жду —
в разливе риз
сейчас придут,
придут за мной
и узел рассекут земной
секирами зари».
И за ним пришли. Его позвали. Но, судя по тому, что через какое-то время он уехал в Москву, участвовать в начинаниях большевиков поэт не рвался.
В книге Бенгта Янгфельдта «Любовь – это сердце всего», написанной по материалам архивных изысканий автора и знакомства его с неопубликованными рукописями поэта, расставанию Маяковского с Петроградом дано такое объяснение:
«Главной причиной его внезапного переезда было неприятие культурной программы большевиков в том виде, как её сформулировал нарком просвещения А.В.Луначарский».
Трудно поверить, чтобы безработный поэт стал вдруг проявлять чрезмерную щепетильность в отношении «культурных прожектов» только что учреждённого Наркомпроса. Всё, надо полагать, было гораздо проще – в стране только что прошли выборы в Учредительное собрание. Было уже известно, что от партии Ленина избраны все её вожди, в том числе и те, кого Владимир Маяковский впоследствии называл своими партийными соратниками: Григорий Бриллиант (Сокольников), Георгий Оппоков (Ломов) и Иван Скворцов (Степанов).
От других партий членами Учредительного собрания стали Александр Керенский (от партии эсеров), казачьи генералы Алексей Каледин и Александр Дутов, а также Симон Петлюра (от украинских социалистов).
Больше половины избранных депутатов (51,9 %) оказались эсерами. Депутаты-ленинцы даже четверти голосов не набрали – всего 24,5 %. Это означало, что Учредительное собрание сделает всё, чтобы установленная большевиками власть Советов существовать перестала. Для того чтобы остаться у власти, Ленину и его соратникам надо было действовать очень и очень решительно.
28 ноября Совнарком принял декрет, по которому кадеты объявлялись «партией врагов народа», а её руководители подлежали немедленному аресту и преданию суду революционного трибунала. В газетной статье, которую написал Иосиф Джугашвили-Сталин, говорилось:
«Мы определённо должны добить кадетов, или они нас добьют».
29 ноября большевики приняли ещё один декрет – о запрещении «частных совещаний» съезжавшихся в Петроград депутатов Учредительного собрания. И тогда в квартире Мережковских на Сергиевской улице Петрограда стали нелегально собираться члены эсеровской фракции. Обсуждались варианты и способы скорейшего перехода власти к Учредительному собранию.
Большевикам было уже не до заигрывания с творческой интеллигенцией.
Впрочем, встреча с деятелями искусств проходила в Смольном «через неделю после Октябрьского переворота», стало быть – за неделю до выборов в Учредительное собрание. Их результат был ещё неизвестен, но то, что большевики вряд ли победят, предсказать было нетрудно. И об этом наверняка знал и Маяковский.
Как бы там ни было, но в конце ноября – в начале декабря поэт уехал в Москву. «Не сговорившись с наркомом», как скажет потом Осип Брик. Это утверждение вряд ли соответствует действительности. Наркому Луначарскому, который сам являлся депутатом Учредительного собрания, оставалось занимать свой пост совсем немного – до первых судьбоносных решений всероссийского форума. Поэтому Маяковский, будучи явно уверенным в том, что дни большевиков сочтены, уехал, чтобы вдали дождаться их падения, переждав это тревожное время в компании Бурлюка и Каменского. Он вёз в Москву только что написанное стихотворение «Наш марш»:
«Бейте в площади бунтов топот!
Выше гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
перемоем миров города.
Дней бык пег.
Медленна дней арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан…»
В оставленном поэтом Петрограде было очень неспокойно. 3 декабря «Известия» сообщили о назначении Чрезвычайным военным комиссаром российской столицы коменданта Петропавловской крепости прапорщика Георгия Ивановича Благонравова, которому новой властью поручалось…
«… уничтожить военные склады, очистить Петроград от хулиганских банд, разоружить и арестовать всех, опорочивших себя участием в пьянстве и разгроме».
6 декабря та же газета сообщала:
«Гражданская война
Что в России сейчас идёт гражданская война, ни для кого не тайна».
13 декабря «Известия» опубликовали приказ:
«От Чрезвычайного комиссара по охране г. Петрограда
Мною получены сведения о готовящихся в ближайшие дни выступлениях, демонстрациях и проч.
Объявляю, что подобного рода выступления, если они будут иметь место, встретят отпор вплоть до применения вооружённой силы.
Чрезвычайный комиссар по охране Петрограда
Благонравов».
А на Дон прибыл ещё один бывший верховный главнокомандующий российской армии – Генерального штаба генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов. Он подключился к созданию воинского формирования, способного лишить большевиков захваченной ими власти.
В Хабаровске 12 декабря открылся Третий Дальневосточный съезд Советов, провозгласивший установление советской власти на всей территории бывшего Приамурского генерал-губернаторства. Председателем Краевого Комитета Советов был избран большевик Александр Краснощёков.
В Петрограде поэт Дмитрий Мережковский начал выступать с лекциями и писать статьи антибольшевистского содержания.
А в Москве в это время уже вовсю работало кафе, в котором посетителей веселили стихотворцы.
Глава пятая Революция по-футуристски
Кафе поэтов
Приехав в Москву, Маяковский как всегда отправился к родным – на Пресню. Однако жить стал на этот раз не у них, а в гостинице «Сан-Ремо» на Петровке. Так было удобнее. В ту пору по зимней заснеженной Москве трамваи после девяти вечера уже не ходили. А именно в этот час и начинала собираться публика в заведение, открывшееся на углу Тверской улицы и Настасьинского переулка. А от гостиницы до него – рукой подать.
Ставший в будущем известным советским актёром, а тогда ещё только мечтавший стать артистом семнадцатилетний Игорь Владимирович Ильинский впоследствии вспоминал:
«Однажды, идя на занятия в студию Комиссаржевского, я заметил, что в одном из маленьких низких домов по Настасьинскому переулку, где помещалась раньше прачечная, копошатся какие-то люди. В помещении шёл ремонт. <…> Странно одетые люди, непохожие на рабочих, ходили с кистями по помещению и мазали или рисовали стены. Один был большого роста, другой – коренастый, поменьше».
Игорь Ильинский явно имел в виду Маяковского («большого роста») и кого-то из его футуристского окружения. Но Маяковский, как мы знаем, кафе не расписывал.
Поэт-футурист Сергей Спасский довольно подробно описал этот «ремонт» и проводивших его людей, «непохожих на рабочих». В роли «кафе» была…
«… длинная низкая комната, в которой раньше помещалась прачечная… Земляной пол усыпан опилками. Посреди деревянный стол. Такие же кухонные столы у стен. Столы покрыты серыми кустарными скатертями. Вместо стульев – низкорослые табуретки.
Стены вымазаны чёрной краской. Бесцеремонная кисть Бурлюка развела на них беспощадную живопись. Распухшие женские торсы, глаза, не принадлежавшие никому. Многоногие лошадиные крупы. Зелёные, жёлтые, красные полосы. Изгибались бессмысленные надписи, осыпаясь с потолка вокруг заделанных ставнями окон. Строчки, выломанные из стихов, превращённые в громадные лозунги: «Доите изнурённых жаб», «К чёрту вас, комолые и утюги»».
Для того, чтобы бывшую прачечную превратить в некое подобие кафе, нужны были деньги. И немалые. Откуда они взялись?
Их, как мы помним, дал московский булочник Николай Дмитриевич Филиппов. Валентина Ходасевич представила его так:
«Не счесть, сколько булочных Филиппова было разбросано по Москве. Но и мало кто знал, что он был неплохим поэтом и издал книгу своих стихов, которая называлась „Мой дар“ – буквально. Книга не продавалась, а дарилась. Была она очень роскошно издана. Каждая страница обрамлена орнаментом в две краски. Бумага – верже».
Бумага «верже» вырабатывалась из чистой целлюлозы, её считали высокосортной и использовали для подарочных изданий. Иными словами, сочинённые им стихи буржуй Филиппов раздавал бесплатно. А подвигнувшие его на создание кафе поэты-футуристы Давид Бурлюк, Василий Каменский и Владимир Маяковский собирались на своих стихах зарабатывать деньги. Разница есть?
Впрочем, эту материально-денежную сторону будетляне-гилейцы особо не афишировали. Про осень 1917 года Василий Каменский писал:
«Жажда тесного общения новых поэтов, художников выросла до пределов необходимости немедленной организации клуба-эстрады, где мы могли бы постоянно встречаться и демонстрировать произведения в обстановке товарищеского сборища. Кстати, мы имели в виду и гостей с улицы. С этой целью я с Гольцшмидтом отыскали на Тверской, в Настасьинском переулке, помещение бывшей прачечной и основали там первое "Кафе поэтов "».
Рекламировать открывавшееся кафе начал Владимир Гольцшмидт, называвший себя «футуристом жизни». По словам 23-летнаго поэта Николая Николаевича Захарова (он писал под псевдонимом Мэнский), каждый день с 12 до 3 часов дня Гольцшмидта можно было видеть прогуливавшимся по улице Кузнецкий мост…
«… в открытой парчовой рубашечке, декольте и куртомажнэ, в браслетах и медальонах, с обсыпанной золотистой пудрой частью кудрявой головы, то одинокого и мечтательного, то окружённого последователями, одетыми в не менее оригинальные костюмы».
Гольцшмидт был известен своими лекциями о здоровом образе жизни, на которых он, по словам того же Николая Захарова…
«…"во имя солнечных радостей" разбивал чуть ли не пятисантиметровые сосновые доски о свою же собственную позолоченную голову (сему высокопоучительному зрелищу я был свидетелем лично)».
А оформляли «Кафе поэтов» художники Давид Бурлюк, Георгий Якулов и Валентина Ходасевич.
«Отец российского футуризма» как бы наяву воплощал то, о чём Маяковский сказал в «Облаке в штанах»:
«И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк —
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк».
Теперь Бурлюк «лез» в кафе, затевая совершенно новое дело:
«Почти окровавив исслёзенные веки,
вылез,
встал,
пошёл
и с нежностью, неожиданной в жирном
человеке,
взял и сказал:
"Хорошо! "»
Вскоре на улицах Москвы появились красочные афиши, сообщавшие о том, что в Настасьинском переулке в доме № 1 открылось «Кафе поэтов». Москвичи окрестили его по-своему: «Кафе четырех Бурлюков из Настасьинского переулка» и «Кафе футуристов».
Николай Захаров:
«Фонарь у входа освещал маленькую чёрную дверь с надписью белой краской, гласившей – „Кафе поэтов“. Небольшая передняя вела в миниатюрный зал, расписанный в ультрафутуристическом стиле. Почти что от двери до самой эстрады, на которой находилось пианино, тянулись длинные узкие столы. Налево от входа помещался буфет-прилавок, а за ним – дверь и окно в кухню».
Сергей Спасский:
«Что же заставляло разноплемённую публику протискиваться в узкую дверцу кафе? Буржуи, дотрачивающие средства, анархисты, актёры, работники цирка, художники, интеллигенты всех мастей и профессий. Многие появлялись тут каждый вечер, образуя твёрдый кадр „болельщиков“. С добросовестным, неослабевающим упорством просиживали от открытия до конца.
Дело в том, что ни одно собрание не походило на предыдущие и последующие».
Николай Захаров:
«В «Кафе поэтов» за сравнительно небольшую плату можно было поужинать, получить кофе, а главное провести вечер и даже часть ночи, т. к. программа обычно завершалась далеко заполночь.
Часам к десяти вечера к футуристам стекалась публика. Приходили завсегдатаи: владелец кинематографического ателье Дранков, Филиппов, друг и издатель Маяковского, Ф.Я. Долидзе, устроитель вечеров и выступлений поэтов, … и многие другие… Сходились поэты, приходила публика и, наконец, около одиннадцати появлялись и сами «киты»».
Из названных гостей Александр Осипович Дранков был фотографом, кинооператором и кинопредпринимателем. С устроителем «вечеров поэтов» Фёдором Яссеевичем Долидзе мы вскоре встретимся.
Обстановка в этом ночном заведении особенно оживилась, когда в нём появился Маяковский. Он был широко известен, все его знали. Посмотреть вблизи на поэта-футуриста хотели многие.
Появление Маяковского
Газета «Московский листок» в номере от 16 декабря 1917 года написала:
«Для того, чтобы посмотреть и послушать футуристов, надо заплатить за вход 3 рубля… Шумно, душно, накурено. На возвышении сидят "четыре кита " футуризма: Маяковский, Каменский, Гольцшмидт и Бурлюк. Они „занимают публику“. Выступают очень странные „футуристы“. Вот один – с напудренным лицом, с подведёнными глазами и даже с „мушками“ на щеках. Другой – тоже „наштукатуренный“, в лиловой рубашке с открытой шеей… Время от времени кто-нибудь из футуристов объявляет свой „бенефис“, и по случаю такого „торжества“ входная плата повышается уже до 5 рублей».
Как видим, газета поставила Маяковского на первое место.
Николай Захаров:
«Маяковский, единственный из китов, одевался без особого чудачества. Он ходил в чёрном костюме, с красным шарфом вместо галстука».
Василий Каменский:
«Сама публика требовала:
– Маяковского!
И Маяковский выходил на эстраду, читал стихи, сыпал остроты, горланил на мотив «Ухаря-купца»:
Ешь ананасы, рябчиков жуй!
День твой последний приходит, буржуй!
Публика кричала:
– Хлебникова!
Появлялся Хлебников, невнятно произносил десяток строк и, сходя с эстрады, добавлял своё неизменное:
– И так далее.
Публика вызывала:
– Бурлюка! Каменского!
Я выходил под руку с «папашей», и мы читали «по заказу».
Вызывали и других из присутствующих: Есенина, Шершеневича, Большакова, Кручёных, Кусикова, Эренбурга. Требовали появления Асеева, Пастернака, Третьякова, Лавренёва, Северянина.
Выступали многие, и с видимым удовольствием здесь умели «принять»».
Строки Маяковского о буржуе, жующего рябчиков, впервые были напечатаны 24 декабря 1917 года – на обложке первого номера журнала пролетарской сатиры «Соловей».
Появление в кафе Маяковского Сергей Спасский описал так:
«Уже столики окружились людьми, когда резко вошёл Маяковский. Перекинулся словами с кассиршей и быстро направился внутрь. Белая рубашка, серый пиджак, на затылок оттянута кепка. Короткими кивками он здоровается с присутствующими. Двигался решительно и упруго. Едва я успел окликнуть его, как он подхватил меня на руки. Донёс до эстрады и швырнул на некрашеный пол. И тотчас объявил фамилию и что я прочитаю стихи.
Так я начал работать в кафе. В тот вечер Бурлюк и Маяковский назначили мне постоянную плату. 63 следующих дня ходил я сюда без прогулов».
Владимир Гольцшмидт тоже читал свои стихи. И ломал об голову доски, что очень нравилось публике.
Вечер в «Кафе поэтов», по словам Сергея Спасского, начинался так:
«Публика скучает и топчется, загнанная в это аляповатое стойло. Пожалуй, пора расходиться.
Но вот вошёл Маяковский, не снимая кепки. На шее – большой красный бант. Маяковский пересекает кафе. Он забрёл сюда просто поужинать. Выбирает свободное место. Если места ему не находится, он садится за стол на эстраду. Ему подано дежурное блюдо. Он зашёл отдохнуть.
Иногда с ним рядом Бурлюк. Подчас Бурлюк и Каменский отдельно. Маяковский не замечает посетителей. Тут нет ни малейшей игры. Он явился провести здесь вечер. Если им угодно глазеть, что ж, это его не смущает. Папироска ездит в углу рта. Маяковский осматривается и потягивается. Где бы ни был, он всюду дома. Внимание всех направлено к нему.
Но Маяковский ни с кем не считается. Что-нибудь скажет через головы всех Бурлюку. Бурлюк, подхватив фразу, подаст уже умышленно рассчитанный на прислушивающуюся публику ответ. Они перекидываются словами… Сама беседа является зрелищем. Но внутрь барьера не допущен никто.
И это для многих обидно. Многим хочется высказать остроумие.
Особенно обидно тем, кто чувствует своё право на внимание. Кто сам, например, артист. Маяковскому следует это знать. Такое безразличие унизительно.
И вдруг Маяковский обернулся.
Он даже поздоровался с артистом, и тот польщено закивал головой. Закивали головами другие, ловя благорасположенность Маяковского. А тут поднялся Бурлюк и самыми нежнейшими и трепетными нотами, с самым обрадованным видом делится с публикой вестью:
– Среди нас находится артист такой-то. Предлагаю его приветствовать. Он, конечно, не откажется выступить.
Публика дружно рукоплещет.
Артист выходит на трехаршинные подмостки, словно приглашённый на лучшую сцену.
Отказов не бывало никогда».
Потом Маяковский или Бурлюк приглашали на сцену другую знаменитость. Публика, пришедшая в кафе отдохнуть, развлекала сама себя.
Василий Каменский:
«В один из вечеров в «Кафе поэтов» явился молодой композитор Сергей Прокофьев.
Рыжий и трепетный, как огонь, он вбежал на эстраду, жарко пожал нам руки, объявил себя убеждённым футуристом и сел за рояль.
Ну и темперамент у Прокофьева!
Казалось, что в кафе происходит пожар, рушатся пламенеющие, как волосы композитора, балки, косяки, а мы стояли, готовые сгореть заживо в огне неслыханной музыки».
Потом Маяковский читал стихи. Об этом – Сергей Спасский:
«Наспорившаяся, разгорячённая публика подтягивалась, становилась серьёзной… Ещё слышались смешки за углом. Маяковский оглядывал комнату:
– Чтоб было тихо, – разглаживал он голосом воздух. – Чтоб тихо сидели. Как лютики…
На фоне оранжевой стены он вытягивался, погрузив руки в карманы. Кепка, сдвинутая назад, козырёк резко выдвинут надо лбом. Папироса шевелилась в зубах, он от неё прикуривал следующую. Он покачивался, проверяя публику поблескивающими прохладными глазами.
– Тише, котики, – дрессировал он собравшихся.
Он говорил угрожающе вкрадчиво.
Начиналась глава из «Человека», сцена вознесения на небо…
И публика улыбается, ободрённая шутками. Какой молодец Маяковский, какой простой и общительный человек. Как с ним удобно и спокойно пройтись запросто по бутафорскому «зализанному» полу».
Общаясь с посетителями кафе, Маяковский не выбирал выражений. Иногда был даже невообразимо груб. Эту манеру пытался объяснить (и даже оправдать) Николай Захаров-Мэнский:
«Помню, я никак не понимал, как можно так обращаться с верховным ценителем, „публикой“, глас коей – глас Божий. Лишь теперь, когда, как актёр и публично выступающий поэт, видя её ежедневно, так близко, близко присмотрелся к ней, я вполне понимаю Маяковского. С этой публикой, которая шла смотреть на нас, можно ли было говорить иначе? Ибо только грубость, резкость и дерзость могут хоть на мгновение вывести это самодовольное невежество из состояния абсолютного, полнейшего спокойствия, спокойствия наевшегося желудей борова».
А вот как те вечера описывал сам Маяковский в письме к Брикам (середина декабря 1917 года):
«Дорогой, дорогой Лилик!
Милый, милый Осик!..
Москва, как говорится, представляет из себя сочный, налившийся плод(ы), который Додя, Каменский и я ревностно обрываем. Главное место обрывания – «Кафе поэтов».
Кафе пока очень милое и весёлое заведение. («Собака» первых времён по веселью!) Народу битком. На полу опилки. На эстраде мы (теперь я – Додя и Вася до рождества уехали. Хуже.) Публику шлём к чёртовой матери. Деньги делим в двенадцать часов ночи. Вот и всё.
Футуризм в большом фаворе.
Выступлений масса. На рожд<ество> будет «Ёлка футур<истов>». Потом «Выбор триумфаторов поэзии». Веду разговор о чтении в Политехническом «Человека».
Всё заверте<лось>».
Как видим, футуристы жили припеваючи, ни в чём себе не отказывали и развлекались, как тогда начали говорить, на всю катушку. И зарабатывали при этом весьма недурно.
17 декабря 1917 года «Театральная газета» написала:
«Маяковский – нагл, блестящ и умён… У него четырёхугольный рот, из которого вылетают не слова, а гремящие камни альпийского потока… Его поэма „Человек“, которую он читает в „Кафе поэтов“, при всей своей кажущейся сумбурности, необыкновенно точна, логична и убедительна».
В том же письме, адресованном Брикам, Маяковский сообщал:
«Окружённый материнской заботливостью Лёвы, южный фонд безмятежно и тихо растёт. На юг ещё трудно».
Лёва, о котором пишет Маяковский, был героем одного из давних романов Лили Брик. Василий Васильевич Катанян о нём писал:
«Лев Александрович Гринкруг, или просто Лёва, как его звала вся Москва. Он был из числа золотой молодёжи, сын банкира, человек образованный, интеллигентный, ироничный и очень доброжелательный. Когда „отцвёл“ его роман с Лилей, он остался другом её семьи до конца дней».
Теперь Маяковский передавал ему деньги, предназначавшиеся для поездки на юг. Как видим, поездка эта не отменялась, но откладывалась.
В письме Брикам есть ещё одна любопытная информация:
«Прочёл в „Новой жизни“ дышащее благородством Оськино письмо. Хотел бы получить такое же».
Что это за письмо?
Осип Максимович был возмущён тем, что его – без согласования с ним! – избрали в гласные Петроградской думы по списку РСДРП(б). Гласный – это член думы, имеющий право голоса. Недовольный Брик опубликовал в горьковской «Новой жизни» статью под заголовком «Моя позиция». В ней, напомнив о своём несогласии с «культурной программой большевиков», он решительно заявил, что всегда был и будет там…
«… где культуре грозит опасность, стойко защищая её от всякого – в том числе и от большевистского вандализма».
Это заявление косвенно подтверждает участие Осипа Брика во встрече творческой интеллигенции Петрограда с Луначарским и Малкиным. Как видим, с «культурной программой», предложенной большевиками, Брик был не согласен. От неожиданно свалившегося на него избрания в думу Петрограда он не отказывался, но обитателей Смольного предупреждал:
«… я в партии большевиков не состою, никакой политической дисциплине не подчиняюсь и ни в каких политических выступлениях участия не приму… Если большевикам моя позиция не подходит, то прошу вычеркнуть меня из списка гласных».
Подобную дерзость понять можно – ведь до начала заседаний Учредительного собрания оставался всего лишь месяц. Ровно столько же, по мнению многих, оставалось править Россией и ленинскому Совнаркому. Смелое «благородство» Осипа Максимовича было Маяковскому явно по душе.
А выступления в «Кафе поэтов» продолжались. И однажды… Об этом – Сергей Спасский:
«Однажды кафе посетил Игорь Северянин <…> В военной гимнастёрке, в солдатских сапогах, он прибыл обрюзглый и надменный. <…> Маяковский… произнёс полушутливую речь о том, что в квартире нужны и столовая, и спальня, и кабинет.
Ссориться им нет причины. Так же дело обстоит и в поэзии. Для чего-нибудь годен и Северянин. Поэтому попросим Северянина почитать».
Но Северянин был уже сильно пьян. Спасский пишет:
«Мутно смотря поверх присутствующих в пространство, выпевал въевшийся в уши мотив. Казалось, он не воспринимает ничего, механически выбрасывая хлёсткие фразы. Вдруг покачнулся, как будто вот-вот упадёт. И, не сказав ни слова прозой, выбрался из кафе..».
Год 1917-ый тем временем подходил к концу.
23 декабря большевики ввели в Петрограде военное положение. А Ульянов-Ленин опубликовал статью, в которой были такие строки:
««Большевики уже два месяца у власти, а вместо социалистической революции мы видим ад хаоса, гражданской войны, ещё большей разрухи,» – так говорят и думают капиталисты.
Большевики только два месяца у власти, – ответим мы, – а шаг вперёд к социализму сделан уже громадный».
Ленин все ещё верил в то, что социалистическое общество – не за горами.
Будни кафе
Поэтическое кафе в центре Москвы продолжало привлекать публику. Часто оказывалось, что его посещали люди, настроенные против поэтов-авангардистов.
Василий Каменский:
«Были и такие „эстеты“, которые крыли нас за ломовщину футуризма (особенно Маяковского), за разбойное уничтожение „изящного“ искусства, за революционные стихи в сторону большевизма».
Николай Захаров:
«У кафе была своя песенка, её мы пели ежевечернее, с ней мы приходили и уходили, её мы пели, встречаясь. Вот она:
Ешь ананасы, рябчиков жуй.
День твой последний приходит, буржуй.
Кажется, творец её – Маяковский».
По словам Сергея Спасского, очень часто…
«За столиками сидели непримиримые враги. <…> Один из них, лысоватый, затянутый в Черкесску, втихомолку хвастает, что он адъютант великого князя. Подливая в чай водку из принесённого флакона, он посмеивается и подшучивает с соседями.
– Стрельба скоро начнётся. Или они – меня, или я – их. А пока послушаем стихи.
Сюда просачивалась мутная масса – люди, довольно решительные на взгляд. С револьверами за поясом, обвязанные патронташами, кто – в студенческих тужурках, кто – в гимнастёрках. Они величали себя анархистами, проповедовали, шумели, приветствовали, зазывали в какой-нибудь захваченный ими особняк.
И такая же двусмысленная пестрота была и среди выступавших на эстраде».
Наконец-то названа политическая направленность тех, на кого «Кафе поэтов» и было, собственно, ориентировано – анархисты.
Завсегдатаем «Кафе поэтов» вскоре стал и левый эсер Яков Григорьевич Блюмкин. Он сам писал стихи, поэтому в кафе ему доверяли ведение вечеров. Поэт Борис Андреевич Сергеев (Лавренёв), примыкавший тогда к футуристам, вспоминал такой эпизод:
«В тот вечер вёл программу в кафе левый эсер Яков Блюмкин…
За столиками сидели матросы, не выпуская из рук винтовок, обвешанные гранатами, попивая из чайников подкрашенный спирт…
Неожиданно на эстраду выскочил какой-то безголосый пошляк, который козлиным голосом запел популярную тогда у обывательщины песенку:
Солдаты, солдаты по улице идут!
Солдаты, солдаты играют и поют!
Не успел допеть первого куплета, как раздался оглушительный удар, словно выстрел из крупнокалиберного пистолета. Все вскочили с мест, матросы вытаскивали «шпалеры». Оказалось, что это Маяковский грохнул кулаком по столу. Встав во весь рост, он во всю мощь своего голоса крикнул:
– Хватит! Вон с эстрады! Стыдно давать людям, которые идут на фронт защищать революцию, паскудную пошлятину!
Вспыхнул скандал. Часть матросов поддержала Маяковского аплодисментами. Другие полезли в бутылки. Начались ор и ругань. Мелькали револьверы, с поясов снимались гранаты».
Не будем забывать, что матросы, только что попивавшие «из чайников подкрашенный спирт», были уже пьяны. И тогда Маяковский стал читать «Левый марш».
Финал инцидента, по словам Бориса Лавренёва, был такой:
«Закончилось тем, что… матросы вынесли поэта с эстрады на руках под бурю оваций».
Николай Захаров-Мэнский:
«Здесь, по ночам, мы читали стихи, пели и говорили об искусстве… Хорошее было время. Бывало – на Тверской стрельба и ходят патрули, на Дмитровке в Купеческом клубе подвизаются анархисты, а мы слушаем „Облако в штанах“ в неподражаемом исполнении самого Маяковского, острое слово об искусстве умнейшего Давида Бурлюка и горланим песенку кафе:
Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй!»
Новогодние события
24 декабря газета «Русские ведомости» объявила (нещадно сокращая слова):
«В Б. аудит. Полит. Муз. в субб., 30 дек., в 7 ч. веч. состоится
ЁЛКА ФУТУРИСТОВ,
с участ. Давида Бурлюка, Владимира Гольцшмидта, Василия Каменского, Владимира Маяковского и др.
Вакханалия. Стихи. Речи. Парадоксы. Открытия. Возможности. Качания. Предсказания. Рычания. Хохот…
Жел. прин. уч. в украш. ёлки фут. приг. за 1 ч. с собств. игруш.
Бил. прод. у швейц. Полит, муз. и в маг. Вольфа».
30 декабря, как и было заявлено, это мероприятие состоялось. Николай Захаров вспоминал:
«Громадные афиши собрали максимум публики, едва вместившейся в огромную аудиторию музея. Между устроителями и участниками в этот вечер было большое смешение – ждали Василия Каменского, имя его было на афише, а Каменского нет как нет, не то задержался у себя на Каменке, не то, благодаря снежным заносам, не смог поспеть вовремя.
Подумали, подумали и решили обойтись без Каменского. Вытащили мы на эстраду еловое дерево, всё увешанное сделанными из бумаги кукишами, прочитали стихов, причём в заключение Маяковский жестоко обругал «почтеннейшую публику», громко и весело ржавшую в ответ. Под конец мы же стали срывать с ёлки кукиши и бросать их с эстрады; что тут было, даже совестно и вспоминать. «Почтеннейшая публика», состоявшая на 99 % % из т. н. учащейся молодёжи, чуть не подавила друг друга из-за обладания кукишем.
О, милая русская публика, только дурачившие тебя знают, до чего ты беспредельно и безгранично глупа».
Аристарху Михайловичу Климову (Гришечко), «поэту-певцу», как он сам себя называл, тоже запомнились эти «кукиши»:
«Первое, на что обращалось жадное внимание гостей, была, разумеется, ёлка, свежая и душистая, она была убрана одними картонными шишками. Выглядывая из здоровенных розовых кулаков, они весьма красноречиво говорили о новой затее футуристов, инициатором которой и ближайшим участником выполнения этой идеи был сам Маяковский. Нужно было видеть, с каким злорадным удовольствием в глазах он вырезал и развешивал эти символические картонажи с фигами».
Но российская публика в ту пору не только веселилась у новогодних ёлок.
2 января 1918 года в Петроград нелегально прибыл её свергнутый лидер Александр Керенский, избранный (от партии эсеров) депутатом Учредительного собрания. Он собирался тоже появиться в Таврическом дворце и принять участие в работе всероссийского форума. Партия социалистов-революционеров очень надеялась тогда, что день открытия Учредительного собрания станет последним днем правления большевиков.
Но Ленин и его соратники отдавать захваченную власть не собирались. И 5 января демонстранты, вышедшие поддержать Учредительное собрание, были расстреляны из пулемётов.
Рабочий Обуховского завода Д.Н.Богданов дал потом такие показания:
«Я, как участник шествия ещё 9 января 1905 г., должен констатировать факт, что такой жестокой расправы я там не видел, что творили наши „товарищи“, которые осмеливаются ещё называть себя таковыми. И в заключение должен сказать, что я после того расстрела и той дикости, которые творили красногвардейцы и матросы с нашими товарищами, а тем более после того, когда они начали вырывать знамёна и ломать древки, а потом жечь на костре, не мог понять, в какой я стране нахожусь: или в стране социалистической или в стране дикарей, которые способны делать всё то, что не могли сделать николаевские сатрапы, теперь сделали ленинские молодцы».
6 января «Известия ВЦИК» сообщили, что при разгоне демонстрации 21 человек был убит и сотни ранены. Большевистская «Правда», оправдывая жестокость, написала, что демонстрантами были «буржуи». Алексей Максимович Горький тотчас откликнулся на эту публикацию в своей «Новой жизни»:
«"Правда "лжёт, – она прекрасно знает, что… в манифестации принимали участие рабочие Обуховского, Патронного и других заводов, что под красными знамёнами Российской с.-д. партии к Таврическому дворцу шли рабочие Василеостровского, Выборгского и других районов. Именно этих рабочих и расстреливали, и сколько бы ни лгала «Правда», она не скроет позорного факта…
Итак, 5 января расстреливали рабочих Петрограда, безоружных. Расстреливали без предупреждения о том, что будут стрелять, расстреливали из засад, сквозь щели заборов, трусливо, как настоящие убийцы».
5 января Яков Свердлов открыл первое заседание Учредительного собрания. Зинаида Гиппиус записала свои впечатления, впоследствии опубликованные в «Чёрной книжке»:
«Последняя точка борьбы – Учредительное собрание. Чёрные зимние вечера; наши друзья, р. – социалисты, недавние господа, – теперь приходящие к нам тайком, с поднятыми воротниками, загримированные… И последний вечер – последняя ночь, единственная ночь жизни Учредительного собрания, когда я подымала портьеры и вглядывалась в белую мглу сада, стараясь различить круглый купол дворца… „Они там… Они всё ещё сидят там… Что – там?“.
Лишь утром большевики решили, что довольно этой комедии. Матрос Железняков (он знаменит тем, что на митингах требовал непременно «миллиона» голов буржуазии) объявил, что утомился, и закрыл собрание».
Матрос-анархист Анатолий Григорьевич Железняков, выступая на собравшемся через пять дней после разгона Учредительного собрания Третьем Всероссийском съезде Советов, повторил своё «требование», которое стало на этот раз «готовностью»:
«Мы готовы расстрелять не единицы, а сотни и тысячи, ежели понадобится миллион, то и миллион».
Съезд встретил это заявление рукоплесканиями. Аплодисментами были встречены и слова Ленина:
«На все обвинения в гражданской войне мы говорим: да, …мы начали и ведём войну против эксплуататоров».
Аплодировали и Троцкому, оправдывавшему разгон Учредительного собрания:
«Мы… употребили насилие, но мы сделали это в целях борьбы против всякого насилия, мы сделали это в борьбе за торжество величайших идеалов».
В Москве 5 января тоже состоялась демонстрация в поддержку Учредительного собрания. Она тоже была расстреляна. «Известия ВЦИК» сообщили: убито 50 человек, ранено более 200.
Откликов Маяковского и его друзей-футуристов на эти события в маяковсковедении нет.
А Дмитрий Мережковский свое мнение высказал. Ему стало окончательно ясно, что «дальше – падение, то медленное, то быстрое, агония революции, её смерть». И он записал в дневнике:
«Как благоуханны наши Февраль и Март, солнечно-снежные, голубые, как бы неземные, горние! В эти первые дни или только часы, миги, какая красота в лицах человеческих! Где она сейчас? Вглядитесь в толпы Октябрьские: на них лица нет.
Да, не уродство, а отсутствие лица, вот что в них всего ужаснее… Идучи узнаешь: вот коммунист. Не хищная сытость, не зверская тупость – главное в этом лице, а скука, трансцендентальная скука «рая земного», «царства Антихриста»».
Своими статьями в газете «Новая жизнь» А.М.Горький в это время как будто перекликался с теми, кто собирал силы на Дону. 5 января 1918 года он написал в статье «Несвоевременные мысли»:
«Люди, работающие в „Новой жизни“, не для того боролись с самодержавием подлецов и мошенников, чтобы она заменилось самодержавием дикарей.
«Новая жизнь»… утверждала – и впредь будет утверждать, – что в нашей стране нет должных условий для введения социализма, и что правительство Смольного относится к русскому рабочему, как к хворосту: оно зажигает хворост для того, чтобы попробовать – не загорится ли от русского костра общеевропейская революция? Это значит – действовать на «авось», не жалея рабочий класс, не думая о будущем, о судьбе России – пусть она сгорит бессмысленно, пусть она обратится в пепел».
9 января 1918 года было создано бюро Центрального Комитета партии большевиков (прообраз будущего Политбюро). В него вошло пять вождей революции: Ленин, Троцкий, Свердлов, Сокольников и Сталин.
11 января Зинаида Гиппиус занесла в свой дневник список «интеллигентов-перебежчиков», которые стали служить большевикам. Первым в нём был 68-летний поэт и писатель Иероним Ясинский, за ним следовали Александр Блок, Андрей Белый, Всеволод Мейерхольд, Сергей Есенин, Корней Чуковский, Кузьма Петров-Водкин и Лариса Рейснер. Маяковского в том списке не было – главным объектом его внимания в тот момент были не большевики, а «Кафе поэтов».
В «Я сам» в главке «ЯНВАРЬ» та пора описана так:
«Заехал в Москву. Выступаю. Ночью „Кафе поэтов“ в Настасьинском. Революционная бабушка теперешних кафе-поэтных салончиков».
За месяц отношение поэта к этому заведению успело резко измениться. В середине января 1918 года он написал в Петроград Брикам:
«Кафе омерзело мне. Мелкий клоповничек.
Я развыступался. <…> Читал в цирке. Странно. Освистали Хенкина с его анекдотами, а меня слушали, и как!..
Бойко торгую книгами. «Облако в штанах» – 10 р., "Флейта " – 5 р. Пущенная с аукциона «Война и мир» – 140 р.
На юг-г-г-г-г!»
Какого именно Хенкина имел в виду Маяковский, угадать не очень просто – ведь актеров с фамилией Хенкин было тогда два: Виктор и Владимир. Они были родными братьями, и оба выступали на эстраде с юмористическим репертуаром. Скорее всего, имелся в виду 34-летний Владимир Яковлевич Хенкин, так как 35-летний Виктор Яковлевич выступал в Петрограде.
А вот что это за «юг», на который так рвался Маяковский?
Ведь в тот момент на юге страны Добровольческая армия уже насчитывала в своих рядах 5 тысяч человек. И она уже начинала действовать совместно с частями под командованием генерала Каледина. Не к ним ли стремился попасть поэт?
Его петроградские друзья Брики в это же самое время тоже собирались в поездку – на восток. Дело в том, что Лили Юрьевна давно уже увлекалась балетом и брала уроки у известной 24-летней балерины Александры Александровны Доринской. Именно ей, как считают биографы, и пришла в голову мысль поехать на гастроли в страну восходящего солнца. Лили Брик, конечно же, решила взять с собою и Осипа, написав Маяковскому:
«Мы уезжаем в Японию. Привезу тебе оттуда халат».
Поездка эта не состоялась, Брики никуда не поехали.
А на Дальнем Востоке в это время продолжала устанавливаться советская власть. В январе 1918 года Краевой комитет Советов, который возглавлял Александр Краснощёков, отдал распоряжение, согласно которому прекратили своё существование канцелярия бывшего генерал-губернатора, вся судебная система царских времён и старая армия. Вместо них была создана десятитысячная Рабочая Красная гвардия, учреждён военно-революционный суд, за порядком смотрела рабочая милиция. Газета «Дальневосточные известия», первый номер которой вышел в свет 27 декабря 1917 года, стала официальным органом советской власти. Однако непролетарские слои населения (а их было большинство) эту власть не поддерживали, и команде Краснощёкова приходилось отдавать много сил на борьбу с саботажем и контрреволюцией.
В это время в Москве произошло событие, о котором стоит рассказать подробнее.
Встреча поколений
28 января 1918 года московская газета «Мысль» оповестила читателей:
«В квартире поэта А. имел место интересный поэтический вечер, на котором присутствовали как представители состарившихся уже течений – Бальмонт, Иванов, Белый и др., так и «дерзатели», срывающие покров с будущего, – футуристы Маяковский и др.».
Вечер, который назвали «Встречей двух поколений поэтов», проходил на квартире поэта Михаила Осиповича Цейтлина, писавшего под псевдонимом Амари. Посторонних почти не было (возможно, был кто-то из актёров), собрались известные стихотворцы: Константин Бальмонт, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Юргис Балтрушайтис, Илья Эренбург, Владислав Ходасевич, Марина Цветаева, Борис Пастернак, Алексей Толстой, Павел Антакольский, Вера Инбер и другие.
Как написал потом Борис Пастернак:
«Все чувствовали себя именами, все – поэтами».
Вячеслав Иванов обратился к собравшимся с краткой речью, в которой призвал к «выявлению реальных ценностей».
Началось чтение стихов.
Борис Пастернак:
«Читали по старшинству, без сколько-нибудь чувствительного успеха».
Павел Антакольский:
«Близко к полуночи, когда уже было прочитано изрядное количество стихов, с опозданием явились трое: Маяковский, Каменский, Бурлюк».
Поэтам-футуристам на эту встречу пришлось добираться издалека. А о том, что представляла собою ночная Москва января 1918 года – Сергей Спасский:
«Трамваи, работавшие с перебоями, окончательно иссякали часам к девяти. Город освещался слабо. Изредка проскальзывали сани, подскакивая, торопился автомобиль. Москва представлялась расползшейся и громадной. Расстояния приобретали первобытную ощутимую протяжённость».
Хозяйке дома, встречавшей опоздавших стихотворцев, Маяковский хмуро сказал:
– Устал до чёрта! Да ещё освистан!
Хозяйка удивилась. А уставший поэт улыбнулся и (в пересказе Павла Антакольского) описал проход по ночной Москве:
«Маяковский коротко объяснил хозяйке, что их задержало какое-то выступление, что они идут с другого конца города:
– Пешком по трамвайным путям, освистанные не публикой, а метелью.
Что-то было в нём от интеллигентного рабочего высокой квалификации – не то монтёр-электрик, не то железнодорожник, ненароком забредший в особняк инженера из «красных»: ситуация, близкая к драматургии Горького. От него шла сдержанная, знающая себе цену сила. Он был вежлив, может быть, и подчёркнуто вежлив. Это было вежливостью победителя».
К коллегам по поэтическому цеху обратился Давид Бурлюк, который сказал:
«Этот вечер важен и интересен тем, что он является по сути своей историческим турниром, на котором хотя и подняты дружественно забрала, но вечные соперники впервые лицом к лицу видят друг друга».
Настала очередь читать стихи Маяковскому.
Борис Пастернак:
«Он поднялся и обняв рукою край пустой полки, которою кончалась диванная спинка, принялся читать «Человека»».
Павел Антакольский:
«Он встал, застегнул пиджак, протянул левую руку вдоль книжной полки и прочёл предпоследнюю главу «Войны и мира». Потом – отрывки из поэмы «Человек».
Он читал неистово, с полной отдачей себя, с упоительным бесстрашием, рыдая, издеваясь, ненавидя и любя. Конечно, помогал прекрасно натренированный голос, но, кроме голоса, было и другое, несравненно более важное. Не читкой это было, не декламацией, но работой, очень трудной работой шаляпинского стиля: демонстрацией себя, своей силы, своей страсти, своего душевного опыта.
Все слушали Маяковского, затаив дыхание, а многие – затаив своё отношение к нему. Но слушали одинаково все – и старики и молодые».
Илья Эренбург:
«Вячеслав Иванов иногда благожелательно кивал головой, Бальмонт явно томился, Балтрушайтис, как всегда, был непроницаем, Марина Цветаева улыбалась, а Пастернак влюблёно поглядывал на Владимира Владимировича. Андрей Белый слушал не просто – исступленно и, когда Маяковский кончил чтение, вскочил настолько взволнованный, что едва мог говорить».
Поэту Андрею Белому (Борису Николаевичу Бугаеву) было тогда 38 лет. Начало мировой войны он провёл в Швейцарии, на родину вернулся лишь в августе 1916-го.
Борис Пастернак:
«Белый слушал, совершенно потеряв себя… Случай сталкивал на моих глазах два гениальных оправдания двух последовательно исчерпавших себя литературных течений. В близости Белого, которую я переживал с горделивой радостью, я присутствие Маяковского ощущал с двойной силой. Его существо открывалось мне во всей свежести первой встречи».
Давид Бурлюк:
«Едва кончил Маяковский – с места встал побелевший от переживаемого А.Белый и заявил, что даже представить себе не мог, что в России в это время могла быть написана поэма столь могучая по глубине замысла и выполнению, что вещью этой двинута на громадную дистанцию вся мировая литература и т. д.».
Все дружно зааплодировали Маяковскому.
Потом было застолье, в разгар которого быстро пьяневший Бальмонт попросил слова.
Давид Бурлюк:
«Встал маститый К.Д.Бальмонт. Вскинул движением проснувшегося орла – характерный жест – свою „обожжённую солнцем скитаний голову“. Начал читать сонет. В этом сонете, сквозь дружескую и отеческую похвалу, звучала горечь признания в сдаче позиции отступления на второй план».
Павел Антокольский:
«В руке у него была маленькая книжка. Он прочитал только что, тут же за столом, написанный, посвящённый Маяковскому сонет:
Меня ты бранью встретил, Маяковский…
Помню одну только эту первую строку. В дальнейшем предлагалось забвение и мир – не надо, дескать, помнить зла: «я не таковский», – так, очевидно, кончалась вторая строфа сонета.
Маяковский доброжелательно улыбался, был немного сконфужен, попросил, чтобы Бальмонт отдал ему своё произведение».
Бальмонт просьбу удовлетворил, и у Бурлюка была возможность вчитаться в сонет повнимательней. В июне 1919 года, давая интервью другому поэту, Николаю Асееву (для владивостокской газеты «Дальневосточное обозрение»), он привёл строки Бальмонта:
«Вернувшись к улицам московским —
я смерти предан Маяковским,
суровым басом гневной львицы
рычал он: «вот стихи-гробницы»».
В финальных строках сонета не было призыва не помнить зла – вот они:
«И ты, и я – мы птицы!
Ты написал блестящие страницы, —
но не разгрыз Бальмонтовской цевницы!»
Цевница – это старинная пастушеская дудка.
Между прочим, когда через какое-то время у самого Бальмонта на одном из публичных выступлений спросили, почему он перестал издавать свои произведения, он ответил:
«– Не хочу… Не могу печатать у тех, у кого руки в крови».
Есть свидетельство, что ЧК всерьез заинтересовались этим поэтом, считая его «враждебным» революции. Кто-то даже предложил расстрелять этого «врага большевиков». Однако отправить Бальмонта на тот свет не удалось – при голосовании «расстрельных» голосов не хватило.
Но вернёмся к поэтическому вечеру в морозной и тёмной Москве. Московская газета «Мысль» писала:
«Следует отметить, что столкновение двух указанных крайностей привело к неожиданному результату – к признанию „стариками“ футуриста Маяковского крупным талантом».
Илья Эренбург отметил другую особенность этого триумфа молодого поэта:
«Маяковского рассердила чья-то холодная вежливая фраза. Так с ним всегда бывало: он как бы не замечал лавров, искал тернии».
Восторженная встреча поэмы «Человек» у поэтов старшего поколения окрылила Маяковского, дав ему основания задуматься над вопросом: а может, он и в самом деле Мессия, пророк, пришедший сказать людям истину?
На такой вывод наталкивает и Сергей Спасский, тоже присутствовавший на том вечере и описавший самый его финал:
«Потом спускались по тёмной лестнице, не разговаривая. Третьесортный актёр сунулся к Маяковскому с замечанием:
– Вы неправильно произносите слово «солнце». Надо говорить «сонце», а не «солнце».
Голос Маяковского раздался из темноты:
– Если я завтра скажу «соньце», вы все должны будете так говорить.
– Вот как! – опешил актёр».
Представление «Человека»
В начале февраля 1918 года в Москве появились афиши:
«Всем… Всем… Всем…
Каждый культурный человек 2-го февраля должен быть в Политехническом музее на великом празднике футуризма.
Маяковский. «Человек». Вещь.
Пришедшие увидят: Рождество Маяковского. Страсти Маяковского. Вознесение Маяковского. Маяковский в небе. Возврат Маяковского. Маяковский – векам.
Вступительное слово скажет отец российского футуризма
Давид Бурлюк.
Председатель праздника Василий Каменский».
Сергей Спасский к этому добавил:
«Город оклеен цветными тоненькими афишами.
– Хожу по улицам, как по собственной квартире, – отметил Маяковский, поднявшись по Тверской, всеми фасадами повторявшей его имя.
В Политехническом он был внешне спокоен… Умело распределяет голосовые силы… толпа слушает, почти не дыша…».
Журнал «Наш путь» об этом «празднике футуризма»:
«Владимир Маяковский выступил с речью „Наше искусство – искусство демократии“. То, что он говорил, убедительно не было. Когда же стал читать свою новую вещь – поэму „Человек“, пришлось поверить теоретически не доказанному положению».
Алексей Николаевич Чичерин, ставший в скором будущем одним из основателей советского поэтического конструктивизма, тоже был на том вечере и написал о нём так:
«После чтения был объявлен диспут…
Маяковский сказал:
– Слово предоставляется знаменитому символисту, самому талантливому из всех символистов России – Андрею Белому.
Сидевший в первом ряду Андрей Белый начал отнекиваться, но Маяковский – человек темпераментный – вытащил его на эстраду, и, встреченный аплодисментами, Белый произнёс горячую речь о силе поэтического дарования и литературного стиля Маяковского».
Сергей Спасский:
«Белый и сам превосходный оратор, но держится, на первый взгляд, застенчиво. Он говорит, словно думает вслух, и передвигается вдоль эстрады лёгкими, танцующими шагами. Маяковский смотрит на него сверху вниз и слушает очень внимательно».
Алексей Чичерин:
«… он, между прочим, сказал, что после них, символистов, Маяковский является самым крупным поэтом России, потому что – он говорит своё, неожиданно новое слово».
Сергей Спасский:
«– Уже то, что Маяковский читает наизусть целый вечер, и так превосходно читает, вызывает в нас удивление.
Белый отмечает значительность темы:
– Человек – сейчас тема самая важная. Поиски Маяковского – поиски новой человеческой правды».
Алексей Чичерин:
«Белый с большим одобрением отозвался о „Человеке“ – „с точки зрения заложенных в этой поэме изобразительных средств“. Однако Белый отмежевался от выраженного в ней мировоззрения, сказав, что оно ему, Белому, чуждо».
Принять то, о чём говорил в своей поэме Маяковский, Андрей Белый, конечно же, не мог. Ведь у него уже была написана своя собственная поэма «Христос воскрес», в которой были и такие слова:
«Обнимает
Странными туманами
Тела, —
Злая, лающая тьма.
Нападает
Из вне-времени —
Пулемётами…
Из раздробленного
Темени
С переломленной
Руки —
Хлещут красными
Фонтанами
Ручьи…»
О том, какие страшные беды угрожали тогда его родине, Андрей Белый предчувствовал верно. Маяковский об этом не обмолвился ни словечком.
О том, как выглядел поэт-футурист после того, как вечера-диспуты заканчивались, Сергей Спасский написал:
«Когда мы шли после выступлений по Москве, Маяковский, только что оживлённо беседовавший с публикой, становился непроницаемо молчалив. Он шагал, обтянув горло шерстяным кашне, концы которого свисали на спину и грудь… Невозможно было нарушить его молчание. Слова словно отскакивали от него. И казалось, не бывает на свете более замкнутых, более суровых людей».
Во второй половине февраля 1918 года издательство «АСИС» («Ассоциация социалистического искусства») выпустило две поэмы Маяковского: «Человек» и «Облако в штанах» без цензурных изъятий. Поэма была сопровождена таким пояснением автора:
««Облако в штанах» (первое имя «Тринадцатый апостол» зачёркнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свыкся.) считаю катехизисом сегодняшнего искусства.
"Долой вашу любовь", "долой ваше искусство", "долой ваш строй", "долой вашу религию" – четыре крика четырёх частей.
Долг мой восстановить и обнародовать эту искажённую и обезжаленную дореволюционной цензурой книгу».
Катехизисом, как известно, принято называть книгу, которая содержит основные положения какого-либо вероучения. Назвав себя «тринадцатым апостолом», Маяковский предлагал читателям свою веру, своё учение.
Поэт Вадим Шершеневич (он примкнул в тот момент к акмеистам) откликнулся на эти издания статьей в нижегородском альманахе «Без муз», коснувшись, в частности, содержания обеих поэм:
««Облако», вышедшее без цензуры, в глазах публики должно выиграть, но нам, признаться, больше нравилось первое. За невольной недоговорённостью многоточий угадывалась мощь богохульства. Ныне оказалось, что там было больше богоругательства. Но это не меняет нашего мнения об этой поэме как о лучшей книге Маяковского и как об одной из лучших книг этих лет, особенно если сопоставить с «Человеком», звучавшим слабо, перепевчато, надуманно».
Одну из вышедших книг поэт подарил Якову Блюмкину, написав на ней:
«Дорогому товарищу Блюмочке. Вл. Маяковский».
А теперь обратим внимание на четверостишье из поэмы «Человек»:
«Теперь
на земле,
должно быть, ново.
Пахучие вёсны развесили в сёлах.
Город каждый, должно быть, иллюминован.
Поёт семья краснощёких и весёлых».
«Семья краснощёких».
«Краснощёких»!
Сочиняя эти строки, Маяковский, конечно же, знать не знал, что советскую власть на Дальнем Востоке возглавил американец Тобинсон, ставший Александром Михайловичем Краснощёковым. И что ждать их встречи осталось всего несколько лет.
Но вернёмся в конец зимы 1918-ого.
В Брест-Литовске мирные переговоры с немцами продолжались. В состав советской делегации по-прежнему входил Григорий Сокольников. 20 января Троцкий отверг все германские предложения, заявив, что большевики войну вести не будут, а армию распускают. И покинул Брест-Литовск.
В ответ 18 февраля немцы развернули наступление по всему фронту.
А Москва продолжала жить всё той же неторопливой, размеренной жизнью.
Бурлюк, Каменский и Маяковский неожиданно узнали, что хозяином их поэтического кафе является уже не Филиппов, а совсем другой человек. Об этом – Сергей Спасский:
«… за спиной всех поэтов кафе откупил примазавшийся к футуризму, величавший себя «футуристом жизни» некий Владимир Гольцшмидт. Это была одна из ловких операций проповедника «солнечной жизни». Он поставил всех перед свершившимся фактом, одним ударом заняв главные позиции. Помимо старшей сестры его, оперной певицы, ещё раньше подрабатывавшей в кафе, за буфетной стойкой появилась его мамаша, за кассу села младшая сестра.
В тот вечер Маяковский был мрачен. Обрушился на спекулянтов в искусстве. Гольцшмидт пробовал защищаться, жаловался, что его никто не понимает. Публика недоумевала, не зная, из-за чего заварился спор. Бурлюк умиротворял Маяковского, убеждая не срывать сезон».
После того, как кафе поменяло хозяина, в нём, по словам Николая Захарова-Мэнского, стало…
«… два директора: В.Гольцшмидт и В.Каменский…
На прилавках буфета продавались карточки Владимира Голцшмидта, в костюме и без оного, «матери русского футуризма» Василия Каменского и книги футуристов".
30 января произошло событие, о котором газета «Мысль» через три дня написала:
«Открылось расписанное Якуловым давножданное кафе „Питтореск“, оказавшееся, по-видимому, филиальным отделением „Кафе поэтов“. На открытии выступали знакомые всё лица: Маяковский, Бурлюк, В.Каменский».
Кафе «Питтореск» организовал всё тот же московский булочник Николай Дмитриевич Филиппов.
Кроме Георгия Богдановича Якулова кафе «Питтореск» оформляли Аристарх Владимирович Лентулов, Александр Михайлович Родченко, Владимир Евграфович Татлин, Валентина Михайловна Ходасевич и другие художники. Название кафе происходило от французского слова «pittoresque» – «живописный», «красивый», «разрисованный».
Третий номер журнала «Русская мысль» за 1918 год сообщал:
«В «Кафе поэтов» раскол среди «дредноутов» футуризма. В кафе остаются только Вл. Маяковский и Вл. Гольцшмидт, два других «дредноута» – Давид Бурлюк и Василий Каменский покидают кафе и переходят в открывающееся большое кафе «Питтореск» (на Кузнецком мосту), которое обещает стать вторым оплотом московского футуризма».
В тот момент ещё два события породили оживлённые толки. Первое – закрытие декретом Совнаркома «буржуазных» газет. Второе – переход страны (согласно другому декрету – от 24 января) с юлианского календаря на грегорианский. После 31 января должно было сразу наступить 14 февраля.
Глава шестая Москва большевистская
Триумфатор поэзии
Художник Юрий Анненков очень точно подметил:
«Тягой, стремлением… к званию „первого русского поэта“ были одержимы многие поэты того времени: Игорь Северянин, Владимир Маяковский и даже кроткий, молчаливый и как бы вечно напуганный Велимир Хлебников».
2 февраля, ставшего сразу 15-м, две московские газеты («Русские ведомости» и «Вперёд») напечатали объявление:
«В среду, 14 (27) февраля, в Б. аудитории Политехн. музея, в 6 1/2 час. веч. состоится ИЗБРАНИЕ КОРОЛЯ ПОЭТОВ на 1918 год и кандидата короля.
Поэты!
Учредительный трибунал созывает всех вас состязаться на звание короля поэзии.
Звание короля будет присуждено публикой всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием.
Всех поэтов, желающих принять участие на великом грандиозном празднике поэтов, просят записываться в кассе Полит, музея до 12 февраля…
Результаты выборов будут объявлены немедленно в аудитории и всенародно на улицах».
Газета «Понедельник Власти Народа», которая стала выходить после закрытия большевиками эсеровской «Власти народа», 25 февраля сообщила читателям:
«Близость футуристов к большевикам ещё более подчёркивается их восприятием современности. Маяковский в стихах воспевает насаждение социализма и обличает коварство Англии, принуждающей нас проливать кровь за Месопотамию. В маленьком чёрном подвале… футурист поёт:
Ешь ананасы! Рябчиков жуй!
День твой последний приходит, буржуй!»
А по всей Москве уже были расклеены афиши, зазывавшие народ 27-го, а по-старому стилю – 14-го февраля принять участие в грандиозном представлении, которое устраивал Фёдор Яссеевич Долидзе. Николай Захаров-Мэнский об этом человеке писал, что он был «импресарио, сжившийся и сроднившийся со своими исполнителями – поэтами», и приводил его слова:
«… «поэтов» я люблю, сколько раз я и убытки от них терпел, а всё их вечера устраиваю… Будут их историю писать и скажут: а вечера им устраивал Долидзе, – мне и довольно».
Сергей Спасский:
«Известный организатор поэтических вечеров Долидзе решил устроить публичное „состязание поэтов“. Вечер назывался „выборы короля поэтов“. Происходил он в Политехническом музее. Публике были розданы бумажки, чтобы после чтения она подавала голоса. Выступать разрешалось всем. Специально были приглашены футуристы.
На эстраде сидел президиум. Председательствовал известный клоун Владимир Дуров».
Владимир Леонидович Дуров был цирковым клоуном и дрессировщиком.
Сергей Спасский:
«Зал был набит до отказа. Поэты проходили длинной очередью. На эстраде было тесно, как в трамвае. Теснились выступавшие, стояла не поместившаяся в проходе молодёжь. Читающим смотрели прямо в рот, Маяковский выдавался над толпой. Он читал „Революцию“, едва имея возможность взмахивать руками. Он заставил себя слушать, перекрыв разговоры и шум. Чем больше было народу, тем он свободней читал, тем полнее был сам захвачен и увлечён. Он швырял слова до верхних рядов, торопясь уложиться в отпущенный ему срок».
Фёдор Долидзе пригласил и Игоря Северянина.
Сергей Спасский:
«Северянин приехал к концу программы. Здесь он был в своём обычном сюртуке. Стоял в артистической, негнущийся и „отдельный“…
Прошёл на эстраду, спел старые стихи из «Кубка»».
Маяковского поддерживали Эльза Каган и Роман Якобсон, причём последнего даже избрали членом комиссии по подсчёту голосов.
Выслушав выступления поэтов, публика принялась передавать в счётную комиссию бюллетени с фамилиями понравившихся ей стихотворцев.
Сергей Спасский:
«Начался подсчёт записок. Маяковский выбегал на эстраду и возвращался в артистическую, посверкивая глазами. Не придавая особого значения результату, он всё же увлёкся игрой. Сказывался его всегдашний азарт, страсть ко всякого рода состязаниям.
– Только мне кладут и Северянину. Мне – налево, ему – направо.
Северянин собрал записок немного больше, чем Маяковский.
«Король шутов», как назвал себя Дуров, объявил имя «короля поэтов».
Третьим был Василий Каменский.
Часть публики устроила скандал. Футуристы объявили выборы недействительными. Через несколько дней Северянин выпустил сборник, на обложке которого стоял его новый титул. А футуристы устроили вечер под лозунгом «долой ваших королей»».
Николай Захаров-Мэнский:
«Голосовали закрытой баллотировкой, причём подавляющее большинство получил И. Северянин, которого тут же под гром аплодисментов венчали лавровым венком в короли».
Лев Ольконицкий:
«После выборов Маяковский довольно едко подшучивал над его „поэтическим величеством“, однако мне показалось, что успех Северянина ему неприятен. Я сказал ему, что состав публики был особый, и на эту публику гипнотически действовала манера чтения Северянина, у этой публики он имел бы успех при всех обстоятельствах.
Маяковский ответил не сразу, затем сказал, что нельзя уступать аудиторию противнику, какой бы она ни была. Вообще надо выступать даже перед враждебной аудиторией: всегда в зале найдутся два-три слушателя, по-настоящему понимающих поэзию.
– Можно было ещё повоевать…
Тогда я сказал, что устраивал выборы ловкий делец, импресарио, что, как говорили, он пустил в обращение больше ярлычков, чем было продано билетов. Маяковский явно повеселел:
– А что ж… Так он и сделал. Он возит Северянина по городам. Представляете себе – афиша «Король поэтов Игорь Северянин»!
Однако нельзя сказать, что Маяковский вообще отрицал талант Северянина. Он не выносил его «качалки грезёрки» и «бензиновые ландолеты», но не отрицал целиком его поэтического дара. После революции он даже подумывал, выражаясь словами стихов Северянина: «растолкать его для жизни как-нибудь»».
Сам Игорь Северянин в «Заметках о Маяковском» написал:
«… меня избрали «Королём поэтов». Маяковский вышел на эстраду: «Долой королей – теперь они не в моде!» Мои поклонники протестовали, назревал скандал. Раздражённый, я оттолкнул всех. Маяковский сказал мне: «Не сердись, я их одёрнул – не тебя обидел. Не такое время, чтобы игрушками заниматься…»».
Болевшие за Маяковского Эльза Каган и Роман Якобсон никак не могли понять, почему Маяковский так спокойно отнёсся к своему поражению.
Эльза потом вспоминала:
«Хлебников, Маяковский, Асеев, Кручёных… Они нарушили в поэзии повторность буквы Б… Брюсов, Бальмонт, Белый, Блок… мой поэтический пейзаж дореволюционного периода…
Но над всеми, над всей поэзией того времени продолжал для меня царить Маяковский. И когда в феврале 1918 года в Политехническом музее были «выборы короля поэтов» и «королём» провозгласили Северянина, а не Маяковского, я волновалась необычайно. Сравнивать Северянина или Вертинского с Маяковским!..
Сам Маяковский стоял на эстраде бледный, растрёпанный, перекрывая шум бушевавшей аудитории уже охрипшим от крика голосом!»
Газета «Раннее утро» на следующий день в заметке «Спекуляция на поэтах» сообщала:
«Выступление Маяковского сопровождалось, как всегда, скандалом и криками. Ослеплённый желанием попасть в короли, он несколько раз вскакивал на стол и, стараясь перекричать негодующие голоса, отчаянно размахивал руками, сжатыми в кулаки».
Журнал «Рампа и жизнь» в десятом номере писал:
«Часть аудитории, желавшая видеть на престоле г. Маяковского, ещё долго, после избрания Северянина, продолжала шуметь и нехорошо „выражаться“ по адресу нового короля и его верноподданных».
Николай Захаров-Мэнский:
«Помнится, футуристы остались очень недовольны барышом, доставшимся от вечера Ф.Я.Долидзе, обещая устраивать подобные вечера ежегодно».
Но…
В будущем известный советский актёр, а тогда ещё только готовившийся поступить на юридический факультет Московского университета девятнадцатилетний Рубен Николаевич Симонов, тоже присутствовал на состязании поэтов. В своих воспоминаниях он написал:
«Прошло лет десять после этого вечера. Как-то, идя по Никитскому бульвару, я встречаю Василия Каменского. Мы направляемся в пивной бар, который находился в конце Никитского бульвара. Вспоминаем недавнее прошлое, диспуты в Политехническом, вечер избрания „короля поэтов“.
– Как же так получилось, что избран был Игорь Северянин? – задал я вопрос Василию Васильевичу.
– О, да это преинтереснейшая история! – весело отвечает Каменский. – Мы решили, что одному из нас – почести, другим – деньги. Мы сами подсыпали фальшивые бюллетени за Северянина. Ему – лавровый венок, а нам – Маяковскому, мне, Бурлюку – деньги. А сбор был огромный!»
Москва – столица
Между тем ситуация в стране продолжала оставаться очень тревожной. Немцы, возобновившие боевые действия, продвигались к Петрограду.
21 февраля Совнарком принял декрет, который объявлял:
«Социалистическое отечество в опасности!».
Комендант Смольного Павел Дмитриевич Мальков в своих воспоминаниях писал:
«Оставаться в Петрограде стало небезопасно. Но куда переезжать? Управляющий делами Совнаркома Владимир Бонч-Бруевич предложил – в Москву. Ленин согласился, но выдвинул условие: в Москву предварительно не сообщать, переезд организовать внезапно.
Конспирация была строжайшей. Только избранные были посвящены в реальные планы по переезду. Остальным сообщили, что правительство и партруководство переедут… в Нижний Новгород».
1 марта президиум ВЦИК заявил, что «слухи» о переезде советского правительства в Москву беспочвенны.
3 марта в Брест-Литовске российская делегация, которую после ухода Троцкого возглавил Григорий Сокольников, подписала Брестский мир.
С 6 по 8 марта в Петрограде проходил VII съезд РСДРП(б), который переименовал партию большевиков – теперь она стала называться Российской коммунистической партией, РКП(б). Был избран новый состав Центрального Комитета в составе 15 человек. В него вошёл и Григорий Сокольников. Были избраны 8 кандидатов в члены ЦК, среди них был другой однопартиец «товарища Константина» — Георгий Оппоков-Ломов.
А на Дальнем Востоке в это время проходили не менее судьбоносные события. 25 февраля в городе Благовещенске открылся Областной крестьянский съезд, на который из Хабаровска прибыла делегация от Дальневосточного краевого комитета Советов во главе с его председателем Александром Краснощёковым. Собравшиеся делегаты провозгласили:
«Единственной властью, как в центре, так и на местах признать Совет рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов».
4 марта съезд свою работу завершил. Но тут в ситуацию вмешались казаки, которые решениями съезда были недовольны. Областной земской и городской управам пришлось срочно созывать экстренное совещание, которое призвало население создать отряды добровольной гражданской милиции. 6 марта казачий атаман Иван Михайлович Гамов окружил своим гарнизоном здание, в котором заседал областной исполнительный комитет. Его руководители вместе с Александром Краснощёковым обратились к атаману с предложением сделать всё, чтобы избежать вооружённого столкновения, но были арестованы и перепровождены в местную тюрьму. Начался мятеж.
Из Владивостока и Хабаровска подтянулись подкрепления, и 12–13 марта десятитысячная революционная армия очистила Благовещенск от мятежников. Гамов и его люди бежали за Амур – в Китай. Освобождённый Краснощёкое вернулся в Хабаровск.
А в Москве новоизбранный «король поэтов» Игорь Северянин начал пожинать плоды своего увенчания почётной короной. Фёдор Долидзе выпустил книгу стихов, озаглавленную «Поэзоконцерт». В неё вошли сочинения Северянина и стихи ещё шести «эгофутуристов». Обложку украшала фотография «короля» с его автографом и фразой: «Король поэтов Игорь Северянин». Альманах открывался стихами:
«Отныне плащ мой фиолетов,
Берета бархат в серебре:
Я избран королём поэтов
На зависть нудной мошкаре».
Маяковский, надо полагать, на эти стихи обиделся, и его перестал интересовать титул «короля». На какое-то время, во всяком случае. Когда в марте он дарил молодому музыканту и композитору Сергею Прокофьеву свою поэму «Война и мир», то сопроводил её дарственной надписью:
«Председателю земного шара от секции музыки – председатель земного шара от секции поэзии. Прокофьеву – Маяковский».
Поэт Георгий Владимирович Иванов, обожавший Игоря Северянина, в своих воспоминаниях («Петербургские зимы») описал тогдашний триумф «короля»:
«Громадный зал городской Думы, не вмещающий всех желающих попасть не его „поэзо-вечера“. Тысячи поклонниц, цветы, автомобили, шампанское. Это была настоящая, несколько актёрская, пожалуй, слава».
9 марта на один из таких поэзоконцертов Северянина, проходивший в Политехническом музее, пришёл и его главный конкурент. Газета «Мысль» через два дня написала:
«Не обошлось без инцидентов. Во время объявленного антракта футурист Маяковский пытался декламировать свои „произведения“, но под громкий свист публики принуждён был покинуть эстраду».
А выступления Бурлюка, Гольцшмидта, Каменского и Маяковского в «Кафе поэтов» и «Питтореске» продолжались. О них написал Илья Эренбург в эсеровской газете «Понедельник власти народа»:
«Они всюду… На пёстром вокзале, именуемом „Кафе Питтореск“… футуристы провозглашают свои лозунги:
– Да здравствует хозяин кафе Филиппов! Да здравствует революционное искусство!
В маленьком нелепом подвале, перед кроткими спекулянтами, заплатившими немало за сладость быть обруганными, и для возбуждения их аппетита футурист поёт:
Ешь ананасы, рябчиков жуй,
день твой последний приходит, буржуй!
Принят большевизм – но эта подделка преображения мира не заставит нас отказаться от веры в возможность иной правды на земле. Выйдя из футуристического кабака, мы не окунёмся с радостью в тёпленькую ванну нашей поэзии, а ещё острее возжаждем горняго ключа, подлинного рождества нашего искусства…
Футуризм банален, как буржуазия, от него несёт запахом духов».
Бурлюк и его команда на подобные статьи не обижались. И продолжали своё футуристическое дело.
Юрий Анненков вспоминал:
«Кафе „Питтореск“. Есенин читал стихи. Маяковский поднялся со стула и сказал:
– Какие же это стихи, Сергей? Рифма ребячья. Ты вот мою послушай:
По волнам играя, носится
С миноносцем миноносица…
Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
Впился в спину миноносочки…
И чего это несносен нам
Мир в семействе миноносином?
– Понял? – обратился Маяковский к Есенину.
– Понял, – ответил тот, – здорово, ловко, браво!
И тотчас, без предисловий, прочёл, почти пропел, о собаке. Одобрение зала было триумфальным».
Стихотворение, которое прочёл Есенин, называлось «Песня о собаке». В нём рассказывается о том, как «сука ощенила рыжих семерых щенят», а хмурый хозяин, побросав их в мешок, понёс к реке – топить. Маяковский завлекал публику рифмами, а Есенин предложил ей стихи со смыслом. Отсюда и триумф у публики!
Тем временем 10 марта в Петрограде от окраинной станции «Цветочная», не зажигая огней, отошел поезд № 4001, в котором под охраной латышских стрелков в Москву направлялись члены Совнаркома, ВЦИК, а также новоизбранные члены ЦК РКП(б) и партии левых эсеров.
Как выяснилось позднее, правые эсеры готовили крушение большевистского состава, но, благодаря предпринятым мерам предосторожности, этого не случилось – 11 марта спецпоезд благополучно прибыл в Москву. Ответственные работники новой рабоче-крестьянской власти принялись располагаться и осваиваться на новом месте.
16 марта IV (Чрезвычайный) съезд Советов ратифицировал как Брестский мир, так и перенос столицы в Москву.
А накануне (15 марта) Давид Бурлюк собственноручно прибил к стене дома на Кузнецком мосту две своих картины (они провисели там около трёх лет), Василий Каменский расклеил на стенах и заборах «Декрет о заборной литературе, о росписи улиц, о балконах с музыкой, о карнавалах искусств». Нет, нет, это не было связано с переездом властей в новую столицу – таким экстравагантным образом футуристы отмечали выход первого (и, как очень скоро оказалось, единственного) номера своей газеты.
Газета футуристов
Сергей Спасский писал:
«Это была первая газета, расклеенная на стенах Москвы. Маяковский, Бурлюк и Каменский заполняют её на три четверти. Из стихов Маяковского – «Революция» и впервые напечатанный «Наш марш».
Декларации ещё выглядят двойственно. Тут и обычная футуристская самоуверенность. Тут и взаимное коронование в гении. Но рядом пробивается иное, нечто вроде чувства растерянности, попытки договориться с новой аудиторией».
Сразу обратим внимание на статью «Братская могила». Подписи под нею не было, но, по утверждению Давида Бурлюка, её автором был Маяковский. В статье с огромным пренебрежением писалось об альманахе «Поезоконцерт»:
«Шесть тусклых строчил, возглавляемые пресловутым "королём " Северяниным, издали под этим названием сборник ананасных, фиалочных и ликёрных отрыжек. Характерно, как из шутки поэтов – избрание короля – делается финансовое дело. Отсутствие цены на обложке – широкий простор для спекуляции».
Николай Захаров-Мэнский прямо заявил, что эта статья представляет собой «ушат помоев на северянинский „поэзоантракт“».
Заметим, что одним из «тусклых строчил», которых с таким презрением упомянул Маяковский, был и поэт Лев Ольконицкий, выступавший вместе с ним в «Кафе поэтов».
Но самым главным в газете футуристов было «Открытое письмо рабочим», тоже написанное Маяковским:
«Товарищи!..
Смерчем революции выкорчеваны из душ корявые корни рабства. Великого сева ждёт народная душа.
К вам, принявшим наследие России, к вам, которые (верю!) завтра станут хозяевами всего мира, обращаюсь я с вопросом: какими фантастическими зданиями покроете вы место вчерашних пожарищ? Какие песни и музыки будут литься из ваших окон? Каким Библиям откроете вы души?»
У тех, кто начинал читать газету футуристов, мог возникнуть вопрос: а из чьих уст исходит это обращение к рабочим? Из уст воина, отстаивавшего на одном из фронтов судьбы России и россиян?
Нет!
Свой громогласный клич рабочим бросал стихотворец, называвший себя «новым Ноем», «огневым воеводой», «глашатаем солнца», и лихо обрывавший «сочные, налившиеся плоды», которые созрели в московских кабачках. Уже тогда – в самом начале 1918 года – Маяковский жаждал поговорить с «хозяевами всего мира», с «товарищами-потомками». Поговорить напрямую, минуя всех посредников. В том числе и через голову приехавшего в Москву большевистского правительства. Но с чем он обращался к грядущему? Что его взволновало? Против чего он протестовал?
Вот его слова:
«С удивлением смотрю я, как с подмостков взятых театров звучат „Аиды“ и „Травиаты“ со всякими испанцами и графами, как в стихах, приемлемых вами, те же розы барских оранжерей, и как разгораются глаза ваши перед картинками, изображающими великолепие прошлого.
Или, когда улягутся вздыбленные революцией стихии, вы будете в праздники с цепочками на жилетах выходить на площадки перед вашими районными советами и чинно играть в крикет?»
Маяковский, уже привыкший наносить хлесткие пощечины «общественному вкусу», в своём «Открытом письме» разъяснял рабочим азы футуризма, призывая их отправить на свалку истории шедевры российской старины:
«Знайте, нашим шеям, шеям Голиафов труда, нет подходящих номеров в гардеробе воротничков буржуазии.
Только взрыв Революции Духа очистит нас от немощи старого искусства».
Правда, на этот раз поэт не предлагал бросать кого-то «с Парохода современности»:
«Да хранит вас разум от физического насилия над остатками художественной старины. Отдайте их в школы и университеты для изучения географии, быта и истории, но с негодованием оттолкните того, кто эти окаменелости будет подносить вам вместо хлеба живой красоты».
Заканчивалось «Открытое письмо рабочим» так:
«Революция содержания – социализм-анархизм – немыслима без революции формы – футуризма.
С жадностью рвите куски здорового молодого грубого искусства, даваемые нами.
Никому не дано знать, какими огромными солнцами будет освещена жизнь грядущего. <…> Одно для нас ясно – первая страница новейшей истории искусств написана нами».
Что тут можно сказать?
Написано лихо, задиристо и как всегда чрезвычайно витиевато. Простым московским рабочим этот текст был непонятен.
Слова Маяковского о том, что скоро прогремит «взрыв Революции Духа», что в основу этой революции ляжет «социализм-анархизм», а также «революция формы» («футуризм»), и что эти «революции» тут же «огромными солнцами» озарят «жизнь грядущего», явно адресовались тем, кто зазывал в Смольный российскую интеллигенцию. Это было обращение к большевикам, восторгавшимся «розами барских оранжерей». Это было громкое заявление о том, что футуристам с ними не по пути.
Было в «Газете футуристов» ещё одно не менее громкое заявление – «Декрет № 1 о демократизации искусств». После названия в скобках давалось разъяснение: «заборная литература и площадная живопись».
Начинался документ торжественно и величаво:
«Товарищи и граждане, мы, вожди российского футуризма – революционного творчества молодёжи – объявляем:
Отныне вместе с уничтожением царского строя отменяется проживание искусства в кладовых, сараях человеческого гения – дворцах, галереях, салонах, библиотеках, театрах».
Затем следовало истолкование того, что должны совершить творческие люди, вдохновлённые «вождями футуризма»:
«Художники и писатели обязаны немедля взять горшки с красками и кистями своего мастерства, иллюминировать, разрисовать все бока, лбы и груди городов, вокзалов и вечно бегущих стай железнодорожных вагонов».
Завершался декрет обещанием:
«Первая расклейка стихов и вывеска картин произойдёт Москве день выхода нашей газеты».
Своё обещание футуристы выполнили. Ещё они расписали футуристическими фресками стены Страстного монастыря. Монахини по ночам тряпками стирали их творения, а днём «вожди» искусства грядущего под гогот обступившей их толпы вновь покрывали стены своими «шедеврами».
Творческий процесс
Поэт Сергей Спасский в своих воспоминаниях попытался разъяснить, чего ждали в ту пору его друзья, коллеги и соратники:
«Футуристы ждут приглашений. Но послы не идут ниоткуда. И вот возникает удивление. Признания пока ещё нет.
«Удивляемся тому, что до сих пор во всей демократической прессе идёт полное игнорирование наших революционных произведений».
Очевидно, остаётся самим двинуться в массы. Расти вместе с пролетариатом.
Маяковский делает этот шаг».
Что же предложил пролетариям Владимир Маяковский взамен тому «старью», которое якобы давным-давно отжило свой век? Какие такие «куски здорового молодого грубого искусства» готовы были заменить все «немощи старого искусства»?
Поэт напечатал в футуристической газете «Поэтохронику», названную «Революцией» – многострочное стихотворение о том, что происходило в Петрограде в феврале 1917 года. Заканчивалось оно, как мы помним, так:
«Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!»
Но, во-первых, «социалистов великая ересь» в письме рабочим называлась «социализмом-анархизмом» (явно для того, чтобы подковырнуть социал-демократов). А во-вторых, «Поэтохроника» была простым пересказом событий, случившихся год назад, никаких выводов в ней не делалось, никаких глубоких идей не выдвигалось.
Вслед за «Революцией» следовал «Наш марш» – то самое стихотворение, после прочтения которого в «Кафе поэтов» подвыпившие матросы, как мы помним, вынесли декламатора с эстрады на руках:
«Дней бык пег.
Медленна дней арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан».
Но способно ли было это четверостишье совершить «революцию Духа»?
Заглянем в письмо, отправленное Маяковским Лили Брик в начале марта 1918 года:
«… написал два стихотвор<ения>. Большое пришлю в газете (которое тебе нравилось) – «Наш марш», а вот маленькое:
Весна
Город зимнее снял.
Снега распустили слюнки.
Опять пришла весна,
глупа и болтлива, как юнкер.
В. Маяковский».
В ответном письме из Петрограда Лили Брик сообщала:
«Милый Щеночек, я не забыла тебя. Ужасно скучаю по тебе и хочу тебя видеть. Я больна: каждый день 38 температура; – легкие испортились…
Пиши мне и приезжай…
Обнимаю тебя, Володенька, детонька моя, и целую. Лиля».
Маяковский тотчас ответил. Обратим внимание на две довольно любопытных подробности. Первая – в самом начале:
«Дорогой и необыкновенный Лилёнок!
Не болей ты, христа ради! Если Оська не будет смотреть за тобой и развозить твои лёгкие (на этом месте пришлось остановиться и лезть к тебе в письмо, чтоб узнать, как пишется: я хотел «лёхкия») куда следует, то я привезу к вам в квартиру хвойный лес и буду устраивать в оськином кабинете море по собственному моему усмотрению…».
Что тут скажешь? Грамотеем поэт-футурист был великим!
Вторая любопытная подробность находится во фразе, в которой Маяковский делится своими творческими планами:
«Стихов не пишу, хотя и хочется очень написать что-нибудь прочувствованное про лошадь».
Возникают вопросы. А в том, что происходило тогда в стране, разве не было ничего такого, о чём можно было написать? Отчего возникло это молчание – «стихов не пишу»? А вот Владимир Пуришкевич в стихотворении «Туман» писал:
«Пусть я в кругу вельможных слаб,
Мне сердце горе гложет,
Молчать способен только раб,
Поэт… им быть не может».
Александр Блок, который поддержал октябрьский переворот и пошёл на службу к большевикам, сразу после разгона Учредительного собрания начал писать поэму «Двенадцать». Юрий Анненков сказал о нём:
«Это был новый поэт, новый голос, новая – охальная, хулиганская, ножевая (а не „скифская“), но несомненная поэзия».
Блок повёл речь не о событиях годичной давности, а о том, что происходило только что, сейчас:
«Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.
Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!
Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!
Эх, эх, без креста!»
Илья Эренбург, который к большевистскому перевороту отнёсся резко отрицательно, выпустил поэтический сборник «Молитва о России», в котором были такие строки:
«Господи, пьяна, обнажена,
Вот твоя великая страна!
Захотела с тоски повеселиться,
Загуляла, упала, в грязи и лежит.
Говорят: «Не жилица».
Как же нам жить?..
Была ведь великой она!
И, маясь, молилась за всех,
И верили все племена,
Что несёт она миру
Крест».
«Молитву о России» сравнивали с поэмой Блока «Двенадцать». А Маяковский написал об эренбурговском сборнике (в мартовской газете футуристов):
«Скушная проза, печатанная под стих. С серых страниц – подслеповатые глаза обременённого семьёй и перепиской канцеляриста. Из великих битв Российской Революции разглядел одно:
Уж матросы взбегали по лестницам:
«Сучьи дети! Всех перебьём!»
Из испуганных интеллигентов».
А Александр Блок в финале своей поэмы неожиданно превратил двенадцать шагавших и стрелявших в Святую Русь красногвардейцев в святых апостолов:
«Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах…
Так идут державным шагом,
Позади – голодный пес.
Впереди – с кровавым флагом…
В белом венчике из роз —
Впереди – Исус Христос».
Илья Эренбург опубликовал статью в газете «Понедельник власти народа»:
«Люди, глубоко ненавидящие буржуазную культуру, с ужасом отшатываются от большевиков. Классовое насилие, общественная безнравственность, отсутствие иных ценностей, кроме материальных, иных богов, кроме бога пищеварения, все эти свойства образцового буржуазного строя с переменой ролей и с сильной утрировкой, составляют суть „нового“ общества. Большевистский „социализм“ лишь пародия на благоустроенное буржуазное государство».
А Маяковский продолжал читать в «Кафе поэтов» свои старые стихи. Литературовед Борис Михайлович Эйхенбаум написал о нём статью, опубликованную журналом «Книжный угол» (первый номер за 1918 год). В статье говорилось:
«Кажется, теперь уже никого не испугаешь и не ввергнешь в глубокий обморок, если скажешь просто: Владимир Маяковский – настоящий поэт…
Кому теперь придёт в голову читать стихи. Сытых мало, а на тощий желудок кто же, кроме бузумцев, вздумает развернуть книгу стихов. Итак, Маяковский имеет теперь право быть безумцем, потому что читать его будут только безумцы.
Вы скажете – не поэт?
Необычайное явление – Блок, тихий поэт «лиры», пишет громкую, кричащую и гудящую поэму «Двенадцать», в которой учился у Маяковского. Это трагично, это почти вызывает слезы. Говорят, что эта поэма хороша. Я не знаю – я вижу, что Блок распинает себя на кресте революции, и могу взирать на это только с ужасом благоговения».
«Лошадиные» стихи
Ярый черносотенец и антисемит Владимир Митрофанович Пуришкевич, которого 3 января 1918 года Петроградский революционный трибунал приговорил к четырём годам «общественных работ», и который отбывал этот срок в Петропавловской крепости, сидя в камере, тоже писал стихи. Он назвал их «Песни непокорённого духа». Было среди них и стихотворение, посвящённое Брестскому миру, который многие тогда называли позорным и говорили, что это конец России. В стихотворении Пуришкевича – оно названо «Троцкий мир (воскресший иудей)» – есть такие строки:
«Но нет, Русь не умрёт, наперекор стихиям,
Мне сердце чуткое об этом говорит.
И будет жить она и жала вырвет змиям,
И за позор её заплатит внукам жид.
И цепью длинною грядущих поколений,
Невиданной волны смирив жестокий шквал,
Во прах поверженный славянский дивный гений
Перенесёт девятый вал».
А футурист Маяковский молчал. Мечтая при этом «написать что-нибудь проникновенное про лошадь». В том же 1918 году в сборнике «Ржаное слово (революционная хрестоматия футуристов)» он напишет:
«… поэт Фет сорок шесть раз упомянул в своих стихах слово «конь» и ни разу не заметил, что вокруг него бегают и лошади.
Кони – изыскано, лошадь – буднично».
И чуть позднее Маяковский сочинит стих «Хорошее отношение к лошадям»:
«Били копыта.
Пели будто:
– Гриб,
Грабь,
Гроб,
Груб.
Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась…»
Да, это стихотворение – про лошадь, поскользнувшуюся на улице Кузнецкий мост. Толпа смеялась над упавшей конягой, а поэт пожалел её. И закончил эту историю оптимистично – бедная коняга вставала на ноги:
«Пришла весёлая,
стала в стойло.
И всё ей казалось —
она жеребёнок,
и стоило жить,
и работать стоило».
Владимир Пуришкевич тоже завершал свой «Троцкий мир» с оптимизмом, высказывая надежду, что обязательно воскреснет…
«России спящий дух,
Что так попутал бес лукавый,
И русский Царь – её пастух
В сиянье чистом мысли правой,
Собрав заблудшие стада
И сонм вождей, лишённых страха,
На славный русский путь здорового труда
Вернёт народ, что стал в руках жида
Толпой преступников без шапки Мономаха».
Так высказывал своё отношение к происходившему в стране Пуришкевич.
А Маяковский той же весной писал о том, что «снега распустили слюнки».
Выходит, его в тот момент волновали совсем другие заботы?
Какие?
16 марта в Большой аудитории Политехнического музея состоялся вечер, названный весьма вызывающе: «Против всяких королей». Москвичи, читая расклеенные по всему городу афиши, сразу поняли, что футуристы не хотят мириться с тем, что «королем поэтов» избран совсем не тот, кого они считали достойным. Но поскольку самой главной новостью тех дней был всё же приезд в Москву советского правительства, это футуристическое мероприятие рассматривалось как некий выпад против большевиков.
Как бы там ни было, газета «Московский вечерний час» написала:
«Говорят, что король будет низложен… Надо надеяться, что переворот произойдёт бескровно».
Никакого «переворота», конечно же, не произошло. Те, кого интересовали комментарии самих футуристов по этому поводу, приглашались в «Кафе поэтов», о котором журнал «Рампа и жизнь» (№ 11–12 за 1918 год) высказался так:
«"Кафе поэтов", куда потянулись от скуки с тайной мыслью посмеяться над забавным представлением (живой Маяковский, произносящий непечатные слова, или Д.Бурлюк, поющий „беременного мужчину“, – это ли не острое зрелище?), оказалось далеко не тем гостеприимным и милым уголком, о котором грезит, в конце концов, всякий порядочный беженец: в „Кафе поэтов“ слишком уж нападают на буржуя, кушающего рябчиков и жующего ананас!.. И вот „буржуй“ сбежал от футуристов в „Кафе Питтореск“».
В марте 1918 года в московском кафе «Питтореск» Всеволод Мейерхольд поставил пьесу Александра Блока «Незнакомка».
Март 1918-го
Актриса Малого театра (и сестра гимназического приятеля Маяковского) Ольга Владимировна Гзовская вспоминала:
«Как-то мартовским вечером я проходила мимо кинематографа „Форум“ на Сухаревой– Садовой. Мне бросилась в глаза крикливая и яркая афиша „Вечер футуристов“. Крупными буквами было напечатано: „Поэт Маяковский читает свои стихи“. Я немедля очутилась в зале.
Народу было очень мало. Экран был опущен. Перед экраном, верхом на барьере, отделявшем оркестр от публики, с лорнетом в руках сидел Бурлюк. Рядом с ним – кудрявый, белокурый, весёлый, озорной Василий Каменский.
На сцене, ярко выделяясь на белом фоне экрана, стоял Маяковский: горящие, огненные глаза, огромный, высокий – он читал свои стихи. Всё в нём меня поразило. Всё было ново и необычно: и мощь голоса, и красота тембра, и темперамент, и новые слова, и новая форма подачи.
Впечатление было огромное. Маяковский закончил. Я сидела в последних рядах. В публике раздались аплодисменты и смешки. Два-три человека возмущенно встали и собрались уходить. И вдруг громкий окрик Маяковского:
– Эй, куда вы? Постойте! Смотрите, Гзовская к нам пришла! Не уходите! Она сейчас будет вам читать!
Я с места ответила:
– Владимир Владимирович, что вы! Я же ваших стихов не читаю.
Маяковский махнул рукой и, жестом призывая меня на эстраду, ответил:
– А всё, что хотите!
Поднялся шум. Бурлюк и Каменский хлопают в ладоши:
– Просим, просим!
Публика присоединилась к ним.
Я вышла на эстраду».
Гзовская стала читать стихи Александра Блока, Андрея Белого, Игоря Северянина. «Деревню» Пушкина прочла.
Когда её выступление закончилось, Маяковский заявил публике:
«– Скоро вы и мои стихи от неё услышите. Гзовская будет их читать!»
Через несколько дней он сам пришёл к Гзовской.
«… пришёл… необыкновенно радостный и счастливый. Он встал посреди комнаты и прочитал своё новое стихотворение «Наш марш». Я была в восторге. Владимир Владимирович сказал:
– Ну, если вам нравится, в чём же дело? Читайте!
– Как же я буду читать? – ответила я. – Где же текст? Ведь он ещё не напечатан?
Маяковский рассмеялся.
– Не велика трудность! Текст – здесь! – похлопал он себя по лбу. – Давайте я его вам сейчас запишу. Но я рад, что вам понравилось. Ну, давайте карандаш!
Написав текст стихотворения, Маяковский стал меня учить, как надо читать его…
Во-первых, надо было разобраться в словах, расшифровать их смысл. Что значит «медленна лет арба»?
– Как это – лет арба? – спросила я. – Когда говоришь, непонятно.
Маяковский серьезно посмотрел на меня и ответил:
– Вам же у Пушкина «телега жизни» понятна. Почему же вам непонятна моя «арба лет»? Разве не ясно? Надо читать без декламации, просто, от сердца. Всё дойдёт.
Я так и сделала. Результат получился вполне положительный. Он остался доволен, и тут же решили: в первом большом концерте я прочитаю «Наш марш», «Военно-морскую любовь», «Петербургскую сказку» и «Сказку о красной шапочке».
Жизнь, вроде бы, текла, как ей и положено. Но в стране напряжение усиливалось. На Дальнем Востоке был только что подавлен мятеж белоказацкого атамана Гамова. На Кубани Добровольческая армия штурмовала Екатеринодар. Красные упорно сопротивлялись. 31 марта во время одной из атак был убит случайно разорвавшейся гранатой командующий добровольческими частями генерал Лавр Георгиевич Корнилов. Белую армию возглавил генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин.
А в Москве в «Кафе поэтов» один вечер неспешно сменялся другим. Неоднократно посещавший эти шумные мероприятия Алексей Толстой через год (уже находясь в эмиграции) опубликовал в Париже статью «Торжествующее искусство», в которой назвал футуристов «зловещими вестниками нависающей катастрофы», так как они, по его мнению…
«… сознательно делали своё дело – анархии и разложения. Они шли в передовой линии большевизма, были их разведчиками и партизанами».
Троица футуристов-поэтов затеяла тогда ещё одно «дело», о котором рассказал Николай Захаров-Мэнский:
«В марте 1918 года Маяковский, Каменский и Бурлюк оккупировали ресторан, в котором собирались устроить клуб «индивидуаль-анархизма-творчества». Через неделю их оттуда выставили, а 14 апреля выставили и из прачечной».
Иными словами, «Кафе поэтов» по воле большевиков своё существование прекратило. Вот как это произошло.
Глава седьмая Рухнувшие надежды
Ликвидация анархистов
4 апреля 1918 года, открывая IV съезд Советов Дальнего Востока, Александр Краснощёков сказал:
«Настало время строить из развалин старого мира новый – работа трудная, серьёзная, требующая напряжения сил и энергии».
Но в тот же день во Владивостоке было совершено нападение на японскую экспортно-импортную контору «Исидо». Двоих японцев убили, одного ранили. Это послужило поводом для высадки на следующий день во Владивостоке японского и английского десантов – для обеспечения безопасности своих граждан. На Дальнем Востоке началась интервенция иностранных держав.
В Петрограде тех, кто объявил о строительстве нового мира, «строителями» не называли. 4 апреля в газете «Новая жизнь» были напечатаны очередные «Несвоевременные мысли» Горького, в которых вновь с возмущением говорилось о большевиках и их делах:
«… угрозами нельзя заставить меня онеметь, и чем бы мне ни пригрозили, я всегда скажу, что скоты – суть скоты, а идиоты – суть идиоты, и что путём убийств, насилий и тому подобных приёмов нельзя добиться торжества социальной справедливости».
Гостивший в то же самое время у Горького английский писатель Герберт Уэллс чуть позднее написал:
«Октябрьская революция была могучим шагом вперёд в шествии человечества к мировому социализму, но, к сожалению, центр революционного движения оказался в руках полуидиотов и фанатиков».
Вожди большевиков все эти высказывания, вне сомнений, читали, обижались и поступали соответственно.
Враги большевизма тоже не сидели сложа руки. Всех их в тот момент до предела возмущал Брестский мир, подписанный большевиками. Видный анархист Петр Андреевич Аршинов (сидевший в своё время в Бутырках в одной камере с Серго Орджоникидзе, а на каторге близко познакомившийся с Нестором Махно) прямо заявлял:
«Анархисты рассматривали „похабный“ мир, как капитуляцию перед германским империализмом… В глазах анархистов этот мир был актом морального бессилия».
В пику создававшейся большевиками Красной армии «Федерация анархических групп Москвы» принялась формировать собственные вооружённые отряды. Был брошен призыв: «К оружию!» и началось создание вольных боевых дружин.
Газета «Анархия» в № 15 от 10 марта 1918 года извещала, что в эти отряды принимают далеко не каждого:
«Приём боевиков в ЧЁРНУЮ ГВАРДИЮ производится по рекомендации или:
1) местных групп;
2) трёх членов Федерации;
3) фабрично-заводских комитетов;
4) районных советов,
ежедневно с 10 до 2 часов дня, в помещении дома «Анархия», М. Дмитровка, 6».
А выходившая в Петрограде анархистская газета «Буревестник» писала:
«Жестоко те господа ошибаются, думая, что настоящая революция уже закончена, что теперь осталось только закрепить те паскудные завоевания, что достались трудовому народу. Нет! Настоящая революция, социальная революция, освободительница трудящихся всех стран, только начинается!»
К апрелю 1918 года в Москве было уже 50 отрядов Чёрной гвардии. Начав ещё с марта реквизировать московские особняки, анархисты захватили их более двух с половиной десятков. А ведь в новую советскую столицу нахлынули приехавшие из Петрограда большевики и левые эсеры, работники наркоматов и прочих организаций. Найти им подходящую жилплощадь было чрезвычайно трудно.
«Известия ВЦИК» опубликовали в апреле беседу корреспондента газеты с заместителем председателя ВЧК Яковом Христофоровичем Петерсом, который сказал, что анархистские организации в Москве…
«… представляли собой как бы вторую параллельную Советской власти власть: они выдавали ордера, имели чёрную гвардию и т. д.
Мы решили проникнуть в анархические коммуны, и, после обследования их, мы убедились, что громадное большинство членов этих коммун – обыкновенные бандиты, ничего общего с идейным анархизмом не имеющие. Тогда мы решили приступить к разоружению этих коммун».
Советскую власть анархисты не жаловали и терпеливо ждали подходящего момента, чтобы выступить против неё. По данным ВЧК, это выступление было назначено ими на 18 апреля. Большевики решили напасть первыми – в ночь с 11 на 12 апреля.
Подготовку операции «разоружения» Феликс Дзержинский поручил коменданту Московского кремля Павлу Дмитриевичу Малькову. Тот привлек латышских стрелков из четвертого Видземского полка, которым командовал Ян Карлович Берзин.
Газета «Известия ВЦИК» от 13 апреля 1918 года рассказала:
«С 12-ти часов ночи, согласно выработанному плану, отряды приступили к операции».
Латышские стрелки окружили все здания, в которых располагались анархисты. Начался штурм. Те, кто находился в «Доме Анархии» на Малой Дмитровке (там сейчас театр «Ленком»), оказали отчаянное сопротивление. Даже из горной пушки отстреливались. Но силы были неравные.
Павел Мальков в книге «Записки коменданта Московского Кремля» писал:
«… всего в результате перестрелки было убито и ранено с той и другой стороны около 40 человек. Из латышских стрелков не пострадал ни один…
К 2 часам дня всё было закончено, оружие отобрано и переписано, арестованные – около 400 человек – отправлены в Кремль, где Чрезвычайная комиссия приступила к допросу. Состав арестованных весьма разношёрстный – много женщин и подростков в форме различных учебных заведений. Отмечен ряд лиц с громким уголовным прошлым».
Феликс Дзержинский в интервью «Известиям ВЦИК», опубликованном 15 апреля, сказал:
«Мы ни в коем случае не имели в виду и не желали вести борьбу с идейными анархистами. И в настоящее время всех идейных анархистов, задержанных в ночь на 12 апреля, мы освобождаем… Идейных анархистов, задержанных нами, очень мало, среди сотен – единицы».
Еще короче высказался Лев Троцкий, заявивший:
«Наконец, Советская власть железной метлой избавляет Россию от анархизма».
Писательница Нина Николаевна Берберова в романе «Железная женщина» описала конец вольницы анархистов, сильно досаждавших Кремлю:
«11 апреля на них была произведена облава: ночью в один и тот же час на все их 18 центров налетели вооружённые до зубов военные части ВЧК, и в этом разгроме больше ста из них было убито и пятьсот арестовано. Их центры были подожжены и горели. Из их литературы были устроены костры на московских улицах. Это была плановая кровавая ликвидация целой „партии“, которая сама требовала убийств главарей в Кремле, расправы за то, что большевики предали революцию».
С анархистами было покончено, но газету «Анархия» издавать не запретили. Ей даже новое помещение выделили. И повезли туда видного теоретика анархизма (сподвижника самого Кропоткина) Александра Моисеевича Атабегяна. Он впоследствии написал:
«Узнал я… трамвайную линию до Анастасьинского переулка, где помещался комиссариат внутренних дел, а возле него (после разгрома Московских анархистов на Малой Дмитровке) большевистско-лево-эсеровская власть милостиво разрешила Московским анархистам занять себе, для нужд секретариата и редакции, помещение-сарай, в котором, до прихода анархистов, „упражнялись футуристы в своих футуристических занятиях“, – сказал мне комиссар».
Что за «помещение-сарай» большевики предоставили анархистам, угадать не трудно – это опустевшее «Кафе поэтов», в котором ещё совсем недавно «упражнялись футуристы». 14 апреля все свои «упражнения» они прекратили.
Закрытие кафе
В апреле 1918 года, оставив в Петрограде свою жену Зинаиду Райх (на шестом месяце беременности), в Москву переселился Сергей Есенин. Он успел посетить «Кафе поэтов», где его приметил Николай Захаров и написал:
«Здесь я познакомился с Есениным. Он часто бывал в кафе. Приходил с Клычковым, садился в угол к стене, почти всегда молчал (говорить Сергей вообще не умел, да и не любил) и только изредка читал, и как всегда прекрасно, свои стихотворения… О нём говорили – приличный поэт, подаёт надежды, и только… Помню, как приехал Ивнев, какой знаменитостью он показался нам, молодёжи, как он совершенно затмил Есенина. Не говоря уже о И. Северянине, которого торжественно чествовали футуристические киты».
Сергей Антонович Клычков, русский поэт, писатель и переводчик, был близким другом двух других Сергеев – поэта Есенина и скульптора Конёнкова. Рюрик Ивнев (Михаил Александрович Ковалёв) тоже был поэтом, писателем и переводчиком.
И вот тут-то настал последний день работы кафе футуристов.
Почему оно закрылось? Или почему его закрыли?
На эти вопросы маяковсковедение ответов не даёт – биографов поэта они никогда не интересовали. А если всё-таки задасться ими. Неужели не найдётся разъяснения?
Оно есть. Ведь мог же Маяковский, узнав о том, что латышские стрелки жгли на улицах Москвы костры из анархистских книг, взять и прочесть в «Кафе поэтов» отрывок из своей трагедии:
«Я – поэт,
я разницу стёр
между лицами своих и чужих…
А сегодня
на жёлтый костёр,
спрятав глубже слёзы морей,
я взведу и стыд сестёр
и морщины седых матерей!»
К этим словам, которые в трагедии произносил сам Владимир Маяковский, он мог добавить и реплику Обыкновенного молодого человека:
«Господа!
Мозг людей остёр,
но перед тайнами мира ник;
а ведь вы зажигаете костёр
из сокровищ знаний и книг!»
Могли прозвучать эти строки в те апрельские дни? Вполне! Просто должны были!
Узнав об этом, большевики и прикрыли кафе футуристов.
Как бы там ни было, но о том, как оно закрывалось, написала даже французская газета «Фигаро» – в номере от 15 апреля:
«Вступительное слово сказал В.Маяковский:
– Мы, усложняя искусство, в то же время стремимся к известной демократизации его, – вот смысл речи Маяковского. – Что же касается будущего, то оно, несомненно, за футуризмом, и оказать поддержку новому искусству может наш высокий гость – комиссар народного просвещения Анатолий Васильевич Луначарский, – закончил оратор.
Все невольно оглянулись. За одним из столов сидел действительно комиссар. Вынужденный отвечать, он вышел на эстраду».
На прощальный вечер футуристов нарком по просвещению Анатолий Луначарский заглянул явно не случайно. Вполне возможно, что именно он не позволил разгромить это пристанище анархистов в ночь на 11 апреля, защитив тем самым Маяковского и его друзей. И на закрытие кафе вполне мог придти сам, без всякого приглашения.
А вот Давида Бурлюка на том прощальном мероприятии не было – опасаясь ареста за участие в захватах-экспроприациях домов, он покинул Москву на следующий день после разгрома анархистов.
О вышедшем на эстраду наркоме Луначарском газета «Фигаро» написала:
«С первых же слов своей речи он захватил публику… Речь Луначарского, произнесённая с большим подъемом, была интересна: комиссар отнюдь не счёл себя обязанным быть любезным с хозяевами и жестоко раскритиковал кричащие и неэстетично-рекламные приёмы футуристов, их презрение к классикам, их желание казаться анархистами во что бы то ни стало, презирая буржуа и в то же время служа ему, в заключение слегка подсластив пилюлю, заметил, что искренность Маяковского может увлечь массы и придать футуризму оттенок народности.
Краткая, но выразительная речь Луначарского».
Сергей Спасский тоже отметил выступление наркома:
«Он говорил уверенно и логично, с полным спокойствием человека, владеющим целостным мировоззрением. <…> Он исследовал характер футуризма. Призывал отбросить внешнюю мишуру, ненужную и чуждую массам.
То была деловая критика, с которой впервые встретился футуризм».
Илья Эренбург тоже присутствовал на закрытии кафе. Впоследствии он вспоминал, что Луначарский…
«… говорил о таланте Маяковского, но критиковал футуризм и упомянул о ненужности саморасхваливания. Тогда Маяковский сказал, что вскоре ему поставят памятник – вот здесь, где находится «Кафе поэтов». Владимир Владимирович ошибся всего на несколько сот метров – памятник ему поставили недалеко от Настасьинского переулка».
А на Дальнем Востоке в это время советская власть продолжала утверждаться. 30 апреля в Хабаровске состоялось заседание Краевого комитета Советов, на котором этот комитет был переименован в Дальневосточный Совет Народных Комиссаров (Дальсовнарком). Его председателем стал Александр Михайлович Краснощёков.
Первым делом, которым занялся глава российского Дальнего Востока, был выпуск новых советских денег. Вторым делом стало обучение русскому языку его четырёхлетнего сына Евгения. Прочитав в одной из местных газет стихотворение Маяковского «Сказка о красной шапочке», Краснощёков принялся разучивать его вместе с малышом, говорившим только по-английски.
К тому, что «Кафе поэтов» закрылось, Маяковский отнёсся довольно спокойно – у него появилось другое дело, которому он принялся отдавать время, силы и свою недюжинную энергию.
Звезда экрана
В «Я сам» об этом периоде жизни поэта сказано так:
«Пишу киносценарии. Играю сам. Рисую для кино плакаты».
Сергей Спасский вспоминал:
«Однажды Маяковский весело расхвастался:
– Я никогда никому не завидовал. Но мне хотелось бы сниматься для экрана.
И он со вкусом расписал с эстрады все удовольствия такого занятия.
– Хорошо бы сделаться этаким Мозжухиным!
Возглас Маяковского был услышан хозяевами фирмы «Нептун», и его пригласили работать».
Иван Ильич Мозжухин был тогда известнейшим актером немого российского кинематографа. Поэту Маяковскому было на кого ровняться.
Продолжает Лев Гринкруг:
«У нас были знакомые, муж. и жена Антик, владельцы кинофирмы „Нептун“. <…> Они понимали, что одно имя Маяковского – лучшая реклама, и что затраченные деньги вернутся с лихвой».
Но Маяковский хотел не просто сниматься – он предложил написать сценарий (и написал его) по роману Джека Лондона «Мартин Идеи». Действие было перенесено в Россию, и картина получила название «Не для денег родившийся». На роль Мартина Идена, ставшего Иваном Новой, Маяковский предложил себя.
Режиссёром фильма назначили Никандра Васильевича Туркина (Алтарова), оператором – Евгения Иосифовича Славинского. Однако Маяковский постоянно вмешивался в съёмочный процесс, в результате чего, по словам Льва Гринкруга…
«… вся работа проходила в постоянных спорах и пререканиях…
Маяковский работал с большим увлечением и интересом. Он всегда сам торопил всех, никогда не уставал, трудоспособность его была удивительна. И этим он заражал всех участников съёмок.
Это не мешало ему быть всегда весёлым, во время съёмок он много острил, шутил. Тогда можно было себе это позволить – кино-то ведь было немое!»
На одну из ролей был приглашен поэт Гурий Александрович Сидоров (Сидоров-Окский), часто выступавший в «Кафе поэтов». Впоследствии он говорил, что «автором и постановщиком этого фильма был Маяковский». И в воспоминаниях описал этого «постановщика» так:
«Маяковский был в съёмочной зале. На этот раз он не стоял в своей обычной позе (руки – в карманах брюк, в уголке рта – папироса), а метался по залу, отдавая громовым голосом режиссёрские указания:
– Эй, вы! Встаньте левее! Не сюда! Левая рука у поэтов находится слева! Опустите голову! Не так сильно – вы её так уроните на пол, а потом отвечай! Жестикулируйте, волнуйтесь! Теперь поднимайте бокал! Не прячьте его за спину соседа, мне сейчас нужен бокал, а не ваш сосед! Обнимайте вашу приятельницу! Нежнее, чёрт возьми!
Я стою на эстраде, Маяковский – напротив:
– Читайте! «На улице каждый фонарь» – как это там у вас?
Читаю. Волнуюсь больше, чем на «всамделишной» эстраде. Маяковский это замечает:
– Спокойнее! Держите себя в руках! Забудьте, что на вас смотрят глаза аппарата – на вас глядит публика!
На меня глядела не публика, а Маяковский, и я волновался ещё больше. Наконец, эпизод был заснят. После съёмки я рассказал Маяковскому о своих переживаниях. Он улыбнулся:
– Хорошо! В следующий раз я приглашу публику, а сам спрячусь за чью-нибудь спину – ведь я маленький!»
Актриса Наталья Александровна Розенель, ставшая женой наркома Луначарского, вспоминала, что её муж посещал…
«… неотапливаемую киностудию во время съёмок сценариев Маяковского с участием автора».
Фильм «Не для денег родившийся» был снят всего за месяц с небольшим.
Маяковский написал ещё два сценария: «Барышня и хулиган» (по рассказу итальянского писателя Эдмонда д'Амичиса «Учительница рабочих») и «Закованная фильмой» (оригинальная фантастичная история, придуманная Маяковским).
«Барышню и хулигана» тоже сняли очень быстро – всего за две недели. Про другую кинокартину в журнале «Мир экрана» (№ 3, 19 мая 1918 года) можно было прочесть:
«Поэт В.В.Маяковский написал легенду кино „Закованная фильмой“. Этот оригинальный сценарий куплен „Нептуном“. На днях режиссёр Н.В.Туркин приступает к его постановке. Главные роли исполняют Лили Брик, Маргарита Кибальчич, А.В.Ребикова и автор сценария В.В.Маяковский».
Специально для съёмок фильма в Москву из Петрограда приехала Лили Брик. С Осипом Максимовичем, разумеется. В «Закованной фильмой» снялся и добрый приятель Маяковского – Лев Гринкруг, который потом вспоминал:
«В конце апреля в кинотеатре «Модерн» (ныне "Метрополь ") был устроен торжественный просмотр фильма, на котором присутствовало много народа, в том числе и нарком просвещения А.В.Луначарский. Картина всем понравилась, кроме самого Маяковского, который говорил, что ему не удалось полностью победить Туркина и сделать то, что хотелось.
Игра Маяковского, по-видимому, действительно понравилась, так как ему немедленно предложили сниматься в других фильмах».
Журнал «Рампа и жизнь» написал, что Маяковский…
«… произвёл очень хорошее впечатление и обещает быть хорошим характерным киноактёром».
Писатель Юрий Карлович Олеша:
«Я видел фильмы раннего, совершенно немого кино, в которых играет Маяковский… На них лицо молодого Маяковского – грустное, страстное, вызывающее бесконечную жалость, лицо сильного и страждущего человека. Игра Маяковского напоминает чем-то игру Чаплина. Это близко, то же понимание, что человек обречён на грусть и несчастия, и та же вооружённость против несчастий – поэзией».
Фильм «Закованной фильмой» предполагал продолжение, но его не последовало. Почему? В «Хронике жизни и деятельности Маяковского» сказано:
«Маяковский предполагал написать (но не написал) вторую серию фильма, сюжетом для которой должна была стать жизнь художника в заэкранном мире – в фантастической стране, населённой киногероями, похитившими его героиню».
Прощание с Москвой
Весной 1918 года вышел в свет альманах «Весенний салон поэтов», в котором были и стихи Маяковского. Среди них – написанное в 1916 году стихотворение «Себе любимому посвящает эти строки автор», в котором задавался вопрос:
«А такому,
как я
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?»
Далее следовали предположения, завершавшиеся восклицательными знаками:
«Если б был я
маленький,
как Великий океан…
О, если б я нищ был!
Как миллиардер!..
Если б быть мне косноязычным,
как Данте,
как Петрарка!..
О, если б был я
тихий,
как гром…
о, если б был я
тусклый,
как солнце!
Очень мне надо
сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!»
Стихотворение заканчивается всё тем же вопросом: для чего он появился на свет…
«… такой большой
и такой ненужный?»
В среду 1 мая «большой» и «ненужный» поэт-футурист прощался с Москвой. Проходило это прощание в кафе «Питтореск». Сергей Спасский написал:
«Маяковский вышел на эстраду сильный, раздавшийся в плечах. Он будто вырос за эту зиму, проникся уверенной зрелостью».
Находившийся в кафе 20-летний Владимир Ильич Нейштадт, впоследствии журналист, шахматист и историк шахмат, воспоминал:
«Было неуютно и сначала холодно, холоднее, чем на улице. Публика не снимала пальто. В задних рядах курили. Всё равно!..
Наступил черёд кинуть в зал старославянскую бомбу. Начинял её Якобсон, прочно владевший тайнами древнего языка. Но читать перевод почему-то было поручено мне, и я выучил текст наизусть, поупражнявшись в произношении носовых звуков, гласных неполного образования. В последнюю минуту я было струсил. Но Маяковский сказал решительно:
– Давайте Мефодия!
И я шагнул на эстраду:
– Сейчас вы услышите самого живого поэта на самом мёртвом языке, – выпалил я и зашаманил по-славянски.
Вот что слушал тогда странно притихший зал:
К брадобрию придох и рекох:
Хошту отьче да причешеши ми уши.
Гладк бысть и стал есть иглив
Длгом лихомь акы крушька есть…
Едва я кончил читать, в зале поднялось настоящее возмущение… Кричали, свистели, топали. Я растерялся. Но рядом со мной выросла надёжная фигура Маяковского. Он поднял руку, и зал успокоился.
– Не понимаете? – спросил Маяковский.
– Не понимаем, – ответили в зале.
Смех. Кто-то крикнул:
– Прочтите по-русски!
– Имел в виду, – парировал Маяковский. – Читаю эти стихи, как они написаны мною на великолепном русском языке:
Вошёл к парикмахеру, сказал – спокойный:
«Будьте добры, причешите мне уши».
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
лицо вытянулось, как у груши… и т. д.
Кончил. Зааплодировали.
– Понятно?
Маяковский читал ещё много…»
Сергей Спасский:
«Он читал твёрдо и весело, расхаживая по широкой эстраде. Это были много раз слышанные стихи, часто знакомые до последней интонации. Он прочёл тогда и самое своё новое… О том, как лошадь поскользнулась на Кузнецком, и её окружила праздношатающаяся толпа».
Тем временем на Москву и Петроград опять наступал голод.
Положение в стране
12 мая «Известия» сообщали:
«Все за хлебом!
В Петрограде рабочие приступили к образованию «рабочих дружин за хлебом». Рабочий класс Петрограда поднимается на массовую борьбу с голодом».
26 мая Горький напечатал в «Новой жизни» свои новые «Несвоевременные мысли». На этот раз он задал вопрос:
«Я защищаю большевиков? Нет, я по мере моего разумения борюсь против них, но – я защищаю людей, искренность убеждений которых я знаю».
Мало этого, Горький вновь впрямую обвинял Ленина и ленинцев:
«Я знаю, что они проводят жесточайший научный опыт над живым телом России, и умею ненавидеть, но предпочитаю быть справедливым».
В этот момент большевистских вождей больше всего тревожила мысль о том, как им удержать захваченную власть, ведь число россиян, не желавших жить при диктатуре пролетариата, неуклонно увеличивалось. Ряды Белой гвардии тоже росли. В Саратове вспыхнуло восстание, на Дону генерал Краснов поднял мятеж, в Сибири тоже было очень неспокойно.
Ленин и Свердлов опасались, что бывший российский царь Николай Романов, который жил тогда в Екатеринбурге, мог вдруг заявить о том, что он передумал отрекаться от власти. Лев Троцкий, ушедший с поста наркома по иностранным делам, был брошен на создание Красной армии – стал наркомом по военным и морским делам, то есть фактически продолжал оставаться вторым после Ленина человеком в Совнаркоме.
А советское правительство Дальнего Востока выпустило свои деньги – боны Дальсовнаркома. На них был изображён земной шар и лента со словами «Дальний Восток», под ними подпись председателя правительства Александра Краснощёкова. На оборотной стороне располагались рабочий с молотом и крестьянин с косой и шла надпись: «Обязателен к обращению в пределах Дальнего Востока». Эти деньги в городах называли «краснощёковками», а в сельской местности – «косарями».
«Известия» от 30 мая:
«Военное положение в Москве
Постановление Совета Народных Комиссаров 29-го мая 1918 года
В виду обнаруженной связи московских контрреволюционных заговорщиков… с восстанием погромных банд в Саратове, мятежом казачьего генерала Краснова и восстанием белогвардейцев в Сибири, а также в виду разнузданной аги – тации контрреволюционеров, стремящихся использовать продовольственные затруднения народа в интересах восстановления власти капиталистов и помещиков, Совет Народных Комиссаров постановляет: объявить Москву на военном положении.
Председатель СНК В.Ульянов (Ленин)
Нарком по Военным и Морским делам Лев Троцкий».
Юнкер Леонид Канегисер, поступивший после расформирования Михайловского артучилища на экономическое отделение Политехнического института, большевикам после Брестского мира не верил. И написал стихи:
«О, кровь семнадцатого года!
Ещё бежит, бежит она —
Ведь и весёлая свобода
Должна же быть защищена.
Умрём – исполним назначенье.
Но в сладость превратим сперва
Себялюбивое мученье,
Тоску и жалкие слова.
Пойдём, не думая о многом,
Мы только выйдем из тюрьмы,
А смерть пусть ждёт нас за порогом,
Умрём – бессмертны станем мы».
В «Известиях» от 31 мая первая страница начиналась с обращения:
«От Совета Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Республики
Рабочие и крестьяне! Честные трудящиеся граждане всей России!
Настали самые трудные дни. В городах и во многих губерниях истощённой страны не хватает хлеба.
… под оружие в поход за хлебом для голодающих детей, отцов и матерей!
Вперёд – к последнему бою и окончательной победе!
Да здравствует рабочая и крестьянская Советская республика!
Председатель СНК Ленин
временный заместитель наркома Чичерин
нарком Троцкий
народный комиссар И.Сталин»
А о чём думал тогда наш герой?
Товарищ Маяковский
В конце весны 1918 года распрощавшийся с Москвой оптимистичный, энергичный и весёлый, а порою строгий, волевой и неулыбчивый Маяковский (вместе с Лили Юрьевной и Осипом Максимовичем) решил возвратиться в Петроград.
Почему именно туда? Там был дом его любимых Бриков. Кроме того, в Петрограде жила Мария Фёдоровна Андреева, которая занимала там какой-то большой пост.
Но почему он не остался в Москве? Ведь ему предлагали роли в кинофильмах. А у «Закованной фильмой» должно было быть продолжение. Почему он не стал его писать?
На эти вопросы маяковсковеды ответов не дают. Здесь очень много неясного.
Скорее всего, Маяковский очень обиделся на закрытие «Кафе поэтов». А хозяева киностудий, узнав о неприятии большевиками футуристов, решили подождать, чем закончится их противостояние и отозвали свои предложения актёру и сценаристу.
Куда ему было податься? Ехать на юг и сражаться с большевиками? Для этого у него не хватало храбрости. Эмигрировать тоже не было смысла – из-за отсутствия знания иностранных языков. А быть на третьестепенных ролях он тоже не привык. Ведь ещё в 1913 году поэт Маяковский, ощущавший себя всего лишь «уродцем» среди своих современников, попросил у времени:
«Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!»
Не дождавшись появления своего «уродливого» портрета, он сам явился перед народом в образе проповедника-пророка. Посвятить себя искусству ему, как мы помним, могли посоветовать сотрудники Охранного отделения. Но Маяковский это не афишировал, заявив, что он пришёл в страну Поэзии самостоятельно, сам по себе, не дожидаясь чьего-то зова. И этот «пришедший сам» объявил публике, что он умный, что не он должен учиться у народа, а народ должен учиться у него, так как он, поэт-футурист, знает такое, что неведомо никому. И он прокричал в своей первой поэме: «долой вашу любовь», «долой ваше искусство», «долой ваш строй» и «долой вашу религию»! И принялся описывать себя и время, которое его окружало. А в поэме «Человек» из «уродца века» и вовсе превратил себя в божество, равное Иисусу Христу.
И тут произошёл октябрьский переворот.
Стало возможным удалить всё то, о чём он неистово кричал: «долой!»
Вместо «вашей любви» должна была придти другая любовь – свободная. Любить можно было теперь по-новому, по-маяковски!
Вместо «вашего искусства» должен восторжествовать футуризм, совершающий революцию слова!
Вместо «вашего строя» пришла власть Советов!
Вместо «вашей религии» пришла пора исповедовать новую веру, в которой в роли верховного божества был он, Владимир Маяковский.
И пусть Дмитрий Мережковский называл победителей-большевиков необразованными Хамами! Маяковский считал, что эти хамы нуждаются в вожаке, который поведёт их за собой. Успех его «Человека» у анархистов и у поэтов-символистов говорил ему, что он и есть тот самый Человек, который необходим массам – поэт, объявивший себя новым Ноем и Иисусом Христом, то есть героем двух Заветов, Ветхого и Нового. Надо было только написать новую вещь, такую, чтобы её (и его вместе с ней) подняли на щит и понесли, как знамя. Маяковский явно верил в это. Ему казалось, что он является для людей Солнцем, освещающим человечеству путь в грядущее.
Его не смущало, что «новой любовью» оказалась любовь к замужней женщине, которая (так было сказано в его «Человеке») заканчивалась тем, что поэт стрелялся, а его любимая выбрасывалась из окна.
Его не смущало, что новая власть не принимала представителей «нового искусства» — футуристов. В своей газете они объявляли себя «революционерами слова» и «бойцами, разворачивающими знамя».
Его не смущало, что восторжествовавшая в стране «новая власть» — власть Советов – большинством россиян не поддерживалась. В стихотворении «Революция» он заявлял:
«Мы все
на земле
солдаты одной
жизнь созидающей рати».
Его не смущало, что «новая религия» пришла в не очень подходящее время. Он сам писал в своём «Открытом письме рабочим»:
«Товарищи!
Двойной пожар войны и революции опустошил и наши души и наши города».
Но он верил в то, что наступило его время! И Брики явно поддерживали его в этом. А Осип Максимович даже говорил, что управлять людьми совсем несложно, он пробовал, получается. Стаду необходим вожак!
И Маяковский, обращаясь к людям, восклицал (в газете футуристов):
«С жадностью рвите куски здорового молодого грубого искусства, даваемого нами».
Поэт-футурист был готов исполнить роль вожака и пророка, был готов вскарабкаться на новую вершину. Но не по партийной лесенке, по которой поднимались все, а по поэтической.
И Владимир Маяковский отправился в город на Неве, чтобы начать восхождение на пик революционной славы.
Список использованной литературы:
1. Анненков Ю.П. Дневник моих встреч. Цикл трагедий в 2 т. – Л.: Искусство, 1991.
2. Ваксберг А.И. Загадка и магия Лили Брик. – М.: Астрель, 2003. – 463 с.
3. Вегер В.И. Воспоминания. Не издано. – РГАЛИ, ф. 1924, ед. хр. 500.
4. В. Маяковский в воспоминаниях современников/Примеч. И.В. Реформатской; Вступ. ст. З.С. Паперного. – [М.]: Гос. изд-во худож. лит., 1963. – 731 с.
5. Герасимов А.В. На лезвии с террористами / Охранка. Воспоминания руководителей политического сыска. Тома 1 и 2, М.: Новое литературное обозрение, 2004.
6. Глинка Я.В. Одиннадцать лет в Государственной думе. 1906–1917: Дневник и воспоминания. – М.: Новое литературное обозрение, 2001. – 400 с.
7. Джунковский В. Ф. Воспоминания. Том 1. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1997. с. 317.
8. Дневники императора Николая П. – М.: Орбита, 1992.
9. Имя этой теме: любовь!: Современницы о Маяковском / Сост., вступ. ст., коммент. В. В. Катаняна. – М.: Дружба народов, 1993. – 335 с.
10. Каменский В.В. Жизнь с Маяковским. – М. 1940.
11. Карахан И.Б. Воспоминания. Не издано. – РГАЛИ, ф. 1924, ед. хр. 500
12. Катанян В.А. Хроника жизни и деятельности Маяковского. – М.: Планета, 1993.
13. Катанян В.В. Лиля Брик. Жизнь. – М.: Захаров, 2002. – 288 с.
14. Катанян В.В. Лиля Брик, Владимир Маяковский и другие мужчины. – М.: Захаров, ACT, 1998. – 174 с.
15. Лившиц Б.К. Полутораглазый стрелец. Воспоминания. – М.: Художественная литература, 1991.
16. Мальков П.Д. Записки коменданта Московского Кремля. – М.: Молодая гвардия, 1983.
17. Мартынов А. П. Моя служба в отдельном корпусе жандармов // Охранка. – М.: Новое литературное обозрение, 2004.
18. Маяковский Владимир. Собрание сочинений в шести томах. – М.: Библиотека «Огонёк», Издательство «Правда», 1973.
19. Маяковский В. В. Полное собрание сочинений в 13 томах. – М., 1955–1961.
20. Маяковский в воспоминаниях родных и друзей. – М., «Московский рабочий», 1968.
21. Михайлов А.А. Жизнь Владимира Маяковского. Точка пули в конце. – М.: Планета, 1993.
22. Новицкий В.Д. Из воспоминаний жандарма. – М.: Издательство Московского университета, 1991.
23. Пастернак А.Л. Воспоминания. – Мюнхен, 1983.
24. Путь к Октябрю. Сборник статей, воспоминаний и документов. В пяти томах. – М., 1923–1926.
25. Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках: Аннот. указ. книг, журн. и газ. публикаций, изданных за рубежом в 1917–1991 гг.: В 4 т. / Науч. руководство, ред., введ.: Тартаковский А.Г. (Россия), Эммонс Т. (США), Будницкий О.В. (Россия); [Сост.: Анохина Т.Г. (Россия) и др., Сорока Л. (США); Библиогр. ред.: Анохина Т.Г. и др.]; Гос. публ. ист. б-ка России, Стэнфордский ун-т (США). – М.: РОССПЭН (Рос. полит, энцикл.), 2003
26. Следственное дело В. В. Маяковского. Документы. Воспоминания современников / Вступ. статья, сост., подгот, текста и коммент. С. Е. Стрижнёвой; науч. ред. А. П. Зименков; Государственный музей В. В. Маяковского. – М.: Эллис Лак 2000, 2005. – 672 с.
27. Скорятин В.И. Тайна гибели Маяковского. – М.: Издательский дом Звонница, 2009.
28. Спиридович А.И. Записки жандарма. – Харьков: Издательство Пролетарий, 1928.
29. Трифонов Т.Т. Воспоминания. Не издано. – РГАЛИ, ф.1924, ед. хр. 500
30. Ходасевич В.М. Портреты словами. – М.: Советский писатель, 1987.
31. Чезаре Ломброзо/Гениальность и помешательство; [пер. с ит. Г. Тетюшиновой]. – М.: РИПОЛ классик, 2009. – 397 с.
32. Чуев Ф.И. Сто сорок бесед с Молотовым. – М.: ТЕРРА, 1991.
33. Янгфельдт Б. Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг. – М.: КоЛибри, 2009. – 640 с.
34. Янгфельдт Б. Любовь – это сердце всего. – М.: Книга, 1991.
Также использованы фрагменты произведений В.С.Соловьёва, Д.С.Мережковского, З.Н.Гиппиус, Андрея Белого, А.М.Горького, К.Д.Бальмонта, Д.В.Философова, В.А.Серова, а также В.М.Джапаридзе «Воспоминания о семье Маяковских», статья В.Ф.Земского «Участие Маяковского в революционном движении»
Выдержки из журналов: «Весна» (Спб, 1908), «Вперёд» (Лондон, 1875), «Вопросы жизни» (Спб, 1905), «Живое дело» (М. 1914), «Жизнь» (Спб, 1901, 1902), «Журнал журналов» (Петроград, 1915), «Квали» (Тифлис, 1898), «Книжный угол» (Петроград, 1918), «Летопись» (Петроград, 1915, 1917), «Мирок» (Спб, 1914), «Мир экрана» (М. 1918), «Новая жизнь» (1917, 1918), «Первогром» (Кишинёв, 1914), «Пулемёт» (Спб, 1905), «Рампа и жизнь» (М. 1918), «Русская мысль» (Спб, 1911, Петроград 1918), «Фигаро» (Париж, 1886, 1909, 1918).
Выдержки из газет: «Русь» (Спб, март 1881), «Самарская газета» (Самара, март 1895), «Пролетарий» (Женева, февраль 1905), «Вперёд» (Женева, июль 1905), «Известия Совета народных депутатов» (Спб, октябрь 1905), «Русское слово» (Спб, декабрь 1905, ноябрь 1911, февраль, май, ноябрь, декабрь 1913, февраль 1916), «Петербургская газета» (Спб, январь 1906), «Тюремный вестник» (Спб, октябрь 1907), «Утро России» (М, ноябрь 1911, декабрь 1913, февраль 1915, январь 1917), «Биржевые ведомости» (М, сентябрь 1909, февраль 1915), «Московские ведомости» (М, декабрь 1910), «Звезда» (Спб, декабрь 1910, апрель 1912), «Против течения» (Спб, февраль, март 1912), «Правда» (Спб, апрель 1912, март, апрель, октябрь 1917), «Обозрение театров» (Спб, ноябрь 1912), «Московская газета» (М, февраль, октябрь 1913), «Русская молва» (Спб, март 1913), «Речь» (Спб, март, май 1913, март, октябрь 1917), «День» (Спб, ноябрь 1913, февраль 1915, октябрь 1916), «Московский листок» (М, сентябрь 1913, декабрь 1917), «Речь» (Спб, май, ноябрь 1913), «Русские ведомости» (М, октябрь 1913, декабрь 1917, февраль 1918), «Голос Москвы» (М, ноябрь 1913, февраль 1914), «Раннее утро» (М, ноябрь 1913, октябрь 1914, февраль 1918), «Русские ведомости» (М, ноябрь 1913), «Нижегородец» (Нижний Новгород, декабрь 1913), «Свободное слово» (Севастополь, январь 1914), «Керченский курьер» (Керчь, январь 1914), «Южная почта» (Керчь, январь 1914), «Петербургская газета» (Спб, январь 1914), «Одесские новости» (январь 1914), «Свет» (Николаев, январь 1914), «Киевлянин» (Киев, февраль 1914), «Киевская мысль» (Киев, февраль 1914), «Северо-западная жизнь» (Минск, февраль 1914), «Минский голос» (Минск, февраль 1914), «Виленский курьер» (Вильно, февраль 1914), «Новь» (М, март 1914), «Голос юга» (Елисаветград, февраль 1914), «Приазовский край» (Ростов-на-Дону март 1914), «Саратовский листок» (март 1914), «Саратовский вестник» (март 1914), «Тифлисский листок» (Тифлис, март 1914), «Кавказ» (Тифлис, март 1914), «Каспий» (Баку, апрель 1914), «Калужский курьер» (Калуга, апрель 1914), «Голос жизни» (Петроград, февраль 1915), «Современный мир» (Петроград, февраль 1915), «Русская воля» (Петроград, февраль, март 1917), «Известия Петроградского Совета Рабочих Депутатов» (февраль, сентябрь, декабрь 1917), «Петроградская правда» (апрель, июль 1917), «Листок правды» (Петроград, июль 1917), «Свободный народ» (Петроград, ноябрь 1917), «Луч правды» (Петроград, ноябрь 1917), «Театральная газета» (М, декабрь 1917), «Известия ВЦИК» (Петроград-Москва, январь, март 1917, май 1918), «Вперёд» (Петроград, февраль 1918) «Дальневосточное обозрение» (Владивосток, июнь 1919), «Понедельник Власти Народа» (М, февраль 1918), «Московский вечерний час» (март 1918), «Анархия» (М, март 1918), «Буревестник» (Петроград, март 1918).




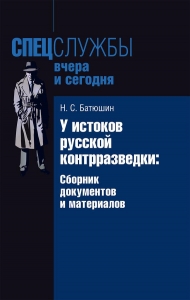
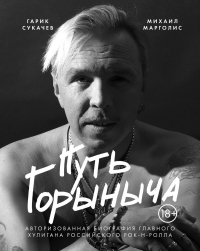

Комментарии к книге «Главная тайна горлана-главаря. Книга 1. Пришедший сам», Эдуард Николаевич Филатьев
Всего 0 комментариев