Валентин Сергеевич Новиков Илья Глазунов. Русский гений
© Новиков В. С., 2009
© ООО «Алгоритм-Книга», 2009
© ООО «Издательство Эксмо», 2009
Феномен Глазунова
Илья Глазунов снискал славу самого «скандального» и самого выдающегося художника XX века. Примечательно, что безоговорочное и, можно сказать, официальное подтверждение титула «самый выдающийся художник XX века» он получил под занавес уходящего и в канун наступающего столетия, причем не только на родине – по результатам опроса соотечественников, но и в международном масштабе: ЮНЕСКО удостоило его высшей награды – Золотой медали, присуждаемой за особо выдающийся вклад в мировую культуру.
Действительно, начиная с 1957 года, когда успех первой персональной выставки Глазунова в ЦДРИ отозвался эхом во всем мире, интерес к его творчеству не иссякает. Каждая новая выставка становится значительнейшим событием не просто культурной, но и общественной жизни. А ведь многие, начинавшие вместе с ним художники и получившие в свое время известность, как бы сошли с дистанции, давно отойдя в тень. Пример так называемых шестидесятников показателен.
Не кажутся странными утверждения самого Глазунова о том, что он не меняется и не отказывается ни от одного своего поступка, картины или высказывания. При всех социальных поворотах каждое новое монументальное полотно художника воспринимается зрителями как откровение, а пресса захлебывается от негодования по поводу очередной «скандальной» выходки Глазунова.
Но как бы ни стремились отнести Глазунова к некоему ряду «потрясателей основ» его оппоненты и критики, раньше обслуживавшие официальную советскую пропаганду, а теперь так называемую демократическую, большинство соотечественников признало в нем русского национального гения, воссоздающего подлинный исторический образ России и указывающего путь к ее духовному возрождению. Свидетельство тому – бесчисленные записи в неподъемных томах книг отзывов с каждой выставки художника. Кстати, такие отзывы справедливо считаются единственной формой выражения истинного общественного мнения.
Ученый Владислав Краснов, проживающий в США, проанализировал записи отзывов с выставок Глазунова, состоявшихся в московском и петербургском Манежах. И пришел к выводу, что из 10 посетителей 8 – за Глазунова! Исследование ученого было опубликовано за рубежом. Но что это для хулителей Глазунова! Они и народ-то не жалуют, называя его не иначе как быдлом.
С другой стороны, чернить публику не всегда с руки. Ведь она – признак успеха, и прежде всего финансового, чем более всего озабочены дельцы от культуры. Если на концерте или выставке присутствуют два-три человека – это провал, а не свидетельство избранности того или иного «творца», почему-то не получающего признания, ибо, как справедливо считает сам Глазунов, непризнанных гениев не бывает. Потому для дискредитации хороши все средства. Вспомнить только, какой возмутительный (ныне уже ставший привычным) способ дезинформации был использован в новостях об открытии выставки художника в год празднования тысячелетия крещения Руси. Было это в столичном Дворце молодежи, где тогда же в соседних залах открывалась выставка известных представителей «современного искусства». Там у входа толпилась жалкая кучка людей – пара-тройка десятков, как говорится, родных и близких. А очередь на Глазунова, где экспонировалось всего около 40 работ, огибая здание, уходила в глубь примыкающего парка. Мой друг, известный ученый, простоял с сыновьями на немыслимой жаре около семи часов, чтобы попасть в зал. А в вечернем выпуске новостей популярный комментатор, пристегнув кадры с очередью на выставку Глазунова, восторженно рассказывал о вернисаже творцов «современного искусства», и наоборот, весьма пристрастно комментируя выставку Ильи Сергеевича, показал малочисленных посетителей соседнего вернисажа.
Стоит ли поэтому удивляться отсутствию информации о восприятии творчества Глазунова крупнейшими деятелями мировой культуры, о реакции западной прессы на его триумф за рубежом. Кто, к примеру, хотя бы слышал об оформлении Ильей Глазуновым интерьеров советского (ныне российского) посольства в Мадриде, о состоявшейся в испанской столице его выставке? Тогда мэр Мадрида Терно Гальван, ознакомившись с проектом оформления здания, заявил, что оно будет лучшим украшением столицы. А в предисловии к каталогу выставки, которую открыл в самом престижном зале, назвал Глазунова гениальным художником. Так же восторженно отзывалась о нем испанская пресса. Даже мне, так или иначе соприкасающемуся с творчеством Глазунова три десятка лет, ничего об этом из наших средств информации почерпнуть не удалось. Зато мимолетные и ничтожные по своему значению наскоки за рубеж тех же авангардистов со своим «вторсырьем», реанимирующим «искания» коминтерновских погромщиков искусства 20-х годов, выдавались и пропагандировались как убедительные победы советского искусства. После той испанской поездки широкую огласку получило у нас интервью местному журналисту, где Илья Глазунов представлен махровым антисоветчиком. Эта история была высвечена известинским корреспондентом и послужила поводом для очередного витка травли художника. Правда, и на этот раз затея оказалась ее ретивым зачинщикам не по зубам: слишком много было у Глазунова поклонников его таланта.
Мировое искусство не знает другого примера, чтобы выставку какого-либо художника за месяц с небольшим смогли посетить, как в том же Дворце молодежи, около двух миллионов человек! Для Запада ошеломляющий успех – несколько десятков тысяч посетителей. Но для Глазунова сверхрекорды посещаемости были и остаются обычным явлением. Что же притягивало и по сей день влечет людей на его выставки?
В годы безраздельного диктата коммунистической идеологии, когда в общественном сознании беспощадно вытравливались любые проявления русской национальной самобытности, Илья Глазунов с удивительным бесстрашием и последовательностью обращался в своих произведениях к обычаям и традициям русского народа, к историческому облику великой державной России, воскрешая национальные представления о православном духовном идеале Святой Руси как Дома Пресвятой Богородицы.
Создавая художественную летопись исторического пути России, он неустанно и упорно возвращал в общественное сознание образы великих русских монархов, подвижников православной веры, полководцев, строителей государственности, деятелей литературы и искусства, составляющих могущество и славу Отечества, имена которых были очернены или преданы лукавому забвению. Ну кто дерзнул бы тогда в качестве идеального государственного деятеля публично превозносить выдающегося реформатора Петра Аркадьевича Столыпина? Преданный анафеме, Столыпин упоминался только как вешатель.
Для Запада Глазунов явился «одним из самых великих современных художников, нашедшим путь к синтезу наследия классической русской и современной мировой культуры» (Испания); «гениальным и мужественным, до конца преданным России – стране с безграничной готовностью к вере и страданию» (ФРГ); творцом, перед которым «русский народ действительно преклоняется» (США). В столь превосходных степенях отзывались о творчестве Глазунова знаменитые деятели мировой культуры, виднейшие государственные и общественные лидеры разных стран.
Несколько лет назад с группой молодых российских художников я попал в мастерскую выдающегося испанского скульптора Хуана де Авалоса, классика XX века, создателя грандиозного мемориала жертвам гражданской войны в Испании. От него и довелось услышать вот такое емкое определение личности Глазунова: «Он показывает, каким должен быть художник. Горе и страдания своего народа, исторические проблемы, которые он воплощает в своих картинах, отделяют его от сиюминутности, от политических интриг. Он идет своим путем. Он выделяется среди общества, которое имеет еще не вполне ясные представления о своих устремлениях, как гениальная личность. Его успех объясняется огромным талантом, искренностью, полной отдачей своей жизни искусству». В этих словах – промыслительная, провидческая сущность таланта великого художника.
Илья Глазунов всегда выступал против известного, нещадно эксплуатировавшегося постулата о том, что будто бы историю творят массы. Историю творят личности, утверждал он. И сам остается такой личностью, формируя национальное самосознание, способствуя русскому возрождению. Этому служит его искусство, вся необъятная просветительская и организаторская деятельность. Какой шок и растерянность вызывали у официальных властей печатные и публичные выступления Глазунова в многолюдных аудиториях, развенчивающие клеветнические пропагандистские мифы о «беспросветном проклятом прошлом» дореволюционной России, бывшей якобы тюрьмой народов! Он, фактически единственный, открыто утверждал, что Россия была самой сильной и свободной страной. Не случайно под крыльями российского орла искали убежище многие племена и народы, спасаясь от неминуемого истребления жестокими и хищными соседями. И не было страны, равной России по уровню духовного и экономического потенциала.
Особую роль в консолидации патриотических сил сыграл созданный Глазуновым в Германии совместно с виднейшим деятелем второй волны русской эмиграции Олегом Красовским монархический независимый альманах «Вече». Неоценимо значение Глазунова в создании Российской Академии живописи, ваяния и зодчества. Перед чем оказалось бессильно целое государство, сделал Глазунов. И теперь его академия, выпустившая в свет уже не одно поколение первоклассных художников, признана лучшим в мире учебным художественным заведением!
Вспоминаются слова, сказанные в 1921 году немецким романистом Я. Вассерманом в адрес наиболее любимого художником писателя и мыслителя Ф. М. Достоевского: «Редко так случалось, чтобы один-единственный человек, не будучи основоположником религии или покорителем мира, произвел столь значительные изменения в психологической ситуации нескольких поколений» [1]. Их с полным основанием можно отнести и к Илье Глазунову. Его имя стало одним из самых ярких символов национального самосознания и духовного возрождения России.
Крах советской системы в конце XX века парализовал всю страну. Жестоким ударам подверглись культура и искусство. Представители творческих профессий с вожделенной «свободой творчества», лишившись традиционной государственной поддержки, оказались за бортом жизни и были вынуждены переключиться на решение уже не профессиональных задач, а проблем элементарного выживания. Последовавший криминальный передел имущества творческих союзов еще больше осложнил и без того незавидное положение творческих работников. Благоденствовали лишь ловкачи, причисленные к так называемой демократической элите. Они ловко прокручивали свои дела в воцарившейся атмосфере нравственного, экономического и правового беспредела, тотальной коммерциализации, деморализации и профессиональной деградации культуры, насильственно лишаемой традиционных идеалов и ориентиров.
И тем не менее сохранившиеся здоровые силы не капитулировали.
Новое время озвучило и новые творческие имена. Но по-прежнему, как высказался об Илье Глазунове всем известный Сергей Владимирович Михалков, «на общем фоне духовной и культурной жизни эта фигура не имеет себе равных как по индивидуальности художественного мышления, так и по творческому и общественному имиджу».
Выставки произведений Глазунова, состоявшиеся в начале 2000 года в Москве и Петербурге, со всей очевидностью подтвердили правоту патриарха отечественной словесности. Правда, высказывались предположения, что ограбленному и обездоленному народу уже не до искусства, раздавались и злорадные пророчества недоброжелателей о неминуемом провале «всем надоевшего Глазунова». Однако открытие выставки с нескончаемой чередой народа поставило все на место. Художник потряс публику масштабностью и разнообразием экспозиции, включавшей, помимо известных, около сотни новых работ. Сенсационными стали историко-философские полотна – «Разгром храма в Пасхальную ночь» и «Рынок нашей демократии». Были здесь представлены и архитектурные (причем блестяще уже реализованные) проекты, открывшие новые грани его таланта. И вновь, как в былые времена, тома книг отзывов разбухали от выражения восторга и преклонения.
Творчество Глазунова давно разделило зрителей на два лагеря. Подавляющая часть их на стороне художника. Понятно и то, что «вдохновляет» его врагов – лютая ненависть к России и русскому народу. Накал же страстей вокруг Глазунова перешел всякие границы. Что можно сказать, когда среди опусов по поводу упоминавшихся выставок в Манежах красуется материалец, прямо подстрекающий к уголовному, точнее политическому, преступлению: уже не к творческому, как прежде, а физическому уничтожению художника? В заголовок статьи выносится: «Убить Глазунова».
С прямыми недругами художника еще в советское время смыкалась объединенная разномастная рать его коллег, включавшая именитых столпов и менее маститых старателей «соцреализма», «бунтарей», зараженных «авангардом» и одержимых иными побуждениями. Сплоченная клановыми интересами, она кормилась в структурах Союза художников и Академии художеств СССР, на дух не хотела принимать и терпеть в своих рядах Глазунова. Это была весьма уникальная и единственная в своем роде ситуация. Ведь одно дело, когда подобное случается с неким впавшим в манию величия претендентом на особое место в искусстве. И другое, если речь идет о всемирно признанном таланте.
Обвинялся Глазунов и в принадлежности к так называемым «официальным» художникам. Хотя ни с какими структурами, проводившими официальную идеологию в искусстве, он не был связан. И в то же время не снимались с него ярлыки убежденного антисоветчика и «проповедника религиозного фанатизма», искусство которого «не помогает строить коммунизм».
Есть одна особенность в общественном восприятии творчества Ильи Глазунова. В яростных спорах, разгоравшихся вокруг его картин, выставок и творчества в целом, на первый план всегда выходили идеологические, социальные проблемы. Художественный анализ произведений и творческой индивидуальности художника как блистательного колориста, величайшего мастера рисунка и композиции, картины которого сравнимы с симфонией в музыке или романом в литературе, чаще всего оставался в стороне.
Приоткрыть тайну «феномена Глазунова» непросто. Уже потому, что при поразительно насыщенной, яркой жизни художника невозможно абстрагироваться от многих общественных процессов, активным участником которых был сам Илья Глазунов.
Лучшим образом прокомментировать их может сам художник, что он при необходимости и делает со всей присущей ему искренностью и откровенностью. Однако Глазунов живет и измеряет жизнь по особым меркам, присущим действительно великим личностям. И то, что для великого человека представляется обычным, рядовым делом, для других, быть может, – недосягаемая высота.
Несколько лет назад мне довелось присутствовать на торжественном открытии замечательного памятника московского зодчества – Белых палат на Пречистенке после завершения их реставрации, длившейся около двух десятков лет. Факт спасения такого бесценного исторического объекта, приговоренного к уничтожению, единодушно оценивался как проявление Божьей милости, облеченной в чей-то безымянный подвиг. И вдруг один из почетных гостей, выступавших на торжестве, рассказал, как было дело. В конце 60-х – начале 70-х годов, когда в Москве велась очередная кампания по ликвидации памятников истории и культуры, властями было принято решение о срочном сносе Белых палат и других исторических зданий на Пречистенке. Предлогом для акции послужил предстоящий визит американского президента Никсона – для проезда его кортежа якобы требовалось расширить улицу. Но в ночь сноса Пречистенки улицу заполнили студенты, возглавляемые Глазуновым, которые вместе с ним буквально ложились под бульдозеры. В результате разразившегося общественного скандала удалось Пречистенку отстоять…
Надо было видеть побагровевшую физиономию функционера, ведущего церемонию, когда тот, повернувшись к выступавшему гостю, рявкнул ему в ухо: «О Глазунове – ни слова!» Оказалось, что в те годы функционер сам принадлежал к той категории ответственных чиновников, которые санкционировали погром исторической Москвы.
Когда же я попросил подробнее рассказать об услышанном в тот вечер, Илья Сергеевич только махнул рукой: «Да что там эти палаты! Ты же сам знаешь, что тогда происходило в Москве, – шла настоящая битва за спасение всего ее обреченного исторического наследия. Главное, что эту битву мы выиграли. А вот какая борьба развернулась за спасение памятников Ленинграда – например, храма Воскресения Христова («Спаса на крови»), возведенного на месте убийства императора Александра II, – тоже весьма интересная история…»
«Всякое событие и личность интересны прежде всего тем, как они выражают определяющие черты той или иной исторической эпохи», – считает Глазунов. Слагая вехи его жизненного и творческого пути, постараемся следовать этому принципу. Правда, по моим наблюдениям, проходных, «неисторических» событий или периодов у него не было. Хотя сам он нередко с огорчением утверждает, что львиная доля времени, столь необходимая для творчества, уходит на преодоление чиновничьих и иных препон.
Жизнь словно мозаика других жизней
Родовое предание
Общеизвестно, что линия жизни каждого человека во многом предопределена его происхождением, родовыми корнями, окружающей с детства обстановкой. Не в столь далекие советские времена гарантом социальной доброкачественности и надежности человека служило пролетарское происхождение. Принадлежность к интеллигентской «прослойке» в официальных инстанциях вызывала определенную настороженность. К примеру, прием в партию интеллигенции строго лимитировался, даже если кандидат являлся таковым в первом поколении. А что уж говорить, если человек принадлежал к какому-либо из так называемых эксплуататорских сословий! Такое родство даже в «застойные» годы приходилось если не скрывать, то уж во всяком случае не афишировать. Поэтому в прежние времена вопрос о родовой принадлежности Ильи Глазунова в разного рода публикациях практически не поднимался, а если и затрагивался, то в соответствующем ключе и надлежащих пределах. Впрочем, поглощенному борьбой за свое место в искусстве и будущее России самому Илье Сергеевичу было не до генеалогии, хотя живая память о родителях и предках служила ему источником сил и вдохновения. И лишь когда пришла пора написать книгу-исповедь, в которой он, по его словам, хотел бы вернуть народу многое из того, что оболгано и оклеветано, выразить свой взгляд на добро и зло в этом мире, ответить на «проклятые» вопросы, поставленные временем и историей, – тогда и возникла настоятельная необходимость в архиве.
Архивные документы, будто увиденные впервые, возвращали к памяти свидетельства и трагические картины прошлого. Или родовое древо художника. Уходящее по материнской линии в глубины славянской древности, по нему впору писать очерки российской истории. Независимо от рода занятий предки Глазунова были богато одаренными художественными натурами – занимались музыкой, живописью, поэзией, историческими и научными исследованиями и уж непременно были ценителями и собирателями произведений искусства. Так, дядя художника, академик медицины Михаил Федорович Глазунов, собрал ценнейшую библиотеку и коллекцию картин русских художников. Перед своей кончиной он завещал ее Саратовскому художественному музею, где она хранится и по сей день. Все это многообразие творческих талантов сфокусировалось и блистательно воплотилось в творчестве Ильи Глазунова…
Признаюсь, когда я впервые соприкоснулся с историей рода Ильи Сергеевича по материнской линии, то от неожиданности и кажущейся невероятности был просто ошеломлен и зачарован ею, как прекрасной романтической сказкой. Сам Илья Сергеевич услышал об этом в раннем детстве от своей матери Ольги Константиновны Флуг, которая во время прогулок по Васильевскому острову знакомила сына с его родословной, рассказывала об уже ушедших и живущих родственниках, строго предупреждая, что говорить никому ничего нельзя, ибо «ты ведь знаешь, какое сейчас время: кто расстрелян, а кто – выслан».
Семейное предание гласило, что в давние времена в Чехии правила прекрасная и мудрая королева Любуша, которую народ боготворил. Но у нее не было мужа. И некоторые представители знати стали по этому поводу устраивать смуту. Тогда Любуша согласилась с таким предложением: пустить на волю коня, и тот первый мужчина, перед кем он остановится, станет ее супругом… Конь скакал через леса и поля, а за ним в золотой карете следовала со свитой Любуша. Наконец он остановился перед одиноким пахарем, пахавшим безбрежное поле, и ударил копытом. Удивленный пахарь, узнав в чем дело, возгласил: «Быть по сему!» И воткнул свой посох в землю, из которого выросли три розы… Эти розы, произрастающие из жезла и преобразившиеся в форму плуга, вошли в родовой герб рода, ставшего носить фамилию Флуг (по-немецки – плуг)…
С этим преданием в более полном изложении можно познакомиться не только в энциклопедии Брокгауза и Эфрона, но и в других исторических источниках, которые свидетельствуют, что новая королевская чета, благополучно управляясь с государственными делами, основала город Прагу. Впоследствии представители разросшегося королевского рода расселились по Европе. В Россию их занесло в начале XVIII века, когда Петр I пригласил одного из Флугов для преподавания математики и фортификации. Генерал Флуг верно служил России и отличился в битве под Лесной, когда русские разбили шведские войска генерала Левенгаупта, шедшие под Полтаву на помощь Карлу XII.
От Ильи Сергеевича я не раз слышал, что до войны в семейном шкафу под бельем хранился завернутый в газету рулон, на котором тушью было изображено фамильное древо дворянского рода Флугов, уходившее корнями в глубокую древность. Но потом он куда-то исчез: возможно, был перепрятан в более надежное место, так как хранить подобные документы в ту пору было небезопасно – из Ленинграда эшелонами увозили в ссылку лиц непролетарского происхождения (эта участь постигла и некоторых родственников семьи Глазунова). Хотя, скорее всего, вместе с другими ценными бумагами, изображением родового герба и рукописями был утрачен во время блокады.
И вот однажды Илья Сергеевич встретил меня радостно: «А я кое-что нашел!» Загадочно улыбнувшись, спросил: «Хочешь увидеть наш родовой герб?» И тут же из груды папок и книг, которыми всегда завален гостиный стол его квартиры в Калашном переулке, извлек обширный лист и разложил передо мной. Изумиться было чему: на листе был изображен герб не только в первоначальном виде, но и с последующими модификациями, происшедшими со временем. Неизменной оставалась одна деталь: три проросшие из жезла розы в форме плуга. Спрашивать, в каком архиве была обнаружена эта фамильная реликвия, я не стал, полагая, что о находке Илья Сергеевич расскажет сам в своей книге «Россия распятая».
Мне не раз доводилось встречать в исторических изданиях упоминания о лицах, носивших фамилию Флуг. История этого дворянского рода – предмет особого исследования. Но сейчас хотелось бы остановиться на ближайших предках и родственниках художника, которые оставили живой след в его душе, непосредственно влияли на формирование его личности.
Желанный гость семейства Флугов
Главой рода Флугов является прадед Ильи Сергеевича Карл Карлович, проживавший в середине XIX века со своим семейством в собственном доме на Васильевском острове. Это был душевно отзывчивый человек, неравнодушный к поэзии и искусству, посещавший даже некоторое время Академию художеств. Его ближайшим другом и желанным гостем всего семейства стал выдающийся русский художник Павел Андреевич Федотов, занимавшийся и поэтическим творчеством. Их знакомство произошло случайно: однажды Павел Андреевич, служивший в лейб-гвардейском Финляндском полку, проходя мимо дома Флугов, почувствовал себя дурно и попросил напиться. Вскоре дом Флугов стал для него почти родным. Приходя на обеды, душа общества, он непременно читал свои стихи. Кстати, когда мне самому довелось прочитать написанные его рукой строки поэмы «Женитьба майора», поразило сочетание армейской строгости и выстроенности почерка с юмористичностью произведения, удивительное созвучие его поэтического и художественного дара. Он хорошо играл на гитаре, аккомпанируя своим песням.
По вечерам Федотов за семейным столом рисовал свои жанровые картины, а Карл Карлович, хозяин дома, в это время читал что-то вслух. Члены семьи Флугов, их друзья и даже прислуга нередко позировали художнику. Эти рисунки и портреты ныне находятся в Третьяковской галерее и Русском музее. Многим будет интересно узнать, что для «Утра свежего кавалера» позировала горничная Флугов, а для фигуры жеманной невесты в «Сватовстве майора» позировал сам Карл Карлович; себя же Федотов изобразил в образе жениха-майора.
Известен выполненный Федотовым портрет Е. Г. Флуга, изображенного перед свечой с листом бумаги в руке. Возможно, это отец Василия Егоровича Флуга, участника русско-японской войны, генерал-квартирмейстера 2-й Маньчжурской армии. Родившийся в 1860 году, Василий Флуг получил образование в Михайловском артиллерийском училище и Николаевской Академии Генерального штаба. В справочнике «Список генералов по старшинству» 1906 года приводится его послужной список и награды, в том числе и иностранные – офицерский крест Французского ордена Почетного легиона и Командорский крест Бельгийского ордена Леопольда. А в «Вестнике русской конницы» № 19 22 за 1914 год дан поясной портрет с подписью «генерал от инфантерии В. Е. Флуг». Некоторые документы о военной деятельности генерала Флуга содержатся в книге «Тайны русско-японской войны» (М., 1992).
Из этюдов и картин Федотова в доме Флугов скопилась целая коллекция, которую по какому-то случаю Карл Карлович передал своему знакомому, но обратно не получил. Лишь спустя несколько лет он увидел ее в одном из магазинов, оцененную в 1500 рублей… К сожалению, была утрачена и огромная коллекция портретов прадедов кисти Лампи, старых русских монет и воинских медалей, собранная сыном Карла Карловича, дедом Ильи Сергеевича, Константином Карловичем Флугом.
О личности П. А. Федотова, его чертах характера и своеобразной внешности Константин Карлович оставил ценные, изобилующие редкостными подробностями записи, часть которых Илья Глазунов приводит в своей книге «Россия распятая». В целом же история отношений семьи Флугов с Федотовым занимательна не просто сама по себе, она раскрывает атмосферу жизни, царившую в определенных слоях русского общества того времени, позволяет глубже узнать реальную жизнь дореволюционной России. А вот одно из свидетельств Ильи Глазунова, относящееся к блокадным годам:
«Я помню, как в темной, холодной комнате (тогда как в других лежали мертвые родственники – бабушка, тетя – и жуткой пустотой зияла комната, где умер отец), при свете коптилки на меня неотступно смотрели с портрета кисти Федотова глаза моего прадеда К. К. Флуга. Словно времена остановились, и они до жути пристально внимали из 40-х годов XIX века всему ужасу катастрофы своих потомков в 42-м году XX века. Много лет спустя моя тетя Агнесса Константиновна решила передать этот портрет по просьбе работника Третьяковской галереи в знаменитое национальное собрание. Несколько лет назад, придя в Третьяковскую галерею, я увидел под стеклом витрины все в той же знакомой рамке на глухом зеленом фоне незабываемые глаза прадеда. Почему-то мне стало страшно, мгновенно встали в памяти ушедшие страшные времена. Под этим портретом от голода умерла моя мать. И еще я вспомнил, как незадолго до войны стоял с матерью в Александро-Невской лавре на торжественном праздновании юбилея великого русского художника П. А. Федотова. Запомнилось грустное надгробие Мартоса, прекрасные траурные марши в мраморе, посвященные великим людям России».
Генеральская шинель
Дед Ильи Сергеевича по материнской линии Константин Карлович Флуг был по образованию горным инженером и служил в Министерстве финансов, занимаясь вопросами, связанными с оборотом золота. Дослужился до чина действительного статского советника, что соответствовало чину армейского генерал-майора. Его усердное служение Отечеству было отмечено многими наградами, и не только российскими. Это и ордена Святого Даниила – от князя Черногорского, Льва и Солнца – от персидского шаха, Кавалерский крест Почетного легиона Франции.
Константин Карлович обладал незаурядными научными и творческими способностями. Он написал книгу о главнейших типах русских золотых монет, несколько работ по истории нумизматики. А в 1909 году вышло его историческое исследование «Викинги и Русь», отражавшее традиционный семейный интерес Флугов к прошлому Отечества. Не чужда ему была и поэзия. В 1914 году Константин Карлович издал сборник своих стихов, сохранившийся в бывшей «Ленинке». В предисловии к нему он написал: «Если кто-либо найдет какое-либо хорошее чувство или проникнется, хотя и ненадолго, непрозаическим настроением, прочтя эти стихи, я буду совершенно удовлетворен и доволен, так как, исходя только из этих желаний, я решился напечатать их».
У одной из родственниц Ильи Сергеевича я видел фотографию 1909 года, на которой запечатлен основательный загородный дом Константина Карловича на станции Дибуны по Финляндской дороге, неподалеку от Куоккалы. Там же жил Илья Ефимович Репин. После Октябрьского переворота дом оказался бесхозным, затем передан под детский сад. А его хозяин был обречен на нищенское и голодное существование. Однажды, в Петрограде, революционный солдат снял с Константина Карловича приглянувшуюся представительную шинель, и, отдав свою изношенную, пояснил, что в таком обмундировании хозяина могут спокойно «укокошить» по классовому признаку. И был вполне прав. Что в ту пору творилось в Петрограде, известно из различных источников. Ярко те события представлены в записках другого, двоюродного деда Ильи Сергеевича – генерала Ф. А. Григорьева, о котором будет рассказано особо. Развернувшаяся тогда сатанинская вакханалия изображена на монументальной композиции И. Глазунова «Разгром православного храма в Пасхальную ночь». Между прочим, в числе запечатленных на ней персонажей на левом крае полотна есть и печальный образ Константина Карловича, облаченного в еще не «экспроприированную» шинель генеральского достоинства. Другая генеральская шинель неслучайно наброшена на тело революционной «жрицы любви».
Со времен Французской революции, названной, как и Октябрьская в России, Великой, присутствие проституток в храмах стало правилом богоборческой деятельности. Между прочим, среди особ, занимавшихся уличным промыслом, были и принадлежавшие даже к высоким сословиям, и профессиональные революционерки. Вспомним хотя бы А. Коллонтай, ставшую чрезвычайным и полномочным послом России в Швеции, чьи революционные преобразования в области половой жизни небезызвестны. Такая примечательная, по нынешней терминологии, сексуальная окрашенность революции (возродившаяся в период нынешних «перестройки» и «демократии») входила в жизнь и рушила духовные и нравственные устои общества, к которому принадлежал преданно служивший Отечеству Константин Карлович Флуг, скончавшийся от голода в 1920 году.
Помимо всего прочего, он был хорошим семьянином, воспитал пятерых детей – двух сыновей и трех дочерей. Назовем их в порядке старшинства: Валериан, Агнесса, Елизавета, Константин и Ольга – мать Ильи Сергеевича.
Валериан Константинович вместе с семьей был выслан из Ленинграда и умер в ссылке. В годы войны, как следует из его редких писем сестре Агнессе, он работал на Урале. Агнесса Константиновна жила с мужем в Ботаническом саду в деревянном доме на берегу Невки. Неподалеку некогда находился дом Петра Аркадьевича Столыпина, разрушенный взрывом во время покушения на него. Тогда погибло около 30 человек, ожидавших в приемной, и были ранены его малолетние дети. Позже на этом месте был воздвигнут обелиск, сохранившийся до наших дней. Бывая здесь, Илья Сергеевич, естественно, не может не вспоминать, что в детстве слышал о великом русском реформаторе, чей образ будет сопутствовать ему как идеал государственного деятеля. Оскверненную могилу Столыпина художник восстановит в конце 1980-х годов у стен Успенского собора Киево-Печерской лавры. Помнит он и рассказы тети Аси о том, как после революции к пирсу подгоняли колонны лучших людей города, грузили на баржи, а потом топили в Ладоге и в Финском заливе.
Мужем Агнессы Константиновны был Николай Николаевич Монтеверде, занимавшийся выращиванием лекарственных растений в том же Ботаническом саду. А основателем знаменитого там музея был его отец, известный ботаник Николай Августинович Монтеверде, потомок архитектора Августина Монтеверде, приглашенного из Италии императором Николаем I. Так что у Ильи Глазунова есть дополнительный повод быть признательным одному из самых любимых российских самодержцев, который, усмирив масонский бунт декабристов, на целый век отсрочил революцию.
Николай Николаевич, или дядя Кока, неравнодушный к своему юному племяннику, с удовольствием знакомил его с диковинными растениями Ботанического сада, с которым связывались первые ощущения от благодатного воздействия природы, вхождение в ее мир. Ботанический сад привлекал многих знаменитостей. Здесь любили бывать Репин и Жуковский, Рахманинов и Блок. Дом Монтеверде притягивал душевным теплом и уютом, общением с произведениями искусства и знакомством с русскими сказками, гениально проиллюстрированными Иваном Билибиным.
Во время блокады и в годы эвакуации в Новгородскую область для Ильи, перенесшего смерть родителей и ближайших родственников, тетя Ася с дядей Кокой стали главной опорой в жизни, надеждой на обретение домашнего очага. Необычайно трогательные письма и посылки с книгами, приходившие от них из блокадного Ленинграда, где жизнь едва теплилась под непрерывными обстрелами и бомбежками, помогли ему перенести непоправимое горе, выстоять, не ожесточиться. У них же он нашел на первое время приют после возвращения из эвакуации и в годы учебы.
Другая сестра матери Ильи Сергеевича – Елизавета Константиновна была женой профессора Ленинградской консерватории Рудольфа Ивановича Мервольфа, потомка выходцев из Германии. Ученик выдающегося композитора А. К. Глазунова, чем он очень гордился (в театральном музее Петербурга хранятся две фотографии – Глазунова и Лядова с дарственными надписями), Рудольф Иванович, аккомпанировавший Шаляпину и Крейслеру, близко общался с Исааком Дунаевским и часто выполнял его срочные заказы по аранжировке песен. Рудольф Иванович умер во время блокады 5 июня 1942 года, а его супруга Елизавета Константиновна – 9 августа 1942 года.
В довоенные годы подростком Илья очень дружил с дочерьми Мервольфов – двоюродными сестрами Аллой и Ниной, бывая на даче под Лугой. Холоднее были отношения с их братом Димой, поклонником джаза, который Илья никогда не любил. С началом войны семья Мервольфов отказалась от эвакуации. Дима, призванный в армию, вскоре погиб на острове Эзель. А сестры, пережив блокаду и смерть родителей, продолжали жить в опустошенной квартире, куда и направился с вокзала вернувшийся в родной город Илья Глазунов.
Второй сын К. К. Флуга, Константин Константинович, был белым офицером и чудом спасся, бежав через крышу сарая, в котором должен был быть сожжен заживо вместе с другими офицерами. После гражданской войны, став китаистом, проходил практику в Китае, работал с известным академиком Алексеевым и издал более 20 научных трудов. Кончина его была печальной: он умер в блокаду в один день с отцом Ильи Сергеевича – Сергеем Федоровичем-13 января 1942 года.
Жена Константина Константиновича – актриса Инна Мальвини после смерти мужа эвакуировалась по «Дороге жизни» в Баку. Потом ее следы затерялись, пропала и памятная для Ильи Сергеевича фотография с надписью «Лучшей Анне Карениной от почитателя таланта».
Любимый наставник наследника престола
Прежде чем рассказать о родителях художника, Ольге Константиновне и Сергее Федоровиче, упомянем некоторых других предков Ильи Сергеевича. Но сначала отведем упреки в адрес художника, встречающиеся в публикациях, якобы в чванстве аристократизмом своего старинного рода. Кстати, подобный упрек был высказан в свое время Пушкину. Иван Сергеевич Аксаков, один из столпов русской мысли, писал по этому поводу, что такой упрек несправедлив уже потому, что «наши аристократы мало интересуются своими историческими предками». А Пушкин действительно знал и любил своих предков. И было бы желательно, продолжает свое рассуждение Иван Сергеевич, чтобы связь преданий и чувство исторической преемственности было доступно не одному дворянству, но и всем сословиям. Но что душе Пушкина давала эта любовь к предкам? «Давала и питала лишь живое, здоровое историческое чувство».
Да это будто о жизни и творчестве Ильи Глазунова. А сам Глазунов о значении родовой и исторической памяти высказывается как всегда емко и чрезвычайно актуально для современников: «Где начинается и где кончается наша родовая память о нашем происхождении? Украсть, исказить и уничтожить историю народа – величайшее преступление. Не случайно ведь, что у большинства народов разных рас и цивилизаций, а особенно у славянского племени, память о предках переходила в религиозное начало. Стереть память о них, об истории народа – значит превратить его в стадо рабов, которым легко управлять. «Хлеба и зрелищ!» Это хорошо понимали коминтерновцы, завоевавшие Великую Россию и уничтожившие не только элиту сословий каждой покоренной нации, но и историческую застройку древних городов, прежние названия улиц и осквернившие старинные кладбища».
Я не раз слышал от Ильи Сергеевича упоминание о книге, подаренной мамой в день рождения, когда ему исполнилось восемь лет. Называлась она «Царские дети и их наставники». И вспоминаю, с какой радостью он подарил мне переиздание этой книги в 1992 году, которой когда-то любовался, благоговейно перелистывая страницы фолианта с золотым обрезом. Тогда же он услышал от мамы: «Не показывай книгу своим друзьям во дворе. Это опасно». – И шепотом добавила: «Ты должен запомнить, что фамилия твоей бабушки и моей матери Елизаветы до замужества была Прилуцкая. Ее сестра, Наталья Дмитриевна, как ты знаешь, вышла замуж за дядю Федю Григорьева, генерала, директора Первого кадетского корпуса у нас в Петербурге на Васильевском острове. А их мать, Мария, была дочерью воспитателя Государя Александра II – Константина Ивановича Арсеньева».
Позже, эвакуированный по знаменитой «Дороге жизни» из блокадного Ленинграда, Илья Глазунов зафиксирует полученные от мамы сведения в своих записях, с которыми мне довелось познакомиться вместе с другими семейными документами, хранящимися в его архиве. Увидел я и запечатленный на дагерротипе образ дочери К. Арсеньева Марии, излучающий красоту и достоинство.
Но остановимся на личности самого Константина Ивановича Арсеньева, тайного советника, академика Петербургской академии наук, родоначальника статистики, известного географа и историка. Родившийся в 1789 году в семье сельского священника Костромской губернии, он, после окончания семинарии, был послан в петербургский Главный педагогический институт, который окончил в 1810 году, где своим усердием обратил на себя внимание профессоров и был оставлен для преподавания латыни и географии. Одновременно занимался статистическими работами по ведомству Министерства внутренних дел.
В 1818–1819 годы у Константина Арсеньева вышло двухтомное сочинение «Начертание статистики Российского государства», в котором впервые была дана оценка численности населения России в XVIII – начале XIX века и подсчитано, что к началу 1812 года в ней проживало около 45 миллионов человек; а после Отечественной войны 1812 года население уменьшилось на 1 миллион.
…Числом в миллион может измеряться население целой народности.
Интересно, что за 43 года до манифеста Александра II об освобождении крестьян К. Арсеньев выступал против крепостного права, утверждая, что «земля, возделанная вольными крестьянами, дает обильнейшие плоды, нежели земли одинакового качества, обработанные крепостными».
В 1819 году Арсеньев стал профессором кафедры географии и статистики Петербургского университета, но спустя два года был изгнан оттуда за либеральные убеждения. От более серьезных последствий его избавило заступничество Великого князя Николая Павловича, впоследствии государя Николая I. А в 1828 году при обсуждении вопроса о воспитании наследника престола, будущего царя Александра II, сам Николай I рекомендовал его в качестве преподавателя истории. Преподавал он наследнику географию и статистику.
По мнению современников, К. Арсеньев внушил будущему царю многие идеи, которые реализовались в ходе реформ 1860–1870-х годов. В 1848 году вышла новая работа Арсеньева «Статистические очерки России», первая по экономической географии страны.
Процесс обучения Александра II был возложен на выдающегося русского поэта Василия Андреевича Жуковского. Его замещал Арсеньев. С наследником престола у Константина Ивановича сложились теплые доверительные отношения, о чем свидетельствуют письма будущего царя своему воспитателю. В одном из них, посланном из Вены, он пишет:
«…я чувствую себя, благодаря Бога, совершенно хорошо и прошу вас, любезный Константин Иванович, не забывать вас от души любящего.
Александр».О научных заслугах К. И. Арсеньева перед Отечеством можно прочесть в книгах, ставших библиографической редкостью, и энциклопедических справочниках. Но, знакомясь с ними, я поначалу не мог понять, почему столь известный и авторитетный человек закончил свой земной путь в Петрозаводске. По этому поводу петрозаводский историк А. Пашков по моей просьбе нашел и прислал мне любопытные материалы. Оказывается, когда 2 сентября 1812 года Наполеон вступил в Москву, министр народного просвещения граф А. К. Разумовский, опасаясь движения наполеоновских войск на Петербург, распорядился эвакуировать в Петрозаводск Академию художеств, Академию наук, Медико-хирургическую академию, Публичную библиотеку и Главный педагогический институт. Туда же отправились и сокровища Эрмитажа. Эвакуация производилась не менее чем на шести судах. Арсеньев оставил свои записки, оказавшись в той экспедиции. В Петрозаводске он, по просьбе начальника олонецких горных заводов А. В. Армстронга, составил их описания «в историческом и статистическом отношениях».
В этой работе, посвященной истории горной промышленности Карелии, содержащей немало ценной информации, Арсеньев попытался ответить и на многие вопросы, связанные с развитием всего отечественного горного дела, сравнил эффективность государственных и частных горных предприятий и оценил значение иностранных специалистов и зарубежных технологий для горной промышленности России. На этот труд Арсеньева ссылались дореволюционные историки горного дела. Одновременно им был составлен и статистический очерк Олонецкой губернии.
Божьим промыслом сына Константина Ивановича Юрия Арсеньева судьба тоже связала с Олонецким краем. После окончания Царскосельского лицея он поступил на государственную службу. В 1861 году был назначен губернатором в Смоленск, а через год переведен на ту же должность в Петрозаводск, где за 8 лет своей деятельности немало сделал для преуспеяния Олонецкой губернии. Затем он стал губернатором Тульской губернии, где и скончался в 1873 году.
В 1864 году больной К. И. Арсеньев приезжает к сыну в Петрозаводск. Но жить ему оставалось недолго. 29 ноября (11 декабря по новому стилю) он умирает. Местом его захоронения становится Зарецкий Крестовоздвиженский храм в Петрозаводске, сохранившийся до наших дней. Сохранилась и могильная плита со скромной надписью: «Тайный советник Константин Иванович Арсеньев, родился 12 октября 1789 года. Скончался 29 ноября 1865 года».
Архивные документы, найденные Ильей Сергеевичем Глазуновым, свидетельствуют, что К. И. Арсеньев участвовал в работе специальной комиссии по установлению места захоронения освободителя Москвы от поляков князя Дмитрия Пожарского. Прах его был обнаружен в одной из гробниц Суздаля 23 февраля 1852 года. Тогда над останками великого сына России воздвигли мраморный памятник. Но в 30-е годы XX века его постигла печальная участь, равно как и храм, где были захоронены останки Козьмы Минина, славного сподвижника Пожарского. Храм был взорван, а на его месте соорудили здание обкома партии. А в суздальском Спасо-Ефимьевском монастыре, где находилось надгробие Пожарского, вначале была тюрьма, затем колония для малолетних преступников. Потом это место превратилось в мерзость запустения с грудой мусора.
Илья Сергеевич в годы господства коммунистической идеологии сумел «пробить» об этом материал в прессе, обращая внимание на глумление над отечественной историей и культурой. Наверное, это подействовало, и на месте захоронения Пожарского был установлен его бюст.
Крик души
Для воссоздания атмосферы, в которой происходило формирование личности будущего художника, расскажем и о другом его предке – генерале Федоре Алексеевиче Григорьеве. Самого Федора Алексеевича Илья Глазунов, естественно, знать не мог, ибо тот скончался в 1924 году. Но образ его берегли в семейной памяти, тем более что живым напоминанием о нем была его здравствовавшая супруга – сестра бабушки Ильи Сергеевича – Наталья Дмитриевна, до замужества носившая фамилию Прилуцкой. По детским впечатлениям художника она, появляясь у Глазуновых, привлекала бодростью, миндалевидными глазами и седыми волосами, причесанными волной наверх, а также изящными шнурованными сапожками, как у Незнакомки Блока, которые прежде всего замечал играющий на полу в солдатики Илья.
Сам же Ф. А. Григорьев – личность удивительная, заслуживающая особого внимания. После окончания военного училища он участвовал добровольцем в сербско-турецкой войне. После ранения вернулся в Россию, где по выздоровлении продолжил военную службу, а затем преподавал в военно-учебных заведениях. Несколько лет был директором Воронежского кадетского корпуса. В 1904 году по воле великого князя Константина Константиновича Романова, начальника Управления военно-учебных заведений России, переведен на должность директора Первого Петербургского кадетского корпуса.
Константин Константинович известен как переводчик, талантливый поэт, писавший под псевдонимом «К. Р.». По его религиозно-исторической драме «Царь Иудейский» был поставлен спектакль, в котором он сам сыграл главную роль.
Незаурядные организаторские способности Федора Алексеевича раскрываются в его переписке с Константином Константиновичем. Великий князь стал и его крестным отцом на литературном поприще, настояв на том, чтобы Федор Алексеевич приступил к регулярному ведению записей событий текущей жизни. Эта возложенная на него обязанность переросла в привычку и потребность. Так, были написаны удивительные мемуары под названием «Дед – внукам». Затерявшиеся на долгие годы записи Федора Алексеевича были найдены Ильей Сергеевичем в начале 90-х годов прошлого века. Нашлась и переписка деда с великим князем. Мемуары до сих пор не изданы. Между тем они представляют огромную историческую ценность как объективное свидетельство современника и участника событий в России последней трети XIX и первой трети апокалипсического XX века. Мемуары Федора Алексеевича можно поставить в один ряд с «Окаянными днями» Ивана Бунина, петербургским дневником Зинаиды Гиппиус, запечатлевшими зловещую атмосферу революционного переустройства. Но если Бунин выражает мироощущение русского дворянства, а Гиппиус – мировоззрение, сложившееся в недрах Серебряного века, то Федор Григорьев опирается на представления о здоровом русском национально мыслящем человеке, неразрывно связанном с землей.
Я познакомился с записями Федора Алексеевича в пору перестроечного разбоя, когда все подвергалось тотальному разорению и разграблению. И меня поразила схожесть этой стихии с той, которая захлестнула Россию после Октябрьского переворота. Хотя, собственно, чему было удивляться, если «архитекторы» и «прорабы» так называемой перестройки открыто объявили себя последователями революции. Можно было только предполагать, что за этим последует. Однако трагическое настоящее превзошло все самые немыслимые предположения.
Вот одна из записей Федора Алексеевича (конец 1918 г.):
‹…› «Теперешняя наша жизнь есть сплошная мука. Вечно голодный, думаешь только о том, как бы утолить голод, а потому не можешь заняться каким-нибудь другим делом. Кроме голода еще хуже одолевает холод: в комнатах от 4 до 7°, дров нет… Такой жизни не жаль, и смерти ждешь как избавления, тем более что знаешь: здесь, на этом свете, дальше будет все хуже и хуже…
Посмотрите, каким ореолом окружены лица, стоящие во главе правительства! Как они живут и чем питаются! И если это до некоторой степени присуще лицам, стоящим во главе правительства (Ленину, Троцкому, Зиновьеву и др.), то, казалось бы, не к лицу низшим агентам его. Но посмотрите, как живут комиссары… И вообще власть имущие. А посмотрите, какие размеры приняли разного рода хищения и как они часты! Этого не скрывают даже правительственные газеты, хотя, разумеется, они сообщают не все. Например, нам достоверно известно, что наш ремонт не начинается до сих пор и доставка дров застопорилась потому, что комиссар, стоящий во главе Инженерного управления… удрал, захватив с собой б миллионов. Его «залапали», но, говорят, без миллионов. В газетах об этом ни слова, и вряд ли его будут судить, так как он бесспорный коммунист… Хищения же в грандиозной степени увеличились».
Позволю себе процитировать еще некоторые выдержки.
«7.09.1919 год.
Что ныне, в правлении большевиков, бросается особенно в глаза – это невозможная волокита и безобразные порядки, принятые как бы нарочно для того, чтобы возмутить народ.
Не зная точной статистики о числе ежедневных смертей в Петрограде, а только вспомнив число смертей в среде своих знакомых за последний только год (более полсотни наберется), – число их громадно! А число жителей, по официальным данным, уменьшилось уже наполовину! Присутствуя же на отпевании умерших в церквах на кладбищах… не понимаешь, как это Петроград еще не весь вымер?! Но на этих темах останавливаться не следует. Давно решил жить сегодняшним днем: день прожил – благодари Бога. А завтра умрешь – благодари еще больше».
«21.08.1920 г.
Если верить книге Нилуса («Великое в малом»), то самодержавие Иудейского царя, если сионистам удастся ввести его в жизнь в той форме, в которой они проектируют в теории, пожалуй, будет наилучшая форма правления на земле. Но сколько надо еще сделать преступлений, чтобы этого достигнуть! Но сионисты придерживаются иезуитского правила: «Цель оправдывает средства!» А поверив книге Нилуса, нетрудно допустить, что и наше советское правительство (в большинстве евреи) преследует ту же цель сионистов. Тогда по крайней мере многое непонятное делается понятным».
«17.03.1921 г.
При своем воцарении большевики обещали «свободу, мир и хлеб». Эти заманчивые слова и привлекли на первых порах на их сторону темные массы. Ни одного из своих обещаний они не выполнили, вместо свободы – беспримерный в истории гнет…
Крестьян обирают дочиста: хлеб, лошади, коровы и пр. остаются в очень ограниченном числе. За оставленную корову – налог молоком и маслом. Вообще грабеж в огромных размерах!»
«18.03.21 г.
С конца прошлого года и по сие время число краж, грабежа, мошенничества и др. сильно возросло…
Пришел под американским флагом пароход «Феникс» (если не ошибаюсь) с пищевыми продуктами для русских (?) детей. Капитан немец. Начали разгружаться, но капитану пришлось разгрузку прекратить: рабочие (русские) начали систематически воровать груз. Капитан донес в Смольный, что возобновит разгрузку только под охраной воинской части. Прислали красноармейцев. В комиссии, руководящей раздачей провизии, два доктора – евреи. Сына М., а также другого из наших преподавателей с русской фамилией не признали достойными получить продукты. М. говорит, что раздают по преимуществу детям-евреям. Очевидно, это помощь американских евреев своим русским соотечественникам! А евреи у нас, как я уже упоминал неоднократно, не голодают, в хвостах ни одного нет, все вновь открытые лавки – еврейские! Без погрома дело не обойдется, очевидно. Говорят, что в Польше и у нас в западном крае они уже начались.
Немец, капитан парохода «Феникс», по словам М., говорит: «Антанта вас, русских, считает теперь самым позорным народом в мире! Не ожидайте, что кто-либо окажет вам какую-нибудь помощь. Чем вы скорее передохнете, тем для Антанты выгоднее!»
Спекуляциями и аферами занимаются чуть ли не все. Только и слышишь: «перепродал то-то», «спекульнул на том-то», один мой знакомый лицеист… скопил оборотный капитал, а его жена ходит в бриллиантах.
В дополнение к ранее описанным картинкам нашей культурной жизни прибавлю то, что рассказывал на днях помощник заведующего продовольствием на наших курсах, это простой донской казак. По обязанности службы он во время балов и концертов присутствует в кухне: «Ну и «свобода» теперь. Бога упразднили, и без всяких стеснений! Летом во время собраний парочки выходят и прямо под деревом… И зимой, заглянув в подвал, диву дался: три-четыре пары, не стесняясь и стоя»… Поистине русские люди превратились в животных…»
«21.12.1923 г.
Нахожу необходимым отметить следующее. Во-первых – катастрофическое падение экономического барометра. Цена золотого рубля сегодня 2160 миллионов и ежедневно усиливается на 50 миллионов. Это официальный курс, на черной бирже за бумажный червонец (21 600 млн.) дают 2–21/2 миллиарда и больше, а за золотой червонец дадут и 30 миллиардов! Параллельно с этим и цены скачут сногсшибательно! Сегодня 1 фн. Хлеба – 100 миллионов, ситник – 200 миллионов, мясо – 1 млрд., масло – 21/2 млрд. и т. д. О мануфактурах и говорить нечего: ботинки дамские 30 млрд. За переделку казенной суконной рубашки на «френч» 14 млрд.!!!»
«Январь 1924 г.
…Петроград переименован в Ленинград. Масса учреждений и заводов переименованы в Ленинские и пр. и пр. Что Ленин лицо историческое – никто не сомневается, но оптимисты, хотя и немногочисленные, не унимаются. Теперь сплетничают, что могила Ленина залита нечистотами: могилу устраивали во время сильных морозов (до 25 град.), а потому грунт пришлось взрывать, эти взрывы разрушили фановые трубы. Думаю, что это сплетни. Но курилка – жив, по-моему, укрепляется. Газеты наши опять подняли головы и наполнены статьями победоносными…»
Между прочим, когда известие о нечистотах, заливших место захоронения «вождя мирового пролетариата», было сообщено патриарху Тихону, тот, слегка задумавшись, кратко отреагировал: «По мощам и елей».
Наверное, нет необходимости комментировать этот крик души Федора Алексеевича. В наше время в подобном положении оказались миллионы соотечественников. В той обстановке он выжил чудом.
Известно, в каких масштабах тогда уничтожались лучшие представители России, начиная от видных царских сановников, священнослужителей, офицерства, купечества и крестьянства и кончая самими пролетариями, в интересах которых якобы свершалась революция. Ведь что значило быть директором такого привилегированного заведения, как Первый Петербургский кадетский корпус. Основанный по указу императрицы Анны Иоанновны в 1731 году как Шляхетный кадетский корпус, он стал первым высшим военно-учебным центром по подготовке офицерских кадров. Кроме того, воспитание молодежи велось так, что выпускники корпуса могли проявить себя в любой сфере государственной деятельности. Среди первых воспитанников – такие одаренные личности, как Сумароков – автор первой русской трагедии «Хорев», Херасков, Елагин и другие, прославившие впоследствии наше Отечество. Здесь возникло «Общество любителей российской словесности». Постановка «Хорева» в корпусе стала важнейшим событием культурной жизни того времени. Кроме того, там появился балет, начал выпускаться первый частный журнал. Так что с начальных дней существования первый кадетский корпус стал, по выражению императрицы Екатерины II, «рассадником великих людей». И неслучайно в стенах этого заведения, размещенного в доме, некогда принадлежавшем знаменитому князю Меншикову, воспитывались члены императорской фамилии (в том числе и сын великого князя Константина Константиновича Иоанн, а также последний наследник престола Алексей), а его державными шефами являлись российские государи.
Естественно, что царским вниманием не мог быть обойден и директор кадетского корпуса. В письме своему покровителю великому князю Константину Константиновичу от 25.02.1913 года генерал Григорьев извещает:
«Ваше императорское высочество!
Искренне признателен за письмо ваше, которое нас всех очень обрадовало сообщением, что здоровье ваше хорошо.
Парад наш, как всегда, прошел благополучно и наш державный шеф также был бесконечно добр и милостив.
На прошедшей неделе имел счастье пять раз видеть государя: 17-го, 19-го, на открытии закладки памятника великому князю Николаю Николаевичу, 21-го при поздравлении, 23-го на балу и 24-го на спектакле в Народном доме.
Как всегда на параде и потом на завтраке кадет более часа имел высокое счастье беседовать с государем…»
А в мемуарах Федор Алексеевич рассказывает, как был выбран воспитатель наследника престола:
«В мае 1916 года наследник, зачисленный в списки Первого корпуса в 1909 году, с разрешения государя был назначен мною в 1-й класс, 1-е отделение (воспитатель подполковник Ф. С. Иванов) и, перечисляясь из класса в класс со своими сверстниками, оканчивал курс. По этому поводу я с депутацией подносил наследнику жетон этого выпуска. На приеме, как всегда, государь очень милостиво и просто с нами беседовал. В разговоре с государем я, по установившемуся обыкновению, говорил откровенно и просто и, между прочим, сказал, что очень сожалею, что не могу выйти в отставку в этом году, а должен дослужить до 28 февраля 1917 года, чтобы выслужить четвертую прибавку к пенсии. «Ну, это ваше дело, ваши расчеты, но я вас в отставку не выпущу». Когда я передал эти слова вел. кн., он сказал, что это, вероятно, обозначает желание государя назначить меня в свое распоряжение в качестве педагогического советника (или что-нибудь в этом роде) и дать мне квартиру в одном из китайских домиков в Царском, недавно освободившуюся за смертью генерал-генерал-адъютантаАрсеньева (заметим, еще один Арсеньев. – В. Н.), бывшего воспитателя вел. кн. Алексея Александровича. Против такого назначения я не подумал иметь что-нибудь и признаюсь, что, будучи в Царском, осматривал квартиру, в которой я мечтал покончить в покое свое земное странствование. Но человек предполагает, а Бог располагает! 28 февраля состоялось отречение, и мне пришлось переписывать прошение об отставке… на имя временного правительства!»
Итак, участь генерала Григорьева в послереволюционное время была незавидной. Спасло его от скорой расправы то, что воспитанники Федора Алексеевича относились к нему с уважением и любовью. И когда после революции некоторые из них перешли на службу новой власти, они его не забыли и… устроили преподавателем математики на командные красноармейские курсы. Здесь 73-летний Федор Алексеевич, которого называли «дедушкой», тоже в полной мере проявил свой воспитательский дар. И однажды на обеде курсанты под крики «ура!» на руках обносили его по залу.
Генерал Григорьев, при своем монархическом сознании и органическом неприятии всех безобразий послереволюционной действительности, не мог изменить своему предназначению воспитателя. И конечно же, благодаря таким людям, как он, народ сохранил в душе искру Божию, традиционные национальные ценности, которые вновь были востребованы в годы Великой Отечественной войны.
Родовая традиция служения престолу не обошла стороной и человека, которого Илья Сергеевич запомнил с раннего детства – младшего сына генерала Григорьева Юрия, служившего накануне Октябрьского переворота на императорской яхте «Штандарт». В 1908 году он, будучи гардемарином, участвовал в спасательной операции русских моряков в Италии во время случившегося там землетрясения. В детской памяти будущего художника осталась его подтянутая фигура, рано поседевшие волосы, зачесанные на косой пробор. Однажды Илья Сергеевич показал мне сохранившуюся у него маленькую серебряную мумию с открывающейся крышкой крохотного саркофага, некогда подаренную Юрием матери художника, привезенную из Египта во время кругосветного путешествия. А Илье он подарил свой карандашный рисунок с изображением белого медведя. В 1934 году Юрий вместе с другими «социально враждебными элементами» был выслан в Казахстан, в маленький поселок близ Актюбинска. Оттуда он добился перевода в Аральск, где и умер в 1941 году.
Старший сын генерала Григорьева Артемий, офицер, служил в Финляндии. После революции там и остался. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Дочь генерала Григорьева Вера жила, по воспоминаниям Ильи Сергеевича, в скромной комнате, на стене которой висел портрет ее отца в парадном мундире, что выглядело вызывающе и могло стать поводом для высылки или «посадки». У Веры был возлюбленный, выходец из пролетарской среды, человек с добрым усталым лицом и усами, как у Максима Горького. Эта связь не одобрялась родственниками, хотя и могла служить некой защитой от возможных репрессий. Но случилось так, что посадили не Веру, а ее возлюбленного, невзирая на его пролетарское происхождение. Когда началась война, Вера переселилась в квартиру Глазуновых, поскольку ее дом разбомбили. В лютую зиму 1942 года она вместе с другими родственниками Ильи Сергеевича умерла от голода. Воссоздавая в своей книге страшные картины блокады, он вспоминает, что однажды, добравшись до последней комнаты, в ужасе отпрянул, увидев, как толстая крыса бросилась скачками в его сторону, соскочив с объеденного лица умершей две недели назад тети Веры…
Конек
Наконец, вспоминая родных Ильи Сергеевича по материнской линии, нельзя не рассказать о ближайшей подруге матери Глазунова, получившей от нее прозвище Конек (от Конька-Горбунка) за быстрое исполнение деликатных просьб и поручений, – Ольге Николаевне Колоколовой. До недавнего времени она была единственной из живых, кто связывал его с миром детства. Сама Ольга Николаевна происходила из древнейшего дворянского рода, одна из ветвей которого идет от Рюрика. Прожившая долгую, насыщенную драматическими коллизиями жизнь (кроме революции, ареста, ссылки, она пережила и блокаду), Ольга Николаевна, даже перейдя 90-летний рубеж, сохраняла удивительную живость и ясную, не выветрившуюся с годами память. Перенесенные испытания приучили ее к скрытности, и долгие годы она не склонна была доверять кому-либо. И даже Илье Сергеевичу, который, часто бывая в родном городе, непременно навещал ее и оказывал всяческую помощь, она рассказывала не обо всем, что знала. Лишь в последние годы жизни стала делиться с ним своим сокровенным.
Бывая с Ильей Сергеевичем в Петербурге, мне посчастливилось несколько раз встречаться с Ольгой Николаевной. Она жила в скромной однокомнатной квартире на улице Решетова в одиночестве, которое разделяла с ней забавная собачонка, весьма ревниво относившаяся к редким посетителям. Тогда-то и удалось получить ответы на многие интересующие вопросы, увидеть неизвестные фотографии и материалы, хранившиеся у Ольги Николаевны. Вот лишь несколько эпизодов из нашего с ней общения.
Августовским вечером 1994 года на столе у Ильи Сергеевича зазвонил телефон. Звонок был междугородный. Сидя рядом, слышу доносящийся из трубки голос Ольги Николаевны: «Илюша, родной… Я умираю. Хочу с тобой увидеться и договорить. Если можешь – приезжай…»
Через пару дней мы – на пороге ее квартиры. Дверь открыл незнакомый молодой человек. «Сева Колоколов, – представился он. – Родственник из Караганды. Проходите». И тут же за его спиной возникла фигурка Ольги Николаевны. Она дышала тяжело, но как всегда старалась быть энергичной. Когда все расселись, начала выговаривать Илье Сергеевичу за его, как ей казалось, безалаберное отношение к нападкам прессы, показывая подборку газетных вырезок.
И вдруг – неожиданный вопрос:
– А твоя мама пела тебе «Песни и пляски смерти» Мусоргского?
– Не помню, – в некоторой растерянности ответил Илья Сергеевич.
– А мне пела. Я родилась в четвертом году и по возрасту младше ее на семь лет. И она мною руководила. А какая озорная была! Пела частушки про Ленина, Троцкого и Зиновьева, за которые тогда была уготована верная дорога в лагерь. Любила давать прозвища. Например, твоего дядю Коку, китаиста, окрестила Нумизматом, хотя к нумизматике он не имел никакого отношения. Кстати, ты знаешь, что он играл на виолончели? Веру, дочь генерала Григорьева, прозвала Вагоновожатой за ее высокий рост и своеобразный цвет лица. А ее брата Юру – Гагарой. Меня же называла Коньком. И кроме тебя, никто не имеет право ко мне так обращаться.
– Конек, напомни, какие родственные отношения связывают тебя с Флугами.
– Так вот, слушай, – встрепенулась она и сложила на коленях руки. – Ты, конечно, знаешь, что твой двоюродный дед генерал Григорьев был женат на Наталье Прилуцкой, сестре твоей бабушки. Одна из его сестер вышла замуж за полковника Константина Евстафьевича Скуратова. Это моя бабушка. Она скоро умерла, Скуратов же пережил ее не надолго. Но у них осталась трехлетняя дочь Ольга, которую воспитывал генерал Григорьев. Это моя мама. Она, как и твоя мама, – Оля Флуг, двоюродная сестра Юры Григорьева. Она окончила Николаевский институт (впоследствии институт имени Герцена, потом университет). Мама вышла замуж за Николая Александровича Колоколова, инспектора Александровского (бывшего Царскосельского) лицея, действительного статского советника. Он происходил из древнего рода, один из представителей которого занимался отливкой колоколов, что считалось почетным делом. Отсюда и фамилия, и изображение колокола на фамильном гербе. Сева, покажи Илюше печать с гербом…
Н. А. Колоколов, по дальнейшему рассказу Ольги Николаевны, был специалистом по античной истории, и семейное воспитание не обходилось без изречений античных мудрецов. Воспитанники лицея любили Николая Александровича и называли его между собой Ананасом – из-за ежика волос. Он имел девятикомнатную квартиру и дачу в Дибунах, напротив дачи семейства Флугов, с которыми у Ольги Николаевны были прекрасные отношения. Она приобщалась к музыке на вечерах у Мервольфов, у которых было два рояля и фисгармония. После революции отец Ольги Николаевны был арестован и отсидел несколько лет. А умер он в октябре 1927 года у решетки родного, уже закрытого лицея, на который пришел взглянуть…
– А где можно найти фотографию генерала Григорьева, снятого вместе с государем? – продолжает задавать вопросы Илья Сергеевич.
– У нас была такая фотография, но мама, боясь обыска, отрезала изображение государя. А оставшуюся часть сейчас покажу. Сева, принеси коробку с фотографиями…
…Рассматриваем запечатленных на них людей. Генерал Григорьев… Колоколов… Семьи Колоколовых и Флугов в Дибунах…
– Конек, расскажи, а как ты оказалась в Казахстане и где встречалась там с Юрием Григорьевым?
– Первого апреля тридцать пятого года в двадцать четыре часа меня выслали из Ленинграда. Я тогда работала экономистом на фабрике, а до того два года училась в университете, но была изгнана за дворянское происхождение. По той же причине и выселяли. Приказали немедленно сдать дела, собраться и отправили на вокзал. Нет слов описывать эти жуткие сцены выселений. Выселяли эшелонами. Больных старух затаскивали в вагоны на носилках!
– Брали всех подряд или на выбор?
– Думаю, что во многих случаях – по доносам, когда всякие гады сводили личные счеты. Но ты не буди во мне зверя. Я не хочу об этом вспоминать…
В своем ответе Ольга Николаевна, говоря о доносах и сведении личных счетов как поводе для выселения, не стала распространяться об истинной причине этого явления, которая, конечно же, ей была известна. Разумеется, были и доносы. Но политика выселений эшелонами осуществлялась не по ним, и началась она не в 30-е годы, а намного раньше. Вот что говорится по этому поводу в посмертно изданной книге «Музыка как жизнь» великого русского композитора Георгия Свиридова. Размышляя о сущности героя произведений Зощенко, Георгий Васильевич, учившийся в 30-е годы в Ленинградской консерватории и познавший атмосферу города, отмечает: «Это не только социальный герой (пролетарий), не только герой 20-х послереволюционных лет. Он еще и местный, типичный лишь (главным образом) для Ленинграда герой. Ведь именно Петроград – Ленинград остался почти без своего «коренного», что ли, населения. Сотни тысяч жителей в годы владычества Троцкого и Зиновьева были: а) убиты (расстреляны); б) выселены (арестованы, сосланы в лагеря); в) мобилизованы; г) бежали от страха, умерли от голода.
Зиновьев и его сатрапы – такие же (…) палачи – заселили город «своими». Произошла массовая депортация евреев с юга, из бывшей «черты оседлости», из Прибалтики, из Риги, Киева, Одессы, белорусских городов: Гомель, Витебск, Рогачев, станция Быхов, Шклов, Могилев, Бердичев и т. д.
Городские низы: пролетарии и люмпены, пригородное мещанство стали обитателями бывших барских, а ныне коммунальных квартир. Вот быт Зощенко. Это не петербуржцы-петроградцы, это именно ленинградцы, а еще вернее сказать – зиновьевцы».
– А что же было дальше?
– Сначала я оказалась в Пензенской области. А потом, когда узнала, что Юра находится на одной из железнодорожных станций под Актюбинском, поехала к нему, где он жил вместе с другими ссыльными.
– И как там жилось?
– Снимали квартиры у казахов. Пропитание добывали, кто как мог. Например, ловили раков – казахи их не ели, варили и несли продавать к поезду. Иногда получали посылки из Ленинграда. Юре их посылала его сестра Вера. Помню, что он писал шутливые стихи. Например:
Черти унесли нас далеко, Европейцам в Казахстане нелегко, Люди ходят, словно ишаки, Туже подтянув на брюках кушаки.В том же станционном поселке я встретила Владимира Юрьевича Уварова, потомка генерала, героя Отечественной войны 1812 года. Он был художником, хотя окончить Академию художеств ему не дали – тоже из-за происхождения. В 1939 году нам было разрешено вернуться в Ленинград, и там мы поженились. Владимир Юрьевич умер во время блокады. А Юра Григорьев добился перевода в Аральск, рассчитывая, что как моряк он там найдет себе лучшее применение. Там он и почил в 1941 году во время начавшейся войны…
Следующим вечером после долгих звонков дверь открыла сама Ольга Николаевна, перенесшая астматический приступ в отсутствие Севы, отлучившегося ненадолго из дома.
– Так Сева по какой линии родственник? – поинтересовался Илья Сергеевич.
Из рассказа Ольги Николаевны, дополненного затем подошедшим Севой, стали известны такие любопытные детали.
У ее отца были два брата – Сергей и Петр. Сергей Александрович Колоколов до революции – российский генеральный консул в Мукдене, умер в Китае в 1921 году. Он имел дочь Екатерину, которая в 1925 году погибла при крушении корабля в Тихом океане, а также трех сыновей. Старший – Всеволод приехал в Петербург в 1911 году и поступил в лицей. Впоследствии он стал специалистом по Китаю и создателем китайско-русского словаря. Кстати, в 1954 году Всеволод стал мужем Ольги Николаевны, скончался в 1979 году.
Второй сын – Борис жил в Китае до 1954 года, затем приехал в Россию и два года спустя обосновался в Караганде. Это дед Севы, а его отец Сергей, сын Бориса, заведует кафедрой в политехническом институте.
Третьего сына С. А. Колоколова – Глеба вывезли из Китая в 1945 году и посадили на 11 лет, потом он жил под Карагандой.
Личность другого брата отца Ольги Николаевны – Петра Александровича Колоколова весьма загадочна. По ее словам, он принял духовный сан и известен под именем епископа Исидора, близкого к царскому двору и Григорию Распутину. Его расстреляли в 1919 году то ли в Тобольске, то ли в Тюмени. Добавим к этому, что, например, в книге известного историка Олега Платонова «Жизнь за царя», посвященной Григорию Распутину, отмечается, что епископ Исидор был в числе лиц, входивших в самое близкое окружение Распутина, он же отпевал тело ритуально убиенного старца…
– А ведь ты, Конек, кроме высылки, как я знаю, еще и сидела. Когда и за что тебя посадили? – продолжает разговор Илья Сергеевич.
– Я была арестована в двадцать восьмом году. Мне приписали участие в контрреволюционном заговоре. Целый месяц провела в одиночке дома предварительного заключения на Шпалерной. По ночам мальчишка-следователь водил меня на допросы. Он, как обычно, шел сзади, приставив револьвер к затылку и командовал: «Прямо!.. Налево!.. Направо!..» Какой пыткой были эти ночные допросы! Слава богу, потом выпустили.
– Скажи, как, по-твоему, произошла революция? Какие люди в ней участвовали?
– Не знаю. Слышала тогда только, что Ленина привезли в запломбированном вагоне. Но все это было ужасно. Отец рассказывал, что когда он однажды в восемнадцатом году возвращался из города домой, видел, как громили винные погреба Зимнего дворца. Одни «революционные борцы» сливали вино в канализацию; другие тут же черпали оттуда и пили. Вот тебе и их девиз: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем…»
– А Блока, автора этих строк, ты видела?
– Блока – нет, а Маяковского слушала, как он выступал в Певческой капелле. Правда, он не был тогда в желтой кофте, но вел себя очень нагло. Прежде всего, поражала его нахальная манера держаться во время чтения стихов. А когда ему подали записки с вопросами, он взглянул на них, посмотрел на часы, потом сгреб их в кучу и заявил: «Ну, на эту дребедень я отвечать не буду».
– А на шаляпинских выступлениях ты бывала?
– Что только я не переслушала в его исполнении! В Мариинке я видела его и в «Русалке», и во «Вражьей силе», и в «Севильском цирюльнике»… Между прочим, в музыкальных классах со мной училась его дочь по имени Стелла, но не родная. А ее брата звали Эдик. Это дети гувернантки Шаляпина, немки Петцольд. Она очень красивая была и часто давала нам контрамарки на шаляпинские концерты и спектакли. Однажды нас, избранных друзей, Стелла и Эдик пригласили в шаляпинский особняк. Мы устроились в одной из комнат и занялись гаданием. Вдруг входит Шаляпин в бархатном домашнем облачении и, удивленный, обращается по-английски к падчерице: «Зачем собрались?…»
А потом семейство Шаляпиных отбыло в эмиграцию. Там у Стеллы намечался роман с прекрасным тенором Кипрасом Пятраускасом, но из этого ничего не получилось…
…А я вспомнил, что в служебном кабинете у выдающегося литовского певца и художественного руководителя Вильнюсского государственного театра оперы и балета Виргилиуса Норейки, где я нередко бывал в доперестроечное десятилетие, находился портрет Кипраса Пятраускаса, к которому Норейка относился с благоговением и считал своим учителем. Но развал СССР больно отразился и на литовской культуре. А Виргилиус Норейка – не только артист с мировым именем, но и прекрасный организатор театрального дела, оказался вне стен театра.
О многом было переговорено у Ольги Николаевны. Прощание с ней было не менее трогательным, чем встреча.
– Вот как ты меня оживил, – с особой бодростью сказала Ольга Николаевна. – Я уж думала, что и не встану…
Итак, как складывалась судьба Ольги Николаевны в довоенные годы, нам известно. Во время войны она была эвакуирована из блокадного города (выносили с фабрики на носилках), а затем вернулась в Ленинград. В годы учебы Ильи Сергеевича в институте имени Репина они нередко встречались на концертах в Ленинградской филармонии, гуляли по ночному городу, вспоминали уже ушедших близких людей.
Во время одной из таких встреч она ему сказала: «Когда я говорю с тобой, я будто общаюсь с Олей и Сережей. У тебя верхняя часть лица и глаза Сережины, а рот и овал лица – Олины. Мы с тобой оба так одиноки – и я понимаю, почему ты, как и я, так любишь музыку. Музыка – это дух, она разрушает одиночество, дает успокоение памяти прошлого и силы жить и верить в будущее…»
Мама
Илья Сергеевич унаследовал от родителей не только черты лица, но и их творческую одаренность и душевное богатство.
А теперь о самих родителях.
Мама Ильи Сергеевича – Ольга Константиновна Флуг, согласно сохранившейся у него «Выписке из метрической книги родившихся за 1897 год» родилась 13 августа. 26 сентября ее крестили. Совершал таинство крещения протоиерей в церкви святого Спиридона в Санкт-Петербурге. Восприемниками были: надворный советник Николай Николаевич Арсеньев (опять эта фамилия!) и жена полковника Наталья Дмитриевна Григорьева. Это одно из документальных подтверждений того, что хранилось в родовой памяти. И если о личности Н. Н. Арсеньева можно сказать, что он несомненно имеет отношение к потомкам воспитателя Александра II К. И. Арсеньева, то Наталья Дмитриевна Григорьева, жена Федора Алексеевича Григорьева, в ту пору полковника, как мы уже знаем, была родной сестрой бабушки Ильи Сергеевича Елизаветы Дмитриевны Прилуцкой-Флуг. Она проживала в одной квартире с семьей Глазуновых и умерла там же почти в одно время с другими родственниками в блокадном 1942-м.
Ольга Константиновна окончила гимназию и в молодости, по отзывам общавшихся с ней людей, была веселой, озорной, «затейницей и шуточницей» (так характеризовала ее собственная мать), пока семейные заботы, связанные с рождением сына, не заставили ее посерьезнеть.
Отношения с родственниками по флуговской ветви у нее были самые добрые, но особо тесные сложились с сестрой Агнессой. И неслучайно в годы эвакуации из блокадного Ленинграда лишившийся родителей Илья Сергеевич в своих письмах к Агнессе Константиновне будет называть ее второй мамой.
Ближайшей подругой Ольги Константиновны стала, несмотря на разницу в возрасте, как уже упоминалось, Ольга Колоколова, которой она доверяла свои тайны и выполнение некоторых поручений. Например, по рассказу Ольги Николаевны, она носила записки в Инженерный замок, где учился молодой человек по имени Петр Глебов, с которым Ольга Константиновна потом рассталась. Естественно, это было до ее знакомства с Сергеем Глазуновым.
В послереволюционные годы она работала на бирже труда, и после работы вместе с О. Колоколовой они ходили в кино, театр или вегетарианскую столовую на Невском, где продавались вкусные пирожные. И как-то, зайдя за ней, Ольга Николаевна впервые увидела Сергея Федоровича. «Она меня с ним познакомила, но я смекнула, что их надо оставить одних, и ушла».
После встречи с Сергеем Федоровичем Ольга Константиновна уже не работала. Единственного ребенка – Илью – она родила довольно поздно, когда ей было 33 года, и полностью отдалась его воспитанию.
Илья Сергеевич вспоминает о прогулках, во время которых Ольга Константиновна знакомила его с достопримечательностями города, рассказывала о предках, учила, как должен вести себя человек дворянского происхождения. Ходили они и в театр, филармонию, в церковь у Тучкова моста, где он впервые познал красоту церковного пения и икон.
О том, какое значение имели для него такие прогулки не только в детстве, но и для последующей жизни, свидетельствует следующее признание художника.
«Навсегда запомнил, как шел однажды с мамой по улицам старого Петербурга у Каменноостровского, мимо банка, возле которого жила тетя Лиля. Огромные, как горы, как замки, розовые миры, медленные и плавные, высились над городом… Это один из самых ярких моментов детства. Моя жизнь словно выложена разноцветными камнями мозаики разных жизней. И только это – облака и лес, синий и вибрирующий в лучах яркого летнего солнца, и ромашки (года четыре тогда мне было) прошли как лейтмотив жизни, даже тогда, когда мрак и горе переполняли душу.
Были разные годы, люди, настроения, и все объединяют облака – огромные, кучевые, вечерние. О них нельзя вспоминать без волнения, без подступающих слез. Небо и птицы! Как безжалостна река времен!»
Неудивительно, что в своих произведениях И. Глазунов особое внимание уделяет изображению неба. Небо у него не просто некий абстрактный фон, а музыкально звучащее выражение всего настроения картины, как небесный дом бога.
Ольга Константиновна к праздникам делала украшения, а на особенно любимое Рождество мастерила вместе с сыном наряды для елки. При этом окна тщательно зашторивались, чтобы елку, увенчанную восьмиконечной звездой, нельзя было увидеть с улицы.
«Моя мама, как моя подруга, всегда была рядом со мной, – пишет Илья Сергеевич в своей книге. – Мы говорили обо всем. Она была, как может только мать, влюблена в меня, и никто не вызывал во мне такого чувства радости и полноты бытия. Отец не прощал моих шалостей и ставил «носом в угол». И далее: «Моим маленьким миром была наша квартира на тихой Петроградской стороне. Это чувство огромной радости, неизбывного счастья и просветления сопутствовало мне и маме – Ляке, так я ее называл. У нее были мягкие золотые волосы, серо-зеленые глаза, маленькие мягкие руки. Мама и потом моя дорогая жена Нина – это две женщины, с которыми я был безмерно счастлив».
Ольга Константиновна первая почувствовала божескую одаренность сына и мечтала о том, чтобы он стал художником. Покупала ему альбомы для рисования и акварельные краски. С нею он впервые увидел Эрмитаж, залы которого, как и все в этом дивном дворце, поразили его, открыв новый мир, такой далекий и непонятный и вместе с тем такой родной и близкий. В этом восприятии сокровищницы мирового искусства не было, однако, стихийного удивления первооткрывателя. Здесь уже начинали сказываться первые плоды семейного воспитания и просвещения. Илья Сергеевич помнит, что когда бабушка читала ему вслух любимую его книгу Сенкевича «В пустынях и дебрях», он рассматривал папки с репродукциями классической живописи, заботливо собранные братом бабушки Кокой Прилуцким, художником, которого называли «Князем Мышкиным». Репродукции были маленькие, из немецких календарей от искусства, но очень четкие, благородные по тону, передававшие величие искусства «старых мастеров» – Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта, Тициана, Джорджоне, Боттичелли, Караваджо…
Много позже, когда Илья Сергеевич приступит к работе над циклом иллюстраций к произведениям любимого Достоевского и, в частности, к роману «Идиот», фотография его двоюродного деда Коки Прилуцкого послужит основой для создания образа главного героя романа. А потом его так напомнит замечательный актер Юрий Яковлев в роли князя Мышкина в фильме, поставленном по роману великого классика…
Мама привела уже подросшего Илью в детскую школу искусств, размещенную на Невке в бывшем доме графа Витте, где началось его художественное образование.
С родственниками мужа у нее отношения были не безоблачными, так как те считали, что она слишком поглощена заботами о сыне и не стремится приносить в дом какой-то заработок, тогда как ее муж надрывается изо всех сил, чтобы при своей мизерной зарплате обеспечить материальное существование семьи. В таком психологическом настрое отношения с Сергеем Федоровичем стали охлаждаться, и они уже не ходили вместе по гостям, а жили, по признаниям сестер Ильи Сергеевича, – Нины и Аллы и той же Ольги Николаевны Колоколовой «вместе, но не вдвоем».
Возможно, в этом разладе отчасти и содержится ответ на мучающий до сих пор Илью Сергеевича вопрос: почему мама не была эвакуирована с ним из блокадного Ленинграда? Но нельзя не принимать во внимание и то, что дядя Ильи Сергеевича – Михаил Федорович Глазунов, осуществлявший его эвакуацию как врач, понимал, что Ольга Константиновна не перенесет тягот путешествия по смертельно опасной «Дороге жизни», да и она сама, видимо, осознавала это. Как говорили мне сестры Ильи Сергеевича, Ольга Константиновна умерла 8 апреля 1942 года. Перед смертью она хрипела, и последними ее словами были: «Илюшенька… дорогой…»
Отец и его братья
Образ отца для художника неразрывно связан в первую очередь с Царским Селом, где родился и воспитывался Сергей Федорович. Но история его рода прослеживается не столь глубоко, как у Флугов.
Дед Ильи Сергеевича Федор Павлович Глазунов, управляющий петербургским отделением шоколадного концерна «Жорж Борман», был почетным гражданином Царского Села. По сохранившейся документации его супруга Феодосия Федоровна с декабря 1915 года числилась практиканткой в царскосельском Лазарете петроградского дворянства и присутствовала при операциях, а затем состояла сестрой милосердия в том же лазарете. Кстати, о раненых заботилась сама императрица, и там же санитаром служил Есенин.
Она рассказывала, что Глазуновы – выходцы из села Петровского Московской губернии. Брат Федора Павловича, иконописец, схожий по характеру с Ильей Сергеевичем («тоже странный, как ты, и непутевый») писал прекрасные иконы. Во время гражданской войны он пропал и о дальнейшей судьбе его ничего неизвестно.
Но не пропало его дело в роду Глазуновых. Сын Ильи Сергеевича Иван еще в пору учебы в художественном институте имени В. И. Сурикова стал пробовать себя в иконописи. Одну из своих икон он подарил храму Прокопия Праведного в Великом Устюге, куда, влюбленный в русский Север, ездит ежегодно. А кроме того, он расписал два храма: «Малое Вознесение» – на Большой Никитской в Москве и новый храм в городке Верхняя Пышма близ Екатеринбурга.
Феодосия Федоровна после смерти мужа воспитывала пятерых детей. В годы войны была эвакуирована вместе с Ильей Сергеевичем и дочерью Антониной – сестрой отца художника – в новгородскую деревню Гребло.
В детстве отец Ильи Сергеевича (родился он 1 сентября 1898 года) вместе с братьями катался на велосипеде в царскосельских парках, где мог встретить членов императорской фамилии и наследника престола Алексея, появлявшегося там в сопровождении приставленного к нему матроса с серьгой в ухе по фамилии Деревенько.
Учился Сергей Федорович в царскосельском реальном училище, интересовался прошлым России. В пожелтевшей газете «Царскосельское дело» за № 12 от 22 марта 1913 года содержится публикация, посвященная вечеру исторического кружка учеников училища, состоявшемуся 14 марта, в день возведения на престол Михаила Федоровича, основоположника династии Романовых.
«Вечер начался рефератом ученика IV класса С. Глазунова на тему «Смута в Московском государстве». Реферат произвел впечатление. С. Глазунов обладает редким даром слова. Во время этого реферата, как и реферата ученика III кл. А. Тургиева, на экране показывались эпидеоскопические световые картины – новинка училища… Молодые историки были выслушаны с глубоким вниманием собравшимися. Вечер закончился народным гимном и криками «ура», после чего последовал осмотр исторического музея училища».
А вскоре Сергею Федоровичу пришлось в реальности ощутить ужасы нового Смутного времени, самого страшного в истории России. С первыми его признаками он столкнулся во время войны с Германией, на которую ушел добровольцем.
Однажды на боевую позицию, занимаемую его ротой, явились три революционных агитатора в кожаных куртках, призывавшие убивать офицеров, втыкать штыки в землю и брататься с немцами. И к их призывам измученные в боях солдаты, похоже, стали прислушиваться. Тогда Сергей Федорович, выйдя из землянки, дал команду построиться.
«Солдаты, – обратился он к ним, – пусть выйдет вперед тот, кто скажет, что я не ходил первым в атаку, не мерз с вами в окопах, не жил, как вы. Мы вместе честно дрались за Отечество!.. За великую Русь!» Злобно сверлят взглядами и ухмыляются агитаторы. Молчат солдаты. Наконец из строя раздается твердый голос: «Мы с вами, ваше благородие!» – «Спасибо, братцы!» И дается команда взять оружие на изготовку. А затем – «Огонь по врагам Отечества!»
Если бы так же поступали и с другими разносчиками революционных идей, способствующих поражению России в войне, разлагающих русскую армию и общество!
С фронта Сергей Федорович возвратился больным, позже ему выдали «белый билет», что освобождало от призыва на военную службу. Болезнь – язва желудка – не оставляла его и в последние годы. Илья Сергеевич помнит, как отец по ночам глухо стонал и метался по комнате, держась за живот. В 1918 году Сергей Федорович завершил учебу в «дополнительном классе» Царскосельского реального училища, после чего в течение трех лет учился в Петроградском технологическом институте. Закончить его по неизвестным причинам не удалось, но, скорее всего, по необходимости зарабатывать на хлеб насущный. Вероятно, в студенческие годы он познакомился со знаменитым социологом и экономистом Питиримом Сорокиным, высланным за рубеж вместе с другими русскими учеными и мыслителями в 1922 году, которого называл своим учителем и который во избежание репрессий предлагал ему тоже уехать за границу.
Но Сергей Федорович остался на родине и работал на разных предприятиях экономистом, занимаясь при этом научными исследованиями. В середине 30-х годов он занимал должность заместителя начальника НИИ экономики и организации труда при Ленинградском управлении Народного комиссариата пищевой промышленности. Сохранилось его заявление в квалификационную комиссию Академии наук СССР от 10.Х.35 г. об установлении ему научной степени без защиты диссертации по списку научных работ, последняя из которых «Очерки экономики труда» получила одобрение академиков С. Струмилина и С. Солнцева.
Как разрешился этот вопрос – неизвестно, но известно то, что семья постоянно испытывала материальные затруднения. Потому маме Илье Сергеевича приходилось заходить в «Торгсин» (торговля с иностранцами) и сдавать приемщику серебряные ложки с фамильной монограммой Флугов. Приемщик гнул их дугой, клал на весы (ценились не изделия, а вес драгметалла) и выдавал купон на получение продуктов, которых оказывалось огорчительно мало. И даже когда дядя Михаил Федорович подарил своему племяннику три рубля «на барабан и саблю», отец попросил повременить с этой покупкой и передать деньги матери на еду.
Дошло ли дело до приобретения столь привлекательных предметов для любившего играть в войну Илюши?… Так или иначе, они навсегда остались в душе Ильи Сергеевича. Например, образ юного барабанщика возникнет на полотне «Россия, проснись!» А саблю или шпагу Глазунов, не будет преувеличением сказать, никогда не выпускал из рук. Недаром о тех, кто изменил высоким идеалам служения Отечеству, он говорит, что они предали свою шпагу.
Однако материальная бедность в семье Глазуновых не приводила к обеднению духа. Здесь вновь уместно обратиться к воспоминаниям Ольги Николаевны Колоколовой.
– После знакомства с Сергеем Федоровичем мне приходилось встречаться с ним еще до рождения Илюши у Мервольфов, где помимо музыки мы занимались игрой в карты. В состав нашей компании входили также Кока (китаист) и брат будущего академика Скобельцина, который потом провожал меня, поскольку мы жили в одном доме.
Сергей Федорович был так же азартен в карточной игре, как и в жизни. Он был очень умным человеком, с огромным темпераментом, за что я называла его «неистовым Роландом». У меня с ним сложились отношения на равных, несмотря на то, что он старше меня. И хотя я легко находила контакт с мужчинами, я счастлива, что у нас возникло такое обоюдное восприятие друг друга.
Он любил декламировать стихи о Прометеях без орлов и сфинксах без загадок. У него был приятный баритон и, вероятно, музыкальный слух, о чем можно судить по его пристрастию к классической музыке. Прекрасно воспитанный, Сергей, когда я с мужем и он с Олечкой встречались на концертах в филармонии, всегда целовал мне руку, что по тем пролетарским временам смотрелось как вызов.
Сергей был невысок ростом, но необыкновенно элегантен. Всегда у него – великолепные белые воротнички, он умел хорошо носить костюм.
– А Илья Сергеевич умеет? – спрашиваю я.
– Умеет, – чуть задумавшись, ответила Ольга Николаевна. – Но я не люблю, когда он надевает клетчатые…
…Элегантность Ильи Сергеевича, как и постоянство в курении «Мальборо», будет не раз откликаться ему осуждением даже со стороны друзей. Зачем так выделяться? Но это уже суть личности человека, не способного и не желающего подстраиваться к окружающей обстановке.
Свои личностные качества он стремится привить и студентам созданной им Российской Академии живописи, ваяния и зодчества, внедряя в сознание мысль, что художник – это не тот, кто в драном свитере и стоптанных башмаках харчуется с замусоленной газеты, а тот, кто подтянут, внешне облагорожен и нацелен на решение высоких творческих задач. Неслучайно студентов академии примечают по этим признакам…
– А что вы можете сказать о других пристрастиях или чертах характера Сергея Федоровича? – продолжаю допытываться я у Ольги Николаевны.
– При том, что в нем чувствовалась некая болезненность, он много курил, любил черный кофе, мог даже выпить, но никогда не бывал навеселе. В суждениях проявлялась порывистость, нетерпимость к людским слабостям. Он был мужчиной, а не подкаблучником. Возможно, в этом заключается причина охлаждения отношений с Олей, которая после рождения Илюши полностью переключилась на сына. Он стал для нее всем…
…О схожих качествах, проявляющихся у Ильи Сергеевича, говорили и его сестры Алла и Нина.
В памяти Ильи Сергеевича остались поездки с отцом в Царское Село, где находился принадлежавший деду двухэтажный деревянный дом, сгоревший в годы войны. Особое впечатление произвела поездка в тот год, когда в стране отмечалось 100-летие со дня гибели Пушкина.
Тогда он вместе с Сергеем Федоровичем присутствовал на службе в храме, в который в свое время водил отца Федор Павлович. Особенно запомнилось здание лицея, где учился поэт, названный впервые после революции не просто великим, а великим русским национальным поэтом. А ведь еще недавно Пушкина хотели сбросить с «парохода современности».
Запомнилась и галерея с фигурой Геракла, как бы смотрящего на озеро, посередине которого возвышалась знаменитая Чесменская колонна. Тогда поразил отсутствующий взгляд отца, обращенный на отражение этой колонны в водной глади. В семилетнем возрасте трудно было понять причину его глубокой озабоченности, как и то, почему он часто ложился спать в костюме и сразу же вставал, когда в гулком колодце двора раздавался рокот автомобильного мотора.
Причин же для беспокойства у Сергея Федоровича было предостаточно. О том можно судить по записям, заносившимся в скромные тетрадки и на отдельные листки. Вот некоторые из них, относящиеся к предвоенным годам.
«1939 г.
1. «Будущая партия» – должна себя объявить социалистической (нац. – социалистической рабочей партией). (Заметим, что партия с таким же названием пришла к власти в Германии в 1933 году и сплотила вокруг себя население страны, что позволило не только преодолеть последствия поражения в Первой мировой войне, но и «уложить на лопатки» Европу.)
2. Советская экономика – больная экономика – в терминах экономики ее объяснить нельзя, ее развитие и движение обусловлено внеэкономическими факторами.
3. Основное противоречие русской жизни в конце XIX и в первые десятилетия XX в. – противоречие между отсталыми формами сельского хозяйства и промышленного. Крестьянский вопрос дал 1905 год. Он же дал 1917-й. Крестьянский вопрос дает очереди в городе в 1939 г. В этом же вопросе «зарыта собака» всего дальнейшего нашего развития и наших судеб.
Объективно – два возможных пути: один – колхозный, другой – путь капиталистической эволюции сельского хозяйства…
…Объективно даны две возможности победы второго пути:
а) внутреннее «перерождение» ВКП (неудача Пятакова – Бухарина – Рыкова – ничего не доказывает, ибо они пришли слишком рано, а тот, кто рано приходит, всегда в истории платит своей головой);
б) внешний толчок (поражение, которое очень возможно при всяком столкновении ввиду нашей крайней слабости).
И в том и в другом случае капитализм «в городе» должен вводиться на тормозах, ибо среди темной рабочей массы живет ряд «социалистических предрассудков».
«1940 г.
Основное: кризис ВКП(б) и ее политики наши основы:
а) демокр. диктатура;
б) аграрный переворот;
в) Россия и нация. Частная собственность в пропасти.
Народ гибнет окончательно, когда начинает гибнуть семья. Современная семья – на грани гибели. Субъективно это выражается в том, что для все большего количества людей семья становится «адом». Объективно дело заключается в том, что нынешнее советское общество не может экономически содержать семью (даже при напряженной работе обоих членов семьи).
Нищенский уровень жизни толкает всех более или менее честных людей к тому, чтобы напрягать еще больше сил для излишней работы. Поскольку и излишняя работа не спасает, все, кто может, теми или иными способами воруют.
Вор – это самый почетный и самый обеспеченный член советского общества и вместе с тем – единственный обеспеченный член общества, не считая купленных властью Толстых, Дунаевских и прочих».
Приведенные мысли Сергея Федоровича не были случайным озарением, а вытекали из его постоянного размышления над текущей действительностью. Вот еще один, чудесным образом сохранившийся документ – его заявление начальнику уже упоминавшегося НИСа от 1.XI.35 г., о сложении с себя полномочий заместителя руководителя этого учреждения.
«При последнем разговоре со мной вы советовали «громко кричать о себе» и, указывая на модность темы, предлагали в месячный срок выпустить книгу о стахановском движении. Сомневаясь в целесообразности вашего предложения, я остаюсь при том убеждении, которому следовал все 15 лет своей работы: «кричать» нужно делами, а не словами».
Далее предлагаются рекомендации, в каких направлениях должна развиваться деятельность НИСа…
В тех драматических условиях у Сергея Федоровича не угасал интерес к истории. И, видимо, не случайно перед началом войны, когда он был уже доцентом географического факультета Ленинградского университета, ему предложили сделать доклад о «Науке побеждать» Суворова, чему он несказанно удивился, ибо еще совсем недавно за такой доклад можно было «загреметь» на Соловки. Но к этому времени уже сложилась другая общественно-политическая обстановка. С приходом Гитлера к власти все очевиднее становилась возможность столкновения Германии, сплоченной единой национальной идеей, с Советским Союзом. И Сталину стало понятно, что вступать в схватку с новой Германией под знаменами Маркса, Либкнехта и Розы Люксембург было бы безумием. Единственный выход – опереться на патриотические чувства русского народа. Потому 15 мая 1934 года было опубликовано постановление Совнаркома и ЦК о преподавании истории, в котором отмечалось, что оно носит отвлеченный схематический характер. Что вместо истории реальных народов преподносятся абстрактные определения общественно-экономических формаций. К тому времени отечественная история громилась ярым русофобом Покровским.
В новом постановлении от 27 января 1936 года такие тенденции назывались вредными, наметился закат и «школы Покровского». В последующих партийных документах были осуждены извращенные взгляды на ряд исторических проблем, говорилось и о непонимании прогрессивной роли христианства и монастырей, прогрессивного значения присоединения к России Украины и Грузии; об идеализации стрелецкого мятежа против Петра I; давалась оценка другим историческим событиям. Так началась ликвидация антирусской идеологической направленности в истории и культуре. Перед войной появились фильмы об Александре Невском, Суворове, Ушакове и других исторических личностях.
Причины такого идеологического поворота осознавались не всеми, но все же почувствовалось, что русским людям действительно «жить стало легче, жить стало веселее».
Кстати, как мне рассказывали смоленские земляки, менялась жизнь и самого угнетенного, до основания разоренного раскулачиванием класса – крестьянства. «Как мы начали заживаться! – говорили они. – Если бы только не война!»
У Сергея Федоровича было три брата: Владимир, Борис и Михаил.
О Владимире, младшем по возрасту, остались самые скупые сведения. Ольга Николаевна Колоколова рассказала лишь, что он работал инженером на тюлево-гардинной фабрике и носил усики, за что мать Ильи Сергеевича по сходству с известным в то время комическим актером так его и называла: Монти Бэнкс. Следы Владимира Федоровича теряются с началом войны.
Старший брат – Борис окончил институт путей сообщения и получил специальность инженера-строителя дорог. Любил классическую музыку и сам играл на рояле. После революции жил в Царском Селе с женой Надеждой и дочерьми – Таней и Наташей. Осенью 1941 г. Царское Село было внезапно захвачено стремительно наступавшими немецкими войсками. Бориса Федоровича, как и многих других, вызвали в комендатуру, поставили на учет и предложили работать по специальности. А его жена во время оккупации работала на немецкой кухне…
При отступлении немцев Борис Федорович ушел вместе с ними на Запад. На то были особые причины. О дальнейшей его судьбе Илье Сергеевичу стало известно много позже, когда в Париже во время проведения своей выставки он познакомился со своим земляком – петербуржцем, антикоммунистом, автором многих статей по русской истории и книги «КПСС у власти», Николаем Николаевичем Рутченко, крестной матерью которого была жена знаменитого генерала Брусилова.
Восторженно отозвавшись о Борисе Федоровиче, Н. Рутченко рассказал, что весной 1942 года Борис Федорович был уже переводчиком и делопроизводителем в гатчинской комендатуре под начальством латыша офицера Павла Петровича Делле, прорусски настроенного антикоммуниста, православного, женатого на русской эмигрантке. Тогда же к команде Делле примкнул и сын известного водочного производителя Сергей Смирнов, который контактировал с эмигрантской организацией – Национально-трудовым союзом (НТС) и привез распространявшуюся союзом литературу, в том числе и брошюру Ивана Ильина «О сопротивлении злу силою».
В июле 1942 года на тайном совещании с участием Бориса Федоровича, С. Смирнова и нескольких человек из близлежащих городов было принято решение создать подпольную организацию с целью борьбы за освобождение России как от Сталина, так и от Гитлера. Организация занималась распечаткой материалов НТС, в том числе и сокращенного издания брошюры И. Ильина, за что целиком отвечал Борис Федорович. Осенью 1942 года он при тайном содействии Делле установил связь с группой русских эмигрантов в Риге, представлявших НТС, после чего было принято решение о слиянии с этой организацией.
НТС возник в 1930 году как Национально-трудовой союз нового поколения и был вначале преимущественно молодежной организацией, объединявшей многие созданные в разных странах организации – от Европы до Дальнего Востока. В конце 30-х его центр находился в Белграде. НТС сотрудничал с другими эмигрантскими организациями. Особое внимание уделял союзу журнал «Русский колокол», редактором и автором многих статей которого был великий русский мыслитель Иван Ильин.
В 1931 году была сформулирована цель союза – национальная революция в России, которая могла быть организована лишь силами народа внутри страны, а не извне. Для этого НТС стремился утвердиться на родине, создав сеть подпольных групп. Его члены переправлялись в Россию, туда же разными способами доставлялись листовки.
В публикациях союза особое внимание уделялось идейной борьбе с большевизмом. В одном из документов говорилось: «Борьба за Россию выливается в наше время… в борьбу за душу русского народа. Главным и основным оружием является в ней новая, значительная идея справедливого и праведного устроения жизни».
В таком же направлении осуществилась деятельность союза и в годы войны, тогда же переименованного в НТС. В послевоенные годы в Советском Союзе многие знали о главных изданиях НТС – «Посев» и «Грани». Распространением пропагандистской и иной литературы занимались и другие эмигрантские организации, в деятельности которых советские органы власти усматривали немалую опасность. Поэтому против эмигрантов был возобновлен террор: похищения, отравления, взрывы…
Эмигранты «третьей волны», пропитанные русофобией, покидали страну не из страха смерти, а озабоченные прежде всего материальным благополучием, стали вытеснять в НТС старые кадры, среди которых был и один из его основателей Аркадий Петрович Столыпин – сын великого российского реформатора. При нем в союзе знаменитая столыпинская фраза получила новое продолжение: «Нам нужна великая Россия – мы должны быть достойны ее».
Но обратимся снова к личности Бориса Федоровича. В конце 1942 года по доносу одного из членов организации он вместе с другими был арестован. Спасло их только вмешательство того же Делле и штабного офицера 18-й армии барона фон Клейста, родственника фельдмаршала…
Финальная часть жизни Бориса Федоровича такова. После окончания войны вместе с другими антикоммунистами его репатриировали на родину. Несколько лет он провел в лагерях. Однажды в 1955 году, приехав к бабушке Феодосии Федоровне, проживавшей на Охте, Илья Сергеевич увидел на кухне застеленную байковым одеялом кровать. Из комнаты вышел человек со смуглым худым лицом.
Это был дядя Боря, только что вернувшийся из заключения. «Запомни, – сказал он во время той встречи, – я никогда ни одному русскому человеку не сделал зла. Я действительно ненавижу коммунистов… Я всегда работал как инженер – строил дороги в Царском Селе и даже там, за проволокой. Я прошел ад, пойми правильно брата твоего отца».
Несладкой оказалась участь и членов семьи Бориса Федоровича. Вот что рассказывала его внучка Екатерина, работающая в одной из страховых компаний США и некоторое время представлявшая ее интересы в России.
Борис Федорович, по всей вероятности, перемещался на Запад вместе с женой Надеждой. После долгих мытарств они оказались на границе с Баварией в Цвизеле, где и расстались. Возможно, причиной их разногласий были антикоммунистические настроения Бориса Федоровича, холодно воспринимавшиеся его супругой. Затем местом его пребывания стал лагерь, откуда ему советовали бежать, но он отказался, предполагая, что по международным законам его не должны выдать советским властям. Выдали, как и сотни тысяч других, направленных затем в лагеря или расстрелянных. Но это особая трагическая тема.
Наташа, его дочь, в 16 лет была отправлена в Германию в качестве «остарбайтера». Потом за ней последовала и ее сестра Таня. Значит, невелики были заслуги Бориса Федоровича перед немцами, если с его детьми поступили таким образом.
По дороге Наташу, как и ее несчастных спутниц, кормили соленым супом и не давали воды. На остановках немцы их заставляли убирать посуду и издевались над внешним видом, прическами: вот какие русские свиньи! – хотя умыться и причесаться было нечем.
В Берлине Наташа некоторое время служила домработницей в одной немецкой семье. Затем ее поместили в лагерь для перемещенных лиц. Далее – работа в Регесбурге. Затем очутилась в Бельгии, жила в подвале и работала на шахтном подъемнике. Подъем этого агрегата производился вручную. Эта работа едва не кончилась увечьем.
Бельгийцы очень плохо обращались с русскими, и потому Наташа, по словам ее дочери, сильно не уважает их, равно как немцев и других представителей так называемой цивилизованной Европы, в которой больше бывать никогда не хотелось.
Каким-то образом в Бельгии очутилась и мать Наташи Надежда, вышедшая замуж за обитателя лагеря для перемещенных лиц родом из Киева. Позже она переберется в США и будет жить до кончины в Бостоне, неподалеку от обосновавшейся там дочери.
В Бельгии же объявилась и сестра Наташи Татьяна. Через какое-то время их через Марсель отправили на корабле в Нью-Йорк. В США они занимались грязными работами. Надежда мыла полы в греческих домах. А Наташа работала на фабрике, выпускавшей палочки для чистки ушей детям. Будущее казалось ей беспросветным. Наконец, она вместе с подругой поступила в школу стенографисток и машинисток, после окончания которой работала секретаршей и бухгалтером. Эта работа ей уже нравилась…
Через несколько лет на благотворительном балу в Нью-Йорке она встретилась с Александром Пенчуком, с которым некогда познакомилась в лагере для перемещенных лиц. Поженившись, они переехали в Бостон. Там она живет до сих пор, посещает православный храм и время от времени созванивается с Ильей Сергеевичем, творчеством которого очень интересуется.
А сестра Натальи Борисовны Татьяна вышла замуж за Игоря Факеева, тоже бывшего в свое время в лагере для перемещенных лиц, с которым переехала в Канаду. Игорь стал владельцем фирмы, обслуживавшей советские теплоходы в Монреале. У них три дочери.
Однажды Татьяна отправила письмо брату своего отца – Михаилу Федоровичу – в Ленинград. На удивление, оно дошло. Завязалась переписка с ним и его сестрой Антониной, которая присылала книги и журнал «Веселые картинки».
Позже письменная связь была установлена и с Борисом Федоровичем, которому пересылались книги и словари. Он тоже много писал о себе, своих делах, и в его письмах ощущалось глубокое одиночество…
Другой брат отца Ильи Сергеевича – Михаил Федорович родился 12 ноября 1896 года. После гимназии окончил в 1919 году Военно-медицинскую академию. Затем в Красной Армии служил полковым врачом и тогда же стал самостоятельно заниматься первыми научными опытами. В 1923 году был откомандирован для усовершенствования в Военно-медицинскую академию, где остался работать на кафедре патологической анатомии. В 1939 году старейший онколог страны Н. Н. Петров пригласил его заведовать отделением Ленинградского онкологического института.
В начале войны Михаил Федорович оказался в действующей армии на должности главного патологоанатома Северо-Западного фронта. С осени 1942 года он уже главный патологоанатом всей Красной Армии. В том же году был тяжело ранен, а в 1945-м демобилизован по болезни. Работал в том же Ленинградском онкологическом институте. В 1946 году стал членом-корреспондентом, а в 1960-м – действительным членом Академии медицинских наук.
Таковы основные вехи его жизненного пути. К этому следует добавить, что Михаил Федорович написал более 70 научных трудов, публиковавшихся и в иностранных медицинских журналах; под его руководством защищено около 20 кандидатских и докторских диссертаций. Глубина его научных интересов, огромные и разносторонние знания, строгая объективность в оценке научных данных, высокая требовательность к себе и ученикам, принципиальность отмечались не только в некрологе по случаю его кончины 11 ноября 1967 года, но и во всех посвященных ему публикациях.
Таким он остался и в памяти Ильи Сергеевича, посещавшего его дом неподалеку от Летнего сада на берегу Невы как в довоенное, так и в послевоенное время. Всякий раз, бывая там, он испытывал чувство радости от соприкосновения с самой обстановкой этой квартиры, от плотных рядов книг на полках шкафов из красного дерева. Там любовался и картинами русских художников. Эти произведения, составившие уникальную коллекцию, по словам Ильи Сергеевича, давали объемное представление о достижениях русского искусства конца XIX – начала XX века, периода, называемого русским Возрождением. Один только список имен приводил в трепет. В разделе живописи – А. Архипов, К. Богаевский, В. Борисов-Мусатов, И. Бродский, В. Бялыницкий-Бируля, А. Головин, К. Горбатов, И. Грабарь, С. Колесников, П. Кончаловский, К. Коровин, Б. Кустодиев, И. Левитан, К. Сомов, К. Юон и другие. В разделе графики, помимо уже названных имен, – А. Бенуа, М. Добужинский, Д. Кардавский, Е. Лансере, А. Остроумова-Лебедева, Н. Рерих. Представлен был, правда, не столь значительно, раздел декоративно-прикладного искусства и скульптуры. После смерти Михаила Федоровича собранная им коллекция была передана в Саратовский музей.
В квартире дяди любознательный племянник открыл для себя творчество великого финского художника Аксена Галлена, которого очень любил Маннергейм, служивший в русской армии в годы Первой мировой войны, а затем при дворе Николая II, известный как создатель мощнейшей оборонительной линии.
А необычайное впечатление оставила картина Н. Рериха «Гонец», приобретенная дядей у брата художника. Она останется в глазах Ильи, когда из холодной квартиры дяди Миши его отправят на грузовой машине под ледяной жгучий ветер по «Дороге жизни» из блокадного Ленинграда.
Потом дядя поставит в госпитале на ноги племянника, в котором видел единственного наследника рода Глазуновых (своих детей у него не было), и отправит в деревню Гребло, где он раньше снимал дом. И всегда по-отечески будет заботиться о нем, пока тот окончательно не выйдет на самостоятельный путь. А в годы его учебы в средней художественной школе и институте станет одним из первых его строгих критиков.
Илья Сергеевич помнит, как Михаил Федорович напустился на него за эскиз «Продают пирожки» (сделанный, впрочем, по заданной в школе теме), укоряя за его ничтожность, отсутствие чувства и наблюдения. Или разносил за пейзажи, страдавшие, по мнению дяди, отсутствием поэзии, свойственной искусству великих художников. Но при всей суровости всегда чувствовалась его отцовская нежность и любовь.
Однако дядя не только проявлял строгость, но и гордился понравившимися ему работами племянника. Один из этюдов – «Старик с топором» – он повесил среди картин известных мастеров. И любил раззадоривать гостей, спрашивая: «А это, угадайте, кто?» И после того, как гости ошибались в своих предположениях, ставил победную точку: «А это мой племянничек, единственный наследник рода Глазуновых, а дальше-то что будет!»
Поразительно, но и в нынешнее время, когда от случая к случаю находятся утраченные работы Ильи Сергеевича, выполненные в годы учебы, возникают подобные ситуации. Как-то он предложил своим гостям назвать автора нелегко доставшегося приобретения – мастерски написанного портрета, который органично вписывался в ряд работ известных мастеров старой школы. Присутствовавшие, всматриваясь в портрет, вздыхали и разводили руками.
– Ну а что ты скажешь, Ген Геныч? – наконец обратился Глазунов к многоопытному и многознающему Геннадию Геннадиевичу Стрельникову, проректору академии.
– Затрудняюсь точно назвать имя художника. Но полагаю, что это одна из ранних работ Репина… а может быть, Серова.
– Так вот, это моя студенческая работа, – столь же удовлетворенно, как в свое время Михаил Федорович, сказал Илья Сергеевич. – Не помню, как она затерялась, но недавно случайно обнаружилась, и мне с большим трудом удалось выкупить ее…
Тогда же, в студенческие годы, им был выполнен рисунок руки, который вместе с другими рисунками, в том числе и таких великих мастеров, как Леонардо да Винчи, был помещен в альбом, изданный как методическое пособие по рисованию. И что после этого можно сказать об одержимых яростной злобой критиках художника, добалтывающихся иногда до того, что Глазунов якобы не умеет рисовать!
…Но еще немного о Михаиле Федоровиче Глазунове, человеке требовательном, строгом, принципиальном по отношению к себе, своим ученикам и близким. В послевоенные годы, когда развернулся известный процесс по делу врачей, он, вызванный в спецотдел института, отказался подтвердить, что названные ему коллеги агенты иностранных разведок, готовили покушения на советских руководителей. В ответ ему напомнили, что он брат врага советской власти и, видимо, разделяет его взгляды, а потому должен нести ответственность за его деяния. Михаил Федорович заявил, что за политические грехи брата не отвечает, а сам с начала войны был на фронте, где и вступил в партию. «Вы уже не член партии», – заявили тогда ему в спецотделе.
Когда же через несколько месяцев его вызвали уже в партбюро и предложили восстановиться в партии, Михаил Федорович твердо заявил: «В партию, которая меня выгнала, я не возвращаюсь».
Для Ильи Сергеевича этот поступок дяди всегда служил одним из поучительных уроков высокой нравственности и стойкости. И закономерна его беспредельная признательность человеку, которому он обязан не только спасением своей жизни, но и в немалой мере приобщением к миру искусства.
Незадолго до кончины Михаила Федоровича Илья Сергеевич, находясь в пути во Вьетнам, отправил ему письмо, где есть такие строки:
«Дорогой дядя Миша!
…Я тебя никогда не забываю, всегда с любовью и благодарностью вспоминаю тебя. Без тебя я бы не стал художником. Ты сделал для меня очень много в жизни – и не думай, что это когда-нибудь можно забыть…»
Пятым ребенком в семье деда художника, Федора Павловича Глазунова, была дочь Антонина – тетя Ильи Сергеевича. Эвакуированная в Гребло, она опекала его в меру сил, стараясь смягчить душевные терзания лишившегося любимых родителей племянника. Незадолго до снятия блокады Антонина Федоровна возвратилась в свою ленинградскую квартиру на Охте, где продолжала жить с мужем, работавшим инженером на заводе «Северный пресс».
Первые впечатления
Его собственное первое впечатление в сознательной жизни – «кусок синего неба, легкого, ажурного, с ослепительной белой пенистой накипью облаков. Дорога, тонущая в море ромашек, а там далеко – загадочный лес, полный пения птиц и летнего зноя. Мне кажется, что с этого момента я начал жить. Как будто кто-то включил меня и сказал: «Живи!»
Вот так состоялось вхождение раба божьего Ильи в божий мир. И не случайно, видимо, его взор обратился в небесную высь, в горние дали, куда всю жизнь будет устремляться его душа и куда он станет увлекать за собой своих отдаленных от Бога соотечественников.
Потом были утренние пробуждения в залитой солнцем дачной комнате под задорный крик молодого драчливого петушка. И первое пережитое потрясение. Однажды проснувшись, с удовольствием увидел, что солнце уже высоко, но петушок почему-то не предупредил о его восходе. А когда сварили суп, только он не мог его есть, несмотря на уверения, что петушок отлучился к бабушке в город и скоро вернется…
Дачные впечатления, заложившие любовь к природе, сменялись городскими. «После просторных лугов, стрекоз, дрожащих над темными омутами, маленьких быстрых речушек, после мирных стреноженных лошадей с добрыми мохнатыми глазами, долго и неподвижно стоящих в вечернем тумане, дымившемся над рекой, после запущенных садиков с ярко-красной смородиной и малиной, удивительным миром вставал Ленинград с громадами стройных домов, с бесконечным морем пешеходов, трамваев и машин».
Тогда еще в городе были извозчики, мчавшиеся на элегантных колясках, причем лошади сильно отличались от деревенских – тонконогие, гладкие, не боящиеся автомобилей. (Кстати, в такой коляске и был доставлен из роддома Илья Сергеевич, поскольку отцу выбить машину на работе не удалось.) Потом были посещения музеев, а первый из увиденных – домик Петра I хранится в памяти до сих пор. Затем – Эрмитаж и Русский музей, где детское воображение Ильи было пленено васнецовскими картинами «Боян» и «Витязь на распутье». Многие годы спустя Илья Сергеевич напишет свой образ Бояна, отражающий его представления о славянской древности, исследованию которой он посвятил большую часть своей жизни.
Вначале Глазуновы, их родственники Флуги и Мервольфы жили в одной квартире на Плуталовой улице. Затем разъехались. Мервольфы остались на прежнем месте, а семья Глазуновых, мать Ольги Константиновны – Елизавета Дмитриевна и Константин Флуг с женой – актрисой Инной Мальвини переехали на первый этаж дома на углу улицы Матвеевской и проспекта К. Либкнехта (бывшего Большого). Причиной разъезда, по объяснению О. Колоколовой, стало то, что жена Рудольфа Мервольфа Лиля (Елизавета) приревновала мужа к своей сестре Ольге – матери Ильи Сергеевича.
«Моим маленьким миром была наша квартира на тихой Петроградской стороне» – так отзовется о новом местожительстве художник. Из чего складывался этот мир? Не могла не привлечь экзотика обстановки комнаты К. Флуга – дяди Коки: разбросанные на столе, написанные китайскими иероглифами манускрипты; книги-картинки о приключениях забавных китайских персонажей, древние скульптурки драконов. Над столом – федотовский портрет К. К. Флуга, копия головы Ван Дейка. Рядом – бытовые и театральные аксессуары жены дяди – Инны Мальвини. А над столом у отца висела репродукция «Сикстинской мадонны» в раме из карельской березы…
Бабушка на ночь читала Илюше книгу Сенкевича, о чем уже говорилось, а чтобы он быстрее засыпал, пела старинные колыбельные песни. Засыпая, он старался представить себе Бородинское сражение, Илью Муромца, бьющегося с Соловьем-разбойником, светлейшего князя Александра Суворова, воинский подвиг которого запечатлен Суриковым в картине «Переход Суворова через Альпы», поразившей воображение в Русском музее. А Эрмитаж, где представлена галерея портретов героев 1812 года от Кутузова до старостихи Василисы, коловшей наполеоновских оккупантов вилами, породил страсть собирать все, что относилось к той войне.
Странным образом личность Наполеона тоже вызывала глубокий интерес, может быть, потому, что на одной старинной открытке изображалось, как над будущим полководцем и императором в юности смеются сверстники. Как можно смеяться над великим? Отец пояснил, что Наполеон был корсиканцем и не совсем хорошо говорил по-французски.
И еще были любимые игрушки и книги, названия которых и поныне звучат для Ильи Сергеевича как музыка детства: «Царские дети и их наставники», «Рассказ монет», «Живчик», «Под русским знаменем»… Сколько раз я слышал от него упоминания об этих книгах!
А вот некоторые свидетельства из детского периода жизни Ильи Сергеевича, рассказанные О. Н. Колоколовой и его двоюродными сестрами – Ниной Рудольфовной и Аллой Рудольфовной.
Ольга Николаевна Колоколова:
«Илюша был единственным ребенком, Оля в нем души не чаяла, и потому казался весьма избалованным, но прелестным ребенком с вьющимися кудрявыми волосами, довольно шаловливым. Когда мы выходили гулять, он нажимал кнопки дверных звонков квартир на лестничной площадке и исчезал. Двери распахивались, и в наш адрес раздавались страшные ругательства за плохое воспитание.
Он очень интересовался игрой в оловянных солдатиков, подаренных ему кем-то из родственников, и с увлечением разыгрывал всяческие баталии. С таким же увлечением учился в художественной школе. На его духовное развитие огромное влияние оказало окружение взрослых, которые были типичными интеллигентами. Но затем, лишившись в 11 лет родителей, он всего достиг сам. Пусть это знают те, кто поносит его».
Нина Рудольфовна:
«Уже в маленьком, балованном, наделенным чувством юмора Илье чувствовалась незаурядность натуры. Я его любила больше своего старшего брата, а Алла была с ним неразлучна. Вместе играли, ходили в садик… Илья, как и Алла, немного заикался. Это происходило на нервной почве, что после блокады усилилось. Но потом, наконец, от сего дефекта удалось избавиться…»
Алла Рудольфовна:
«Илья очень рано начал рисовать и предпочитал в основном батальные темы. В шестилетнем возрасте проиллюстрировал карандашами написанные им стихи. Из них помню такое четверостишие:
Еду с винтовкой за спиной, И все полки идут за мной. Я лег, прицелился и бахнул! Снаряд взорвался, да как ахнул!..
В отличие от нас с сестрой, его очень интересовала генеалогия, и он не поддавался, когда слышал утверждения, что дворянство – это нечто плохое.
У него был крест, оставшийся от одного из предков – генерала, воевавшего на Балканах (скорее всего – это генерал Ф. А. Григорьев, жена которого навещала семью Глазуновых. – В. Н.). На кресте остался след от попадания в него то ли пули, то ли осколка, что спасло генералу жизнь. Илья оценивал этот факт таким образом: «Видишь, как полезно носить кресты!»
Очень увлекался образом Наполеона, а тема войны 1812 года была для него основной. Мы играли в эту войну и воспроизводили сцену битвы на Бородинском поле, когда Багратион получил ранение в ногу. Ее пришлось ампутировать, и в этом эпизоде я выступила в роли врача, а он – Багратиона.
Я была очень дружна с ним. Мы не только вместе играли и гуляли в городе, но и отдыхали на даче. Так было и в июле 1941 года, когда мы с ним и его мамой поехали в Вырицу, куда наезжал и Сергей Федорович. И оставались там до августа, после чего вернулись в город. А 20 августа замкнулось кольцо блокады…»
Илья стал рисовать очень рано, и первым его рисунком было изображение орла в горах, о котором любила вспоминать его мама. Она привела шестилетнего сына в школу искусств. Там рисовались незатейливые натюрморты, гипсовые орнаменты, всевозможные композиции. Навсегда в памяти останется у начинающего приобщаться к художественному мастерству Ильи урок, полученный при попытке нарисовать знаменитую летчицу Марину Раскову, имя которой гремело по всей стране. Как ни старался он изобразить женскую фигуру в комбинезоне – все равно получалась мужская. Учительница подсказала: женская фигура отличается от мужской тем, что у нее бедра шире плеч. Тогда прибавил к линии бедер – и получилось!
Потом занятия были перенесены в другой дом, тоже принадлежавший Витте, находившийся рядом с памятником миноносцу «Стерегущему», погибшему в русско-японскую войну. Созданный скульптором К. Изенбеком памятник был торжественно открыт 10 мая 1911 года в присутствии императора Николая II. Подвиг моряков как пример жертвенности, свойственной русским людям при защите Отечества, глубоко запал в сердце будущего художника.
Гибель «Стерегущего» 26 февраля 1904 года так описывалась в «Таймс» на основании японского донесения:
«Тридцать пять убитых и тяжело раненных лежали на палубе русского миноносца, когда его взяли после упорного боя на буксир японцы, подобравшие лишь четверых легко раненных русских, бросившихся в море. Но на «Стерегущем» оставались еще два матроса; они заперлись в трюме и не сдавались, несмотря на все увещевания. Они не только не сдались врагу, но вырвали у него добычу, которую он уже считал своей: открыв кингстоны, они наполнили родной миноносец водой и погребли себя вместе с ним в морских пучинах…»
…А потом занятия проходили в первой художественной школе на Красноармейской улице, где учительствовал Глеб Иванович Орловский, о котором с благодарностью вспоминает художник. Он знакомил с репродукциями картин великих мастеров, ставил красивые натюрморты и поддерживал страсть своего ученика к истории войны 1812 года. Хотя однажды обидел его, сказав, что композицию «Три казака», написанную им самостоятельно после прочтения «Тараса Бульбы», где-то видел.
Ликование в семье вызвало упоминание в журнале «Юный художник» об акварельной композиции «Вечер», написанной Ильей под впечатлением шествия с отцом по скованному страшным холодом городу. Примечательно, что пятый номер этого журнала за 2003 год был целиком посвящен созданной и возглавляемой уже всемирно известным Ильей Глазуновым Российской академии живописи, ваяния и зодчества.
В 1938 году он пошел в первый класс обычной общеобразовательной школы. Накануне мама проплакала весь вечер, предполагая, какой мерзостью могут там напичкать ее любимого сына. И действительно, в первый же день там поручили разучивать примитивнейшую песенку о Ленине. Но мама придумала шутливо спасительный выход: не обязательно петь со всеми, можно только открывать рот…
В своей книге «Россия распятая» художник пишет: «Мое детство было детством, может быть, одного из последних русских дворянчиков на фоне развернувшихся гигантских политических событий». И далее: «Хочу добавить, что оно протекало в уже почти не существующем мире, и было правдой сна. И перефразируя Чехова, скажу: «В детстве у меня было детство!» Его прервала, как и у миллионов детей моего поколения, война».
22 июня 1941 года, играя около дома с мальчишками в войну, Илья увидел на перекрестке большую толпу. Подумалось, что кто-то попал под машину. Но собравшиеся у репродуктора напряженно слушали речь Молотова о нападении германских войск и бомбежках Житомира, Киева, Севастополя, Каунаса…
Хотя это известие было воспринято трагически, все же не верилось, что немцы вскоре окажутся вблизи Ленинграда и докатятся до самой Москвы.
Поэтому родители, несмотря ни на что, решили на лето отвезти сына в Вырицу.
В Вырице война чувствовалась лишь по радиосводкам, немцами захватывались новые города и территории. Но через несколько недель появились немецкие листовки с призывами бить жида-политрука и встречать освободителей от «жидо-масонской оккупации кровавых большевиков».
А когда немцы разбомбили железнодорожную станцию и оказались совсем близко, надо было срочно уезжать. Сгустившаяся опасность заставила Ольгу Константиновну сделать такое признание сыну: «Я тебе раньше не говорила этого. Но помни, что ты крещен и ты православный».
Утром следующего дня начался путь к станции, чтобы от нее по шоссе добраться до следующей и успеть на последний поезд, уходящий в Ленинград. В памяти остались жуткие картины военного разорения и первая бомбежка, когда дымилась вздыбленная земля, а рельсы, причудливо изогнутые, казались сделанными из теста. Вот еще одно из впечатлений этого скорбного пути.
«Пыль, жара, горе. Дети серьезны и молчаливы. Кричат и плачут только грудные. Никогда не забуду наших солдат 1941 года. Спустя много лет в рязанском музее я видел древнее изображение крылатого воина-архангела Михаила, которое заставило меня вспомнить первые дни войны. С деревянной доски на меня смотрел опаленный солнцем и ветром русский солдат с синими, как прорывы весенних небес, глазами, смотрел гневно, строго и смело. Его взор чист и бесстрашен. А под ногами родная земля. Кто вдохновил тебя, безымянный русский художник, на создание этого героического образа? Может быть, ты так же шел в толпе беженцев, и тоже была пыль, жара и горе?… А может быть, ты сам сражался в жарких сечах и остался живым? И запечатлел в едином образе силу и отвагу своего поколения?»
Впоследствии пережитое станет основой сюжета многофигурной композиции «Дороги войны» – дипломной работы Глазунова в Институте имени Репина. Но она не будет допущена к защите за обнаруженные в ней якобы пораженческие настроения. Пришлось срочно писать другую. А ту картину он завершит спустя десятилетия.
А тогда, оказавшись в последнем поезде, идущем в Ленинград, Илья услышал тихий вопрос матери, обращенный к соседу: если она накроет своим телом сына – дойдет ли до него пуля? И получила утешительный ответ: очевидно, не достанет…
Война
Ленинград превратился в прифронтовой город. Баррикады, траншеи, перекрашенные под цвет зелени дома, зенитные пушки в парках… Черный дым от горящих продовольственных складов, аэростаты, патрули…
Родители решили не уезжать из города, и некоторое время продолжаются заходы с отцом в любимый букинистический магазин. Но все ближе подкрадываются голод и смерть…
«Все страшные дни Ленинградской блокады неотступно и пугающе ясно, словно это было вчера, стоят непреходящим кошмаром в моей памяти… – напишет потом Глазунов, воссоздавая картины смерти своих близких. – Каждый умирал страшно и мучительно. Отец – с протяжными нестерпимо громкими криками, от которых леденела кровь и поднимались дыбом волосы… Пламя коптилки, дрожавшей в маминой руке, жуткими крыльями теней заметалось по стенам, потолку и отразилось желтым тусклым блеском в закатившихся белках отца, который продолжал кричать на той же высокой ноте… Через пятнадцать минут отец замолк и, не приходя в себя, умер…
– Бабушка! Бабушка! Ты спишь? – говорил я, боясь своего голоса в гулкой темноте холодного склепа нашей квартиры. Закрывая рукой пламя коптилки от сквозняка отрытой двери, я старался разглядеть бабушку… Холодея от ужаса, больше всего боясь тишины, я с усилием подошел к постели и положил руку на ее лоб. Он был холоден, как гранит на морозе. Я не понимаю, как очутился рядом с матерью, лежащей в старом зимнем пальто под одеялом. Стуча зубами прошептал:
– Она умерла!
– Ей теперь легче, чем нам, мой маленький, – сказала тихим шепотом мать. – От смерти не уйти. Мы все умрем – не бойся!
…Отец и все мои родные, жившие с нами в одной квартире, умерли на моих глазах в январе – феврале 1942 года. Мама не встает с постели уже много дней. У нас четыре комнаты, и в каждой лежит мертвый человек. Хоронить некому и невозможно. Мороз почти как на улице, комната – огромный холодильник. Потому нет трупного запаха…»
Жуткая атмосфера блокадного времени будет отражена художником в его знаменитой серии графических работ «Блокада».
22 марта 1942 года, когда в квартиру пришли люди, чтобы живых эвакуировать на Большую землю, в ней оставались лишь Илья и его мама. Машина, которая привезла медикаменты для военного госпиталя, по просьбе Михаила Федоровича должна была, возвращаясь на фронт, вывезти их из города. Но Ольга Константиновна не могла уже передвигаться. Она попросила сына принести из шкафа коробочку с маленькой позолоченной иконой Божией Матери и сказала: «На, возьми на счастье. Я всегда с тобой. Мы скоро увидимся».
По заснеженным улицам незнакомый человек отвел Илью в дом дяди Миши, его посадили в открытый грузовик. Вместе с бабушкой – матерью отца и Михаила Федоровича, их сестрой Антониной и санитаром с дочерью предстояло проделать опаснейший путь по «Дороге жизни» из блокадного Ленинграда.
Встреченные Михаилом Федоровичем, Илья с родственниками, после месячного лечения в госпитале, были отправлены в новгородскую деревню Гребло. Там до войны дядя снимал дом под дачу, в котором Илья проведет два года.
Вскоре в Гребло пришли несколько коротких писем от матери, датированные последними числами марта 1942 года. Угасающая Ольга Константиновна каким-то чудом нашла силы, чтобы выразить в них любовь и заботу о дорогом единственном сыне. Несмотря на успокоительные заверения мамы и наступление весны, его душа была переполнена недобрыми предчувствиями.
Когда пришло письмо от тети Аси, адресованное не ему, глухо застучало сердце и показалось, что он оглох… И не ошибся в своей догадке: тетя Ася сообщала о смерти своей сестры – его матери.
«Не помню, как очутился один в лодке на спокойно плещущих волнах. Надо мной простиралось бесконечное небо, такое же, как и в моем детстве. Что будет впереди, кому нужен я теперь, медленно плывущий навстречу волн? Знакомое по блокаде чувство неощутимого перехода из жизни в смерть соблазняет и умиротворяет своей легкостью… Как первобытна и нема могучая природа! Это были минуты, когда душа, как мне казалось, со всей полнотой ощутила загадку и непрерывность человеческого бытия. Ожили и заговорили волны, зашептал тростник, склонились вечерние облака, нежно утешая затерянного в мире человека, а птицы вносили в этот безгласный разговор глубокую жизненную конкретность происходящего мига. Их крики так похожи на человеческую речь! Словно ожила на мгновение природа и обняла своими ветрами и скомканную душу, стараясь расправить ее как опущенный парус…»
Врачующая сила природы не раз спасала впечатлительную душу художника. А он, как мало кто иной, наделен необыкновенным проникновением в тайны природы, с ее вечным процессом умирания и воскресения. Я был поражен, когда однажды прочел такие строки в его книге «Дорога к тебе»:
«Какая хрупкая, нежная прелесть в северной русской природе! Какой тихий, невыразимой музыки полны всплески лесных озер, шуршание камыша, молчание белых камней. Чахлые нивы, шумящие на ветру березы и осины… Приложи ухо к земле, и она взволнованно расскажет о былинных вековых тайнах, сокрытых в ней, поведает о поколениях людей, спящих в земле под весенней буйной травой, под белоствольными березами, горящими на ветру зеленым огнем. Как поют птицы в северных новгородских лесах! Как бесконечен зеленый бор с темными, заколдованными озерами. Кажется, здесь и сидела бедная Аленушка, всеми забытая, со своими думами, грустными и тихими. Как набат, шумят далекие вершины столетних сосен, на зелени мягкого моха мерцают ягоды.
В бору всегда тихо и торжественно. Тихо было и тогда, когда я после мучительных месяцев, казавшихся мне долгими годами, вступил, как в храм, в синь весеннего бора…»
Нельзя без волнения читать переписку Ильи Сергеевича военного времени с родственниками. Вот лишь несколько строк из нее.
Письма никакой редактуре не подвергались. Говорится это к тому, чтобы не было сомнений в их подлинности. Действительно, трудно представить, чтобы одиннадцатилетний ребенок, оказавшись в водовороте душевных потрясений, мог писать столь емко и образно, с такой пронзительной интонацией.
Из письма к матери от 4.05.1942 года:
«Родная, ой, тяжко мне. Украдкой набегают обильные слезы – какую я сделал непростительную ошибку, что уехал! Я отдал бы 60 лет жизни, чтобы вернуться к тебе. Ты будешь уверять, что хорошо, что я уехал, что нас бомбят и голодно, а мне наплевать, лишь бы быть с тобой… Бесценная моя Лякушка (Лякой он называл мать. – В. Н.), пиши мне, ты последняя моя надежда, ты последняя моя радость. В душе все время реву в 100 рек. Эти реки можно остановить только тогда, когда я увижу твое дорогое личико. Ляка, родная Ляка! Зачем я уехал??!!!»
Из писем к тете Агнессе Константиновне от 6.05.1942 года:
«Теперь я остался без Ляки! Я – круглый сирота! Что мне делать? Я одинок, несчастен… Вчера под вечер пришло письмо от тебя; сперва говорили, что маме очень плохо, но после моих приставаний сказали, что дорогой нет!
Я весь вечер проревел, а утром проснулся и опять стал реветь… Атя! Атя! Для чего мне жить, я потерял всех, кого так сильно и безумно любил (за исключением тебя, дяди Коли, Аллы и Нины)… Счастливое хорошее детство закатилось безвозвратно. Сейчас все еще не верится, что я без дорогой, бриллиантовой, золотой Ляки… Получил от нее три письма 25, 26, 30 марта. Тоня (сестра отца – Сергея Федоровича. – В. Н.) спросила: «У кого ты будешь жить?» Я говорю: «У Аси». «А она примет тебя?» Я и ляпнул: «Да»… Жизнь как тяжелое бремя. Так хочу умереть… Атя, Атя, как я одинок, хотя все ко мне ласковы, особенно Тоня…
…Дорогой дядя Коля!.. (муж Агнессы Константиновны. – В. Н.) я одинокий, жить надоело. Хочется домой в свою семью, не хочу верить, что Ляки нет больше. Боже, Боже! Умоляю Бога, чтобы дал мне умереть от воды или от пули…»
3.06.1942 год.
«…Как твое здоровье? Не хочется жить, хочу умереть. Чувствую все время, что всем в тягость, а что самое ужасное – сердце съела тоска по родному и ласковому дому. Если увижу тебя, то буду счастливее всех на всей земле. Проклинаю тот час, когда уехал от вас, моих родных и добрых, где я чувствую, что меня любят. В сердце запели райские птицы, когда прочитал в твоем письме к Тоне: «Я его люблю как сына». И в письме ко мне: «Ты мне всегда нужен». Этим словам, чувствую, не суждено сбыться. Мне никогда не увидеть вас, бомба убьет тебя… Зачем жить? Если с тобой что-нибудь случится, то мне жизнь среди тех, кто меня не любит, не жизнь; это, иначе говоря – тюрьма. Что лучше – тюрьма на всю жизнь или смерть? Я выбираю смерть…»
15.01.1943 год.
«…Сейчас особенно хочется ласки. Тоня уехала. Какое-то тревожное настроение, сердце сжимается… Я так люблю тебя, дорогая, а ты любишь? Далекое прошлое… Гоню от себя злое видение Лякика и всех (умерших) за последнее время: руки – плети, жилы на висках, огромные носы… да что – ты сама видела. Джабик (Елизавета Дмитриевна – бабушка Ильи Сергеевича. – В. Н.) лежала тихо, как спала, и мне не было страшно этого личика, обложенного веточками, этих ручек, на которых в детстве я строил из морщин заборчики.
Это лицо, эта вся ее фигура была так спокойна, ясна, у сложенных рук отливал потемнелой позолотой лик Божьей Матери. Мы с Лякой сидели на стуле (вернее, она села, а я стоял). «Не бойся, Илюшенька, ведь это наш дорогой Джабик», – сказала дорогая Ляка. Она открыла Евангелие и стала читать наугад. Выпало ее любимое место из Завета. Вдруг приоткрылась дверь, пламя свечи заколебалось, мы вздрогнули. Ляка закрыла дверь. А вода в бутылочке замерзла…»
Благодатное воздействие природы, постоянная духовная и материальная поддержка со стороны дяди Миши, тети Аси и дяди Коли, забота других родственников постепенно вывели ребенка из беспросветного состояния.
В Гребло Илья не сторонился крестьянских дел: был подпаском, молотил лен. По трудодням получил первую в жизни зарплату в виде натурального продукта – муки, насыпанной в две наволочки с пометкой «И. Г.», вышитой рукой матери. Вместе со всеми он разделял горе при получении «похоронки», провожал на фронт очередных призывников, на которых вскоре тоже приходили похоронки. Играл с деревенскими ребятами, ходил с ними по грибы и ягоды. Учился в школе, в которую надо было добираться за несколько километров еще до рассвета.
У Ильи Сергеевича завидная память не только на своих первых учителей, но и на всех, кто когда-то относился к нему с добром. Помнит он и директора сельской школы – похожего на большую птицу, горбатенького, с очень умным лицом и темными грустными глазами, говорившего обстоятельно и веско. Ученики считали, что он знает все, и потому его уважали и боялись. Директор был эвакуированным и по его нередко задумчивой отрешенности думалось, что этот человек с весьма драматичной судьбой.
По письмам не по годам взрослевшего Ильи можно судить о развитии и формировании его личности. Он снова начинает заниматься рисованием и даже письма иллюстрирует своими рисунками.
Вот что он пишет тете Асе 12.10.1942 г.:
«Я нарисовал композицию «1812 год («Отступление»). На первом плане костер; сидят французы, на заднем – кибитка… На облучке – Наполеон, вокруг солдаты… Тоня говорит, что хорошо. Потом «Дубровский». Первый план: аллея, деревья и идет Маша; на заднем – беседка, а в ней Дубровский. Начал также «Дубровский. Поджог дома». Я так вспоминаю освещенную квартиру и Джабика, Ляку, Бяху (домашнее прозвище отца. – В. Н.). И все вы – издали мерцающее сияние. Неужели все потеряно? На каждой обратной стороне рисунка пишу: «Посвящаю Ляке». Она так любила смотреть мои рисунки. Я представляю себе, что ночью они все у меня летают по комнате. Ляка заботливо укрывает меня, целует…»
Несколько лет назад я услышал от Ильи Сергеевича такую короткую историю. Сергей Бондарчук, снявший всем известный сериал «Война и мир», спросил художника, как бы он в едином образе представил себе крушение Наполеона. Ответ на вопрос, предполагающий долгие раздумья, был как всегда моментален: «В жуткую непогоду, в сопровождении солдат по непролазной дорожной хляби волокут поверженную статую Наполеона…» Бондарчук отшатнулся: «Потрясающе!..»
15.10. 1942 г.
«…Только что нарисовал композицию: кладбище на первом плане, старушка с мальчиком. Тоня и тетя Ксения говорят, что хорошо. Сделал наброски, как хозяйка Марфа Ивановна прядет шерсть…»
29.10. 1942 г.
«…Я теперь много рисую».
15.01.1943 г.
«…Делаю наброски из окна (людей, лошадей и т. д.)».
К этому же времени относится и первое упоминание о театральном опыте.
9.03.1943 г.
«Дорогая Адюшка!
Помнишь, ты прислала в «Костре» пьесу?
Ее поставил наш класс 8 Марта. Все очень довольны, я всех гримировал, то есть делал погоны, усы красил. А до этого была пьеса «больших» (все девушки), из колхозной жизни – неинтересно…»
В Гребло у Ильи не иссякает интерес к литературе. Откуда только она бралась в сельской глуши? Тетя Ася постоянно присылала своему племяннику книги, открытки, журналы, другие издания, которые не только связывали его с прежним миром счастливого детства, но и, обогащая внутренний мир, способствовали дальнейшему духовному росту. Привозил книги и дядя Миша; некоторые Илья добывал сам. Своими впечатлениями о прочитанном он нередко делился с тетей Асей.
Вот лишь названия некоторых книг, упомянутых в письмах.
«Прочитал стихотворение Пушкина «Романс». Оно частично относится ко мне…»
«Прочитал книгу «Тайна двух океанов…»
«Дядя Миша купил мне кучу чудных книг, как то: Тарле – «Наполеон», «Севастопольская страда», «Приключения доисторического мальчика».
«Прочитал Доде «Тартарен из Тараскона».
«Получил «Историю Древнего мира» – учебник для 5-х классов и «Мифы Древней Греции».
«Читаю «Господа Головлевы».
«Прочитал Чернышевского «Что делать». Ничего, только обрывается».
«Большое спасибо за картиночки и книги. Я так рад, так рад «Войне и миру», что ты представить себе не можешь. Как интересно! Как чудно написано! Да? А то бы я без чтения пропал совсем… Спасибо за «Фрунзе».
«Получил «Суета сует», «На земле», «Домик на холме», «Ярость», «Шрифты» (очень интересные). «Мертвые души» еще не прочитал, за них тоже безмерно благодарен».
«Газеты присылает дядя Миша, читаешь ли ты газету-журнал «Британский союзник»? Очень интересно…»
«Я получил: Чарльза Диккенса «Лавка древностей», книгу о водолазах и много других; календарь, вырезку, картинку, еще маленькую картинку. Я за них очень благодарен…
Я достал «мировую книгу» В. Гюго «93-й год» о французской революции».
«Дорогая Адюшка!..
Спасибо еще раз за книжечки. Очень интересные Л. Н. Толстой».
«Давно не получал от тебя писем, но бандероли, к моей радости, приходят часто. Получил «Русскому солдату о Суворове», трилогию Толстого. Вчера – картину Серова и «Костер».
Я так благодарен тебе за все, что не могу сказать. Бесценная моя, как ты заботишься обо мне! По любви и заботе ты поистине вторая мама… Отдала ли Инка (супруга дяди Константина Константиновича Инна Мальвини. – В. Н.) Топелиуса? Есть ли «Дон Кихот», «Грозная туча», «Рассказ монет», «Шерлок Холмс», «Квентин Дорвард»? Я кроме «Скобелева» и «Робинзона» ничего не брал…»
«Дорогая Агинька!
Спасибо за письмо. Я очень рад также и книгам. Спасибо за «20 дней в контрразведке», «Охотник на взморье»… «История одного детства» (пришла сегодня). У меня теперь есть что читать… Агя, ты так заботишься обо мне, посылаешь книги, и я имею удовольствие пополнять свои начальные знания. Ох! Как жалко «Грозную тучу»! Попробуй, если не трудно, на почте – пусть хоть заплатят цену! (Не в цене дело.) Она так же, как и «Рославлев» ценна. Спасибо за него еще раз. Читаю опять «Войну и мир»…
«Получил книги: Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов, Кутузов, Брусилов…»
И это помимо обязательного круга чтения по школьной программе! А она была такой, что те, кто ее осваивал, получали такие знания по отечественной литературе, которые в сравнении с программой в нынешней школе, могут считаться академическими.
Очень теплые воспоминания у художника сохранились о хозяйке дома в Гребло Марфе Ивановне Скородумовой, на долю которой выпало немало лиха. Эта красивая, по-кустодиевски крепкая женщина потеряла в начале войны мужа. Работала она за десятерых, чтобы поднять на ноги своих детей. В документальном фильме режиссера Павла Русанова «Илья Глазунов» запечатлен волнующий момент встречи уже прославленного не только на родине, но и далеко за ее пределами художника с Марфой Ивановной.
Гребло на многие годы скрепило Илью дружбой с местными детьми. Одним из первых другом стал Василий Богданов. Самые проникновенные дружеские отношения сложились у Ильи со старшеклассником Сашей Григорьевым. Он поражал знанием о любимых героях Отечественной войны 1812 года, читал Гельвеция и Шекспира, цитировал по памяти стихи Пушкина и Лермонтова, сочинял собственные. Илья дал ему впоследствии прижившееся прозвище – «Птица». Такой казалась его сильная, динамичная фигура, когда он, раскрывая подобно птице руки, будто взлетал ввысь с кормы деревянной лодки и врезался в волны Великого озера.
Дружба с Сашей продолжалась в послевоенные годы в Ленинграде, где Илья учился сначала в средней художественной школе при институте имени И. Репина, а затем и в самом институте, бывшей императорской Академии художеств, а Саша был курсантом Военно-спортивного института имени Ленина.
Однажды, когда я находился у Ильи Сергеевича в квартире в Калашном переулке, он сказал, что вынужден ненадолго отлучиться, и попросил меня снимать телефонную трубку. Через какое-то время раздался междугородный звонок.
«Это я, Гриша из Боровичей, – отдаленно и не очень отчетливо послышался голос. – Будет ли Илья Сергеевич в ближайшие дни в Москве? Собираюсь приехать». – Сказал человек, явно по своему просторечию не принадлежавший к разряду высокопоставленных и известных особ, которые одолевают Илью Сергеевича звонками. – «Кто вы и по какому делу хотите обратиться к Илье Сергеевичу?» – спросил я. – «Просто передайте, что звонил Гриша. Больше ему не надо ничего объяснять. Он все знает…»
Вскоре возвратился Илья Сергеевич. Сказав ему о странном звонке, поинтересовался: «Что за человек?» – «Да это родственник», – отрешившись от всего и впав в задумчивость, тихо ответил Илья Сергеевич. Изумленный, выдержав некоторую паузу, я не удержался: «Какой родственник, насколько мне известно, кроме сестер Аллы и Нины, никого уже не осталось, так по какой линии этот родственник? – «Скоро узнаешь», – приходя в себя, отвел руку от лица Илья Сергеевич.
На следующий день, после повторного звонка Гриши из Боровичей, Илья Сергеевич объяснил, что это звонит сын Марфы Скородумовой, хозяйки дома в Гребло, у которой он жил во время войны в эвакуации…
Когда я вновь пришел к Глазунову, меня встретил высокий мужчина с простым русским лицом, светлыми волосами и грустными глазами.
– Григорий, – представился он. – Проходите. Илья Сергеевич просил передать, что он задерживается в академии.
– Так вы тот самый родственник, звонивший из Боровичей? – произнес я, вглядываясь в черты его лица, пытаясь уловить какое-то сходство с Ильей Сергеевичем. Хотя отыскать какую-то родственную связь Флугов или Глазуновых со Скородумовыми было бы весьма странным. Однако, что только не случается в жизни…
– Да, кровной родственной связи у нас нет, – задумчиво ответил Григорий. – Но Илюша упорно утверждает, что считает меня своим братом и настаивает, чтобы я относился к нему так же. Правда, я чувствую себя несколько неудобно – ведь он какой великий человек! Но он стоит на своем…
Так завязалась наша беседа, в которой прояснились многие интересные детали. Привожу рассказ Григория Сергеевича, услышанный в тот вечер.
– Началось все с того, что с 1937 года дядя Илюши – Михаил Федорович – снимал у нас в Гребло дом под дачу. Это был двухэтажный деревянный помещичий дом, хозяева которого исчезли в годы революции. Сначала дом стал принадлежать дяде моего отца, впоследствии отец его выкупил. В начале Великой Отечественной отец воевал под Лугой, где и пропал без вести…
Помню, когда привезли к нам Илюшу; как он горько плакал, получив известие о смерти матери. Все его старались утешить как могли. Мы с ним быстро сдружились. В нашей деревне не было ни радио, ни света. А в школу ходили с ним в соседнюю деревню Кобожа, располагавшуюся в двух километрах от Гребло. По дороге Илюша рассказывал мне про Робин Гуда, и этот рассказ растягивался на весь путь. А я, даже видя, что он уже уставал от своих повествований, продолжал клянчить: «расскажи, расскажи, что дальше…» И он откликался на мои просьбы, видимо, придумывая свое продолжение легенды о столь полюбившемся мне герое.
Илюша все свободное время использовал для рисования. Рисовал на бумаге, которую очень берег, потому в ход шла даже береста. И не один раз я взбирался на сосну, чтобы позировать ему для образа Соловья-разбойника. Но когда он показал мне готовый рисунок, я обиделся, так как на нем был изображен страшный образ…
Занимались мы с ним и хозяйственными делами – например, заготавливали дрова. Зимой привозили их на саночках, летом приносили на себе. У нас был такой строгий лесник, бдительно наблюдавший, чтобы никто не срубил ничего лишнего и дельного. Илюша рисовал его, а особенно любил рисовать деда Ключу, заросшего, как леший, с бородой до глаз. Он по нраву был довольно свирепым, особенно, когда его раздразнивали…
Со мной Илюша был очень добр. Но иногда и перепадало от него, ведь он был старше меня на три года, что в военную пору осознавалось весьма сильно. Помню, как однажды он возился с удочкой, а я подкрался и напугал его. А он тогда еще заикался, и, погнавшись за мной с этой удочкой, несколько раз врезал ею…
У нас сложились так отношения, что когда в 1944 году Михаил Федорович увез Илюшу, то мы с сестрой проплакали целую неделю…
– И что было дальше? Как сложилась судьба вашей семьи и собственная жизнь?
– Потом мама решила уехать из Гребло и обменяла наш дома на дом в Боровичах. Она думала, что там будет легче жить, ведь получаемого на детей пособия в 210 рублей явно не хватало.
В 1952 году я был призван в армию. А после службы вернулся в Боровичи, где работал водителем. И однажды, получив отпуск, взял машину напрокат, чтобы вместе с матерью навестить Илью и Михаила Федоровича. Мать, хоть и была неграмотной, сумела найти дом дяди Ильи. Когда мы вошли в его квартиру, Михаил Федорович очень обрадовался и выругал за то, что я, работая в Ленинграде, не навестил его. «Я бы тебе помог поступить в Суворовское училище», – сказал он.
Тогда он уже был болен раком и очень тосковал по Гребло.
В ту встречу он попросил меня навестить Илюшу, который уже перебрался в Москву.
– И когда же состоялась ваша встреча?
– Во время первого же рейса в столицу направился на Кутузовский проспект, где он тогда жил с женой Ниной. Явился утром. Позвонил в квартиру. Дверь открыл сам Илюша. «Вы к кому?» – «Я Григорий Скородумов…» Он обхватил меня, потом отбежал и снова кинулся с объятьями… С тех пор мы постоянно общаемся.
А у Илюши в ту пору начался взлет. Он написал портрет Джины Лоллобриджиды. Их знакомство, кажется, состоялось на Красной площади. Илюша писал пейзаж, а Лоллобриджида, прогуливаясь, увидев его работу, попросила написать ее портрет. Так их знакомство переросло в многолетнюю дружбу…
– А вас навещал Илья Сергеевич?
– Дважды. Приезжал с Ниной еще до съемок Павлом Русановым фильма. Илюша хотел увидеть письмо Гоголя, хранившееся в музее города Устюжно, которое послужило ему поводом для написания «Ревизора». Письмо было написано новгородским губернатором уездному начальству, чтобы оно приготовилось к встрече ревизора. Но спутал все ехавший мимо, пропившийся дворянчик, которого приняли за ревизора. Пушкин, проезжавший по этим местам, узнав эту историю, рассказал о ней Гоголю. И тот тоже был там, чтобы собрать материал для своей комедии. Может быть, я излагаю что-то не совсем точно, но Илюша специально приезжал, чтобы увидеть то историческое письмо… Потом он приезжал на съемки фильма Русанова. Как бы хотелось, чтобы приехал снова.
Прорыв Ленинградской блокады привел к новым переменам в жизни будущего художника. Пришла пора возвращаться в родной город. Дядя Миша, ставший главным патологоанатомом Красной Армии, заехал за племянником с фронта в санитарном фургоне.
Добирались через Москву. После долгого путешествия по разбитым и тряским дорогам 31 мая 1944 года Илья оказался в столице. Поразила величественная стройность Кремля, ее огромность. Поселились они в гостинице «Новомосковская» (позже переименованная в «Балчуг»), где в двухкомнатном номере проживала тетя Ксения – супруга Михаила Федоровича, вскоре уехавшая в Ленинград.
А более или менее обстоятельное знакомство с Москвой, о чем ранее мечтал Илья, началось на следующий день после приезда с… бани, куда он с дядей приехал на «ЗИСе». Но банная процедура не вызвала восторженного ощущения. К слову, Илья Сергеевич и впоследствии, насколько мне известно, не увлекался заходами в баню, хотя в его дневнике за 1948 год есть такая запись: «Обливаюсь холодной водой в бане…» Зато в письмах к тете Асе и дяде Коле он делится впечатлениями от высылаемых ими книгах, посещении кинотеатров, московских победных салютах. Запомнилась ему военная Москва и красотой переулков Арбата, и чудным храмом Василия Блаженного, показавшегося огромной дремлющей головой великана, шествием по Садовому кольцу колонны немецких пленных и звучанием нового гимна. Одним из авторов этого гимна был поэт Сергей Михалков, сыгравший впоследствии огромную роль в судьбе Ильи Сергеевича, оказавшегося после первой своей выставки в тяжелейшем положении.
Но московские красоты не заглушали тоску по близким, оставшимся в Ленинграде, по любимому городу, который он до сих пор считает самым красивым городом в мире. Хотя почти полвека прожиты в Москве, Глазунов называет себя петербуржцем, создавая вокруг атмосферу, пропитанную старинным петербургским духом. А начиналось все с того, что подбирались и реставрировались старинные вещи, выбрасываемые за ненадобностью на помойку из различных учреждений и квартир, когда в моду входил ширпотреб. Так им был спасен чудный камин, занявший место в центральной комнате, где обычно собирались гости.
Вспоминается забавный случай. Однажды один из друзей художника полюбопытствовал:
– Илья, а зачем тебе этот декоративный камин? Ради украшения?
И заражающий всех своей энергией, ежеминутно разрешающий тьму проблем Илья Сергеевич, которого действительно трудно представить спокойно благоухающим у камина, вспыхнул:
– Как декоративный? Здесь не может быть никаких подделок!
Спор разрешился тем, что в камин были положены поленья, вскоре запылавшие ярким пламенем… Да, подделок Илья Глазунов не приемлет – ни в чувствах, ни в творчестве, ни в чем другом.
Возвращение в родной город
«Уже близится осень. Когда же я вернусь туда, где был мой дом и было мое, словно приснившееся детство? Все что угодно, но я должен вернуться в мой город на широкой и свинцово-полноводной Неве. Пусть буду проклят я, если хоть на мгновенье забуду тебя, о мой великий и странный город моей души. Скорее бы домой, скорее! Но дома-то у меня нет! Что будет со мной в новой жизни?» – такие мысли приходили Илье накануне возвращения в Ленинград.
И наконец свершилось… Добравшись в железнодорожном эшелоне до Ленинграда, он был привезен сослуживцем дяди к Инженерному замку, неподалеку от которого располагался ведомственный дом с квартирой Михаила Федоровича. Там уже находилась ранее прибывшая из Москвы его супруга Ксения Евгеньевна.
Встреча с ней была довольно сухой. Ксения Евгеньевна сразу же сказала, что жить он будет, «как хотел сам», у Монтеверде, у тети Аси, которую в письмах Илья называл второй мамой и умолял принять его к себе.
По пути к тете Асе он заглянул в квартиру, где жили сестры Алла и Нина. Она оказалась совершенно пустой и холодной, а дверь даже не была заперта на замок. В этом отсутствовала необходимость, поскольку квартира была совсем пустой.
Тревожные ощущения от первых соприкосновений с родным городом, куда он так стремился, были рассеяны бесконечно трогательной встречей с тетей Асей и дядей Колей. Чтобы не стеснять, не нарушать своим присутствием сложившийся их семейный порядок, через год он перебрался к сестрам, потом – в академическое общежитие. Когда умрет дядя Коля, вновь вернется к тете Асе и будет жить у нее до переезда в Москву.
Послеблокадный Ленинград, в котором, по выражению Ильи Сергеевича, было больше скульптур, чем людей, в отличие от оживленной Москвы пребывал в тихом состоянии, залечивая раны. Но даже от ущерба в войну не померкла красота его площадей, улиц и архитектурных ансамблей. В том числе и величественного здания бывшей императорской Академии художеств, пострадавшего от бомбежек. С сентября 1944 года он стал учиться в средней художественной школе при институте имени Репина, а в 1951 году поступит и в сам институт.
О своих годах ученичества сочно и красочно рассказал в своей книге-исповеди сам Илья Сергеевич. И здесь хотелось бы привести характерные особенности атмосферы той поры, подтверждаемые его дневниковыми записями и свидетельствами близко общавшихся с ним людей.
Прежде всего – это жажда учиться, горение любовью к искусству, которым были охвачены студенты института. Отсюда – упорное стремление овладеть основами профессионального мастерства, освоить богатства отечественной и мировой культуры. Каждый студент был личностью, отличавшейся мерой природного таланта и направленностью своих устремлений. С некоторыми из них, теперь они уже известные художники, – Федор Нелюбин, Эдуард Выржиковский, Валентин Сидоров, ныне возглавляющий Союз художников России, мне довелось достаточно близко познакомиться. Не раз мне приходилось слышать от них об удивительном трудолюбии, особо отличавшем Илью Сергеевича. Вот как объясняет сам художник источник своего упорства, отчетливо осознанный в четырнадцатилетнем возрасте:
«…Все силы своей души отдал освоению азов искусства, подбодряя свою неуверенность радостью учебных побед и… уверенностью в неодолимую победу каторжного труда на ниве любви к искусству».
На каких основах складывалось мастерство Глазунова? Прежде всего, на традициях выдающегося русского педагога реалистической школы П. П. Чистякова, прочно утвердившихся в школе и институте…
«Чистяков, – вспоминает о годах своего ученичества Глазунов, – с его твердой системой познания природы, как известно, считал, что познание лишь необходимый фундамент, без которого не может развиваться в искусстве неповторимая индивидуальность художника. Не случайно его учениками были люди, определившие лицо русского искусства на рубеже XIX–XX веков, – в их числе Суриков, Серов, Врубель, Васнецов. Они навсегда сохранили любовь к своему великому учителю, давшему им ключ к тайнам профессионального мастерства, без которого невозможно индивидуальное самовыражение любого художника.
Педагогическая система Чистякова основывалась на внимательнейшем изучении бесконечного разнообразия окружающего мира, человека. Чистяков был, по словам В. Васнецова, «посредником между учеником и натурой».
«Надо как можно ближе подходить к натуре, но никогда не делать точь-в-точь… так уже опять непохоже», – учил Чистяков. Этот завет – всегда уметь сохранить образное, поэтическое отношение к объекту изображения, не засушивая и не перегружая подробностями – главнейший в чистяковской методике.
Основой в изобразительном искусстве Чистяков считал рисунок. «…Только на нем может подниматься и совершенствоваться искусство».
Выдающийся педагог никогда не рассматривал вопросы искусства изолированно от многообразия всей жизни. Он живо интересовался новостями в области музыки, литературы, философии, науки. Он считал, что высокая техника художника должна служить не только лишь для передачи законов строения предметов. Необходимо восприятие самой сути явления. «Предметы существуют и кажутся глазу нашему. Кажущееся – призрак; законы, изучение – суть. Что лучше? – ставил вопрос Чистяков в своих заметках о двух аспектах восприятия явлений действительности. И отвечал: – Оба хороши, оба вместе… Надо сперва все изучить законно хорошим приемом, а затем написать все, как видишь».
Методика Чистякова, а также копирование работ старых мастеров имели неоценимое значение в формировании у Глазунова высокого профессионального мастерства. «Я часами просиживал в рисовальном классе и анатомическом кабинете, – вспоминает художник, – а потом шел в библиотеку, где смотрел без конца рисунки старых мастеров, не переставая изумляться празднику гармонии, логического познания и совершенства художественной формы с ее неумолимыми законами. Копируя работу великого мастера, будто беседуешь с умным всезнающим учителем, и потом по-новому смотришь на мир и природу. Мое глубокое убеждение, что один из самых действенных методов обучения начинающих художников – работа с натуры и параллельное копирование старых мастеров».
Этот метод и стал основным в педагогической деятельности профессора, руководителя мастерской портрета Московского художественного института имени В. И. Сурикова, а затем основателя и ректора Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.
А тогда, в годы ученичества, плодотворность этого метода неоспоримо подтверждалась каждой новой его работой. Уже первые портреты, пейзажи несут на себе печать высшей реалистической школы. И недаром один из соучеников Ильи Сергеевича по СХШ констатировал, что «весь 11-й класс делает под Глазунова» (за исключением немногих, которые «шли на реализм», но, увлекшись левыми течениями и переняв любовь к «цвету», «хлещут без рисунка»).
Через каторжный труд только и можно было преодолевать возникавшую иногда неуверенность – удастся ли подняться до уровня великих, которые воспринимались как небожители. Столь же ревностная устремленность наполняла работу мысли, диапазон чувств при усвоении богатств философских систем, музыкальной и театральной культуры. И постоянный интерес к литературе и истории, особенно подогревавшийся во время бесчисленных выездов на этюды в ленинградские пригороды, в различные края России, где его поджидали неожиданные открытия.
Глазунову было семнадцать лет, когда его друг Эдик Выржиковский, страстью которого стали поездки по древнерусским городам и рисование храмов божьих, предложил по весне поехать в Углич, смотреть «настоящую Русь».
Впечатления от знакомства с этим городом были оглушающими. Приведу лишь короткую запись из дневника Глазунова, отражающую душевную полноту при соприкосновении с атмосферой древнего русского города:
«Перед взором юоновские лошади. Обжигающий волжский ветер. На желтом закате колокольня со скворцами и мерцающие блики луж.
День. Базар. Малявинские бабы, солнце, бьющие каскады черной воды. Как прекрасно! Обновление души. Ночевал на полу, день на улице, близ старины и ворон».
А потом в своей первой книге «Дорога к тебе» будет подведен итог той поездки в Углич:
«С Угличем у меня связано самое чистое и светлое воспоминание, когда впервые в жизни красота древнего лика России поразила и навсегда вошла в сознание великим и волнующим чувством Родины.
То же чувство, наверное, испытывает сын, наконец нашедший отца, о котором так часто и бессонно думал в одиночестве сиротской доли».
Так оценил художник непреходящее значение воздействия открывшегося для него мира красоты, как бы повернувшей, выражаясь шекспировским слогом, глаза в душу. В душу, словно жившую предчувствием свидания и слияния с этой дивной красотой. Исторические предания и памятники, связанные с многовековой историей Углича, найдут затем отражение в полотнах художника. Образы Ивана Грозного, Бориса Годунова, трагический период русской истории, названный Смутным временем, будто обретя новую жизнь, окажутся в поле духовной жизни наших современников, и прежде всего Глазунова.
Знакомство с памятниками архитектуры старинных городов России, сопровождающееся углубленным изучением отечественной истории и культуры, все более обогащало личность художника, его представление о своем месте в искусстве. А поездку в сибирский город Минусинск он назвал своим вторым рождением. Там Глазунов во время сбора материала для дипломной работы открыл для себя неведомый ранее мир древнерусского искусства – мир иконы.
«…Древнерусское искусство, – говорил ему тогда проживавший в Минусинске Леонид Леонидович Оболенский, потомок древнего русского княжеского рода, работавший до войны во ВГИКе вместе с известными кинорежиссерами Пудовкиным и Эйзенштейном, – это тот мир, который должен открыть для себя каждый художник, тем более русский. Матисс приезжал в Россию, чтобы поучиться у наших иконописцев. Я помню, как он в Москве сказал, что Италия для современного художника дает меньше, чем живописные памятники Древней Руси. Открытие в конце XIX века русской иконописи как великого искусства мировой живописи явилось могучим толчком для страстных поисков национальной красоты, без которой не может быть национального искусства. А история искусства утверждает, что только подлинно национальное может стать интернациональным, то есть общечеловеческим… Неужели вы раньше не обращали внимания на иконы?
…Наверно, вам, воспитаннику академии, влюбленному в Сурикова и итальянский Ренессанс, казалось, что иконописцы Древней Руси не умели рисовать, что у них нет пленэра?… Так вы и не должны ждать от них реализма в вашем понимании. Это то же самое, если вы будете, придя в балет, удивляться, почему люди не ходят «как в жизни», а почему в опере не говорят, а поют… Задачей иконы не было изображать повседневную жизнь – мускулы, землю, дома… Условность языка проистекает не от неумения, а от стиля – тогда художник не живописал материальный мир, а создавал мир духовных понятий, нравственных категорий. Символов, если хотите…»
Радостному событию приобщения к светлому источнику древнерусского искусства счастливо сопутствовал и другой чрезвычайно важный момент: более углубленное знакомство с творчеством великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Значение писателя в творчестве Глазунова так велико, что вне контекста духовной связи Достоевский – Глазунов нельзя правильно понять и оценить искусство художника…
А между Угличем и Минусинском были выезды на «стройки коммунизма», тоже сопряженные с открытиями, но уже в области современной действительности.
В своей книге Илья Сергеевич рассказывает о потрясшей его встрече с такими строителями, оказавшимися несчастными зэками. С некоторыми из них он познакомился в первый же день приезда на строительство Куйбышевской ГЭС. Тогда вездесущие органы безопасности были ошарашены тем, как практиканту академии удалось проникнуть в лагерную зону, которую всякий стремился обходить стороной.
Это зачастую рискованное стремление приобщиться к познанию действительности обогащало Илью Сергеевича встречами с яркими личностями, находившимися с ним на разных полюсах жизни и разных ступенях общественной иерархии. И ему всегда было под силу не только понять суть явлений и характеров, но и найти отличительные средства их творческого выражения. Вот почему образы стариков, написанные еще во время учебы в СХШ, короли и президенты, сложнейшие историко-философские композиции становились и становятся художественными документами времени.
В годы учебы в СХШ Глазунов был влюблен в творчество Андрея Мыльникова, прекрасного колориста и рисовальщика, автора завоевавшей всеобщее признание картины «Клятва балтийцев». Но вдумчивое восприятие свершавшегося творческого процесса, трезвое знание своего места в искусстве оберегало от подражания каким-либо кумирам. Отсюда такая заметка в дневнике: «Мыльников – Мыльниковым, а мое «я» – художественное и ученическое – должно быть я сам…» Незабываемыми остались уроки, полученные от педагогов и самого директора СХШ по фамилии Горб; встречи с такими известнейшими художниками, как Грабарь, Лактионов, Бобышев и другими, входившими в руководство Академией художеств СССР, и особенно с ее президентом – Александром Михайловичем Герасимовым, регулярно приезжавшими из Москвы для смотра работ учеников СХШ.
Глазунов с присущей ему неистовостью в труде продолжал совершенствовать профессиональное мастерство, сопровождавшееся углубленными раздумьями о смысле жизни, творчества, предназначении искусства и своем месте в нем.
Дневниковая запись от 12 января 1952 года:
«Думать о том, что должно говорить твое искусство, и рисовать надо много, щенок ничтожный! Я столько отдал искусству, что, может быть, оно и улыбнется мне? Искусство! Это правда жизни, прежде всего. Думаю о людях в картинах и небе над ними».
От 16 марта 1952 года:
«…Помни, если ты захочешь обмануть искусство, оно тоже не простит. Знай это! Строй красивые отношения с людьми, чтобы они помогали искусству!»
В дневниковых записях и воспоминаниях Ильи Сергеевича, относящихся к студенческим временам, открывается также и то, как стремительно и неуклонно расширялся круг его познаний в самых разных сферах. Удивляет огромное количество философских, музыкальных, литературных, исторических (не говоря уже о художественных) произведений, наполнявших его духовную жизнь. В овладении профессиональным мастерством нельзя не отметить роль Бориса Владимировича Иогансона, к которому Илья Глазунов пробился после III курса, предпочтя его мастерскую мастерской Ю. Непринцева, в которую первоначально попал.
Б. В. Иогансон, вице-президент Академии художеств СССР, был одним из основоположников и столпов соцреализма. Однако, по убеждению Ильи Сергеевича, мертвого искусства. «Мертвого потому, что ложь не дает жизни художественному образу картины. Но чтобы люди верили в ложь, ее облекали в вечные формы искусства, отражающие реальные формы Божьего мира». И как он позже скажет, власти жаждали аплодисментов за проводимую политику, а чтобы изобразить аплодисменты – надо уметь нарисовать хотя бы руки. Потому вновь была востребована школа, а студенты стали изучать натуру и великие заветы старых мастеров. Что сейчас, даже в академических учебных заведениях, снова, как в погромные послереволюционные годы, предается забвению.
Иогансон был высокопрофессиональным мастером, учившимся в дореволюционную пору в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у выдающегося Константина Коровина. Его уроки были впечатляющими, хотя, по воспоминаниям Ильи Сергеевича, он никого не пускал в свою душу, и его лицо напоминало маску. Но однажды, по просьбе Глазунова, которого Иогансон особо выделял среди учившихся, Борис Владимирович согласился совершить посещение Эрмитажа. В зале Рембрандта, остановившись перед «Блудным сыном», Иогансон сказал: «Вот моя любимая картина». И тогда с его лица как бы спала неприступная, исполненная амбициозного пафоса маска и открылось лицо истинного художника. А его ученики по-новому осознали великую драму, запечатленную на полотне.
Навсегда останется благодарен Глазунов своему учителю за открытие значения композиции старинных мастеров. Хотя после первой выставки Глазунова в Москве, вызвавшей всеобщий переполох, напуганный Иогансон, общаясь с министром культуры СССР Михайловым, отречется от любимого ученика. Более того, в газете «Советская культура» он назовет его соискателем славы, возомнившим себя новоявленным «гением», сделавшим ставку на «формалистические штучки» и организовавшим себе персональную выставку. Так было положено начало целому потоку обвинений в адрес Глазунова, тогда еще преддипломника, закрывшему ему вход в какие-либо художественные структуры. Ведь они прозвучали из уст не только его учителя, но вице-президента Академии художеств, год спустя ставшего ее президентом.
Но при всем этом Глазунов не стал мстительно обливать Иогансона грязью, когда уже имел возможность публично высказываться. («У меня нет времени на зло. Хватило бы на добро», – нередко говорит он.) Более того, в своей книге, объективно оценивая личность Иогансона как педагога-наставника, Илья Сергеевич приводит обширный фрагмент из доклада Бориса Владимировича в 1957 году на VIII сессии Академии художеств СССР, посвященного задачам воспитания молодых художников, забытого, но чрезвычайно актуального и для сегодняшнего дня. В докладе говорилось не только о специфических методах преподавания, использовавшихся в Московском училище, о своем понимании основных принципов живописи, Иогансон рассказывал и о практических уроках Коровина, во время которых открывались секреты художнического мастерства. Формулировал он и обобщающие выводы, касающиеся искусства в целом. Говоря, например, о замысле художника, одержимого даже благим намерением лишь удивить мир, заключает: «Искусство не выносит, когда к нему подходят с корыстным расчетом, муза живописи отвечает художнику взаимностью только при бесконечной любви к ней и к истине законов ее природы». (Как это созвучно было мыслям молодого Глазунова!) Или другое размышление, в связи с рассказом об одном из уроков Головина, который, переписав неудачный этюд ученицы и неожиданно соскоблив мастихином написанное им, изрек: «А вот теперь пишите сами». «Этот рассказ я привел к тому, чтобы не думали «таланты», что живопись – «наитие», «вдохновение», «неведомое» и т. д. Вдохновение-то вдохновением, но под ним лежит ремесло, школа, метод».
На той же позиции стоит и Илья Глазунов в своей академии, категорически отвергая всякие способы дикого непрофессионального «самовыражения», захлестнувшие сейчас так называемое современное искусство.
Мировоззрение, эстетические взгляды студентов формировались не только в общении с педагогами академии, но и в спорах между собой. Тогда же все резче обозначалось расслоение по убеждениям. Одни творили опусы в ключе соцреализма, другие стремились противостоять лжи, заложенной в марксистской доктрине, третьи искали себя на пути самовыражения, избрав в кумиры Кандинского, Малевича, Татлина.
Размышления Глазунова о спорах той поры: «Всех художников, независимо от величин, делю на «изобразителей» и «выразителей». Выразители не пассивно отражают мир (хотя «изобразители» могут достичь в этом отражении высочайшего мастерства и гармонии), а несут в себе некий Прометеев огонь, преображают мир высотой своих духовных идеалов, борением духа. Веласкес, Репин, Франс Хальс, малые голландцы, Клод Моне – гениальные «изобразители». А. Рублева, Врубеля, Эль Греко, Рериха я считаю выразителями глубочайших переживаний человеческого духа, раскрытого индивидуально, в конкретных формах объективно существующего мира. Одни творят характеры и типажи, а другие – философские мыслеобразы, выражающие нравственные, социальные и эстетические категории. Здесь формы внешнего мира служат для выражения мира внутреннего. Дух, по-моему, всегда национален, как национально понятие о красоте. История доказала, что чем более национален художник, тем он и более интернационален в высшем смысле этого слова. Разве не свое понимание красоты и гармонии мира у Эль Греко, Хонусаи, Рубенса, Врубеля? Интернационального искусства не существует, есть только национальное искусство».
Или вот мысли о соотнесении нравственности, науки и искусства: «Ни о каком нравственном прогрессе в связи с научными достижениями говорить невозможно. Можно быть дикарем, а ездить в «кадиллаках» или летать на сверхзвуковых самолетах. В век космоса культура западной цивилизации во многом стремится к каменному веку. Но существует еще так называемая научность, то есть спекулятивное использование научных понятий, терминов и т. п. Возникает наукообразие, подменяющее в искусстве подлинную художественность».
О признаваемых и не признаваемых гениях, которых, якобы, могут понять лишь через сотню лет, чем пытаются кичиться современные «новаторы»:
«Великих людей, за редчайшим исключением, всегда понимали современники, и чем активней было их отношение к миру, чем более страстно исповедовали они свои идеи – тем яростней разделялись их современники на друзей-единомышленников и врагов. Художник обязан понять и выразить прежде всего свое время с его расстановкой сил, с его пониманием добра и зла, с его идеалами красоты, с его пониманием гармонии мира и назначения искусства. Путь в будущее лежит через сегодня».
И, наконец, высказывания уже с высоты нашего времени:
«С тех пор прошло много лет, но споры эти памятны мне и по сей день. В те дни упорных поисков и сомнений мучительно осознавалась разница между ремесленнической работой и творческим трудом. Творчество – высший дар человека и смысл его бытия, выражение его свободной воли, стремящейся к добру и гармонии. Творческий, созидающий дух человека строит новую жизнь, создавая гармонию из противоречий – красоту! Творческий дух вечно пребывает в искусстве. Первоисток творчества – воля к бессмертию!..Художник творческой волей создает свой мир. В сложном процессе образного познания реальности он осуществляет свое призвание – преображать, совершенствовать духовный мир человека. И здесь прежде всего предполагается глубокая искренность художника, познающего мир во всей глубине его сложных противоречий. Не «подгон» к духовному идеалу, а суровый неподкупный суд над соответствием или несоответствием идеала и жизни. Каждое художественное произведение, несущее правду о человеке, о тьме и свете в душе его, – это подвиг, требующий от художника гражданского мужества. Искусство не с самим собой, оно всегда обращено к кому-то. Важно, во имя каких духовных ценностей ведет разговор художник с миром. Велика ответственность художника перед людьми, перед нацией, перед человечеством».
Здесь сознательно приводятся высказывания «раннего» и нынешнего Глазунова, чтобы показать, как думал, к чему стремился он в годы своей юности, насколько цельна его личность. И сейчас он часто повторяет, что не отказывается ни от одного сказанного слова, ни от одной написанной картины.
В то же время, ставя себе большие задачи и неустанно следуя им, он никогда не был затворником. Но всегда душой и заводилой в студенческих компаниях. Он влюблялся, озорничал, проявляя во всех случаях свою творческую неординарность. Проживая у сестер Аллы и Нины, превратил отведенную ему комнату в мастерскую, пропитавшуюся скипидаром и красками. В нее стекались наиболее близкие люди. Привожу их некоторые воспоминания об этой поре жизни Глазунова.
– Илья, проживая у нас, очень много, можно сказать, зверски работал, – рассказывала Алла Рудольфовна. – Квартира была завалена всяческими атрибутами его художественного промысла. Заставлял нас с Ниной позировать часами. Захватил как эксплуататор всех наших подруг. В общем, удержу в работе не знал. Но и говорил при этом, что придет время, когда вы будете мной гордиться.
– И для вас оно пришло? Как оцениваете его творчество?
– Как художника ставлю его очень высоко, может быть, потому, что сама обожаю русскую историю, а он создает такие привлекательные исторические образы – Андрей Рублев, Сергей Радонежский, князь Димитрий… Столь же высоко ценю и то, что он делает в области современной истории – например, его «Мистерию XX века», хотя меня удивило, что Сталин представлен лежащим со скрещенными руками, ведь как у военного они должны быть прямыми. Но понимаю при том, что это же не фотография, а художественный образ, в который его создатель вкладывает свой смысл.
– А как можно объяснить нападки на Илью Сергеевича со стороны недоброжелателей, среди которых немало и его коллег?
– Полагаю, что все нападки на него продиктованы завистью. Вот однажды проходила в Доме дружбы на Фонтанке выставка молодых художников. На ней выставлялись исторические и иконописные работы. Но все это – разжиженный Глазунов…
…Алла Рудольфовна, возвращаясь к начальной теме нашей беседы, показывает снимки из альбома.
– Вот мы с Ильей в 1947 году… А это рождественский снимок, примерно 1950 года, где он с Леночкой Богословской, с которой у него был небольшой роман, закончившийся ничем…
– Разумеется, Илья Сергеевич зверски, по вашему выражению, работавший, находил время и для общения с друзьями?
– К нему приходили его товарищи из средней художественной школы, мы вместе ужинали, танцевали, развлекались…
– А как в молодости Илья Сергеевич относился к вину? Спрашиваю потому, что находятся некие «друзья», которые утверждают, будто бы с ним в давние времена основательно «нарезались». У меня такие признания вызывают недоверие. Ибо всегда знал, что Глазунов не только не пьет, но относится к употреблению спиртного как к смертному греху…
– Вообще не помню, чтобы он выпивал. И никогда в состоянии подпития его не видела.
– В письмах из Гребло и дневниках Ильи Сергеевича, несмотря на весь атеистический угар того времени, чувствуется его православность.
– Я не особенно склонна к мистическим настроениям и не обращала особого внимания на проявления религиозности. Я не отрицала и не отрицаю религиозную жизнь, но у меня нет тяготения к обрядности. Помню, однако, когда умер мой муж (это случилось в 1962 году. – В. Н.), Илья одним из первых приехал ко мне и пытался всколыхнуть религиозное чувство. А я, пребывавшая в полной прострации, выдохнула: «Бога нет!..» «О, Бог есть!» – твердо ответил он. Теперь мы сошлись на общем отношении к монархическим тенденциям. Я видела телепередачу, где Илья говорил о естественном и закономерном стремлении монарха оставить в наследство сыну державу в состоянии ее величия, в то время как правителям другого рода на это наплевать. И он прав. Потому отрицаю институт президентства, и если говорить о будущем – Россию спасет только монархия! И я так рада, что Ленинград вновь стал Петербургом!
– А какой он человек? Какие его черты смущали в то время и, возможно, теперь?
– Мой ответ будет субъективным. Илья может становиться весьма противным из-за нетерпимости к людям не его плана, когда человек не соответствует характеру его восприятия мира, жизнеустремленности, творческой напористости. В этом случае он впадает в безапелляционность и утрачивает чувство юмора. У нас же с сестрой Ниной есть, как бы сказать, определенный здоровый цинизм. Мы можем пошутить над тем, что с его точки зрения не подлежит осмеянию: это могут быть какие-то явления и лица, связанные с политикой, религией, искусством… Судить сейчас о нем сложно из-за редкости контактов. Недавно он позвонил мне, припомнил некоторые забавные вещи, бывшие с нашими друзьями и подругами. Я «расплавилась», а Нина – нет. Вот приехал бы с Верочкой, дочерью, поговорили бы… Предложил купить для меня дом в деревне. Да зачем он мне одной?…
Встреча с Ниной Рудольфовной, казалось, будет более напряженной. Она тоже жила в однокомнатной квартире, была не очень-то расположена к общению с посторонними. Разрядить атмосферу неожиданно помог ее любимый кот. Когда я, войдя в комнату, по приглашению Нины Рудольфовны присел на диван, он, потершись о мою ногу, устроился рядом и, свернувшись калачиком, приветливо замурлыкал. Это обстоятельство вызвало неподдельное изумление хозяйки: «Вот так сюрприз! Такое с ним впервые. Обычно он при появлении незнакомых людей прячется. А тут экий пассаж!.. Видно, вы добрый человек… Так что же вас интересует?»
Беседа была живой и интересной. Приведу лишь несколько эпизодов, относящихся к тому периоду жизни Ильи Сергеевича, когда он жил с сестрами на улице Воскова.
– Возвратясь из эвакуации, Илья жил сначала у Агнессы Константиновны и Николая Николаевича. Они его очень любили, но бездетной чете со своим сложившимся распорядком было нелегко находить общий язык со столь неординарной личностью, как их племянник. А мы с Аллой тоже бездетные, но молодые, в некотором роде – богема. Но после войны наша квартира стала коммунальной. И когда Илья переехал к нам, он жил в бывшей спальне, которую приходилось снимать уже у соседки. За комнату платили Монтеверде (дядя Коля, кстати, был моим крестным отцом) и Михаил Федорович, дядя Ильи.
У Ильи постоянно крутились его друзья, например, милый, застенчивый Миша Войцеховский, к сожалению, судьба его мне неизвестна; Саша, по прозвищу Птица и многие другие. Впрочем, практически у каждого из нас было прозвище. У меня Зуб; у Аллы – Ящур; у будущей жены Ильи – Нины – Сова, у ее очень милой мамы – Крошка Доррит – по аналогии с Диккенсом…
Мне особенно запомнился Саша – Птица, учившийся в военном заведении. Он был настоящий самородок – красивый, грамотный, пользовавшийся огромным успехом у женщин, потешавший нас своими «хохмическими» стихами. Некоторые из них даже запали в память. К примеру, по поводу отсутствия крючка на двери в туалете – квартира ведь после войны не была ухоженной, он разразился таким экспромтом:
Крючок в уборной – что за вздор! Мы вырываем в знак отказа! И речи прямо в коридор Летят с трибуны унитаза.Ввиду большого наплыва гостей мы вывесили табличку: «Спальных мест нет». При этих, затягивавшихся допоздна посиделках, все учились и работали в полную силу…
К характеристике этого периода жизни Ильи Сергеевича добавила несколько слов и уже известная читателю Ольга Николаевна Колоколова.
– После войны я случайно встретилась с Илюшей в филармонии в антракте концерта оркестра Мравинского. У колонны увидела фигуру молодого человека в лыжном костюме. Меня кольнуло в сердце… Окликнула его по имени… Он! Возвращались домой вместе, пройдя через два моста до моего дома. С тех пор у нас, а это было примерно в 1947 году, установилась постоянная связь. Я навещала его, где бы он ни обитал. Однажды, придя к нему на улицу Воскова, увидела в прихожей скелет в черной фетровой шляпе и папиросой в зубах… Я обомлела… Тот мой визит к Илюше был одним из последних. Я потом вышла замуж, переехала к мужу, и мы общались все реже и реже. А вскоре он перебрался в Москву…
Совсем недавно мне удалось повстречаться с еще одной посетительницей «салона» на улице Воскова – Галиной Андреевной Григорьевой, ставшей женой того самого Саши – Птицы, Александра Акимовича Григорьева. Вот ее рассказ о юношеских годах художника той поры.
– В то время я училась в юридическом институте имени Калинина и вместе со своей подругой Нелли Щитовой ходила заниматься в гимнастический зал, арендуемый институтом у находившейся рядом Академии художеств. Однажды зимой, покидая этот зал, – а мы были после занятий такие румяные! – нас заметил Илья Сергеевич и, подойдя к нам, очень вежливо попросил разрешения написать наши портреты. Тут же оставил свой адрес.
Мы поначалу смущались, ибо не были склонны к авантюрным делам, но потом, посоветовавшись, задались вопросом: а почему бы и в самом деле не заглянуть в мастерскую? Так через несколько дней началось наше общение с молодым художником. Он любезно встретил нас и провел в свою маленькую узкую комнату, заваленную книгами, холстами и репродукциями… Мы с подругой с удовольствием позировали ему, но он был недоволен, когда я или Нелли меняли прическу или платье: нужно было являться в одном и том же виде. Он всегда был нежным, воспитанным, не позволявшим никакой грубости, невзирая на собственное настроение. Мы с подругой были по-дружески влюблены в него. Подчеркиваю, именно по-дружески. С ним было так приятно общаться. Ведь в студенческой среде встречалось достаточное количество нагловатых, пошлых людей. А у Ильи Сергеевича никогда не ощущалось пошлости.
В те годы, несмотря на трудности послевоенного времени, мы жили весело. Собираясь на квартире у сестер Ильи Сергеевича, как правило, «разделывали» пачку пельменей. У каждого были свои увлечения. Алла, например, увлекалась опереттой, Илья Сергеевич – философией, в особенности Гегелем; очень много читал и рисовал. Саша – Птица посвящал ему свои экспромты, нередко весьма озорного свойства. Ведь молодежь не может обходиться без озорства…
– Насколько мне известно, вы с Сашей там и познакомились…
– Да, так и было. Саша тогда учился в Военно-спортивном институте имени Ленина на военно-морском факультете. И получая увольнение, непременно навещал своего друга.
Через год после нашего знакомства я вышла за него замуж. А он, закончив в 1951 году институт, был направлен на службу в Балтийск. Илья Сергеевич же потом переехал в столицу. Потому они долго не виделись. А встретились, когда Саша тоже оказался в Москве. Он сначала служил в Генштабе, инспектировал спортивные базы флотов, затем стал заместителем начальника ЦСК.
Саша в меру своих возможностей стремился помочь своему другу. Например, когда сын Ильи Сергеевича Иван заболел (ему тогда было около 10 лет), он посоветовал ему заняться спортом, подарил необходимый спортивный инвентарь. И Иван, приступив к спортивным занятиям, окреп.
В 1980 году Саша собирался с Ильей Сергеевичем поехать на день рождения к своей матери, переехавшей уже в Тверскую область, но тот оказался в больнице. А в общем, мы не старались сильно отвлекать Илью Сергеевича от дел, понимая его несусветную занятость. И не могли упрекать за то, что он не уделяет нам много времени. Ведь как и в студенческие годы, он неистово работал и ему была дорога каждая минута. Зато к нам и в Балтийск, и в Москву не раз приезжала Нина Рудольфовна со своим мужем Николаем Васильевичем Зайцевым, директором института искусств…
Александр Акимович Григорьев, друживший с Ильей Сергеевичем с детских лет, ушел из жизни в 1992 году. По словам его дочери Ольги, он, как порядочный и эмоциональный человек, не мог пережить то, что стало твориться со страной в 1991 году.
Нина
За возникавшими тогда «романчиками», естественными юношескими увлечениями, скрывалась потребность в любимом человеке на всю жизнь. Не берусь судить о всех друзьях Глазунова тех лет, но у него, судя по дневниковым записям 1953 года, такая потребность проявлялась в сонме всевозможных терзаний и искушений. Когда чувствовалось, как «под ногами хрустели ветки жизни, цеплялись за ноги огромные щупальца страсти… И страсть удовольствия сдавливала меня, и не хотелось мириться, я ждал ее – мою подругу. А ее нет, и я устал ждать…» И далее: «Пошли мне, судьба, друга, который был бы лучше меня, я бы молился на него. И хотел бы быть с ним всю жизнь. Если это будет женщина – большего счастья не будет для меня!..»
Видимо, Господь услышал его призывы. В конце 1954 года в дневнике появляется такая запись: «У меня есть светлое эхо. Нина, милый, чистый барашек – облачко небесное, несущее в себе зародыш «грозового обвала и чистоты! Рафаэлевой…»
Встреча с Ниной, студенткой искусствоведческого отделения ЛГУ, произошла в бывшей Академии художеств, где в библиотеке работала ее родственница. Примечательно, что Нина тоже жила ожиданием появления того, кто станет ее бессменным спутником, которому можно будет посвятить всю себя без остатка. Илья Сергеевич навсегда запомнил при одной памятной встрече ее пронзительные слова, выплеснувшиеся из души: «Тебя не было, только лед звенел и крошился на синей Неве. Но я дождалась тебя, такого красивого и неподкупного рыцаря, пахнущего краской, с вечно усталым, бледным лицом». И отвергая всякие сомнения наиболее близких людей в перспективности их соединения, заключила: «Они не знают, что мы будем вместе до конца. Я знаю. Я перенесу все и буду предана тебе, как Сольвейг…» В 1955 году она станет его женой. Тем самым продолжатся родовые традиции Флугов, Глазуновых и Бенуа.
«Вера жены в мою предназначенную Богом миссию давала мне великую силу и спокойствие, которые помогали выстоять в страшной борьбе. Не случайно мои московские друзья называли ее позднее боярыней Морозовой. Лишить меня моей нерушимой стены – неукротимой, нежной, волевой и неистовой Нины – было мечтой многих черных людей и тайных сил…» – так определит позже художник суть их взаимного предназначения, освященного присутствием божьего духа. И еще одна запись художника в преддверии первой персональной выставки: «Я не спал всю ночь перед открытием выставки. Нежная и сильная духом, мой ангел-хранитель Нина, глядя на меня с любовью, успокаивала меня, тихо поглаживая по голове: «Ты победишь! Ты должен их всех победить. Если не ты, то кто же?»
Первая выставка
Первой признанной победой и сразу же на международном уровне стало завоевание Гран-при на Всемирной выставке молодежи и студентов в Праге (1956 г.) за картину «Поэт в тюрьме», воссоздающей образ Юлиуса Фучика. Лауреатская награда вручалась в Москве, в Комитете молодежных организаций (КМО), где художнику предложили по горячим следам пражской выставки экспонировать свои работы в Центральном Доме работников искусств. Та выставка, развернутая в феврале 1957 года, и стала главной вехой на первом этапе творческой жизни Глазунова. На ней было представлено четыре цикла работ. Молодой художник дерзнул представить образ Достоевского (причисляемого тогда официальной пропагандой к религиозным фанатикам и реакционерам) вместе с иллюстрациями к его произведениям. В других работах раскрывалась красота вечной России в ее православном восприятии; показывалась не лакированная, а реальная жизнь современного города и, наконец, внутренний мир людей, отраженный в портретных образах.
Зрительский интерес к выставке нарастал с каждым днем. Среди желающих познакомиться с ней было немало известных деятелей литературы и искусства. Нанес свой визит и министр культуры СССР Н. Михайлов, который вначале приветствовал дерзание молодого таланта, а потом, когда против Глазунова развернулась кампания травли, причислял его к идеологическим диверсантам. На выставке побывали многие иностранные дипломаты, в том числе американский посол. А в ее обсуждении, по официальным сведениям, приняло участие более тысячи человек, и зал не смог вместить всех желающих. Порядок на подступах к ЦДРИ обеспечивала конная милиция.
Отзывы печати вследствие необычности такого явления были разные. Официальная критика на первых порах оказалась в шоковом состоянии. Потом разгорелась жестокая борьба. Зарубежные радиостанции вещали о неожиданном яростном ударе по официальному искусству, а в одной из американских газет выставка Глазунова была охарактеризована как «удар ножом в спину соцреализма».
Среди множества восторженных письменных и устных откликов у Ильи Сергеевича остались в памяти обобщающие слова известного искусствоведа Машковцева, доверительно произнесенные в коридоре ЦДРИ: «Берегитесь. Ваша выставка есть полное отрицание социалистического реализма. Правда жизни и поэтичность видения – основа вашего успеха. На будущее счастье социального рая у вас и намека нет. Вам будут шить политическое дело, так легче уничтожить. За «мракобесие», за Достоевского, которого вы так чувствуете, сажали и сажать, очевидно, будут… Вы показали одиночество человека, уставшего от лжи… Вы русский художник, и это все объясняет. Вы вступили на свою Голгофу».
Почтенный искусствовед как в воду глядел. За него взялись сразу же и дружно. Виданное ли дело, чтобы выставка студента становилась предметом обсуждения сначала на бюро Московского горкома партии, а затем на совещании художников в ЦК КПСС, на котором учитель Глазунова Иогансон подверг его уничтожающей критике «за увлеченность веяниями западного искусства, за пессимизм и выставку, ставшую только поводом для тех идеологических диверсий, от которых мы не застрахованы ни на одну минуту». А в конце 1957 года он нанес и второй удар в «Советской культуре».
Так в отечественном искусстве появилась личность, стремящаяся поставить свой талант на службу России, делу возрождения национального самосознания, великих традиций православной духовности. Итак, вызов судьбе был брошен. Художник встал на путь борьбы, и публика отныне всегда будет делиться на тех, кто за Глазунова и кто против.
А потом была защита диплома. После того, как была отвергнута его картина «Дороги войны», якобы пропитанная пораженческим духом, Глазунову пришлось представить другую – «Рождение теленка», написанную по этюду несколько лет назад. Получив на защите тройку, он был распределен сначала в Ижевск, а потом в Иваново преподавателем черчения в ремесленное училище. Но получив справку, что там в нем не особенно нуждаются, решил перебраться в Москву, в которой после выставки обрел множество друзей.
Так начались скитания по столице – без прописки, без постоянного места для ночлега. На некоторое время скульптор Дионисио Гарсиа (из испанских эмигрантов) выделил ему кладовку, используемую для хранения глины, площадью 4 квадратных метра… Путь в Союз художников был закрыт. Приходилось перебиваться случайными заказами на портреты, подрабатывать грузчиком. Жена Василия Дмитриевича Захарченко, Зинаида Александровна, нередко вспоминала случай, когда приглашенный к ним Глазунов явился в ботинках с подошвами, подвязанными медной проволокой… Этот тяжелейший этап жизни символически отражен в картине «Одиночество». На огромной заснеженной, уходящей в небо лестнице, видим, будто надломленную пронзительным ветром, человеческую фигурку. Куда влачится он, хватит ли сил одолеть этот подъем? Впрочем, этот символический образ имеет сквозной смысл в творчестве художника и возникает на других полотнах. Казалось бы, отчаяние должно было сокрушить художника. Но каждого знакомого с ним поражает его воля, стойкость и непотопляемость. В тот тяжелейший период нашлись люди, причем и весьма именитые, которые в печатных выступлениях отдали должное столь ярко заявившему о себе самобытному таланту. В первую очередь это писатель, воспевший героев Брестской крепости, Сергей Смирнов, давший отповедь нападкам Иогансона; поэт Николай Тихонов, отметивший в творчестве Глазунова продолжение традиций русской живописи. Но самое важное значение в судьбе художника принял Сергей Владимирович Михалков. Со времени их знакомства жизнь художника резко изменилась, и не случайно Глазунов называет его своим благодетелем.
Поездка в Рим и признание
Позитивный сдвиг в судьбе опального молодого художника произошел в начале 1960-х годов, когда группа известнейших итальянских кинематографистов, звезд мирового кино, приехала на Московский международный фестиваль. В их числе были – Джина Лоллобриджида, Лукино Висконти, Джузеппе де Сантис. Они посетили Глазунова, знакомого им по монографии Паоло Риччи, и он на их глазах за два часа сделал несколько графических портретов, приведших гостей в восторг. Тут же попросили написать портреты маслом и о своем желании поставили в известность тогдашнего министра культуры СССР Е. А. Фурцеву. Решение о выезде в капиталистическую страну художника, не признаваемого ни в Союзе художников, ни в официальных инстанциях, затянулось на два года. В конце концов поездка состоялась. А выставка в Риме, развернутая по ее итогам, произвела сенсацию. Одна из газет, отмечая талант, глубокую страстность творческих поисков Глазунова, назвала его «Достоевским в живописи».
После возвращения художника из Италии журнал «Огонек» привлек его к иллюстрированию своих книжных приложений. Это были произведения русских классиков – Мельникова-Печерского, Некрасова, Блока, Куприна, Гончарова… Одновременно создавались живописные полотна и портреты, развивалась активная общественная деятельность.
В 1964 году, ровно через 7 лет после первой выставки, была предпринята попытка организовать вторую выставку работ Глазунова уже в московском Манеже. Однако выставка была закрыта по настоянию партийного руководства Московской организации Союза художников, а показанная на ней работа «Дороги войны, 41-й год» объявлена антисоветской, трактующей войну не как победу, а как поражение. Но начавшаяся было кампания гонения получила вдруг неожиданное разрешение: к советскому правительству обратился премьер-министр Дании Краг с просьбой по его личному приглашению направить Глазунова в Данию для создания семейных портретов. Затем последовали приглашения от короля Швеции, президента Финляндии…
Мировая слава Глазунова росла, и неслучайно именно ему было предложено создать для здания ЮНЕСКО панно, отражающее вклад народов Советского Союза в мировую культуру и цивилизацию. Оно было передано советским правительством в дар этой международной организации. Глазунов единственный из художников бывшего СССР стал удостоенным звания почетного члена двух королевских испанских академий, старейших в Европе (Мадрида и Барселоны).
В конце 1989 года состоялась еще одна зарубежная премьера Глазунова: завершена работа мастера над интерьерами здания советского посольства в Мадриде, в которых он стремился передать дух русской истории, воссоздать державный стиль национальной архитектуры.
А в 1990 году художник работал в Ватикане над созданием портрета римского Папы и образом Игнатия Лойолы. В это же время в итальянской Академии La Premira шли семинары и дискуссии в связи с подготовкой конференции, посвященной трудам И. Лойолы, на которых с большой заинтересованностью рассматривалось и творчество художника.
Но не только парадная сторона зарубежной жизни отражалась в творчестве Глазунова. В поле его зрения всегда оказывались самые горячие точки планеты. В 1967 году, когда во Вьетнаме полыхала жестокая война, он в качестве корреспондента «Комсомольской правды» отправился туда и в боевых условиях создал серию графических работ о жуткой трагедии войны. А кроме того, были поездки в Лаос и Чили, Никарагуа и на Кубу, откуда он привозил сотни работ, вызвавших большой общественный резонанс в нашей стране и за рубежом. Вьетнамский цикл работ выдвигался и на Государственную премию. Как и чилийский. В восторженном письме Сальвадор Альенде назвал Глазунова гениальным творцом и подчеркнул, что советское правительство должно гордиться художником, сумевшим в короткий срок пребывания в стране увидеть и запечатлеть душу народа Чили. Кстати, подобные отзывы поступали от самых разных людей из Никарагуа и других стран.
Но, как ни странно, ни за эти циклы работ, ни за цикл «Куликовская битва», равно как и за триптих «Мистерия XX века», «Вечная Россия» и «Великий эксперимент», тоже выдвигавшиеся на соискание Государственной премии, ни за другие произведения художник лауреатского звания не получил. Хотя его выставки посещали миллионы.
Первая выставка работ Глазунова в Москве произвела настоящее потрясение. На фоне художественной и общественной жизни тех лет его творчество предстало слишком необычным, уникальным по смелости явлением. С одной стороны, в искусстве 50-х годов доминировали тенденции лакировки действительности. В многочисленных помпезных полотнах и скульптурах воплощались сюжеты, далекие от реальной жизни, уводившие в сторону от ее насущных проблем. Творчество многих художников вырождалось в унылый натурализм. Возникновению такой атмосферы способствовали многие причины, в частности хождение теории «бесконфликтности». В произведениях искусства отрицались глубокие социальные конфликты, якобы исчезнувшие в жизни социалистического общества.
С другой стороны, в художественной практике того периода вновь начинали реанимироваться зловещие призраки «отцов современного искусства» – Кандинского, Малевича, Штеренберга и других модернистов. Вновь стали раздаваться и активно осуществляться на практике призывы «новаторов» стереть с лица земли «старое» искусство и сохранившиеся объекты национальной художественной культуры прошлого. С этой агрессивностью «новаторов» Илья Глазунов встретился еще будучи студентом, когда один из представителей «мансардной» оппозиции, проповедовавший смерть реализма и торжество голой формы как самоцели художественного творчества, в конце спора с ним заявил: «…мы вас все равно раздавим».
Между двумя этими крайними тенденциями явление Глазунова представляло абсолютно новое направление художественной жизни. Направления, возрождающего лучшие традиции русского искусства и отзывающегося на назревшую общественную потребность осмысления процессов жизни с позиций национального самосознания.
Поэтому те, кто делал ставку на формотворчество и разрушение национальной культуры, стремились дискредитировать творчество художника. Другие же, которые увидели в Глазунове русского художника (а таких было подавляющее большинство), восторженно приняли его творчество и страстно желали, чтобы художник не свернул с намеченного пути. Сейчас Глазунов уже, как ныне говорят, знаковая фигура не только отечественной, но и мировой культуры.
Особенности стиля делают его работы узнаваемыми при всей разности решаемых им творческих задач и используемых средств выразительности. Как узнаваемы произведения Врубеля, Нестерова, Рериха…
Проблеме идеала, его значению в духовной жизни общества немало внимания уделял великий Достоевский. Он считал, что народам необходимо иметь идеалы и сохранять их как святыню. Идеал красоты не должен погибнуть, в нем общество обретает свое духовное единство. Если у человека не будет «жизни духовной, идеала красоты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится в языческие фантазии».
«Красота, – писал Достоевский в другом случае, – есть нормальность, здоровье. Красота полезная, потому что она красота, потому что в человечестве – всегдашняя потребность красоты и высшего идеала ее. Если в народе сохраняется идеал красоты и потребность ее, значит, есть и потребность здоровья, нормы, а следовательно, тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа».
В основе эстетического идеала Ильи Глазунова – понимание искусства как подвига во имя высших духовных ценностей бытия. Его произведения одухотворены идеей торжества человека. Драматизм и трагизм образов Глазунова органично связаны с глубиной натуры русского человека, из такой определяющей черты русского национального характера, как извечное стремление прислушиваться к голосу совести, жить в согласии с ней. А жить по совести – значит жить по нравственному закону, суть которого – любовь к человеку, доброта и сострадание к нему, может быть, даже в ущерб собственным интересам. И беспримерная самоотверженность в поисках истины.
Многомерность русского национального характера, не поддающаяся разумению толкователей с позиции узкого практицизма, трактуемая иногда как «загадка русской души» и блистательно высвеченная гениальным Достоевским, остается и сегодня главным объектом внимания художников.
«Русская культура неотделима от чувства совести, – записал в своих дневниках выдающийся русский композитор Георгий Свиридов. – Совесть – вот что Россия принесла в мировое сознание. А ныне есть опасность лишиться этой высокой нравственной категории и выдавать за нее нечто совсем другое…»
Свои представления о физическом и духовном облике русского человека, и прежде всего русской женщины, Глазунов выразил не только в широко известных произведениях, таких как «Русская Венера» и «Русская красавица», но в целой галерее образов из исторического прошлого и современности. В этом художник опирался на народные представления о женской красоте, на традиции великих предшественников. Вот, например, какие признаки национальной женской красоты определяются героем повести Н. Лескова «Запечатленный ангел»: «У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип… Мы длинных цыбов, точно, не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, а на крепоньких, чтоб она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала, а цыбастенькая побежит да споткнется. Змеевидная тонина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была понедристее и с пазушкой, потому оно хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается, лобочки в нашей настоящей чисто русской женской породе хоть потельнее, помясистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. То же и насчет носика: у наших носики не горбылем, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой, гордый нос. А особливо бровь, бровь в лице вид открывает, а потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытнее, дужкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее, и совсем она иное на всякого к дому располагающее впечатление имеет…».
А вот что утверждает крупнейший русский ученый XIX века А. П. Богданов в своей монографии «Антропологическая физиогномика (М., 1878): «Мы сплошь и рядом употребляем выражения: это чисто русская красота, это вылитый русак, типично русское лицо. Может быть, при приложении к частным случаям этих выражений и встретятся разногласия между наблюдателями, но, подмечая ряд подобных определений русской физиогномии, можно убедиться, что не нечто фантастическое, а реальное может в этом общем выражении русская физиогномия, русская красота. Это всего яснее выражается при отрицательных определениях, при встрече физиогномии тех из родственных племен, кои исторически сложились иначе, например, инородцы, и при сравнении их с русскими. В таких случаях, нет, это не русская физиогномия звучит решительнее, говорится с большим убеждением и большей убежденностью. В каждом из нас, в сфере нашего «бессознательного» существует довольно определенное представление о русском типе, о русской физиогномии».
Наиболее полно, по мнению Глазунова, русский тип, так сказать, земной женской красоты был выражен в «Русской Венере» Кустодиева. «Если же говорить о духовном идеале, то, по-моему, это «Владимирская Матерь Божия», воплотившая в себе весь сложный и богатый внутренний мир русской женщины. Дороги мне и женские образы Сурикова и Нестерова, столь близкие образам Достоевского. Они соединяют в себе национальные черты физического и нравственного облика русской женщины».
Национальное представление о красоте природы художник стремится выявить в трактовке пейзажа, также опираясь на результаты творческих поисков русских художников. «Природа вечна. Художников, отображающих ее, было, есть и будет великое множество. Огромная пропасть лежит между теми, кто копирует природу, и теми, кто умеет увидеть ее «сквозь магический кристалл» творческого преображения, одухотворить ее горением высокого духа, найти в ней таинственную связь с душой человека, выразить скрытую мысль, мироощущение художника. Создатели незабываемых образов русской природы вошли в наше национальное сознание. Многие из этих образов стали нарицательными. Мы говорим: «нестеровская» березка, «левитановское» настроение, «серовская» лошадка, «рериховское» небо… Художники обогатили нас новыми категориями восприятия мира, открыв их для нас и живописно сформулировав наши зачастую бессознательные, интуитивные чувства».
Точно так же можно теперь говорить о поэзии глазуновских картин, пленяющих неразрывной слитностью природы, человека и архитектуры, о глазуновских женских образах.
Восприятие творчества художника с позиции его эстетического идеала и дает верный ключ к пониманию содержания произведений. В этом свете проясняется и смысл тех «неровностей стиля», на которые иногда обращали внимание некоторые критики, намекая на отсутствие у Глазунова достаточного уровня мастерства, вкуса и т. д. На наш взгляд, каждая такая «неровность» может быть вполне объяснима своеобразием творческой задачи, которую решал художник. Ведь та или иная, казалось бы, не характерная для его стиля деталь или образ могут быть сознательно введены в произведение как контраст к миру его чувств и идей. Конечно, каждый творец может реализовать свой замысел с большей или меньшей полнотой и убедительностью. Но тем не менее судить художника следует, как считал Пушкин, по законам им над собой признанным.
Вопрос о «неровностях стиля» заставляет вспомнить еще об одном из обвинений, предъявленных художнику теми, кто сразу же в штыки принял его творчество. Это обвинение в отсутствии собственной творческой индивидуальности, в копировании иконы, в прямом подражании тому или иному мастеру прошлого. Обвинение, заведомо рассчитанное на компрометацию художника, на введение в заблуждение доверчивой к печатному слову публики. Сам же Глазунов в устных и печатных выступлениях подчеркивает, что всему, чего он достиг в искусстве, обязан великим традициям русской культуры, ее творцам. И называет имена тех, кто наиболее близок ему по мировосприятию и творческим принципам.
Но исповедование общих принципов, подражание в подвижническом служении искусству – одно дело, а ремесленное подражание, копирование и плагиат – совсем другое. Пушкин не стеснялся называть себя «подражателем». В набросках к предисловию «Бориса Годунова» он писал: «Не смущаясь никаким иным влиянием, Шекспиру я подражал в вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении планов. Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени. Источники богатые! Умел ли я ими воспользоваться – не знаю, – по крайней мере, труды мои были ревностны и добросовестны». Таким пушкинским плодом явилась, как известно, гениальная трагедия, одна из вершин мировой драматургии, тайну которой мы до сих пор разгадываем. Таков общий закон развития: ничто не возникает на пустом месте. Каждое новое явление базируется на фундаменте прошлого.
Собственное видение мира, идеал красоты Илья Глазунов сумел воплотить в яркой впечатляющей форме. Своеобразие почерка художника лучше всего раскрывается в его емком анализе творчества Александра Блока. Стихи поэта, как находил художник, были далеки от рабской бескрылости натурализма, от случайного анархического хаоса абстракционизма и от «свободного» каприза сюрреализма. «Там – прихоть случая, здесь – вдохновенное открытие творчества и волевое прозрение человеческого духа. Там – упрощение и хаос, здесь – ясность творческой цели, достигаемой натиском восторга. Блок никогда не заземлял свою поэзию, не растворял ее в бескрылом быте…» И лишь имея в руках компас национальных традиций, современный художник может невредимым проплыть как легендарный Одиссей между двумя чудовищными скалами Сциллой и Харибдой – натурализмом, с одной стороны, и абстракционизмом – с другой. Компас русских национальных традиций определял художнику курс на реализм. А как истолковывает это понятие сам Глазунов? «Я предпочитаю говорить о реализме в высшем смысле этого слова, как его понимал Достоевский. Реализм – выражение идеи борьбы добра и зла, где поле битвы – сердце человека».
Но битве, даже увенчавшейся победой, не может не сопутствовать трагедия. И трагические мотивы извечного борения добра и зла отчетливо звучат в его творчестве. Не связано ли это с каким-то особым, пессимистическим взглядом художника на жизнь? Для ответа на этот вопрос снова обратимся к размышлениям Глазунова об искусстве. «Мир в вечном становлении, в процессе рождения и смерти, дня и ночи, добра и зла, холода и тепла, любви и ненависти, женского и мужского начала, и, наконец, – музыка, ее страстная борьба с мертвящей тишиной и духовной глухотой. Становление и борьба противоположных начал и есть трагедия, которая исключает бездумный «оптимизм» и пассивный пессимизм, как две формы, не соответствующие правде жизни. Трагедия – ключ к пониманию бытия. Таково мироощущение Блока. И действительно, если анализировать произведения человеческого духа, они всегда трагедийны в сути своей. Таков Гомер, Данте, Шекспир, Достоевский, Микеланджело, Эль Греко, Рембрандт, Врубель, Рерих».
Вывод совершенно бесспорный. И к этому можно добавить только, что трагедийный дар особо присущ русскому таланту. («Что развивается в трагедии, – писал Пушкин, – какая цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная».) Происхождение его следует искать не в следовании неким укоренившимся традиционным приемам и формам художественного освоения действительности, а в своеобычном складе национального характера. «Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Этой жаждою страдания он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю, не от внешних только несчастий и бедствий, а бьет ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него неполно. Никогда, даже в самые торжественные минуты его истории, не имеет он гордого и торжествующего вида, а лишь умильный до страдания вид; он воздыхает и относит славу свою к милости господа… Что в целом народе, то и в отдельных типах…»
«Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои недостатки и перед целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя; иногда даже он несправедлив к самому себе, – во имя негодующей любви к правде, истине… С какой, например, силой эта способность осуждения, самобичевания проявилась в Гоголе, Щедрине и всей этой отрицательной литературе, которая гораздо живучее, жизненней, чем положительнейшая литература времен очаковских и покоренья Крыма.
И неужели это сознание человеком болезни не есть уже залог его выздоровления, его способности оправиться от болезни… Не та болезнь опасна, которая на виду у всех, которой причины все знают, а та, которая кроется глубоко внутри, которая еще не вышла наружу и которая тем сильней портит организм, чем, по неведению, долее она остается непримеченною. Так и в обществе… Сила самоосуждения прежде всего – сила: она указывает на то, что в обществе есть еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру: негодование на общественные язвы, болезни – предполагает страстную тоску о здоровье».
В этих заметках Достоевского открываются и истоки трагических конфликтов, и особый характер их разрешения, свойственный русским художникам. Не мрачная безысходность, приводящая к сознанию обреченности, торжествует в их произведениях при всем трагизме ситуаций, но вера в светлые стороны человеческой души, способные привести к победе добра над злом. Так в борьбе и единстве противоположных начал рождается гармония красоты.
Считается, что трагедийный жанр тяготеет к переломным периодам в жизни общества, когда с особой силой обостряются противоречия между идеалом и действительностью. И разве современная действительность с ее главной дилеммой – быть или не быть человечеству – не дает повода для печальных раздумий? А между тем, что мы видим на нынешних выставках? Повальный уход в жанр.
Глазунов, сердцем воспринимая трагические коллизии прошлого и настоящего, остается верен диалектике жизни. Трагическое начало в его произведениях, запечатлевших моменты суровых испытаний, выпавших на долю Отечества, и внутренний мир современников слиты с жаждой духовного полета и подвига, с верой в грядущее. Поэтому его искусство, пробуждая раздумья о судьбе Родины, оказывается созвучным настроениям миллионов.
«Я стараюсь запечатлеть лик эпохи…»
Образы России
Природный талант, сориентированный на высшие духовные ценности; неистощимое упорство в овладении профессиональным мастерством и наследием русской и мировой истории и культуры, помноженное на фантастическую работоспособность (поражающую по сей день); огромный запас жизненных впечатлений и понимание цены человеческому страданию – эти слагаемые определили раннее вызревание, кристаллизацию личности Глазунова, художника яркой творческой индивидуальности.
– Я считаю, что каждый интеллигент, – скажет впоследствии он, – это миссионер, охраняющий национальные традиции своего народа в их интернациональном значении. Я никогда не принадлежал ни к одной группировке, не был членом партии, стремясь в меру отпущенных мне сил служить Богу, совести и России, всячески обретая и сохраняя основы русского национального самосознания, традиции и памятники культуры нашего народа…
Еще в 50-е годы, овеянные дыханием «пролетарской диктатуры», молодой художник одним из первых возложил на себя непомерной тяжести крест – восстановить и в исторической конкретности художественно воплотить национальные представления о смысле бытия, духовном идеале, идеале нравственности и красоты, чертах русского национального характера, уходящих корнями во времена славянской древности. И как теперь стало совершенно очевидным, патриотический порыв художника, реализованный и в картинах и многоплановой общественной деятельности, послужил в те годы мощным толчком к пробуждению национальных чувств. У художника это наиболее ярко отразилось в цикле произведений «Образы России».
В отечественной истории есть примеры таких поворотов общественной и художественной мысли. К примеру, всемирно-историческое значение имел тот, по выражению критики, «коперниковский поворот» в русской литературе XIX века, свершившийся впервые в Пушкине и через него обернувшийся общественным достоянием, когда такая категория, как народность, окончательно становится определяющим началом литературы и фактором, формирующим национальное самосознание в целом.
Порой русского национального возрождения считается рубеж XIX–XX столетий, когда художниками заново был открыт мир Древней Руси. Знаменитые дягилевские сезоны в Париже тогда потрясли западный мир явлением русского балета, русской оперы, живописи, музыки. Новый стиль, получивший название новорусского, складывался в архитектуре. В мастерских Абрамцева и Талашкина получают развитие традиции народного искусства. Живительный сплав вековых традиций и истинного новаторства принес поразительные результаты во всех сферах культуры. Подобный подъем национального самосознания был вызван Великой Отечественной войной, когда стало ясно, что без опоры на историческое прошлое, без осознания национального интереса невозможно не только отстоять Родину, но и строить мирную жизнь.
Послевоенная расстановка сил в мире, рост национально-освободительного движения в развивающихся странах по-новому заставили взглянуть на национальное и в сфере политики, и в идеологии, и в культуре. В последней роль национального выявилась с особой очевидностью: натиску бездуховности массовой культуры, модернизма, амбициозно претендующего на выражение общечеловеческого, интернационального, смогли противостоять лишь те направления искусства, которые опирались на корневые основы народной жизни.
По поводу национального и общечеловеческого еще в 1862 году писал великий Ф. Достоевский: «Ведь тогда только и можем мы хлопотать об общечеловечном, когда разовьем в себе национальное… Прежде чем понять общечеловеческие интересы, надобно усвоить себе хорошо национальные, потому что после тщательного только изучения национальных интересов будешь в состоянии отличать и понимать чисто общечеловеческий интерес. Прежде чем хлопотать об ограждении интересов всего человечества во всем мире, – нужно стараться оградить их у себя дома. А то может случиться, что за все возьмемся и нигде не успеем. Говоря, впрочем, о национальности, мы не разумеем под нею ту национальную исключительность, которая весьма часто противоречит интересам всего человечества. Нет, мы разумеем ту истинную национальность, которая всегда действует в интересе всех народов. Судьба распределила между ними задачи: развить ту или другую сторону общего человека… только тогда человечество и совершит полный цикл своего развития, когда каждый народ, применительно к условиям своего матерьяльного состояния, исполнит свою задачу. Резких различий в народных задачах нет, потому что в основе каждой народности лежит один общий человеческий идеал, только оттененный местными красками. Поэтому между народами никогда не может быть антагонизма, если бы каждый из них понимал истинные свои интересы. В том-то и беда, что такое понимание чрезвычайно редко, и народы ищут своей славы только в пустом первенстве перед своими соседями».
Высоко осознавая свое призвание, свою ответственность перед людьми, перед нацией, перед человечеством, впитывая живительные соки родной культуры, Глазунов и в творческой, и в поистине подвижнической общественной деятельности стремился быть на высоте задач, поставленных временем.
Творчество Ильи Глазунова завораживает миллионы прежде всего тем, что в нем отражается величественный образ вечной, мудрой Святой Руси, хранительницы православного духа, остающейся в сущности своей таковой до сих пор, невзирая на пережитые исторические потрясения. Этот многоплановый образ, созвучный образу божьего храма, на полотнах художника, запечатлевших одухотворенный лик родной природы; красоту овеянных легендами древних русских городов; характерные приметы русской жизни. У кого в годы безраздельного господства соцреализма, отражавшего, по выражению художника, жизнь придуманных социальных манекенов, не трепетала душа при соприкосновении с поэзией полотен «Два князя», «Икар», «Господин Великий Новгород», «Русь. Золотая осень», «Русская старина», «Град Китеж» или при знакомстве с признанными ныне классическими иллюстрациями к произведениям русских классиков?
Картины Глазунова открывали соотечественникам сложность исторического пути России, богатство ее культуры. Они принесли ему на Родине и за рубежом славу выдающегося национального художника. Но творчество художника не было откликом на запросы публики, проявившей вдруг невиданный интерес к отечественной истории, как это с намеком на конъюнктурность пытались представить некоторые литераторы. Хотя в таком отклике на общественный спрос нет ничего предосудительного, даже наоборот. В случае с Глазуновым совсем по-другому. Он сам возбуждал интерес к познанию нашего прошлого, к осмыслению современного.
Выдающиеся отечественные деятели не раз предостерегали от пагубных последствий забвения нашего наследия. Исчерпывающе это выразил Пушкин, писавший, что дикость, подлость и невежество не уважает прошлого, пресмыкаясь перед одним настоящим; неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности.
И, конечно, каждый по-своему приобщается и осознает связь с прошлым. Для Глазунова познание прошлого стало путем открытия Родины, источником воспламенения сыновней любви к ней.
В Москве
Переезд в Москву в 1957 году имел решающее значение в судьбе художника. Здесь сформировались его творческие и гражданские позиции.
Он много путешествует, выезжает в исконно русские города: Сергиев-Посад, Боровск, Ростов Великий, Новгород, Владимир, Суздаль, Вологду, Кириллов… Здесь, у стен древних соборов, у чистых и прохладных вод северных озер и могучих рек, перед ширью расстилающихся просторов художник вновь и вновь задумывается о России, своем народе, пережитых им бедствиях и торжестве побед.
В крестьянском доме под городом Кирилловом на Вологодчине Глазунов пишет ряд картин, посвященных Родине. Сам город Кириллов, окружающие его деревни, сохранившие свой неповторимый, сформировавшийся за века облик, дали ему уникальный образный материал для создания произведений, передающих поэтический образ Родины. Живым, трепетным чувством к ней проникнуто написанное с натуры полотно «Русь». То же чувство пронизывает и торжественно-тревожное полотно «Два князя», на котором узнаются древние башни Кирилло-Белозерского монастыря и холодная гладь Сиверского озера. Серия картин и пейзажей, созданных художником в этих местах, отмеченных взволнованностью интонации и неповторимостью авторского стиля, по праву относится к числу лучших. Позднее появится цикл тематических картин о татаро-монгольском нашествии.
Прошлое… Оно не только в шедеврах архитектуры и летописных свитках, творениях философов и художников, в томах историков и других материализованных явлениях человеческого духа. Оно и в бытующих народных представлениях и легендах, входящих в наше сознание, накладывающих отпечаток на мировосприятие. Особо это характерно для русского человека, с его склонностью к поэтическому восприятию жизни, неприятию сухого прагматизма.
Во время одной из своих поездок по России, в лесном заволжском крае Глазунов столкнулся с удивительным случаем бытования народной легенды о прекрасном граде Китеже, не раз уже вдохновлявшей писателей, художников, музыкантов. В легенде повествуется о том, как во время нашествия орды Батыя град Китеж, чтобы избежать поругания, волей Божией опустился на дно озера Светлого Яра и стал невидим. До сих пор ходят слухи о доносящемся временами колокольном звоне из-под Светлояра и других чудесах.
Много споров о происхождении легенды. Изучают почву, измеряют глубину озера, ныряют с аквалангом на дно Светлояра. Доказывают научно, что нет и не могло быть града Китежа в озере, что другой Китеж штурмовали полчища Батыя, в другом месте остатки древней крепости. Но главная прелесть легенды о граде Китеже в том, что раскрывает она удивительную чистоту народа, хранящего в своей памяти светлую веру в чудо, в красоту земную. Удивительна все-таки Россия, где рядом со сверкающими стеклом железобетонными корпусами заводов и комбинатов, космическими кораблями и сложными электронными машинами живет вера в легенду, в град Китеж, невидимый и взыскующий, ушедший до времени, до срока означенного в синие воды озера Светлояра.
И разве нет в наших душах своего града Китежа? Ощутить его в себе, просветленным сознанием услышать живущие в нас незримые голоса совести и правды, осмыслить высшее назначение поступков человека, значит постичь тайну человеческой жизни на земле, истоки судеб и подвигов во имя добра. Вот почему необходимо сберегать наши грады Китежи, сберегать и передавать последующим поколениям.
Восприятие художником легенд, преданий, как и всего национального культурного наследия, сливающееся с народным мировосприятием, объясняет не только поэтичность его картин, но и такое их отличительное качество, как многомерность трактовки времени. Это один из самых существенных признаков стиля Глазунова.
Обычно художник, обратившийся к исторической теме, воссоздает определенное событие, проистекающее в конкретный момент его свершения, высказывая свое понимание этого события с дистанции своего времени. У Глазунова же во многих случаях история и современность не разделены, а растворены одна в другой. Исторические события и герои, о которых повествует художник, оказываются включенными в контекст вечного бытия народа и природы. Поэтому конкретные глазуновские образы приобретают значение символа, воспринимаются как образы вечной России. Особо ярко это выражается в полотнах обобщающего, философского плана, к примеру, таких, как «Русский Икар», «Русская песня», «Господин Великий Новгород»…
Конкретную жизненную основу сюжета в «Русском Икаре» составляет весьма распространенное в русской действительности явление. Нередко какой-либо умелец из самой провинциальной глубинки, одержимый идеей полета, мастерил себе крылья и бросался с колокольни. И хотя такие опыты в основном завершались трагически, отчаянные смельчаки не переводились. Глазунов раскрывает в своей картине то, что заставляло людей, считавшихся чудаками, на подобные опыты: полет человеческого духа, процесс свершения светлого и трудного подвига, прокладывающего путь к раскрепощению сокрытых в человеке возможностей. Взгляд воспарившего над землей героя – это взгляд пророка. В нем самоотверженность, сознание трагичности исхода своего дерзновения, но и святая неколебимость знающего свое предназначение – вести за собой в будущее. Здесь есть высокий трагизм, но нет безысходности. Звучит торжественный мотив устремления человека к божьему началу. И присутствует момент боготворчества, когда человек и впрямь хочет возвыситься до Бога.
Ощущение экспрессии, динамики полета рождает броское диагональное решение композиции картины. В использовании открытых цветов, традиционных для русской иконописи – глубокого синего цвета реки, звучного алого цвета рубахи, золота крыльев, и в решении образа Икара, ассоциирующегося с иконописными ликами, прослеживается отчетливая связь с национальными традициями древней живописи. Дерзновенный порыв человека органично согласуется у художника с весенней порой, порой обновления. В нежности ветвей просыпающихся берез, в контрастно высвеченных пятнах льдин и парусов на реке, будто отразившихся бликами в глазах Икара, подчеркивается трепетность преображения природы и человеческого духа.
Диалектическое восприятие окружающего мира, исконно свойственное русскому национальному характеру, проявляется в монументальном полотне «Русская песня». На фоне бескрайнего, лазурного, с клубящимися облаками неба, будто опирающегося на узкую полосу цветущего зеленого луга, – фигура юной девушки, задумчиво смотрящей вдаль. В левом углу картины – трагический лик женщины. Эти два женских образа, навевающие воспоминания о русских фресках пластикой, колористическим решением, созвучны русской народной песне, ее печальной проникновенности, сконцентрировавшей горький опыт и светлое лирическое, гармоническое начало.
В картине «Господин Великий Новгород» художник использует тот же принцип композиционного строя, но варьируя его несколько по-иному. Зеленая полоса луга и холма, на котором возвышается храм, занимает почти половину композиции. Объем неба соответственно уменьшается, но оно становится тревожнее, насыщеннее по цвету и тону.
В левом углу картины крупным планом дается женский профиль. Внутренняя углубленность, задумчивость ее взгляда, беспокойное кружение стаи черных птиц, надломленность (то ли тяжестью лет, то ли порывы ветра) женской фигуры на дальнем плане создают ощущение напряженной предгрозовой атмосферы. Будто над этим скромным, но по-своему величественным уголком русской земли вот-вот пронесется ураган – одна из исторических бурь, пережитых народом за время своего существования.
Важнейшим изобразительным и смысловым акцентом полотна является образ храма, символизирующий историю, характерный облик и дух Великого Новгорода – северного форпоста русской государственности и культуры. И как тут не вспомнить слова известного русского художника, реставратора и историка искусства Игоря Грабаря: «Одного взгляда на крепкие, коренастые памятники Великого Новгорода достаточно, чтобы понять идеал Новгорода – доброго вояки, не очень обтесанного, мужественного, но себе на уме, почему и добившегося вольницы задолго до других народов, предприимчивого не в пример соседям, почему и колонизовавшего весь гигантский север: в его зодчестве такие же, как сам он, простые, но крепкие стены, лишенные назойливого узорочья, могучие силуэты, энергичные массы. Не всегда складно, но всегда великолепно, ибо сильно, величественно, покоряюще».
Полотно «Господин Великий Новгород», притягивающее декоративностью, гармонией единства человека, архитектуры и природы, эмоциональной выразительностью, вызывает множество раздумий и о временах, уходящих в глубь веков, и о сегодняшней действительности.
С одинаковым успехом оно может восприниматься в цикле произведений и современной, и исторической тематики.
В значительной части произведений, открывающих мир России в ее многовековом бытии, Илья Глазунов воссоздает образы исторических деятелей, с именами которых связано наиболее яркое представление о том или ином, как правило, переломном этапе отечественной истории.
И здесь художник преследовал цель не реставрации внешнего облика по сохранившимся источникам, а именно создания, по выражению Глазунова, философских «мыслеобразов», которые раскрывали бы современникам сущность личности героя, ее сложность и, подчас, противоречивость, через призму основного конфликта времени. Вот как, например, решает художник образ Ивана Грозного, получившего такое прозвище за крутость и суровость нрава. Но вначале несколько слов о герое картины.
Иван Грозный – одна из колоритнейших фигур русской истории. Его царствование началось смутой и закончилось в преддверии новой смуты. Убийство малолетнего царевича Дмитрия народ возложил на совесть Бориса Годунова. Личность и эпоха Ивана Грозного как бы венчают собой период становления русского религиозного самосознания, когда окончательно сложились взгляды русского народа на свою роль в истории, смысл существования, государственные формы бытия. Но как и другие русские цари, Иван Грозный был оклеветан западными историками. Ему приписывалась якобы беспримерная в истории жестокость. Между тем за время его царствования число казненных составило ничтожную часть от уничтоженных в ту же эпоху в Англии или во Франции, скажем, за одну лишь Варфоломеевскую ночь.
На переднем плане полотна «Иван Грозный» слева высится занимающая основную часть композиции фигура царя с посохом в руке. На заднем плане – обобщенный образ храма Покрова (собор Василия Блаженного). В замкнутом пространстве среднего плана, выход из которого будто перекрыт могучей рукой царя, свершается публичная казнь… Да, Иван IV был действительно Грозным для своих врагов и врагов Руси. Но суровость и жесткость в проведении своей политики – не единственный след, оставленный им в истории России. Дивной красоты храм, перед которым свершается казнь, был воздвигнут в Москве на Красной площади в честь взятия Казани. Иван Грозный был одним из просвещеннейших людей своей эпохи. Наделенный державным умом и творческими способностями, он писал духовные тексты-стихиры, исполнявшиеся на богослужениях. Незлобив по сущности своей природы, глубоко страдал, когда приходилось прибегать к жестким мерам. Многогранная личность Грозного-царя изображена на полотне и читается в его взгляде. Он, доминируя в атмосфере свершающегося события, словно задевает боковым зрением сегодняшних зрителей, как бы сверяя с нами смысл и масштаб своих деяний.
Сходный композиционный прием был использован художником и в воссоздании образа другой исторической личности – Бориса Годунова. С этим образом связана тема, фундаментально разработанная Пушкиным в трагедии «Борис Годунов», трагического распада души человека, достигшего власти. Картина Глазунова может служить прекрасной иллюстрацией к этому великому произведению. При всей роскоши декоративного решения картины внутренний мир героя не оказывается в тени, а усиливается за счет введения в картину другого образа – юродивого. Подавленный и страдальческий взгляд темно-вишневых глаз Годунова резко противопоставляется холоду голубых его обличителя, будто возвещающего из-за спины Бориса: «Нельзя молиться за царя Ирода…»
Работа над образом Бориса Годунова (как и Ивана Грозного) была продиктована интересом художника к переломным моментам отечественной истории. Как известно, великое потрясение, разразившееся в России в начале XVII века и вошедшее в историю как Смутное время, началось с трагического события в Угличе. Там произошло убийство юного царевича Димитрия. Тайна его гибели породила множество легенд и подозрений, роковым образом отозвалась в судьбе вошедшего на престол Бориса Годунова. Обреченность власти на крови, неизбежность возмездия за содеянное преступление пронизывают пушкинскую трагедию. То же и у художника.
Отличительной особенностью картин Глазунова стало использование парчи и жемчуга. Такой прием сочетания разных материалов называют коллажем. Он активно использовался еще в экспериментальных поисках художников 20-х годов. Но у Глазунова его источником послужило совсем другое.
– То, что иные в моих картинах называют коллажем, – пояснил однажды художник, – идет от оклада иконы. На Волге в деревенской избе я увидел икону с окладом, расшитым речным жемчугом и стеклярусом. Меня поразило их созвучие. Возникла идея живописи на инкрустированной доске, с использованием жемчуга. По-моему, подобный прием, использованный в «Иване Грозном», «Борисе Годунове», «Царевиче Димитрии», усиливает психологическое звучание образа, воскрешает обаяние древнего русского искусства…
Однако не только в использовании этого приема можно усмотреть связь с древнерусской живописью. Работы «Иван Грозный», «Князь Игорь», «Князь Олег с Игорем», «Легенда о царевиче Димитрии» и другие, созданные в 60–70-е годы, в живописном решении близки к иконописи, когда гармония строится не на сочетании тонов, а на сочетании цветов. Художник доводит звучные цвета до высшего напряжения, прибегая нередко к контрастным противопоставлениям и вызывая тем самым разные настроения, эмоциональные отзвуки. От мастеров прошлого и простота композиции произведений, отсутствие в ней частных деталей, эпизодов. Все внимание в картине – наиболее важным, тщательно отобранным смысловым предметам.
И еще одна особенность в художественной интерпретации Глазуновым исторических явлений. Это использование символики из области народных представлений, библейских и евангельских преданий, исторических апокрифов. Например, в картине «Легенда о царевиче Димитрии» (1967) образ наследника престола ангелом увенчивается царской короной на фоне кремлевских соборов и вспыхнувшей в небесной тьме радуги, становящейся важнейшим композиционным и смысловым компонентом произведения. В народном сознании радуга понимается по-разному, но всегда связана с божественным началом. Ее называли райской дугой, веселкой, божьим луком, божьим и богородичным поясом… В библейской трактовке радуга – знак благополучия и благодати. После потопа, когда господь счел, что достаточно покарал землю, он и явил радугу в знак прощения. И вот этот божий дар окровавленным ножом полосует сатанинская рука. Так свершившаяся трагедия возвышается до вселенского потрясения.
Конечно, каждый волен трактовать символику в картинах Глазунова по-своему. Одних она возмущала, других приводила к прозрению. Зачастую велись жесткие споры, нередко переходившие в баталии, когда спорщиков приходилось разнимать силой. Но бесспорно: стремление к пониманию того, что хотел выразить художник, заставляло зрителей повышать уровень художественной и исторической осведомленности. И если радуга не представляла особой сложности, то образное решение картины «Былины» (1974) вызывало у многих недоумение и побуждало глубже искать объяснений. На этой картине изображена обезглавленная фигура русского человека (одежда которого вызывает ассоциации с героем более раннего полотна «Русский крестьянин – воин и строитель»), держащего в левой руке свою отрубленную голову, а в правой – опущенный меч, передаваемый юному сыну. Позади – горящий русский город и обвитая веревкой женщина, видимо, уводимая во вражеский полон. А на плечи героя-мученика будто опирается радуга, с прилепившимся к ней треугольником, обрамляющим глаз.
О радуге уже говорилось. Треугольник с глазом – это символ недреманного Ока Господня. (Повернутый верхним концом вниз – он символизирует противоборца Господа, то есть дьявола.) Итак, здесь все более или менее понятно. Но что значит собственная отрубленная голова, которую герой держит в своей руке? Этот образ (как и образ героя на более поздней картине «Гимн героям» (1984), в руке которого уже не своя, а вражеская голова) послужил поводом для многих обвинений художника якобы в природной кровожадности, которая заставляет его выплескивать на полотна потоки и моря крови. А объяснение в данном случае может быть таковым. Известно предание, что когда Батый в 1237 году подступил к Смоленску, один из дружинников князя Смоленского, Меркурий, получил от Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» повеление выйти из города навстречу врагу. И было ему предсказание: «…силою Христа ты победишь исполина. Я Сама буду с тобою. Но вместе с победой ожидает тебя мученический венец». Так все и произошло. Меркурий отразил нашествие Батыя при помощи сошедших с неба мужей, но, утомленный после битвы, впал в глубокий сон. Враги же, захватив его спящим, отрубили ему голову. Но он, как живой, внес ее в город, где и был погребен в соборном храме…
О другом варианте этого сюжета, но с иными участниками действия. Его изложила Вера Ивановна Шаповалова, артистка Большого театра и вышивальщица икон по старинным образцам. Вот ее рассказ об иконе святого Георгия Победоносца.
– У этой иконы очень своеобразная иконография. История ее появления уходит в XI век. Святой Георгий стоит перед Господом, держа в руках свою отрубленную голову и хартию (пергамент, на котором писали в древности; рукопись. – В. Н.), и говорит: «Господи! Посмотри, как бесчеловечно со мной поступили люди!» Христос же дает ему другую хартию со словами: «За это я тебя награждаю золотым венцом». Осталось всего три списка этой иконы. Один – в Историческом музее Москвы, второй – в Белграде, третий – в Боснии.
Вполне допустимо, что Илье Сергеевичу при создании «Былины» была известна и иная вариация приведенного сюжета.
Вопреки господствовавшему в советские годы постулату о массах, творящих историю, Глазунов всегда утверждал, что историю творят личности. Но отчетливо осознает художник, чьими трудами и усилиями она свершается, какая роль отведена крестьянству. Обобщенный исторический тип русского крестьянина он показал в картинах «Русский крестьянин – воин и строитель» (1967), заставляющей вспомнить о традициях народного искусства, и «Русский мужик» (того же года) – образ уже из современной действительности. Но русский человек – не только созидатель материальной культуры и защитник отеческого достояния. Испокон веков, из глубины своих арийских корней он был хранителем и творцом духовных богатств. Эта сторона его многообразного творчества представлена в образе народного сказителя и летописца («Боян». 1992) – отнюдь не бесстрастного, а вдумчивого свидетеля исторических потрясений. Да, впрочем, едва ли не каждый образ у художника может восприниматься как обобщающий, начиная от портретов стариков, выполненных в юношеские годы, до женских образов в серии «Годы войны» и даже портретов современников, в которых прочитывается сопряженность с историческим прошлым.
Произведения Глазунова свидетельствуют о понимании им сути и специфики исторической картины с позиции реализма «в высшем смысле этого слова», как его понимал Достоевский. Кстати, великий писатель в «Дневнике писателя» за 1873 год дал блистательный образец теоретического анализа исторической картины. Поводом для рассуждений на эту тему послужила вызвавшая тогда бурные толки картина известного живописца Николая Ге «Тайная вечеря».
По Достоевскому, историческая действительность, например в искусстве, совсем не та, что текущая (которая отображается в жанровом произведении), и отличается от последней именно тем, что она законченная. Если представлять событие давно прошедшее, исторически завершенное, то оно представится непременно в законченном его виде, то есть с прибавкою всего последующего его развития, еще и не происходившего в тот момент, в котором художник старается изобразить конкретное лицо или событие.
А потому сущность исторического события и не может быть представлена художником точь-в-точь, как оно, вероятно, свершалось в действительности. Но в этом случае художника нередко охватывает страх, что ему поневоле придется, как выражается писатель, «идеальничать», как бы лгать. И чтобы избегнуть мнимой ошибки, он придумывает выход, заключающийся в механическом смешении исторической и текущей действительности. От этой же неестественной смеси происходит ложь пуще всякой другой, что и обнаружилось в «Тайной вечере». Вместо исторической картины он сделал жанровую. «Всмотритесь внимательнее, – писал Достоевский, – это обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей. Вот сидит Христос, – но разве это Христос? Это, может быть, и очень добрый человек, очень огорченный ссорой с Иудой, который тут же стоит и одевается, чтобы идти доносить, но не тот Христос, которого мы знаем… Спрашивается: где же и при чем тут последовавшие восемнадцать веков христианства? Как можно, чтоб из этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, как у г-на Ге, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колоссальное?
Тут совсем ничего не объяснено, тут нет исторической правды; тут даже и правды жанра нет, тут все фальшивое.
С какой бы вы ни захотели судить точки зрения, событие это не могло так произойти: тут все происходит несоразмерно и непропорционально будущему… просто перессорились какие-то добрые люди; вышла фальшь и предвзятая идея, а всякая фальшь есть ложь и уже вовсе не реализм. Г-н Ге гнался за реализмом».
Оценивая вклад Глазунова в современную историческую живопись, нельзя пройти мимо того, что его творчество способствовало возвращению в сферу современного искусства и национального самосознания ряда тем и образов, которые с 20 – 30-х годов оказались за его пределами. Прежде всего следует сказать об образах тех исторических деятелей, чей подвиг в борьбе народа с иноземными поработителями хотя и свершался не на ратном поле, а на ниве духовной, но во многом предопределил торжество грядущих побед.
Важнейшие среди них – образы Сергия Радонежского и Андрея Рублева. Их имена олицетворяют собой период русского Возрождения XIV–XV веков, период формирования русской государственности и культуры.
Основатель и глава Троицкого монастыря Сергий Радонежский как никто другой из современников содействовал сплочению разрозненных сил русских удельных князей вокруг Московского князя Дмитрия, чтобы сбросить наконец ярмо татаро-монгольского ига. Сергий вдохновил и благословил Дмитрия выступить против Мамаевой орды, вселив уверенность в победе. Отпустил он с ним иноков Пересвета и Ослябю, богатырей, героически павших на Куликовом поле. «Как бы ни болело сердце русское, – утверждал Николай Рерих, – где бы ни искало оно решение правды, но имя Сергия Радонежского всегда останется тем прибежищем, на которое опирается душа народа. Будет ли это великое имя в соборе, будет ли оно в музее, будет ли оно в книгохранилище, оно неизменно пребудет в глубинах души народной… Хранится оно как прибежище народного сознания в трудные минуты мировых перепутий».
Наиболее ярким выразителем национального самосознания в искусстве в Средние века был Андрей Рублев. Его творчество, вершиной которого является знаменитая «Троица», вобрало в себя все лучшее в древнерусском искусстве с его высоким гражданским и нравственным идеалом, призывом к единению людей, верой в светлые начала.
Но в 20-е годы XX столетия, в период расцвета «левых» течений в искусстве, вульгарно-социологических теорий в критике, в пылу борьбы с «религиозными пережитками», причастные к церкви великие имена вычеркивались из народной памяти. Даже в 60-е годы в одной из своих публицистических статей классик отечественной литературы Леонид Леонов напоминал: «В том беда наша, что вечно возвышающиеся над нами воистину гималайские исполины, так сказать, «замаравшие» себя прикосновением к церковной теме, – Леонардо и Рублев, Бах и Микеланджело – иным доныне представляются всего лишь тупицами и прихвостнями феодально-купеческой касты, продавшимися в холуйство золотому тельцу».
В том-то и гражданская смелость Глазунова, что с самого начала творческого пути он, не страшась господствующих мнений, выражал собственное понимание русской истории и культуры, сформированное на глубочайшем изучении народного бытия.
Когда художника спрашивают о теме России в его творчестве, он с полным основанием может произнести такие слова: «Вся моя жизнь, вся суть моего бытия как художника и человека связана с огромным бесконечным миром познания моей страны. Когда я говорю о России, я говорю прежде всего о духовном ее начале, о судьбах тех художников, которые могли родиться и творить только в ее пределах, о загадочности этой страны, о ее историческом предназначении, о ее твердости в годину испытаний».
И разве мог он пройти мимо ключевого этапа русского Возрождения, расцвет которого тесно связан с появлением такого могучего оплота национального духа, как Троице-Сергиева лавра? «Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань нашей культуры, – отмечал впоследствии художник, – мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоисточнику русского исторического самосознания, к имени Сергия Радонежского, сыгравшего столь огромную роль в свержении татаро-монгольского ига, и Андрея Рублева – гения нашей национальной и мировой живописи».
В деятельности этих двух «гималайских исполинов» отечественной истории и культуры отразилось то новое созревшее качество исторического бытия русского народа, которое позволило ему в лице Дмитрия Донского и его войска сказать на Куликовом поле решительное слово, определившее путь на грядущие века. Подобно тому, как рублевская «Троица» является словно камертоном общенародных устремлений, выраженных в древнерусском искусстве, так и три образа – Сергия Радонежского, Андрея Рублева и Дмитрия Донского – освящают грандиозный по замыслу цикл живописных полотен Глазунова, посвященный переломному рубежу в истории Родины.
Создание этого цикла – поистине художественной летописи времени, когда решалась судьба не только России, но, по словам Пушкина, и всей цивилизации, нельзя оценить иначе как творческий и гражданский подвиг художника. Даже если иметь в виду только затраты физических сил.
Начиная с 1962 года Глазунов непрерывно работает над циклом, создав несколько десятков монументальных произведений, составивших самостоятельный раздел экспозиции в Тульском музее. Непосредственно к образу Андрея Рублева художник обращается в нескольких полотнах. На картине «Юность Рублева» – легкая, воздушная, будто возникшая в видении фигура юноши с цветком, стилизованная под фресковую живопись. Это поэтический образ будущего творца красоты. На другой картине – юноша со свечой. Здесь ощущается драматическое напряжение мысли. Это уже ипостась будущего художника-философа, светоносца русского Возрождения, которому из тьмы нашествия предстоит прозреть светлые дали грядущего.
Первая работа создавалась в 1960-е годы. По технике выполнения, цветовому строю она созвучна картине «Русская песня» и отражает стремление художника усвоить уроки древнерусской школы. Вторая, написанная в 80-е годы, дает философский, психологический образ Рублева. Такое смещение акцента трактовки исторических событий и образов в сторону большей философской углубленности и психологизма в определенной степени характеризуют эволюцию творчества Глазунова.
В холодной голубовато-зеленой гамме выполнено полотно «Сергий Радонежский и Андрей Рублев» (1992), проникнутое эпическим звучанием, представляющее героев на фоне гигантского пожарища, полыхающего за рекой, так резко и трагично конфликтующего с порой весеннего обновления. Куликовскую битву Глазунов трактует как решающий момент схватки православной Руси с грозной агрессией азиатской стихии. В его куликовском цикле воссозданы основные черты обстановки, жизни Руси, предшествующей битве, моменты подготовки и хода величайшего сражения Средневековья.
Историко-философские работы
Наиболее масштабно талант Ильи Глазунова как выдающегося художника современности стал раскрываться в тематических полотнах 70-х и 80-х годов – «Возвращение блудного сына», «Град Китеж», «Гимн героям», «Прощание», «Старое и новое», «Милостыня» и других. И если в его картинах исторического цикла полноправно присутствует современность, то в произведениях современной тематики органично входит история. Обусловлено это тем, что мастер тяготеет ко все более глубинному, философскому освоению действительности, подходя к анализу узловых проблем для насущного не с сиюминутными мерками, а опираясь на фундамент предшествующего человеческого опыта.
Так с течением времени сложился цикл историко-философских полотен, работа над которыми продолжается и по сей день.
Какие же проблемы волнуют художника?
Самая главная – это проблема человеческого бытия. Чем разрешится устрашающая своим апокалипсическим оттенком грандиозная мистерия XX века? Восторжествуют ли взявшие от антихриста меч кесаря (если следовать художественной образности мышления Достоевского), объявляющие себя царями земными, которые «и кончат тем, что зальют мир кровью»? Воздвигнется ли на месте храма Христова «страшная Вавилонская башня», достроенная теми, кто солжет во имя Его? Или все-таки одолеет человечество темные силы зла?
С этой позиции и следует рассматривать, в частности, трактовку художником известного библейского сюжета «Возвращение блудного сына». Нравственный пафос этого произведения заключается в утверждении неизбежности возвращения человека, познавшего глубину трагических коллизий и противоречий XX века, к истокам истинной духовности, воплощенной в лучших представителях народа и созданных ими бессмертных творениях, подобных русской иконе. Иконописный образ на полотне и является символом древнерусского искусства, в котором отразился идеал времени, переросший свою эпоху и оставшийся навсегда призывом к вечному миру и братскому единению нации.
В ряду произведений ярко выраженного философского плана, развивающих тему добра и зла, находится и картина «Гимн героям».
Если, например, в «Великом инквизиторе» добро и зло еще как бы взвешиваются, то «Гимн героям» – это благословение на подвиг в решающей битве со злом. Мы видим атлетическую фигуру Давида, стоящего под грозовым небом в потоке крови – с мечом в одной руке и отсеченной головой Голиафа в другой. Во взоре, устремленном вверх, – торжество победы, одержанной пусть даже на самом краю пропасти. Ужас начавшейся было апокалипсической катастрофы дал герою силы. Идущий по волнам на помощь Давиду Христос благословляет его.
Призывом к бдительности перед натиском сил тьмы воспринимается скульптура Лаокоона на фоне многоэтажных коробок домов, соединенных коммуникациями с башней вавилонско-татлинской конструкции (вспомним слова Великого инквизитора: «Тогда уже мы и достроим им башню… и солжем, что во имя твое»), она напоминает, чем закончилась для Трои история с введением в город деревянного коня.
По этой картине можно судить, что художник недаром в ученические годы копировал старых мастеров. В ней чувствуется почерк мастера, прошедшего высокую классическую школу Ренессанса. Однако именно с ней были связаны наиболее категоричные обвинения художника в пропаганде и поэтизации насилия, холодной жестокости. Подобное же усматривалось и в других произведениях, причем обличаемое художником зло отождествлялось с его личными качествами. Конечно же, подобный прием не нов. Достоевского тоже объявляли «злым гением» и призывали взять под надзор полиции нравов. По этому поводу русский философ Сергей Булгаков писал: «…В свидетели призову Пушкина, устами Моцарта определившего непорочность гения:
…он же гений, Как ты да я. А гений и злодейство — Две вещи несовместные.И действительно, истинный гений, тот, который имеет родиной «отчизну пламени и слова», не может быть злым, не может быть лживым в своей естественной боговдохновенности. Конечно, носитель гения может иметь и пороки, и страсти; вообще гениальность не предполагает необходимость личной святости, но поскольку он творит гениально, он поднимается над личной своей ограниченностью…»
В целом же «Гимн героям» – это отражение хода мировой истории от поверженного, скованного цепью Прометея, укравшего огонь у бога, до современных космических устремлений, символически выраженных в образе зависшей в верхнем правом углу картины некой планеты, усыпанной вулканическими кратерами и темными провалами, будто бы образовавшимися от ядерных взрывов. Не то ли придется пережить нам, обитателям планеты под названием Земля, живущим в постоянном раздоре и ныне вступившим, как провозглашается в средствах массовой информации, в стадию уже четвертой мировой войны.
Ранее разработанный Глазуновым принцип соединения разновременных образов и явлений при создании нового целостного образа был применен и в работе над панно «Вклад народов СССР в мировую культуру и цивилизацию», выполнявшейся по предложению ЮНЕСКО. Это предложение было актом высокого международного признания его творчества. Но как решить столь сложную проблему – в одной картине отразить масштаб многовековых свершений более сотни народов и народностей, населяющих территорию страны, раскинувшейся на одной шестой части земли?
Как известно, по решению ЮНЕСКО ежегодно отмечаются юбилейные даты, связанные с именами наиболее выдающихся творцов мировой цивилизации. И художник, представив на панно узнаваемые хрестоматийные образы великих ученых, деятелей литературы и искусства разных национальностей, а также плоды их творческого гения, создал обобщающий образ различных народов, некогда объединившихся под крыльями державного российского орла. Панно, вызвавшее большой резонанс мировой общественности, было передано тогдашним советским правительством в дар ЮНЕСКО. Ее Генеральный секретарь А. М. М. Боу, выступая на церемонии передачи панно, сказал: «Мы уверены, что все, кто придет в ЮНЕСКО, – мужчины, женщины, молодежь, – стоя перед этим творением, почувствуют заключенный в нем гуманный смысл, вдохновляющий на развитие творческих возможностей во имя счастья людей, мира и справедливости».
Ныне, увы, народы бывшего СССР разделены и каждый по-своему переживает последствия искусственного, а по мнению иных, неизбежного расчленения. Но это особая тема. А тот их творческий вклад в мировую культуру и цивилизацию, запечатленный на панно Глазунова, останется в веках.
Автобиографические мотивы в творчестве Глазунова встречаются нередко. Но картина «Моя жизнь» является наиболее полным обобщением раздумий художника о своей судьбе, не отделимой от судьбы горячо любимой им России. Создание полотна в 1994 году практически совпадает с началом работы художника над его книгой – повестью «Россия распятая». И потому мотивы написания и пафос картины точнее всего могут определить слова самого автора, высказанные в предисловии к книге: «Я – маленькая частица нации. И горжусь тем, что более чем за тридцать лет своей исторической деятельности служил Богу, России и совести, и не отказываюсь ни от одного поступка, картины или напечатанного слова. Я не изменил России и себе, думая как миллион русских. И народное признание явилось надежным гарантом того, что меня не растоптали черные силы, несмотря на ненависть и клевету врагов. Я благодарен всем, кто помогал в моей, нашей общей борьбе за Россию. Моя исповедь – мои картины и эта книга… Упорное желание написать ее возникло у меня по велению гражданской совести, а не только из-за ненависти к клеветникам России и ко мне лично как к русскому художнику. Прочтя рукопись одной из книг обо мне, я понял, что должен написать о себе сам, выразить свой взгляд на добро и зло в мире, дать отпор фальсификаторам нашей истории и защитить ею себя – художника и солдата истерзанной и униженной России»…
И в другом месте: «Моя жизнь словно выложена разноцветными камнями мозаики других жизней».
В композицию картины вошли ключевые признаки, характеризующие разные периоды времени, отразившиеся на формировании творческой личности художника. В левой верхней части полотна мы видим образы, передающие дух Петербурга-Ленинграда, где родился и перенес ужасы блокады будущий художник, когда на его глазах умирали мучительной голодной смертью его родители. Классический образ фрески Гвидо Рени «Аврора» – один из примеров великих произведений искусства, наполнявших бывшую императорскую Академию художеств, в стенах которой в послевоенные годы шлифовалось профессиональное мастерство Глазунова и где он познакомился с будущей женой Ниной Александровной Виноградовой-Бенуа. Ниже представлена сцена, характеризующая семейную атмосферу, в которой воспитывались дети художника – Иван и Вера, ставшие ныне достойными продолжателями своих родителей. Емко решается целостный образ социалистической эпохи, с присущей ей аксессуарами, вторгающийся в верхнюю центральную часть картины клином. Одна сторона его, представляющая взвившийся дымовой столб, напоминающий подножие ядерного гриба, как бы отделяет социалистический мир от прежней дореволюционной России. Другая сторона клина, уходящая в поднебесье лестница, нередко встречается в других произведениях Глазунова. Лестница (или лествица) в славянской традиции воспринимается как символ духовного восхождения. Но только на ней нет ни одной живой души. А в самом центре клина – балансирующая на фоне домов фигурка канатоходца, напряженность состояния которого отражается на лице молодого художника. Думается, каждому будут понятны образы в правой части картины, рисующие состояние страны, считавшейся не столь давно сверхдержавой под названием СССР, которая стала добычей заокеанских вдохновителей так называемой перестройки и делится ими как пирог.
Ну как тут снова не вспомнить размышления Георгия Свиридова о нашей истории, о дне сегодняшнем, о роли западных «благодетелей», наживавшихся на финансируемых ими «русских революциях» и войнах минувшего XX века. «Они посадили его, этот народ (русский. – В. Н.) на железную цепь, бесконечно унижая его, третируя, истребляя его святыни, его веру Православную, его культуру, а главное – сам этот народ, который служил своей безликой массой своим палачам и тиранам, кровью своею питая их чудовищную беспощадную власть.
Падение России – как смерть Христа, убитого римлянами и евреями на наших глазах. Теперь эти собаки делят его тело и одежды. Кроят карту мира».
Конечно же, эта картина, отражающая основные этапы жизни художника на фоне бытия всей России, наполнена трагическим звучанием. И в этом нет вины или особой претенциозности художника, стремившегося всегда выражать суровую правду жизни. Однако он не был бы сам собой, если бы впадал в грех уныния и всем примером своей личной жизни не старался дать ответы на проклятые вопросы времени.
Примечательный фрагмент картины, как бы подводящий итог пережитому, дан в низу ее центральной части. Он обрамлен радугой, края которой поддерживают два ангела. О символическом значении радуги как явлении благодатном мы уже знаем. Под ней символический образ Святой Руси. Здесь же монументальный образ самого художника, переживающего боль и горечь за наше нынешнее унизительное состояние. В его взгляде – призыв к пробуждению нашей совести, гражданской ответственности, к борьбе за будущее России. Эта его борьба привлекает к нему все больше друзей и единомышленников, представленных на полотне, над которыми возвышается образ Спасителя.
Однако не все из ставших некогда близкими художнику людей выдерживают напряжение этой борьбы. И образы таких тоже присутствуют рядом. Ничего удивительного. Ведь и среди ближайших учеников Христа был Иуда.
Но при всем трагедийном напряжении, излучаемом картиной, исход борьбы за Россию не вызывает сомнений. За спиной художника высятся светлые и одухотворенные образы его детей, представители поколений, уже сегодня определяющих главное направление творческой и духовной жизни России.
И еще несколько слов о том, что помогало устоять художнику в море житейских и иных бурь. Это высказано им в как бы выходящем за скобки «Моей жизни» другом образе, запечатленном на полотне «Архангел-хранитель», где над павшим в отчаяние героем, в котором узнаются черты автора, находится образ ангела.
Наиболее впечатляющие особенности таланта Ильи Глазунова как создателя произведений историко-философского плана проявились в его творениях, составивших к началу 1990-х годов триптих – «Мистерия XX века», «Вечная Россия», «Великий эксперимент».
Эти картины не имеют аналога в мировом искусстве по грандиозности замысла, широте и глубине охвата событий мировой истории, принципу художественного решения.
«Мистерия XX века»
Конец 70-х годов обозначил кульминацию «застоя» советской системы. Во всех областях жизни и искусства утверждалась строжайшая регламентация. Всякое отступление от официальной догматики немилосердно каралось. Именно в это время в мастерской Глазунова родилось произведение, потрясшее не только представителей официальных инстанций, но и друзей самого художника. Это была картина «Мистерия XX века» (1977 г.), в которой он выразил свой самобытный взгляд на трагичный апокалипсический век. Попытки художника показать ее на открывавшейся персональной выставке встретили резкое противодействие властей. И тогда он в знак протеста отказался от ее проведения, что вызвало невероятный скандал в официальных и художественных сферах, а картина на целое десятилетие стала узницей мастерской.
Хотя весь мир вскоре познакомился с ней по репродукциям, публиковавшимся в зарубежной прессе с сенсационным предуведомлением: «Картина, которую никогда не увидят русские».
«Не совсем понятно, – удивлялся корреспондент «Интернациональ геральд трибюн», посетивший тогда мастерскую художника, – зачем понадобилось Глазунову рисковать своим трудно заработанным успехом, посвятив два года своей жизни написанию монументальной работы, пока не принесшей ему ничего, кроме официального порицания».
Первая встреча публики с «Мистерией» состоялась лишь в 1988 году на персональной выставке произведений И. Глазунова, открывшейся в дни празднования 1000-летия крещения Руси. И мне пришлось быть невольным свидетелем того, как из самых высших сфер власти шел непрерывный нажим на художника, которого хотели заставить внести изменения в картину, убрать или заменить некоторые образы. Но и в тот раз он оказался непреклонным.
Создание «Мистерии», положившей начало величественному триптиху, обозначило новый этап и уровень творчества художника. И до этого им было написано немало монументальных полотен – достаточно вспомнить знаменитый цикл, посвященный Куликовской битве. Но в них охватывался пусть наиболее значительный, но все же определенный период истории России или отражались конкретные исторические события. Воплотить же образ целого мира, да еще в динамике многовекового существования – такого практика мирового искусства еще не знала. Подобная задача могла оказаться по плечу лишь художнику особого таланта, художнику-мыслителю и выразителю.
Глазунов создает в картинах мир по законам собственной поэтической логики. В отличие от обычной станковой картины, отражающей некую часть пространственного мира, в его произведениях пространственные и пропорциональные соотношения изображаемых предметов могут быть нарушены. А сюжет картины нередко складывается не из фрагментов единого, происходящего перед глазами события, а из разновременных обобщенных образов, которые, соотносясь между собой, рождают новый художественный образ. Образ-метафору, образ-символ. В наиболее законченном воплощении этот метод выразительности проявляется у художника в «Мистерии XX века» и других частях триптиха.
В «Мистерии» развертывается панорама некоего всемирного кровавого балагана, заставляющая вспомнить о классической традиции рассмотрения явлений жизни с позиции «мир – театр». Как, например, в средневековом мистериальном действе или у Шекспира («весь мир – театр, люди в нем – актеры»), или у Блока в пьесе «Балаганчик». Но если в блоковской пьесе мистерия оборачивалась шутовским маскарадом, лицедейством, народным балаганом, то в глазуновской «Мистерии» представлен истинно трагический балаган в мировом масштабе, в который вовлечены целые народы. И уже не клюквенным соком, как у Блока, истекают отдельные герои, а целые моря крови захлестывают картину.
Театральная природа образного решения этого произведения подчеркивается занавесом у левого края картины, на котором угадываются начертания звезд – пентаграмм, побуждающих задуматься об адресе авторов и режиссеров гигантского представления века.
Сквозное действие, пронизывающее этот вселенский балаган, – революция в России, во многом определившая причудливые и уродливые изломы, пожалуй, самого трагического и жестокого века в истории человечества. При всем ее своеобразии она имела и общие черты, свойственные явлениям такого рода, буквально захлестнувшим континенты в XX веке.
«Одна из самых отличительных черт революций, – писал Иван Бунин в книге «Окаянные дни», передавая свои впечатления от пережитого в охваченной революцией России, – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна».
И действительно, можно вспомнить массовые театральные инсценировки мистериального плана, разыгрываемые на площадях городов в первые годы революции, темой которых являлась «всемирная история освободительной борьбы угнетенных». Форма мистерии была использована в построении первой советской пьесы – «Мистерия-буфф» Маяковского. «Бешеная жажда игры, лицедейства, позы» захватила и литераторов, и людские толпы, и особенно революционных вождей. Вот как показывает это явление известный писатель-эмигрант Марк Алданов на примере одного из красных палачей, начальника петроградской «чрезвычайки» Урицкого, опьяненного безграничной властью над жизнью миллионов людей.
«Слабая голова Урицкого закружилась. Он напялил на свое кривое тело красный оперный плащ и носил его с неловкостью плохого актера, с восторгом мещанина-сластолюбца… Первые ведра или бочки крови организованного террора были пролиты им… Он укреплял себя вином…
Повторяю, несмотря на всю пролитую им кровь, он был комический персонаж. Несоответствие всей его личности с той ролью, которая выпала ему на долю, – несоответствие политическое, философское, историческое, эстетическое – резало глаз именно элементом смышленого… Урицкий в качестве хозяина Таврического дворца казался пародией…»
Но духом лицедейства в наше время проникнуты не только социальные, но и «сексуальные» и прочие революции, как и многие другие явления общественной и политической жизни, что и нашло отражение в глазуновской «Мистерии XX века».
Сюжет картины завязывается в левой части полотна, где на фоне красного зарева мы видим самодержца Николая II с убитым сыном на руках. Пожалуй, это в картине самый емкий символ сущности революционного переворота. Ибо при всех бесчисленных, неописуемых по жестокости преступлениях, совершенных во время него и после, зверское убийство помазанника Божия, олицетворяющего собой народ с его верой, сложившимися веками представлениями о смысле и устроении жизни – земном и небесном, – было самым ужасным злодеянием. Сегодня об этом много издается книг и статей, снимается фильмов, но в то время, когда создавалась картина, кто другой мог бы взять на себя смелость раскрыть такую тему?
Рядом с фигурой царя – люди, чьи имена в предреволюционные годы были на устах у всей России: Лев Толстой как «зеркало русской революции», по определению ее вождя; Петр Аркадьевич Столыпин, великий национальный реформатор, признанный на Западе выше Бисмарка, павший жертвой революционного террора, ибо успех его реформ означал бы конец революции; Распутин – олицетворение темной, до сих пор до конца не разгаданной силы, сыгравшей свою роль в крушении царского престола (хотя ныне его личность в ряде исследований трактуется по-иному).
У дьявольского изваяния – Ленина, застывшего с благословляющим на зверства жестом руки, сплотилась группа его сподвижников – организаторов сектантского переворота и последующего геноцида народов России.
И вот переворот совершен. Черты «новой духовности», характерной для той эпохи, художник изобразил в виде красноречивого символа – «ваше слово, товарищ маузер», в лицах ее певцов и плодах творчества «революционеров» в искусстве, основоположников современного мирового авангарда.
Мы видим картину «Черный квадрат» Малевича – комиссара и художника, провозгласившего ею смерть искусства; башню Татлина – символ III Интернационала, объединявшего мировое коммунистическое движение. За этими реалиями открывается страшнейшая за всю историю России трагедия погрома отечественной культуры.
«В области искусства прежде всего нужно было разрушить остатки царских по самой сущности своей учреждений вроде Академии художеств, – писал А. Луначарский, – надо было высвободить школу от старых «известностей», надо было дать свободу движения на равных началах всем школам… С этой программой полностью был солидарен мой старый друг, присоединившийся к Советской власти, левый бундист, выдающийся живописец, широко известный русскому художественному миру в Париже, честнейший человек, умевший также быть авторитетным, но где надо, тов. Д. П. Штеренберг… Тов. Штеренберг уверенно и энергично принялся за освободительную реформу в русском искусстве. И я утверждаю… в русском искусстве повеяло свободным духом…
Тов. Штеренберг, сам решительный модернист, нашел в своей деятельности поддержку почти исключительно среди крайних левых. Талантливые публицисты и теоретики художественной революции вроде Брика и Лунина, выдающиеся представители левых: Татлин, Малевич, Альтман…»
Каким свободным духом повеяло от деятельности «крайних левых», можно судить по программному призыву Лунина: «Взорвать, разрушить, стереть с лица земли старые художественные формы – как не мечтать об этом новому художнику, новому человеку».
В соответствии с ним, осмеивались и лишались средств к существованию художники реалистического направления, не имевшие возможности сбыть свои картины через закупочные комиссии, возглавляемые «левыми», летели из окон музея Академии образцы античной и русской культуры, уничтожались полотна мастеров живописи…
Рядом с российскими «реформаторами искусства» мы видим деятелей западной культуры – художника Пикассо и физика Эйнштейна, писателя Хемингуэя и философа-экзистенциалиста Сартра, комика Чаплина и негритянского трубача Армстронга…
В компоновке этой группы известных представителей революционной и западной интеллигенции как бы намечается направление, на которое упорно будет сталкиваться отечественная культура при яростном уничтожении национальных традиций.
Может вызвать некоторое удивление необычность изображения того или иного персонажа. Почему, например, Эйнштейн изображен с высунутым языком? Художник в данном случае воспользовался любимой фотографией ученого, на которой он запечатлен в такой позе. Как известно, эксцентричность поведения свойственна многим деятелям западной культуры. Пикассо, например, представал перед журналистами в обнаженном виде, а незадолго до кончины сделал признание, что он всю жизнь дурачил публику. Для кого-то это покажется оригинальным, но, думается, за эксцентрикой такого рода стоит внутренняя пустота, отсутствие Бога в душе, даже при внешней религиозности. И не редки случаи, когда художники, подобно Хемингуэю, добровольно уходили из жизни, не сумев вырваться за пределы экзистенциального постулата, гласящего, что человек – узник в одиночной камере своей души. И неслучайно символом разрушения классической культуры, последовательно творимого революционными новаторами не только в искусстве, но и в области морали, принесшими этот вирус распада и на Запад (ибо Кандинский, Малевич и другие стали там основоположниками главных модернистских течений), видится фигура поверженного героя из разрушенного алтаря Зевса в Пергаме, считавшегося некогда одним из семи чудес света.
А теперь предоставим возможность читателям поразмышлять самим – какую реакцию властей и певцов социализма могла вызвать, мягко выражаясь, столь нетрадиционная трактовка Глазуновым темы революции. И с другой стороны, представить реакцию ориентированной на Запад так называемой либеральной интеллигенции, увидевшей отнюдь не ангельские лики своих кумиров в контексте мирового исторического процесса. Неудивительно, что художник мог получить в ответ лишь ненависть и очередной ярлык очернителя, восставшего против всех. Да, он восстал против всех самых влиятельных и разрушительных сил зла, но не против своей совести, своего оклеветанного и поносимого этими темными силами народа.
В центре композиции «Мистерии» – образ необычайной выразительной силы, развивающий тему революции и концентрирующий основные коллизии мировой истории на переломе века. На Бранденбургских воротах покоится гроб продолжателя дела Ленина, омываемый морем крови загубленных в годы «революционной перестройки» страны и на фронтах Второй мировой войны. Поток крови будто вырывается из-под изуродованной головы Троцкого – наиболее кровожадного палача народов России. Она как бы напоминание о том, что многие революционные палачи и изуверы, организаторы системы тотального уничтожения захваченной ими России сами же стали жертвами этой системы.
У гроба Сталина – лучащиеся физиономии Черчилля и Рузвельта, довольные результатами своей «многомудрой» политики по переделу мира и стравливанию народов. Неслучайно за их спинами вырастают фигуры Гитлера и Муссолини. А у изголовья вождя застыл в напряженной работе мысли основатель новой Германии Аденауэр.
В соответствии с расположением этих образов между собой, с другими деталями картины прочитываются раскладка и взаимодействие мировых сил в предвоенную, военную и послевоенную пору. Место России в послевоенном мире, ее внутренняя жизнь раскрывается в образе балансирующего, подобно клоуну, на баллистической ракете Хрущева с ботинком в руке, потрясшего в свое время ООН.
Далее мы видим воздушную фигуру балерины Большого театра, а ниже – танцующих колхозниц, кормивших страну в годы войны, когда мужская часть населения истреблялась на фронтах. Расположение этой пары обездоленных женщин между балериной как символом красоты высокого искусства и обнаженной исполнительницей стриптиза – олицетворением продажи красоты в мире материальной пресыщенности и бездуховности подчеркивает глубину нищеты, в которую был ввергнут русский народ, ставший главной жертвой революционного геноцида, и меру его стойкости, долготерпения и жизнеспособности. Та же тема получает развитие и в образе представителя новой советской интеллигенции – писателя Солженицына с героиней его рассказа «Матренин двор». Запечатленный с лагерным номером, он как бы составляет основание известной скульптуры «Рабочий и колхозница» – ставшей официальным символом «свободного, раскрепощенного, социалистического» труда и «монолитного союза» двух основных классов нового общества – рабочих и крестьян. А заданный ему эмоциональный настрой выражен в лихой казарменной пляске солиста военного ансамбля. Здесь же в лицах конкретных исторических деятелей, обобщенных персонажей, различных аксессуарах массовой культуры представлены стандарты западного образа жизни.
Впитывая отдающую массовым безумием трагикомедию века, лейтмотивом которой стал революционный процесс в России, нельзя не задуматься, что в ней не могла не отразиться такая извечная проблема, исследуемая философами, как отношения России и Запада. Она пронизывает весь образный строй картины. Прежде всего это прослеживается в разработке темы революции, по праву ставшей главной. Революции как решающего акта агрессии Запада против России.
Ныне уже ни для кого не секрет, что революция в России как великий социальный эксперимент была выношена Западом, свершалась по выработанной там коммунистической программе, цели которой осуществлялись совместно с российскими революционерами – уничтожение России, как великой державы, русской православной культуры и ее творца – русского народа, – и мечты их зарождались «в парижских и женевских конспирациях». Конечно же, для социальных потрясений в России имелись и свои внутренние причины. Но готовилась и свершалась революция на деньги международного капитала в лице таких его представителей, как банкир Я. Шифф, отпускавший на эти цели десятки миллионов долларов, а непосредственными ее главарями были иностранные наемники, доставленные в Россию вместе с Лениным в запломбированном вагоне.
Но это одна сторона конфликта Запада и России… А над головой покойного генералиссимуса, как бы завершая цирковую пирамиду мирового представления, высвечивается образ папы римского.
И здесь невольно задумываешься о многовековом накате на Россию воли римского католицизма, особенно ощутимом в наши дни.
Ныне, когда традиционный конфликт России и Европы в связи с новой революцией в России углубляется, когда разваленному Союзу угрожает реальная перспектива обратиться в сырьевую колонию Запада, когда экуменизм активно разъедает и теснит Православную церковь, когда религиозные национальные и социальные конфликты в разных частях планеты достигают своей кульминации, – мы становимся участниками нового, наверное, не последнего, действия мирового представления. И взметнувшийся впервые над Хиросимой испепеляющий атомный гриб, пожирающий на картине сфотографированный американцами человеческий эмбрион – символ будущей жизни, может обозначать ее финал. Ибо люди, обогащенные колоссальными достижениями в области науки и техники, позволяющими штурмовать космические высоты, что мы видим в образе космонавта, – не преуспевают пока в достижении высот духовных, приближающих к миру Божию. Еще в конце XIX века русский философ Константин Леонтьев предостерегал против поклонения ортодоксии прогресса… Потому фантасмагоричность «Мистерии» – своеобразного реквиема по веку невольно напоминает скорбные стихи великого Микеланджело:
Молчи, прошу, не смей меня будить. И в этот век преступный и постыдный Не жить, не чувствовать удел завидный, Отрадно спать, отрадней камнем быть.Но не к упоительному забвению, не к духовной капитуляции призывает художник своей картиной. Время требует от каждого человека, и особенно живущего в России, небезразличности к ее судьбе, огромных усилий в деле религиозного, культурного, социального обновления жизни и поистине творческого оптимизма. Такой пример подает сам Илья Глазунов, как великий художник и общественный деятель, стоявший у истоков движения по национальному возрождению России и увлекший за собою миллионы людей.
Выдающийся философ русского зарубежья Иван Ильин, размышляя на тему необходимости настоящего, а не ложного оптимизма, говорил, что истинный оптимизм не относится к повседневному быту со всеми его мелочами, жестокостью и циничностью. Настоящий оптимист «имеет в виду духовную проблематику человечества, судьбу мира, и знает, что эта судьба ведется и определяется самим Богом, и что поэтому он развертывается как великая и живая творческая драма. Вот истинный и глубинный источник его оптимизма: он знает, что мир пребывает в руке Божией, и старается верно постигнуть творческую деятельность этой Руки; и не только – понять ее, но добровольно поставить себя в качестве свободного деятеля в распоряжение этой высокой и благостной Руки».
Как выражение такого жизнеутверждающего оптимизма мы видим торжествующий образ Ники Самофракийской – символ победы, а на протянувшейся по диагонали композиции нити колючей проволоки насилия – две маленькие человеческие фигурки – воплощение любви и осеняющий нас образ Спасителя. А в нижнем левом углу полотна – образ самого художника, открывающего мир своей души, будто преодолевающий путь по крутой бесконечной, продуваемой злыми ветрами судьбы лестнице вверх, к небесному свету…
И вехами на этом пути становятся новые произведения, открывающие неисчерпаемые возможности этого пламенного патриота, мыслителя и художника, отдающего свой талант России, ее освещенной божественным светом культуре. Потому что, выражаясь словами того же И. Ильина, он как истинный оптимист непоколебимо верит в победу, победу своего дела, хотя бы эта победа казалась временами «его личным поражением», ибо его победа есть победа того божьего дела, которому он служит на земле.
В конце 1999 года, незадолго до открытия очередной выставки в московском Манеже, Глазунов завершит создание как бы второй редакции этого произведения, исходя из того, что необходимо выразить законченный взгляд на уходящий век, с учетом событий, пережитых нами в последней четверти столетия. Полотно удлиняется по горизонтали почти на три метра. В этой заключительной части отражаются итоги современного переосмысления итогов Второй мировой войны и сущности перестройки с образами ее вдохновителей и творцов. Мы видим, как по усеянному человеческими костьми пространству из продырявленной осколком немецкой каски прорастает некий кактус-семисвечник, а на территории бывшего СССР, символически представленной в виде кромсаемой ножницами карты, утверждаются параметры антихристова «нового мирового порядка», сопряженного с осуществлением второй после революции фазы геноцида народов России…
«Вечная Россия»
В послереволюционной истории России 1988 год – год 1000-летия крещения Руси оказался поистине знаменательным. Празднование этой даты, вылившееся во всенародное торжество, показало, что за десятилетия геноцида, погрома национальной духовности и культуры русский народ не только не сломлен, но и вступил в новую фазу духовного существования.
Всплеск национального самосознания ознаменовался важнейшей вехой в творчестве Ильи Глазунова. В дни празднования юбилейной даты он представил на своей персональной выставке новую картину «Вечная Россия», как бы обобщившую его творческие обретения в создании художественной летописи России, которую создавал в течение всей жизни. Художник, никогда не искавший в искусстве легких путей, в этот раз посягнул на решение невиданной по сложности задачи – выразить образ России, ее народа в контексте мировой истории.
О своеобычном историческом пути России, загадочности русского национального характера написано немало исследований.
«Ни один народ в мире не имел такого бремени и такого задания, как русский народ. И ни один народ не вынес из таких испытаний и из таких мук такой силы, такой самобытности, такой духовной глубины…» – писал Иван Ильин в статье «О путях России». Но как это воплотить в едином художественном образе? Мы знаем блистательные композиции Сурикова, Васнецова, Верещагина, других знаменитых русских живописцев, по которым зримо представляем себе важнейшие события и целые периоды отечественной истории. Да и по картинам самого Глазунова, как свидетельствуют многочисленные записи в книгах отзывов на его выставках, наши современники познавали и познают истинную историю России. И все же в данном случае требовался совершенно иной качественный уровень исторического, философского осмысления и, соответственно, художественно-выразительного решения столь масштабной и, казалось до сих пор, необъемной темы. Иван Солоневич, оригинальный мыслитель русского зарубежья, размышляя над попытками многих историков и философов осмыслить опыт исторического развития России в русле мирового процесса, подчеркивает такой их главный недостаток: отсутствие индивидуального, неповторимого в истории мироздания ЛИЦА русского народа – архитектора и строителя русской государственности. Проблема решается так, «как будто русский народ – только пустое место, вокруг которого вращаются цари, варяги, влияния и условия. Народ остался БЕЗ ЛИЦА. Без характера и без воли – бессильная щепка в водовороте явлений, событий, влияний и условий. Слепое и тупое оружие в руках гениев, царей, полководцев… И сырье для упражнений гуманитарной профессуры».
Глазунов как раз и ставил такую задачу – показать лицо России, ее народа. Но сколь трудна для воплощения эта задача – об этом размышлял другой виднейший представитель русской философской мысли Георгий Федотов:
«Лицо России не может открыться в одном поколении, современном нам. Оно в живой связи всех отживших родов, как музыкальная мелодия в чередовании умирающих звуков. Падение, оскудение одной эпохи – пусть нашей эпохи – только гримаса, на мгновение исказившая прекрасное лицо, если будущее сомкнется с прошлым в живую цепь.
Как ответим мы на вопрос: где лицо России?
Оно в золотистых колосьях ее нив, в печальной глубине ее лесов.
Оно в кроткой мудрости души народной.
Оно в звуках Глинки и Римского-Корсакова, в поэмах Пушкина, в эпопеях Толстого.
В сияющей новгородской иконе, в синих глазах угличских церквей…
В годину величайших всенародных унижений мы созерцаем образ нетленной красоты и древней славы: лицо России».
Картиной «Вечная Россия» Глазунов дал достойнейший ответ на вопрос философа тем мыслителям и историкам, которые за частоколом многосложных теоретических построений оказываются неспособными определить главного в предмете своих исследований – лица народа.
В картине Глазунова сразу же обращает на себя внимание особенность построения композиции. Она выстроена, выражаясь музыкальным языком, по закону симфонизма, когда художественный замысел последовательно раскрывается в процессе противоборства, развития преобразования многих тем, рождая яркий, трагически насыщенный и, вместе с тем, цельный светоносный образ мирового значения. В полифонично звучащей стихии произведения проявляется еще одна сторона ренессансной натуры Глазунова – не только мастера кисти, историка, мыслителя, общественного деятеля – но и музыкально одаренного человека, тонкого ценителя музыки, которая с детских лет вошла в его жизнь и постоянно звучит в доме, мастерской, на выставках…
В левом верхнем углу картины изображена горная вершина. Это Хараити – священная гора ариев, древних предков славян. Священные книги ариев «Ригведа» и «Авеста» содержат немало сведений о важнейших чертах быта, языка, религии арийских племен, унаследованных их потомками славянами. На эту несомненную преемственность указывает и арийский знак свастики, украшающий скульптуру языческого славянского бога Перуна (аналог ведического бога Варуны), низвержение которого знаменует приход новой, христианской веры. Заметим также, что свастику мы видим и на облачении князя Владимира. Этот знак вплоть до XIX века встречается на вышивках из северных районов России, на других предметах быта, иконах. (Но лопасти его в отличие от знака, использованного в фашистской символике, развернуты в другую сторону.)
Тем самым художник дает зрителям повод задуматься над тем, что история славян, а стало быть, и наша, российская, имеет несравненно более глубокие корни, нежели те, на которые указывают недоброжелатели России, злонамеренно усекающие и искажающие ее историю. Неслучайно первоначальное название картины было «100 веков», прямо говорящее, что художник не ограничивает исторический путь России 1000-летним пределом бытия в лоне христианства. Но вскоре по многим просьбам солидарных с художником зрителей, с восторгом принявших картину, она получила предложенное ими название – «Вечная Россия». Удивительный случай вхождения произведения искусства в народное сознание!
Рядом с горой Хараити у вод реки, символизирующей путь «из варяг в греки», – группа храмов: храм святой Софии в Константинополе как символическая колыбель христианской веры, начавшей утверждаться на Руси; продолжающие эстафету христианства храмы святой Софии в Новгороде и Киеве, другие знаменитые храмы, передающие торжество православия в своеобразной красоте архитектурных форм, отличающих разные российские земли и вместе с московским Кремлем рождающие впечатление некоего волшебного горнего града. А на фоне голубого неба черные языки дыма, напоминающие о суровых испытаниях, пережитых ариями, затем славянством и Россией на многовековом историческом пути.
В центре левой части картины возвышается фигура святого апостола Андрея Первозванного, просветителя скифов и славян, прошедшего с проповедью Евангелия через земли будущей России до Киева, Новгорода и Валаама. Рядом с ним княгиня Ольга, принявшая христианство в 955 году, русские князья и духовные лица, с именами которых связаны наиболее важные события в процессе утверждения христианства и государственности на Руси вплоть до татаро-монгольского нашествия.
Период ордынского ига запечатлен в волнующем символическом образе в левом нижнем углу картины. На поверженных наземь телах русского князя и его сына, на фоне кровавого пожарища, пирует торжествующий властитель Золотой орды. Его добыча – плененные жена и мать князя выставлены в качестве товара на невольничий рынок…
Заметим, что образ обнаженной красавицы княгини на выставках неизменно вызывает вопросы к художнику. Сущность этого образа сам Глазунов объясняет, ссылаясь на Шарля де Костера, автора известной «Легенды о Тиле Уленшпигеле», утверждавшего, что самое страшное, – это увидеть свою мать голую, продаваемую с торгов. Так символ национальной трагедии вырастает до общечеловеческого масштаба.
Ряд фрагментов картины напоминает нам о важнейших событиях и деятелях периода национального Возрождения, собирании сил для борьбы с ордынскими поработителями, переломным моментом в которой стала Куликовская битва. Мы видим вершину древнерусского искусства – рублевскую «Троицу», образы преподобного Сергия Радонежского и Дмитрия Донского, вынесенные в первый ряд наиболее выдающихся подвижников земли русской, а вверху, по линии стрелы, вонзившейся в «Троицу», – поединок инока Пересвета с золотоордынским богатырем Челубеем и обелиск, воздвигнутый в честь победы на Куликовом поле.
Центральная часть полотна отражает путь России от времен освобождения от ордынского ига до октябрьского большевистского переворота. Он представлен в виде всенародного Крестного хода, начинающегося у Кремля и олицетворяющего главный смысл народной жизни, определяемой православием. «Православие, – писал А. И. Ильин, – считалось отличительной чертой русскости – в борьбе с татарами, латинянами и другими иноверцами; в течение веков русский народ оценивал свое бытие не хозяйством, не государством и не войнами, а верою и ее содержанием: и русские войны велись в ограждение нашей духовной и вероисповедной самобытности свободы. Так было издревле – до конца XIX века включительно».
Среди участников Крестного хода мы узнаем образы великих молитвенников и предстателей российских перед престолом Господа, до сих пор освещающих наш путь, – Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, а также российских монархов, прославленных полководцев, ученых, деятелей культуры.
Есть имена, писал В. Ключевский (кстати, тоже присутствующий в картине), которые носили исторические люди, жившие в известное время, но имена, уже утратившие хронологическое значение, выступившие из границ времени, когда жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значению так далеко выходило за пределы своего века, своим благородным воздействием так глубоко захватывало жизнь дальнейших поколений, что с личности этой, сделавшей в сознании поколений так много, спадало все временное и местное, и она из исторического деятеля превращалась в народную идею, а самое дело его из исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом. Такие люди для грядущих поколений становятся не просто великими покойниками, а вечными их спутниками, даже путеводителями…
Таково имя преподобного Сергия Радонежского, который в самое тяжкое время примером своей жизни, высотой духа поднял упавший дух народа, пробудил в нем доверие к себе, веру в свое будущее. И потому при его имени народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе праведной.
Другим великим святым стал преподобный Серафим Саровский. Совсем недавно мы были свидетелями чудесного исполнения его же пророчества о перенесении его святых мощей в Дивеево. Он же предрек и великую смуту на Руси, и духовное возрождение Отечества после тяжких испытаний.
Одним из ближайших по времени к нам молитвенников был отец Иоанн Кронштадтский, чудотворец, религиозный мыслитель – страстный обличитель надвигавшегося на Россию зла, человек негромкого происхождения, ставший духовником царя, основатель многих монастырей, церквей, благотворительных заведений, снискавший поистине всенародную любовь. Введение этого образа в сферу нашей жизни было актом высокого гражданского мужества со стороны художника, ибо имя Иоанна Кронштадтского в черных большевистских списках занимало одно из первых мест.
Нельзя не заметить, что в ряду выдающихся подвижников земли Русской, канонизированных церковью и выведенных художником на самый первый план, центральное место занимает Федор Михайлович Достоевский. Значение его личности в новейшей российской и мировой истории ныне открывается во все более прогрессирующем масштабе. Приведем слова еще оного мыслителя русского Зарубежья профессора Владимира Ильина, как нельзя лучше подтверждающие правоту художника: «Россия имеет два великих сокровища: страдание ее праведников и мучеников – и Достоевского, эти страдания понявшего и истолковавшего. Революция сделала все возможное, чтобы оба эти сокровища, без которых Россия ничто, – отнять, растоптать, оплевать и уничтожить, и ей это почти удалось…»
Почти… Если бы не творчество и самого Ильи Глазунова, смысл и содержание которого неотрывны от личности гениального писателя и мыслителя, чей образ освещал самую первую выставку художника в 1957 году, произведшую эффект разорвавшейся бомбы, и сопутствует по сей день. Именно Глазунову был приклеен ярлык проповедника религиозной мистики, «достоевщины». Символично, что перед фигурой Достоевского предстоят образы крестьянской девочки и царевича Алексея, кровью которого обагрены лапы интернациональной большевистской своры, что заставляет вспомнить известные рассуждения великого писателя об аморальности такого прогресса, который оплачен ценой даже одной слезиночки ребенка.
Практически то же самое можно сказать и по отношению ко многим другим образам выдающихся деятелей русской истории, впервые появившихся на картине Глазунова. Например, о преданном проклятию Константине Петровиче Победоносцеве – обер-прокуроре Святейшего Синода, четверть века возглавлявшем религиозную политику России, воспитателе Николая II, задушевном собеседнике Достоевского; о выдающемся философе Константине Леонтьеве, запрещенном в предыдущие годы и не востребованном в годы перестройки, который, по словам Н. Бердяева, «острее и яснее других почувствовал антихристову природу революционного гуманизма с его истребляющей жаждой равенства»; о великом государственном гении Столыпине, настойчиво предупреждавшем, что народы, забывающие о своих исторических национальных задачах, – гибнут, превращаются в удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы, и разработавшем грандиозную программу развития России на национальной основе.
Из исторических лиц, оставивших наиболее заметный отпечаток в отечественной истории, особая роль принадлежит монархам. Недаром самой главной мишенью революционных ниспровергателей всего мира было российское самодержавие. И до недавнего времени лютая ненависть, исповедуемая официальной идеологией, к фигуре царя была столь велика, что признание в симпатии к какой-либо из державных особ (за исключением, пожалуй, Петра I) было равносильно признанию в собственном безумии или государственной измене. Между тем Глазунов был единственным художником, к общему изумлению не боявшимся публично утверждать, что Россия не знала глупых царей, как не знала колоний, а наоборот, сплачивала вокруг себя народы, добровольно тянувшиеся под руку Белого царя, находя у него защиту от истребления соседями. С трагедийными образами российских самодержцев (Иван Грозный, Борис Годунов) мы встречались на ранних картинах. Естественно, что они присутствуют и на этом полотне, ибо святое отношение к царю в православной России составляло важнейшую черту народного характера или, по словам того же И. Солоневича, определяло доминанту народного характера.
Например, сравнивая две такие «равно упорные доминанты» (т. е. внутреннее «я» страны, от которого страна отказаться не может) – русскую и польскую, Солоневич писал:
«В России вся нация в течение всего периода ее существования непрерывно строит и поддерживает единую царскую власть. Крестьянство своей массой, духовенство своей идеологией, купечество – мошной и жилое (т. е. допетровское) дворянство своей военной организацией – каждый по-своему, но непрерывно упорно строили русскую царскую власть.
В Польше шляхетство и духовенство – при полном нейтралитете и пассивности остальных слоев населения – всячески урезывали королевскую власть и оставили от нее одну оболочку… В России народ нес царю свою любовь и свое доверие: термин «батюшка-царь» появился не совсем зря, и советский «отец народов» – это только неудачное литературное воровство. Польша рассматривала своих королей как врожденных и неисправимых жуликов: только не догляди – стащат все золото шляхетских и ксендзовских вольностей. В России даже мятежные движения все шли под знаменами хотя бы вымышленных, но все-таки царей. В Польше все мятежи шли в форме «конфедераций», то есть антимонархических организаций польской шляхты.
Сергий Булгаков, рассказывая в «Автобиографических заметках» о своем отношении к монархической идее, говорил о внезапно постигшем его прозрении, что «царская власть в зерне своем есть высшая природа власти не во имя свое, но во имя Божие…». И высказывает утверждение, что любовь к царю – это «стихийное чувство русского народа, на котором строилась русская государственность».
В. Розанов, размышляя о значении царя, писал, что «он есть лучший человек в России и, поистине, Первенец из всех, потому что самим положением своим и линией традиции… не имеет всецельным содержанием души никакого другого интереса, кроме как благо России, благо народа…».
Подобных высказываний немало у виднейших русских писателей и философов. А какая бездна народных пословиц, свидетельствующих о монархическом характере русского национального правосознания! «Без царя земля вдова»; «Богом да царем Русь крепка»; «При солнце тепло, а при государе добро» и т. д.
В классическом триединстве «православие, самодержавие, народность», наиболее полно выражающем дух российской государственности, понятие самодержавия занимает центральное место. И недаром в самом центре картины у подножия Святого креста мы видим основателя династии российских царей Михаила Романова вместе с человеком из простого народа, положившим за него жизнь, – Иваном Сусаниным. И здесь важно отметить, что пробуждающееся ныне в России почитание царя становится одним из выразительных признаков национального и религиозного возрождения. Все глубже укореняется мысль, что власть монарха, персонифицирующего народ, – оптимальная форма национальной организации жизни на принципах соборности. Идея соборности, к которой обращались почти все выдающиеся русские мыслители – от А. Хомякова до А. Лосева, наиболее точно выражающая сущность русской национальной идеи, сегодня рассматривается во многих философских изданиях, на страницах периодической прессы. Но художественное воплощение этого понятия в изобразительном искусстве в столь завершенном образе впервые предстало на полотне «Вечная Россия». История Отечества знает не только времена народных торжеств, имена великих деятелей: «От времени до времени, – пишет И. Ильин, – поднимался народный бунт (Смута, разиновщина, пугачевщина, ленинщина), когда находился Григорий, или Степан, или Емельян, или Ильич (Пугачев с университетским образованием), которые разрешали или прямо предписывали анархию посяганий и погромов. И разинские воззвания «иду истребить всякое чиноначалие и власть, и сделать так, чтобы всяк всякому был равен»; и пугачевские прокламации; и ленинские «грабь награбленное» – явления одного смысла и порядка. Приходила власть, призывавшая к бунту и грабежу; всякий «царь» или подданный, самозваный, лживый «лжецарь» узаконивал анархию и имущественный передел – и правосознание русского народа, поддаваясь смуте, «кривизне и воровству», справляло праздник безвластия, мести и самообогащения. Дурные силы брали верх, а русская история переживала великий провал».
О таких провалах на картине напоминает образ мученика Смутного времени патриарха Гермогена или фрагмент, где запечатлен посаженный в железную клетку Пугачев, охраняемый конвоем солдат. Как известно, этот воспетый большевиками «национальный герой», организовавший подобно им на иностранные деньги бунт, столь же свирепо грабил и расправлялся с простым народом, как и его кровожадные последователи, вооруженные марксистской теорией.
Глубокую и необычную разработку получила в картине такая большая и запутанная тема, как интеллигенция и Россия. Мы знаем, что лучшие представители творческой интеллигенции немало сделали для процветания и прославления Отечества. Но многие оказались среди тех, кто подбивал на смуту, подстегивал революционный разрушительный процесс. Так, на полотне особняком от общей массы персонажей выделяются фигуры трех известнейших писателей – «буревестника революции» Горького, певца «эпохи маузера» Маяковского и яснополянского столпа отечественной словесности Льва Толстого.
Образ последнего особо примечателен. Он изображен в позе зовущего за собой первооткрывателя нового пути, но ведущего в другую сторону от того, по которому веками двигалась Россия. И неслучайно его призыв остался как бы не услышанным истинными духовными водителями, а эффектный энергичный жест оказывается мертвым, лишенным духовной энергии. А куда зовет Толстой – объясняет его главный философский тезис, выписанный на фоне масонской атрибутики. Столь неожиданная трактовка образа Толстого вызывает у публики состояние, близкое к шоку. Поэтому хотелось бы дополнить сказанное несколькими мыслями.
Глазунов неоднократно разъяснял, что полностью признает писателя Льва Толстого гением русской литературы. Но тем не менее не может согласиться с рядом проповедовавшихся им идей, как не соглашались с этим и другие деятели национальной культуры, что выражено в образе на картине.
И действительно, вспомним о гневной отповеди Достоевского, данной Толстому по поводу его антиславянской и антинациональной позиции, занятой им во время русско-турецкой войны. Или глумливое отношение Толстого к сущности патриотизма, до сих пор приводящее в изумление людей, отстаивающих интересы России, почитающие их выше собственных. Или негативное отношение писателя к институтам государственной власти, перетолковывание основ христианской веры, наконец, проповедь непротивления злу насилием…
Обличая в статье «Над могилой Пазухина» растлевающую роль части российской интеллигенции, Константин Леонтьев воздал дань и Толстому: «И старый безумец Лев Толстой продолжает безнаказанно и беспрепятственно проповедовать, что Бога нет, что всякое государство есть зло и, наконец, что пора прекратить существование самого рода человеческого на земле.
И он не только жив и свободен, но и мы сами все, враги его бредней, увеличиваем его преступную славу, возражая ему!..»
Кому на руку были расшатывающие основы государственности и веры посылки гениального писателя, объяснять, наверное, не надо, тем более что ответ дается на самой картине.
Что же касается непротивленческой теории Толстого, то этот вопрос тоже не оставался без ответа и в духовной и светской литературе. Князь Сергей Трубецкой в своей изданной лекции о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи говорит, что нет никакого противоречия в том, что икона как символ идеи вселенского мира, возвещающая конец войны, с незапамятных времен проносилась перед войском и воодушевляла на победу над врагом. И Сергий Радонежский благословил Дмитрия на подвиг, ибо не мог допустить мысль об осквернении церквей чужеземцами.
О прямой обязанности государства и каждого отдельного человека сопротивляться злу силой пишет И. Ильин: «Отказаться от этого значило бы предать слабых на угнетение или на растерзание сильным; или же предать свой народ на порабощение и эксплуатацию иностранцам. Человек имеет право прощать свои обиды, но не чужие страдания. Он имеет право жертвовать собою и своим имуществом, но не своими братьями и не своей Родиной».
Истоки, мягко выражаясь, «заблуждений» Толстого, возмущавших выдающихся людей России, было принято оставлять в тени. Широкой читательской публике они не были известны. К чему привело Россию недостаточное сопротивление злу силою мы видим в правой части картины, отражающей революционный и послереволюционный период истории России.
В верхней части картины пылает кровавое зарево революции, на фоне которого высвечиваются известные символы Петербурга – Петрограда, заполненного фанатичной людской массой народа. Ниже – фрагменты, повествующие о гражданской войне, похоронах Ленина. Далее – разгул террора: конвоир с собакой, переполненный концлагерь, за колючей проволокой которого заканчивался жизненный путь лучших представителей всех наций и сословий, а на воле гибли от неоднократно инсценированного голода десятки миллионов людей.
По заметаемым пургой трупам мчится апокалипсическая тройка, в возке которой восседает Сталин, а также психически сломленный гармонист, вызывающий ассоциации с персонажем известного романа Г. Климова «Князь мира сего», красноармеец и Павлик Морозов. Над этими «ездоками» возвышается фигура Троцкого, демонстрирующего добычу – царскую корону. Соединение Сталина и Троцкого в одном экипаже многим кажется странным. Но на этот счет существуют и другие мнения. Сталин разгромил Троцкого организационно как соперника личной власти. Но суть троцкизма, его «левый курс», особенно в области политики по отношению к крестьянству, Сталин и его сатрапы взяли на свое вооружение.
Выше мы видим фрагменты картины, относящиеся к периоду индустриализации, военным и послевоенным годам, наконец, к началу новейшего периода истории – периода перестройки. В ряду объектов, введенных здесь в изобразительную ткань полотна, выделяется высвеченная лучом прожектора «Авроры» башня Татлина (монумент III Интернационала). Ее очертания присутствуют и на других картинах Глазунова.
К этой же теме, как представляется, имеет отношение и другой многозначный объект, который видим на картине. Над творением переустроителей мира, вступающих в новую фазу деятельности – перестройки, зависла луна. При чем здесь луна, да еще представленная обратной стороной? Видимо, дело в том, что в центре верований арийских племен, от которых христианство приняло такие основные постулаты, как понимание мира в образе извечной борьбы света и тьмы, добра и зла, неизбежно заканчивающейся торжеством добра, вера в приход Спасителя – Сайошанты – было поклонение свету, Солнцу, огню (недаром зороастрийцев называли огнепоклонниками). Луна же считалась объектом темных, злых сил. И в данном случае то, что случилось с Россией на последнем этапе ее исторического пути, нельзя считать не чем иным, как результатом действия этих темных сил, пытавшихся, однако, представить свои деяния как величайшее благо. Но на картине мы видим как раз не фальшиво-лицевую, а истинную сторону этих деяний, т. е. изнанку, обратную сторону. И уж совсем субъективная ассоциация – кратеры на поверхности Луны, бесстрастно взирающей с высоты на происходящее, напоминают крапины от оспы на лице «вождя народов»…
Когда раздумываешь о событиях последних пятнадцати лет, когда Россия оказалась вновь на краю гибели и распада, то поневоле приходят на память трагические самобичующие строки поэта Максимилиана Волошина:
С Россией кончено… На последях Ее мы прогалдели, проболтали, Пролузгали, пропили, проплевали, Замызгали на грязных площадях. Распродали на улицах: не надо ль Кому земли, республик да свобод, Гражданских прав? И Родину народ Сам выволок на гноище, как падаль…Но все это уже было, было… И хочется верить в правоту того же Ивана Александровича Ильина, не терявшего веру в Россию:
«Мы научились хранить нашу национальную святыню в недосягаемости. Мы постигли таинство уходящего Китежа, столь недоступного и столь близкого, неразрушимого и всеосвящающего; мы научились внимать его сверхчувственному, сокровенному благовесту; в дремучей душевной чаще обрели мы таинственное духовное озеро, вечно отраженное, навеки не иссякающее, – боговидческое око русской земли, око откровения. И от него мы получили наше умудрение; и от него мы повели наше собирание сил и нашу борьбу, – наше национальное воскресение.
Вот откуда наша русская способность – незримо возрождаться в зримом умирании, да славится в нас Воскресение Христово!»
Этим настроением пронизана «Вечная Россия». И потому, несмотря на запечатленные на ней трагические коллизии – она, покоряющая своим колористическим богатством, осененная божественной мыслью и будто сотворенная крылом Ангела, – рождает чувства душевной гармонии, оптимизма и надежды.
В этих чувствах укрепляют нас и голоса многих и многих наших зарубежных соотечественников, переживших тяготы изгнания в годы революционного кошмара и достойно представлявших на разных континентах высокое звание России.
«Отряхните сон уныния и лености, сыны России! – доносится сквозь годы призыв архиепископа Иоанна Шанхайского. – Воззрите на славу ее страданий и очиститесь, отмойтесь от грехов ваших! Укрепитесь в вере Православной, чтобы быть достойными обитать в жилище Господнем и вселиться во святую гору Его! Воспряни, воспряни, восстань, Русь, ты, которая из руки Господней выпила чашу ярости Его! Когда окончатся страдания твои, правда твоя пойдет с тобой и слава Господня будет сопровождать тебя. Придут народы к свету Твоему и цари ко восходящему над тобой сиянию. Тогда возведи окрест очи твои и виждь: се бо придут к Тебе… чада твоя, в тебе благословящая Христа вовеки».
Илью Глазунова давно уже именуют пророком и национальным гением. Именно такие люди, по мнению И. Ильина, углубляют творческий акт своего народа до того уровня, до той глубины, которая еще недоступна их единоплеменным современникам: «Пребывая в своеобразии своего народа, они осуществляют акт классической глубины и зрелости и тем самым показывают своему народу его подлинную силу, его призвание и грядущие пути».
Таким классическим актом стало все творчество великого сына Отечества Ильи Глазунова, посвященное России, выдающимся аккордом которого зазвучала и отныне звучит на весь мир картина «Вечная Россия».
«Великий эксперимент»
Задумываясь о важнейших событиях XX века, определивших черты его, так сказать, исторической «физиономии», о дальнейших перспективах человеческого существования, вновь и вновь приходится возвращаться к такому супергигантскому катаклизму, каким явилась революция в России.
В картине «Великий эксперимент», которую можно рассматривать как третью часть монументального триптиха, посвященного художественному осмыслению глобальных явлений современного мира, представлена как бы анатомия марксистского апокалипсиса – от вызревания и внедрения в российскую действительность революционной идеи до ее полного господства, последующего разложения и перестроечной агонии. Нельзя не поразиться величием самого замысла произведения. Ведь в годы советской власти тема революции, главная в искусстве, разрабатывалась множеством художников. Но ни разу не было попытки охвата ее в столь объемлющем масштабе.
И еще один важнейший момент. Революция в России до сих пор преподносилась как закономерный исторический процесс, обусловленный внутренними причинами. Так почему же картина называется «Великий эксперимент»? Ведь это заведомо предполагает некое постороннее авторство и вмешательство.
Дело в том, что еще с давних пор многие сторонники теорий «революционного обновления мира» рассматривали Россию как полигон для проведения разного рода социальных экспериментов. «Россия для них, – писал В. Розанов в 1911 году, – да и не Россия одна, а все западноевропейские страны, – tabula rasa, чистый лист бумаги, где эти маньяки и злодеи чертят сумасшедшие воздушные замки».
Правомерность подобных экспериментов подтверждается и некоторыми современными теоретиками. Ход рассуждений таков: революция в России вершилась под знаменем марксизма; марксизм – это наука; а всякая наука, значит, и марксизм, имеет право на эксперимент. Известные всем результаты деятельности «экспериментаторов» 20-х годов оправдываются их «творческим энтузиазмом», «романтикой революции», «нетерпением сердца».
Каким же видится великий социальный эксперимент, осуществленный в России, Глазунову?
В левом верхнем углу картины предстает величественный, благородный лик предреволюционной России, живым олицетворением которой выступает храм Христа Спасителя. Он возвышается на берегу Москвы-реки на фоне сияющего голубого неба с плывущими по нему, будто лебеди, облаками и бескрайнего поля с разбросанными церквами, к которым стекаются люди. У стен храма под перезвон колоколов совершается Крестный ход. Ниже более крупным планом – народ, осененный символами российской государственности – в лице представителей разных сословий, духовное единство которого воплощено в образах царя и царицы. В этом композиционном узле наиболее ярко и масштабно высвечивается фигура русского государственного гения Петра Аркадьевича Столыпина, как бы ведущего за собой Россию и заслоняющего ее собой…
Ощущение праздничности, духовного здоровья, полноты народного бытия, рождаемое этим фрагментом картины, неслучайно. К месту вспомнить, что период царствования Николая II отмечен самым высоким темпом экономического развития державы не только за всю историю России, но и будущего СССР.
Но чем больше богатела и возвышалась Россия, тем ожесточеннее становились нападки ее врагов, поставивших целью крушение России, организацию революционного переворота.
На картине мы видим, как лучезарное небо России озаряется вспышками террористических взрывов, заволакивается черными клубами дыма, выплывающими из-за демонических фотоизображений вождей революции, взятых из уголовной картотеки русской полиции. Здесь открывается тайная до недавнего времени сторона революционного движения, сомкнувшегося, как свидетельствуют документы, не только с иностранным капиталом, но и дном уголовного мира. На счету боевых групп, организованных, к примеру, тем же Свердловым на Урале, огромное число разбоев, грабежей, зверских убийств невинных людей.
Мораль и законы уголовного мира, усвоенные в подполье, легли затем в основу легальной деятельности большевиков, воплотясь в их коронном лозунге «Грабь награбленное!».
В этом же фрагменте картины представлены семейство и жизненный путь главного вождя и трибуна революции Ленина – от младенческих лет до эпизодов, связанных с броневиком и путешествием в запломбированном вагоне в качестве иностранного наемника. Художник, давая свою трактовку сущности изображаемых персонажей и событий, вновь идет вразрез с укоренившимися о них представлениями.
А с другой стороны, стоит вспомнить, сколько тем, понятий, имен исторических лиц, насильственно предававшихся забвению или злобно опороченных, очищено им от идеологических наслоений и возвращено в нашу жизнь за годы творчества. Каким жестоким нападкам подвергался Глазунов хотя бы за защиту Москвы, разрушение которой преподносилось как построение «нового коммунистического города», или за пропаганду «достоевщины» и «религиозного мистицизма», или за первое публичное признание Столыпина национальным гением, сделанное в одной из статей в «Известиях»!
В левой части картины художник привлекает внимание к узловым событиям времен гражданской войны. О них повествуют плакаты и лозунги тех лет, главные действующие лица разыгравшейся национальной трагедии.
Мы видим самоотверженные, подернутые печалью образы руководителей белого движения и физиономию выглядывающего из-за спины Деникина политического игрока – министра иностранных дел масонского Временного правительства П. Милюкова, ответившего на восторженную телеграмму Я. Шиффа по случаю отречения императора от престола заверением: «Мы едины в нашей ненависти…», и проступающие из кровавого марева лица большевистских командиров.
Необычайно выразительно решается тема тотального террора, развязанного большевиками. «Мы прольем реки крови, и нет на земле силы, которая могла бы нас остановить», – провозглашал Зиновьев. И мы видим, как кровавый поток, подобно наводнению из известной пушкинской поэмы, захлестывает петербургского Медного всадника, новгородский памятник «Тысячелетие России», храмы и стены Московского Кремля. Среди кровавых волн одиноко высится и памятник подвигу Ивана Сусанина, спасшего от врагов ценою своей жизни царя Михаила Романова. Как известно, этот памятник Демут-Малиновского, находившийся в Костроме, был уничтожен, а на постаменте его место заняла фигура Ленина.
Но над всей кровавой вакханалией встает самое тяжкое, несмываемое в народном сознании преступление: убийство царской семьи. И неслучайно с ним оказалась связанной цепь предшествующих и последующих злодеяний.
Возвышенный поэтический облик царской семьи контрастирует со всей панорамой революционного и социалистического балагана, воспринимается как еще один символ России, уже опаленной, истекающей реками крови. Под лозунгом «Долой самодержавие» художник объединяет зловещие образы тех прежде, казалось бы, несоединимых лиц, чья деятельность по-разному вела к екатеринбургской трагедии: банкир Митька Рубинштейн, Распутин, Керенский, кайзер Вильгельм и Ленин. К этой же группе примыкает личный эмиссар и друг Свердлова Голощекин, как бы дающий последние наставления главному палачу Юровскому, застывшему в маниакальном упоении с маузером в руке. И вспоминаются слова, как ни странно, из книги Уинстона Черчилля «Мировой кризис»: «Вот его сейчас сразят. Вмешивается темная рука, сначала облеченная безумием. Царь сходит со сцены. Его и всех его любящих предают на страдание и смерть. Его усилия преуменьшают; его действия осуждают; его память порочат… Остановитесь и скажите: а кто же другой оказался пригодным? В людях талантливых и смелых; людях честолюбивых и гордых духом недостатка не было. Но никто не сумел ответить на те несколько простых вопросов, от которых зависела жизнь и слава России».
О невероятной жестокости убийства царской семьи, последующем расчленении и уничтожении трупов в последнее время много написано в иностранной и отечественной прессе. Например, встречается такое признание одного из участников этого злодеяния: «Это была ужасная история, – говорил Войков, держа в руках перстень с рубином, переливающимся цветом крови, который он снял с одной из жертв после убийства. – Мы все, участники, были прямо-таки подавлены этим кошмаром. Даже Юровский, и тот не вытерпел и сказал, что еще несколько таких дней – и он сошел бы с ума!»
В этом же фрагменте картины, над вторым изображением Юровского со стаканом напитка кровавого цвета, встает образ комиссара-интернационалиста. Как известно, интернационалисты (в частности, венгры и китайцы) участвовали не только в операции по уничтожению царской семьи. К 1917 году в России скопилось около 2,8 миллиона иностранных беженцев и 2,2 миллиона военнопленных, которые приняли самое активное участие в кровавой бойне по уничтожению россиян.
Наконец, на картине над головой императора мы видим и таинственный знак, обнаруженный на стене комнаты, где производилось его убийство. Художник как историк, стремясь с наибольшей полнотой воссоздать атмосферу тогдашних событий, не упустил и этой детали. Что за ней скрыто? В разных публикациях приводятся варианты расшифровки этого, как утверждается, каббалистического знака. Есть и такой: «Здесь поражен в сердце глава церкви, народа и государства. Приказание исполнено».
Таинственным и многозначным представляется и образ некоего символического змея, поражаемого Георгием Победоносцем, смыкающего в волнах крови, захлестнувших Россию, голову с хвостом. Совершенно очевидно, что здесь, как и во всем строе картины, художник широко прибегает к метафоре, символике, выходя за рамки примитивно понимаемого реализма.
Центром композиции картины «Великий эксперимент» является кровавая пятиконечная звезда.
В публикациях разных лет этот знак объясняется как древний каббалистический символ победы дьявола над богом, признак сатаны, то есть символ зла. И неслучайно Фауст, продавший душу дьяволу, вызывал его начертанием пентаграммы. На картине звезда «начинена» образами провозвестников, главных творцов и певцов «великого социального эксперимента». Самая масштабная фигура здесь Маркс. До недавнего времени его личность и теория были предметом обожествления. Но еще в 1906 году Сергий Булгаков писал, что экономическая доктрина Маркса безнадежно отстала от развивающейся жизни и экономической науки, а сущность философии заключается в утверждении атеизма, в освобождении человека от религии. В этом и есть истинная «тайна» марксизма. Другие исследователи отмечают признаки прямой связи марксизма с сатанизмом. Показательны в данном случае черты личности Маркса, с юношеского возраста мечтавшего разрушить мир, воздвигнуть себе престол, «основанием которого были бы человеческие содрогания». Да и последующее поведение Маркса, по многочисленным свидетельствам, имело определенный характер. Его сердце разрывалось «скорее от ненависти, но не от любви к людям». Он не любил пролетариев, называл их «болванами»; он ненавидел немцев; русских считал «варварской расой», а славян – «этническими отбросами». Но самое отталкивающее – что, будучи евреем, написал порочащую евреев книгу «Еврейский вопрос», сведя ее содержание, к изумлению того же Булгакова, к вопросу «о процентщике-жиде».
Закономерно, хотя на первый взгляд и неожиданно, что за Марксом и его виднейшими последователями Ф. Энгельсом, К. Цеткин и Г. Плехановым размещаются Марат и Кромвель, сделавшие казнь монарха традицией и целью революции. Здесь же художник продолжает разработку ключевой фигуры большевистского переворота – Ленина, представляя ее в разных ипостасях. В нижнем правом луче звезды отчетливо вырисовывается маниакальная сущность натуры вождя революции, организатора сатанинской политики геноцида народов России.
Одним из самых ошеломляющих свидетельств этой целенаправленной политики стала опубликованная секретная директива Ленина об изъятии церковных ценностей. В ней, цинично воспользовавшись организованным его же правительством в 1921–1922 годах голодом (унесшим 6 миллионов жизней), он требует не только ограбить церкви, но и расстрелять как можно больше священнослужителей и других наиболее влиятельных людей в духовных центрах страны.
Рядом со Сталиным и другой известный теоретик марксизма – Бухарин, который с 12-летнего возраста мечтал стать антихристом. Узнав из Священного Писания, что антихрист должен родиться от блудницы, он добивался признания матери: была ли она проституткой.
Сатанизм, служение злу определяет суть деятельности этих людей, отнюдь не произвольно сгруппированных художником на площади кровавой звезды. Это касается не только таких патологических типов, как чекист латыш Петере, который к участию в расстрелах привлекал своего малолетнего сына, но и представителей творческих профессий, как, например, комиссар от искусства, основатель абстракционизма Кандинский, или возглавивший погром национальной культуры Луначарский, а также певец Октября, автор печально знаменитого призыва «Если враг не сдается – его уничтожают» Горький, равно как и Маяковский, воспевший эпоху маузера и призывавший «делать жизнь с Феликса Дзержинского…»
Конечный результат усилий «насельников» звезды по созданию «нового мира» художником показан под двумя ее нижними лучами. Это впечатляющий образ социалистического «рая», напоминающий спевку лагерного хора или картины певцов социалистического реализма. К чему привела эта мнимая «дружба народов», мы видим сегодня в образе остервенелой национальной резни. Становится не по себе, когда смотришь на рабское счастье этих социальных манекенов или «винтиков». Этапы сотворения «рая» прослеживаются в правой части полотна.
Жуткими символами социалистической индустриализации видятся знаменитая плотина Днепрогэса, изрыгнувшая новый поток крови, и сюжет с образами Сталина и Френкеля, относящийся к истории строительства Беломорканала, ознаменовавшего введение рабского труда. Большой эмоциональный отзвук вызывает художественный образ объятого адским пламенем храма Христа Спасителя с глумливо витийствующим на этом трагическом фоне Ярославским – главным воинствующим безбожником. Это заставляет вспомнить, что в беспрецедентной атеистической кампании, когда центры духовной жизни подвергались немыслимому осквернению, верующие – гонениям, а священники могли оказаться в лагере ГУЛАГа, было уничтожено около тысячи монастырей, более 35 тысяч храмов, миллионы икон и редких книг, около 400 тысяч колоколов.
Другие документальные свидетельства – советские и зарубежные плакаты, введенные в изобразительный ряд картины, позволяют нам полнее ощутить атмосферу предвоенных и военных лет, познакомиться со взглядом на советскую действительность со стороны, приобщиться к образцам советской и мировой пропаганды.
Вглядываясь в образы лидеров зарубежных партий, трудно не вспомнить емкую оценку, данную «великому эксперименту над Россией», И. А. Ильиным:
«…Русская революция есть величайшая катастрофа – не только в истории России, но и в истории всего человечества, которое теперь слишком поздно начинает понимать, что советский коммунизм имеет европейское происхождение и что он теперь ломится назад – на свою «родину». Ибо он готовился в Европе сто лет в качестве социальной реакции на мировой капитализм, он был задуман европейскими социалистами и атеистами и осуществлен международным сообществом людей, сознательно политизировавших уголовщину и криминализировавших государственное правление. В мире встал аморальный властолюбец, сделавший науку и государственность орудием всеобщего ограбления и порабощения – жестокий и безбожный, величайший лжец и пошляк мировой истории, научившийся у европейцев клясться именем «пролетариата» и оправдывать своими целями самые гнусные средства».
И опять вспоминается рассуждение Ивана Бунина, основанное на сравнении опыта французской и русской революций, об исступлении, остром умопомешательстве, которое наступило именно в те дни, когда в России были провозглашены «братство, равенство и свобода», и его заключение: «Все это повторяется потому, прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна».
И неслучайно скульптурное изображение обезьяны, играющей черепом человека – подарок Хаммера, ограбившего Эрмитаж и вывезшего многие национальные сокровища России, – до сих пор стоящей на письменном столе Ленина в Кремле, также нашло свое место на картине художника.
Произведение Глазунова, открывающее зрителю апокалипсический и в то же время трагифарсовый образ «великого эксперимента», звучит как приговор его организаторам и исполнителям. Но не менее важно, что картина нашего современника, великого гражданина и художника служит и предостережением нам, вступившим, как открыто провозглашалось «перестройщиками», прежде всего Горбачевым, в период новой революции. Особенно ярко это выражено в многоплановой полифоничной разработке в картине темы перестройки.
В броских приметах современности художник дает зловещий образ общественного распада – шприц на книге «Кризис партии», шокирующие физиономии панка и рок-певца, руки, ищущие валюты, вопль совместных предприятий о спонсорстве… Огромный митинг с перестроечными лозунгами и портретом президента России Ельцина и, что парадоксально, с вновь возникающим образом монарха; пылающий костер из партийных билетов… А над всем бурлящим потоком народных масс – образ Ленина, с изумлением взирающего на происходящее. И диктаторский образ Сталина с жестким прищуром, над которым всплывает лоснящийся лик Берии на фоне бесконечных вышек ГУЛАГа.
На небрежно собранной из марксистской литературы подставке водружен телевизор. Так бывает, когда в доме воцаряется хаос. Фальшивое экранное небо, дипломатические мины участников телевизионного перестроечного сюжета – руководителей западных стран и президента Горбачева. В этом групповом портрете поражает чудо портретиста Глазунова: каждый образ представлен в подобающем достоинстве, но в совокупности эта композиция рождает чувство неловкости и иронии, ибо, думая об усилиях западных руководителей по созданию единого европейского дома, приходится с болью отмечать распад собственной державы, связанный с именем ее первого президента. Теперь на развалины бывшей великой державы вороньем слетаются желающие, как и во времена революции, «углублять перестройку», погреть руки на несчастьях разоренной и голодной страны, превращающейся в колонию Запада.
И, наконец, на картине мы видим обобщающий образ перестройки. Перестройки, начинающейся с крыши, – по Ленину, овладевшему механизмом разрушения и не знавшему путей созидания.
Так что же сулит нам будущее? На этот вопрос пытается ответить художник. Заключительным аккордом многозвучия картины воспринимается образ возрождающейся России: за остовами разрушенного храма и колокольни, за лесом кладбищенских крестов, под крик третьего петуха, возвещающего приход утра, восходит солнце. В этом образе, как и в образе Христа с березовым крестом и венцом из колючей проволоки, образом, осеняющим картину, выражена неизбывная надежда художника на возвращение России, сбитой «великим экспериментом» с исторического пути, на путь, достойный ее величия. И помоги всем нам бог, чтобы эта общая наша надежда сбылась, чтобы жизнь не дала художнику материала на новый, столь же трагический сюжет гибели и стирания с карты истории нашей великой и неделимой России. Чтобы Россия, как бы проделавшая путь Христа на Голгофу, сумела воскреснуть подобно Ему, воскреснув в Нем.
Эта картина, всегда вызывающая бурные споры, может нравиться или не нравиться. Но очевидно одно, что история мировой живописи не знает примеров обобщения и столь многопланового в одном полотне целого периода истории народа, по праву называемого эпохой.
Триптих «Мистерия XX века», «Вечная Россия», «Великий эксперимент» воспринимается как грандиозный творческий подвиг художника-философа, взявшего на себя смелость осмыслить и дать образное выражение исторического пути России в неразрывной связи с историей человечества. По полифоничности разработки темы, интеллектуальному богатству и эмоциональному накалу полотна триптиха можно сравнить с симфониями Рахманинова, Бетховена и Вагнера. Их подлинное новаторство зиждется на высоких реалистических традициях русского и мирового искусства. Это и дает право людям называть Илью Глазунова великим художником нашего времени.
«Разгром храма в пасхальную ночь»
В канун нового тысячелетия художник завершает создание еще одного полотна, в котором образно выражаются не только внешние признаки свершившейся в России мировой трагической драмы, но и открывается ее глубинный источник. И кажется, еще ни в одной из прежних работ с такой силой не проявлялся Богом данный художнику дар, как в полотне «Разгром храма в пасхальную ночь» (1999), которое в прессе было названо «последней великой картиной XX века». Опровергать это определение вряд ли стоит; можно к нему добавить свой личный, не обязательно совпадающий с этим определением комментарий.
Последняя – в том смысле, что западные художники, зараженные авангардом, ничего подобного уже создать не смогут, да и не ставят такой цели. В России же тоже не обнаруживается сил, способных подняться на такой уровень философски-художественного осмысления жизни.
Великая, не просто по размерам полотна (8x4 метра), а по монументальности замысла и величественности его воплощения. Что же это за картина, которая в 2000 году была представлена на выставке в московском, а затем петербургском Манежах? Почему она вызывает бурную эмоциональную реакцию зрителей?
На полотне запечатлено смертельное столкновение двух стихий, олицетворяющее извечную борьбу Добра и Зла. Время действия – начало 20-х годов XX столетия. В православный храм, куда собрались верующие всех сословий России, еще не подозревающие, что им предстоит испытать, врывается интернациональная банда. В центре композиции – комиссар в кожаной куртке с маузером, держащий на поводке собаку с Георгиевским крестом на шее. Его ненавидящий взгляд через пенсне направлен в правую сторону картины на распятие Христа. И в его жестокости читается предвкушение достижения вожделенной цели, некогда выраженной в кличе масонского «оракула» Флери: «Долой распятого! Ты, который уже 18 веков держишь мир под своим ярмом! Твое царство кончено! Не нужен Бог!»
Под лозунгом «Бога нет» за ним сплотилось, кажется, все вселенское отребье. Матрос с винтовкой и пулеметом, орудием массовых казней; «сознательный пролетарий», выпускающий из мешка свинью с церковным крестом; блудница в генеральской шинели, накинутой на голое тело, баба в горностаевой шубе, добытой при осуществлении девиза «грабь награбленное!», «революционная семья» в венчальных коронах, на которых пришпилены пентаграммы… Все эти персонажи не вымышлены, они порождены революционными традициями. Известно, как во времена великой французской революции алтарь храма занимала голая проститутка, а во время «генеральной репетиции» Октября еврейские боевики, провоцируя погромы, оскверняли православные святыни, навешивая на собак кресты и привязывая к их хвостам иконы. Известно и то, что ударной силой революций становились иноплеменные наемники, отличавшиеся особой беспощадностью в расправах с коренным населением. Вот и здесь мы видим китайчонка в офицерской фуражке, представителя интернациональной своры палачей, участвовавших в самых злодейских акциях в период «русской» революции.
И вся эта кровожадная черная масса, подпираемая врывающимися в храм лошадьми (вспомним о конях из Апокалипсиса) обрушивается на тех, кто пришел в светлейший православный праздник восславить воскресение Спасителя. «Изыдите», – простирает в гневном жесте руки служитель церкви Христовой. Окружающие его люди – это та Россия, которая приняла на себя самый жестокий удар сатанинской силы. Стоит вглядеться в лица этих людей, чтобы почувствовать, какой была подвергшаяся распятию наша Россия, наша Родина, с ее священнослужителями и юродивыми, простыми пахарями, доблестным воинством и предприимчивым купечеством, с теми, кто был олицетворением государственного строительства на началах православия, самодержавия и народности. Как сиятельны женские лица, даже несущие печать трагедийности от свершающегося глумления! Как индивидуален каждый образ, и при этом будто узнаваемый с первого взгляда!
Узнаваемость времени и его характерных образов объясняется глубочайшим проникновением художника в историческую ткань эпохи. Атмосфера действия и образы более 100 персонажей картины воссозданы на основе редкостного материала, собираемого художником в течение всей жизни. В их числе отечественные и зарубежные издания, как, например, трехтомный альбом портретов русской аристократии, вышедший в Испании в 1987 году; чудом сохранившиеся родовые коллекции, собственные зарисовки с натуры, сделанные в студенческие годы, образы реальных людей, переживших революционное лихолетье и последующие «великие переломы». Естественно, в картине отразились и биографические мотивы. В офицере со свечой и стоящей рядом с ним женщине узнаются черты родителей художника, а в образе государственного сановника в левом углу картины его деда.
С потрясающим мастерством прописаны не только фигуры, но и предметы церковной утвари. Все писалось с подлинных вещей, тщательно собиравшихся в разных областях страны. В целом же каждый образ, за которым прочитывается человеческая судьба, каждая деталь имеет символическое звучание.
Выросший в среде, пронизанной духом культуры потомственного петербургского дворянства, получивший профессиональное образование в стенах бывшей императорской Академии художеств, Илья Глазунов, виртуозный рисовальщик, блестяще владеющий законами создания сложнейших по композиции и содержанию картин, что роднит его с гигантами Возрождения, он и в этой картине в высшей мере проявил присущие ему качества. Картину справедливо сравнивают с романом. В данном случае «Разгром храма в пасхальную ночь» можно сравнить с романом эпического масштаба. А по аналогии с музыкой – с симфонией, где каждый образ звучит как музыкальный аккорд.
Что же стремился выразить в ней художник? Обычно ответ на этот вопрос он сам предпочитает услышать от зрителей. Хотя в одном из интервью все же пояснил: «Эта картина очень важная для меня… Я ее задумал лет 30 назад. Это Россия и вторжение в нее мира Коминтерна. Такой интернациональной банды, потому что у сатанистов нет национальности. Революцию делали и русские дураки, и евреи, и латыши, и китайцы…»
Но каждое произведение, законченное художником, независимо от замысла автора, начинает жить своей жизнью. И действительно, приговор ему выносят зрители, прочитывающие его по-своему. Какие же мысли может навеять сюжет этой столь впечатляющей картины?
Несомненно, в ней отражается один из трагических эпизодов того окаянного времени, когда была предпринята самая решительная попытка полного уничтожения Русской православной церкви. Она сопровождалась кампанией по изъятию церковных ценностей, организацией публичных судилищ над богом, которому общим голосованием выносился смертный приговор. Осуществлялось как бы второе распятие Христа в лице православной России. Одновременно ставились спектакли, славящие Каина, и воздвигались памятники Иуде. Результаты этого антихристова натиска ныне известны: десятки тысяч священнослужителей, а с ними миллионы верующих приняли мученическую смерть в застенках ЧК, в концлагерях, стали жертвами массовых казней. Многие храмы были взорваны и осквернены, превращались в тюрьмы, конюшни или складские помещения.
Разгром Церкви стал главным направлением удара в войне сатанинских сил против православной России. И сегодня как никогда ясно, кем он направлялся. Для многих источником духовного прозрения стали труды великого патриота митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна. Подавляющее большинство войн и общественных потрясений, по его мнению, имело религиозный характер. Но ни одно из них ни по ожесточенности борьбы, ни по масштабам, ни по своим последствиям не может сравниться с религиозной войной, вот уже два тысячелетия ведущейся иудаизмом против Церкви Христовой. Это проблема сугубо духовная, проблема межрелигиозных, но вовсе не межнациональных отношений, ибо Церковь никогда не делила своих чад по национальному признаку. И в сонме православных святых лик подвижников-евреев, начиная с апостолов, занимает свое место наряду с угодниками Божьими из среды других народов.
Революция в России свершалась на основе марксистских догм. Центральный же нерв всей деятельности Маркса, портрет которого «осеняет» погромщиков храма, как установил еще Сергей Булгаков, заключен в воинствующем атеизме, борьбе с богом. Когда «научный социализм» становится лишь средством для атеизма, т. е. средством «устроиться без Бога, и притом навсегда и окончательно» – о чем пророчески и проникновенно писал Достоевский. В этом и заключается одна из тайн марксизма, которую обычно не замечают. Но Булгаков открывает и другую его тайну. Из сравнения постулатов новейшего социализма с древней религиозной литературой Булгаков делает вывод, что социализм представляет собой не что иное, как «возрождение древнеиудейских мессианских учений, и Маркс вместе с Лассалем суть новейшего покроя апокалиптики, провозглашающие мессианское царство».
Еще с юношеских лет Маркс исповедовал сатанизм, горя неукротимым стремлением разрушить мир и воздвигнуть себе престол, «основанием которого были бы человеческие содрогания», что выражено в его поэме «Оуланем». В другом стихотворении он также провозглашает, что «моя душа, некогда верная Богу, предопределена теперь для ада», признавая, что заключил пакт с сатаной.
Сатанистами и претендентами на роль антихриста были и последователи Маркса в революционной России. К примеру, Бухарин, ставший теоретиком партии, подтверждал свое антихристово предназначение «научными» разработками о «пролетарском принуждении во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью», как методе «выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи».
Свой метод решения судьбы России предлагал другой претендент на трон сатаны – Троцкий: «Мы должны превратить ее в пустыню, населенную белыми неграми» – заявлял он. (Как тут не вспомнить о «Карте новой Европы», опубликованной в 1890 году в рождественском номере английского журнала «The Truth» – что означает «Правда», выпускавшемся видным масоном Лесбушером, на которой место России было закрашено краской и обозначено «Русская пустыня»!)
Причем для этих белых негров должна быть установлена такая тирания, «которая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока… ибо мы прольем такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн… Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупления, до идиотизма, до животного состояния… А пока наши юноши в кожаных куртках – сыновья часовых дел мастеров Одессы, Винницы и Гомеля – о, как великолепно, как восхитительно умеют они ненавидеть все русское! С каким наслаждением они физически уничтожают русскую интеллигенцию – офицеров, академиков, писателей…»
Нет, неслучайно у многих «русская» революция ассоциировалась с приходом антихриста. И неслучайно образ комиссара в кожаной куртке на картине, напоминающий то ли Троцкого, то ли Свердлова или Дзержинского, воспринимается как персонификация антихриста.
Антихристову мораль исповедовали не только эти отъявленные головорезы, сделавшие убийство своим ремеслом. Но и те, кому в руки отдано было насаждение нового просвещения. Вот что провозглашал погромщик русской культуры Луначарский: «Мы ненавидим христиан. Даже лучшие из них должны быть признаны нашими врагами. Они проявляют любовь к ближнему и сострадание… Долой любовь к ближнему! То, что нам нужно, – это ненависть. Мы должны уметь ненавидеть; только тогда мы можем победить вселенную».
Все эти погромщики и расстрельщики, как и большинство других главарей коминтерновской банды, завоевавшей, по словам их главного предводителя – Ленина, Россию, были не только идейными последователями, но и единоплеменниками Маркса. Конечно же, прав художник, говоря, что у сатанистов нет национальности, что революцию делали выродки разных народов. Но как же относиться тогда к многочисленным назойливым заявлениям очень уж многих представителей Марксова племени вроде следующего «Сыны Израиля! Час нашей конечной победы близок. Мы стоим накануне мирового господства. То, о чем ранее мы могли лишь мечтать, теперь превращается в действительность… Мы совершили все, чтобы подчинить русский народ еврейскому могуществу и заставить его, наконец, стать перед нами на колени…» Издавна повторяемые в разных вариациях, настойчиво звучащие и сегодня, не дают ли подобные заявления повод иным людям к серьезному осмыслению предсмертного пророчества духовного философа Константина Леонтьева и пророчеств известных церковных иерархов, что «антихрист должен быть еврей»?
Но возвратимся снова к картине. Происходящее в храме трагическое действо свершается на фоне евангельских сюжетов, запечатленных на стенах оскверняемого храма. Слева – огромная сцена Страшного суда. Здесь мы видим Иуду, сидящего на коленях у сатаны; руку, взвешивающую на весах дурные и добрые дела; фигуру человека, привязанного к столбу, которого не берет ни рай, ни ад, ибо он, по равнодушию своему, не совершил ни добра, ни зла; далее – сцены воскрешения Лазаря, суда над Христом, представшим перед Понтием Пилатом, просветляющий образ Воскресения Господня…
Земное в картине перекликается с небесным, и эта перекличка заставляет глубже вдуматься в происходящее, соотнести прошлое с нашими днями, задуматься о будущем. Нынешнее время ведь тоже ознаменовано ожиданием пришествия антихриста. Каким может быть его облик? Не проглядываются ли его черты в нашей действительности? Проглядываются, да еще и как. Причем в поразительной схожести с теми, которые особенно отчетливо привиделись многим в период октябрьского переворота. Сейчас уже не вызывает удивления, что на страницах разных изданий устойчивое место занял термин «оккупация России», осуществленная лицами, которые у всех на слуху. Что страна находится в таком положении – темпы сокращения населения «каждый год – шесть Хиросим».
Беды, постигшие Россию в конце XX века, всем известны. И самое ужасное – не материальные лишения, на которые обречен народ, а пытки нравственные, которым он подвержен со всех сторон. Да, сейчас не взрывают, как прежде, храмы, а напротив – восстанавливают. Но как бы под снисходительно-издевательским попущением: хотите восстанавливать и строить свои храмы – делайте; хотите даже восстановить монархию – дадим вам монарха. Но все это вы получите из наших рук. А в это время в расплодившихся сатанинских сектах приносятся кровавые человеческие жертвы, в манеже совершается кощунственное глумление над православными святынями, подобное тому как когда-то Мейерхольд, изображавший в своих спектаклях русских безобразными дикарями, погрязшими в свинстве, топтал на репетиции икону ногами, показывая, как это надо делать на публичном представлении. Чудовищное по цинизму глумление свершается в средствах массовой информации, особенно на телевидении. Потомки психически ненормальных детоубийц типа Гайдара, разворовавшие страну, ограбившие стариков и лишившие русских детей перспективы, называют тех, кто сопротивляется невиданному в истории геноциду, харями. Открыто проповедуется ненависть к русскому народу.
Итак, картина Глазунова заставляет задуматься о прошлом, которое отражается в ней новыми гранями; обращена к настоящему, в котором мы живем, и к тревожному будущему. Пришел ли срок исполнения мрачных прогнозов о пришествии того, чей жуткий облик все настойчивее заявляет о себе? Еще апостол Павел предостерегал, что «тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, – и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих…».
«Удерживающий теперь» – вот одно из опорных понятий, составляющих тайну не только нашего времени. В разные эпохи ее разгадывали по-своему. Известный православному миру Феофан Затворник считал удерживающим началом царскую власть. «Когда же всюду заведут самоуправство, республики, демократию, коммунизм, тогда антихристу откроется простор для действования». Но другим удерживающим явлением считалось и то, что «еще не взяли перевес неверие и нечестие, еще много веры и добра в роде человеческом».
И в том, что такое состояние человеческого рода сохранилось до наших дней, – немалая заслуга Глазунова. Практически каждый день его жизни – подвиг служения России. Это выражается не только в его творчестве, но и в педагогическом деле. У него замечательные ученики, его последователи. В созданной им Российской академии живописи, ваяния и зодчества молодым талантам предоставлены все условия для творческой работы.
И эта картина не является его лебединой песней. «В моей душе живут стаи не выпущенных лебедей, – как-то сказал он, – и я только начинаю реализовывать свои новые замыслы». Да, он не подвержен губительному для многих натиску времени. Без малого полвека его голос звучит набатом, пробуждая наше национальное самосознание, поднимая с колен. Со свойственной ему энергией он продолжает творить, несет свет добра, истинной духовности, безграничной любви к Родине, которые так необходимы нашему больному обществу. Поистине, такая энергия дается человеку от Бога, когда его труды направлены на благое дело. И каждая новая его картина, создаваемая будто рукой ангела, открывает новые духовные дали, обогащая наши представления о божьем мире и о самих себе.
К историко-философскому циклу близки работы художника евангельской тематики. Трогающие проникновенной трактовкой образа Христа Спасителя, говорящего о глубоком православном чувстве художника, они обогатили религиозную живопись России и Европы.
Естественно, что его творчество, у которого, по фискальному выражению советской критики, едва ли не в каждой картине подозрительно просматривался лик Христа, вызывало озлобление видевших в нем подрывателя основ, равно как и жгучую ненависть приверженцев авангарда. А с другой стороны – оно обретало еще большую популярность и любовь в стране и за ее пределами.
И действительно, образ Христа часто присутствует на полотнах Глазунова. Именно к Нему, как и у Достоевского, направлено духовное движение героев, ищущих и находящих в Нем ответы на «проклятые» вопросы жизни. И если говорить о корневых проблемах русского национального самосознания, звучащих в творчестве Глазунова, то и здесь без Него, как высшего идеала, никак не обойтись, ибо русский народ, по Федору Михайловичу Достоевскому, это народ-Богоносец.
Сергей Булгаков, анализируя роман Достоевского «Бесы», заключает, что все им написанные книги в сущности – о Христе, «любимом и желанном русской душою». Мы с основанием можем сказать то же самое и о творчестве Глазунова. Касается ли это признанных классическими иллюстраций к книгам Достоевского или любого другого произведения классики.
И размышляя об отношениях Христа и бесов (по Евангелию), С. Булгаков приводит то место, где говорится, что Он мучит Собою духов зла и ими одержимых. Точно так же мучит собою и художник своих критических бесов.
Образ Христа в картинах Глазунова – это воплощение высшего идеала, к которому должно быть направлено духовное движение народа. В самые тяжелые времена коммунистического засилья художник неустанно напоминал о боге в душе, о спасительном значении православия, как это делал его великий предшественник Ф. Достоевский в своих произведениях: «Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он видит, что спасется лишь в конце концов всесветным единением во Имя Христово. Вот наш русский социализм!.. Кто не понимает в народе нашем его православия и окончательных целей его, тот никогда не поймет и самого народа нашего. Мало того, тот не может и любить народа русского…»
В романе «Идиот» описывается, какое тяжелое впечатление произвела на князя Мышкина копия картины Ганса Гольбейна «Мертвый Христос», где Спаситель изображен таким, что трудно поверить в Его Воскресение. Такая картина рождает мысль, что миром правит «темная, наглая и бессмысленная сила, которой все подчинено». В картине Глазунова «Голгофа», входящей в цикл иллюстрации к «Братьям Карамазовым», Христос изображен в кровавом рубище и терновом венце, несущим крест, на котором будет распят, но исполненным свечением внутренней силы, предвещающим победу над смертью, торжеством грядущего Воскресения, одоления тьмы. Сила эмоционального воздействия этого образа, достойного занять место в ряду лучших классических произведений, необычайно велика, ибо идея жертвенности во имя высших целей, особенно ярко проявляющаяся в переломные моменты истории, всегда жива в народном сердце.
Глубочайшим проникновением в суть извечного конфликта добра и зла отличается картина «Великий инквизитор» (также входящая в цикл иллюстраций к «Братьям Карамазовым»), раскрывающая драматизм столкновения Христа и Великого инквизитора.
Пергаментная мертвенность лица Великого инквизитора, холод синевы Вавилонской башни, виднеющейся за подвальной решеткой, резко противостоят живому человеческому теплу образа Христа, как противостоят их идеи, как противостоят жизнь и смерть.
Здесь вновь поражает умение художника обобщить, спрессовать сложнейшую конфликтную ситуацию и зримо представить во всем полифонизме ее философского и нравственного звучания.
Очень важно, что образ Христа, как и другие образы на картинах евангельского цикла, не поддельные, не являются плодом фантазии Глазунова (чем грешат многие художники, обращающиеся к религиозной тематике). При создании своих композиций он всегда опирался на традиции византийской и русской иконописи, а также величайшее документальное свидетельство истории – образ Спасителя, запечатлевшийся на Туринской плащанице. Что сразу же схватывается на полотнах художника и что служило клеветническим доводом в приклеивании ему ярлыка «подражателя». Это обвинение в отсутствии собственной творческой индивидуальности, в прямом подражании тому или иному мастеру прошлого, в копировании иконы было обвинением, заведомо рассчитанным на компрометацию художника, на введение в заблуждение доверчивой к печатному слову публики.
Сам же И. Глазунов не устает утверждать, что всему, что он достиг в искусстве, обязан великим традициям русской культуры, ее творцам. И называет имена тех, кто наиболее близок ему по мировосприятию и творческим принципам.
Но исповедование общих принципов, подражание в подвижническом служении искусству – одно дело, а ремесленное подражание, копирование и плагиат – совсем другое. Как уже говорилось, Пушкин не стеснялся называть себя «подражателем».
Теперь несколько слов о некоторых картинах евангельского цикла Глазунова. На картине «Христос в Гефсиманском саду» (1992) представлен Христос в молитвенном состоянии, когда он, отойдя от своих учеников, произносит на фоне усыпанного звездами неба сокровенные слова: «Отец Мой! Если возможно, да минует меня чаша сия; впрочем, пусть будет не как Я хочу, но как Ты». А ведомые Иудой легионеры уже совсем за его спиной…
Взгляд Христа, объятого скорбью и приближением близкой смерти, как бы обращен внутрь души. Но в тесном сплетении пальцев его рук ощущается непоколебимая твердость духа. Это не тот Христос, которого порой хотят представить безвольной страдательной жертвой, проповедником непротивления злу. Это Христос, возвестивший, что Он принес не мир, но меч; изгонявший бичом торговцев из храма. Именно таким, увлекающим людей на борьбу со злом, представляет и воплощает образ Спасителя Илья Глазунов в своем творчестве. А как утверждал великий русский писатель Гоголь, «художник может изобразить только то, что он почувствовал и о чем в голове его уже составилась полная идея; иначе картина его будет мертвая, академическая…»
Картина «Христос в Гефсиманском саду», исполненная будто кровоточащим сердцем православного художника, зовет человека к духовному подвигу. И в этом ее живая, действенная сила.
А несколькими годами раньше была создана другая – «Поцелуй Иуды» (1985), в которой воссоздается трагический момент предательства Иисуса Христа одним из его учеников после моления в Гефсиманском саду.
В Евангелии от Матфея об этом говорится так: «Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем: вот приблизился предающий Меня.
И, когда еще говорил Он, вот, Иуда, один из Двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и копьями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, равви! И поцеловал его. Иисус же сказал ему: друг! Для чего ты пришел? Тогда подошли, и возложили руки на Иисуса, и взяли Его».
И опять пошли обвинения в том, что якобы в облике Иуды, воплощении предательства, Глазунов выразил его принадлежность к еврейскому племени. Значит, он злостнейший антисемит.
Но коль скоро Иуда действительно был евреем, обладающим характерными признаками своей национальной принадлежности, то что оставалось делать художнику? Представить его облик созвучным облику Христа? Но ведь символический смысл картины заключен в одном из самых страшных смертных грехов – предательстве.
Непосредственно к образу Христа Глазунов обращается в картине «Христос воинствующий» (1994). Это новое сопоставимое с Васнецовым осмысление вечного образа Спасителя, представленного стоящим со сводом своих заветов опять-таки на будто пропитанной кровью, растрескавшейся земле у смоковницы на фоне поверженного в прах города. После, мягко сказать, интеллигентской трактовки образа Сына Божьего у Ге, Крамского, Поленова, авангардистски-хипповых вариаций, характерных для XX века, мы словно присутствуем при нынешнем явлении Спасителя с его напряженной энергией, стремлением попрать зло, одолевающее землю. «Не мир, но меч принес Я вам…»
К евангельскому циклу работ относятся и такие, как «Христос и Антихрист», «Храни Бог Россию» (1999). Первая из них – обращение к теме пришествия Антихриста. Лжепророчество – вот побудительный мотив к созданию этого полотна. Человечеству с давних времен известно немало лжепророков, но ныне лжепророчество стало поистине бичом нашего времени. Одни из лжепророков обещают устроить рай на земле (рыночный демократический, взамен прежнего коммунистического), другие зовут в мифическую Шамбалу, третьи – а таких уже более сотни – объявляют себя прямым воплощением Христа. В своей картине, не имеющей аналогов в изобразительном искусстве, художник дерзнул сопоставить два образа – Спасителя и стоящего за его плечом Антихриста, который, как известно по пророчествам духовных провидцев, подобно Христу, начнет проповедовать в 33 года и будет на него похож. Но тем не менее он останется как сын погибели, растления и зла. Внимательный зритель сам обнаружит признаки, различающие эти внешне похожие образы.
На полотне «Храни Бог Россию» мы видим пустынное поле и будто омертвевший современный город на фоне кровавого зарева, над которым ангелы распростерли пробитый осколками стяг с представшим перед нами образом Спасителя. Это произведение – как символ спасения России, обреченной подобно Христу на свой крестный путь. Светлый образ Христа, присутствующий на многих картинах Глазунова, в том числе и на тех, о которых шла речь выше, – ответ художника на вопрос об исходе извечной борьбы добра и зла. Причем Христа воинствующего, призывающего к активной борьбе со злом. В этом заключается отличие позиции И. Глазунова от позиции тех, кто долгие годы работал для того, чтобы из православия сделать некую настойку, замешанную на непротивлении злу силою, что проповедовал, к примеру, Лев Толстой.
И еще одна картина, в которой смешиваются библейская, евангельская и современная тематика – «Изгнание из рая» (1994), связанная с первым человеческим соприкосновением к понятиям добра и зла, с последствиями нарушения Божественных установлений.
Как известно, жизнь первых сотворенных богом людей, обитавших в раю, была наполнена радостью и блаженством. Бог наделил Адама божественным разумом и знанием, вытекающим из жизненных потребностей человека. Но заповедовал не вкушать плодов от древа познания добра и зла. Ибо получить такое абсолютное знание – значит уподобиться Богу. Однако же Ева, соблазненная дьяволом, принявшим образ змея, вкусила запретные плоды и дала их есть Адаму. Так случилось первое грехопадение людей, однако вместо вожделенного божественного совершенства они получили лишь осознание собственной наготы, помрачение разума и муки совести.
«…И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни».
Итак, последствия изгнания оказались тяжкими: Адам стал смертным, подверженным болезням и старости, земля с трудом давала урожаи, женщины рожали детей в муках, но самое главное – люди утратили возможность непосредственного общения с богом.
Наиболее катастрофично последствия человеческого грехопадения отозвались в современной истории, особенно в ходе трех «великих» революций – английской, французской и русской, сущностью которых была развернутая сатанистами борьба с Богом. Чем оборачивались такие попытки свержения бога и утверждения культа человеческого разума, символизирует линия колючей проволоки, прочеркивающая картину. На ее левой стороне мы видим переживающих свое грехопадение, изгоняемых из рая божеской рукой Адама и Еву. За их спинами – райское дерево в виде русской березы, обвитое кольцами змея-искусителя, что ассоциируется со смутой, захлестнувшей перестроечную Россию. В центре полотна – Сатана, будто приглашающий изгнанных из рая обосноваться в его мире зла. За его спиной – предательский образ Иуды с черным нимбом в отличие от святых, у которых обычно нимб золотой. В правой части полотна дома-коробки современного города, над которыми возвышается распятый Христос. Но несмотря на эти трагические образы и мрак, заполняющий картину в виде черных обликов, будто бы образовавшихся после вселенской катастрофы, художник как надежду на спасение являет светоносное чудо Воскресения Христова…
Иллюстрации
Неразрывность связи истории и современности прослеживается и в циклах иллюстраций художника к произведениям русской классики, прежде всего Достоевского. Общепризнано, что русская литература XIX века открыла не просто новую эру мировой культуры, но и новый этап в духовном развитии человечества. Пушкин и Гоголь, Достоевский и Толстой, Тургенев и Некрасов – эти и другие звезды первой величины на литературном небосводе, творившие, кстати, рядом с целой плеядой выдающихся критиков и философов, тесно связанных с литературой, утвердили новый тип сознания, качественно отличающий русскую литературу от культурных явлений предшествующих эпох.
Одной из центральных фигур, оказавшей колоссальное влияние на мировой литературный процесс, был и остается Федор Михайлович Достоевский, творчество которого относится к эпохальным явлениям в духовном развитии человечества.
Сложное и неординарное творчество Достоевского, привлекавшее множество исследователей, породило огромное количество часто противоречащих друг другу толкований. Хотя в осознании масштаба мирового значения творчества гениального художника-мыслителя далеко еще не понято и не осмыслено то обстоятельство, что, как отмечал известный современный критик Ю. Селезнев, через Достоевского художественная мысль становится новой формой философского познания мира.
И еще один момент в оценке личности Достоевского. Целая эпоха отделяет нас от времени его жизни и деятельности. За этот период человечество пережило две мировые войны, на планете свершились грандиозные социальные сдвиги, сделаны величайшие научные открытия, человек шагнул в космос. Но все эти потрясения и открытия не только не приглушили значимость поднятых писателем проблем, но, напротив, выявили их острейшую актуальность, обнажили сокрытый их смысл. «Этот писатель, – считал М. Салтыков-Щедрин, – не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предвидений и предчувствований, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества».
Как никогда прежде, открывается сегодня людям величие и, более того, практическая состоятельность мыслей Достоевского о красоте, призванной спасти мир, об исторической миссии русского народа в утверждении братства людей, его страстной проповеди духовности человеческой личности. Эта сопричастность творений великого художника слова нашему времени с поразительной убедительностью высвечена в творчестве Глазунова.
– Оттого ли, что я родился в городе Достоевского, своим бытием присутствующим почти во всех произведениях писателя, – говорил Илья Глазунов, – по природе ли своего духовного склада, когда на мои юношеское сознание и сердце произвели столь глубокое судьбоносное впечатление образы русского гения, но я принадлежу к тем миллионам читателей, для которых творчество Достоевского – составная часть их духовной жизни. Потому мысли, образы писателя побудили меня как художника вновь и вновь обращаться к нему со студенческой скамьи до сего дня.
Достоевский – наш национальный гений, потрясший мир своими откровениями, заставивший его взглянуть и на Россию, и на самого себя глазами русского народа. Он оплодотворил мировую культуру XX века – не только литературу, но и театр, кинематограф, изобразительное искусство. Насколько глубоко вошел Достоевский в дух и плоть искусства самого художника, лучше всего свидетельствует огромный цикл произведений Глазунова, раскрывающий духовный мир писателя и его героев. И вновь приходится отмечать немаловажный факт, характеризующий гражданскую смелость и раннюю зрелость художника.
С темой Достоевского Илья Глазунов вышел на широкую аудиторию в то время, когда личность и творчество писателя, на несколько десятилетий выпавшие из поля зрения исследователей, еще не стали предметом достаточно объективного анализа. Не приходится удивляться, что в 1934 году с трибуны Первого Всесоюзного съезда писателей СССР небезызвестный В. Шкловский провозглашал: «…если бы сюда пришел Федор Михайлович, то мы могли бы его судить как наследники человечества, как люди, которые судят изменника, как люди, которые отвечают за будущее мира. Ф. М. Достоевского нельзя понять вне революции и нельзя понять иначе как изменника». Но даже в 70-е годы, после довольно широко отмеченного 150-летия со дня рождения писателя и позже, не прекращались тенденциозные попытки утверждения его неполноценности как человека, запутавшегося в противоречиях, смыкавшегося в своих исканиях, – по утверждению одного из официальных критиков, – «с церковью, с угнетателями и угнетательским государством», «величайшая трагедия» которого, «основа основ его духовной драмы, заключается в том, что он всю жизнь страстно и напряженно искал пути к народу, а находил церковь, монастырь». И, естественно, «как он был неистов в проявлениях своего бунта, так же неистов и беспорядочен бывал он в своем смирении, докатываясь порой до националистического шовинизма».
Уже первые иллюстрации к «Бесам» и «Идиоту», открывшие читателям подлинный мир Достоевского, показали, что по точности и богатству передачи поэтики, атмосферы образов героев художник не просто максимально приблизился к литературному первоисточнику, но как бы создал эталон восприятия произведений писателя.
Это даже не иллюстрации в привычном смысле слова, а адекватное переложение, перевод мира Достоевского на язык изобразительного искусства. Такую задачу и ставил перед собой художник: «Мне хотелось в отличие от обычно понимаемого слова «иллюстрация» трансформировать мир идей Достоевского, создать образы людей – идееносцев».
Эти работы потрясли не только рядовых посетителей его первой выставки. Выдающийся знаток истории Петербурга, автор известных книг «Душа Петербурга», «Петербург Достоевского», «Быль и мир Петербурга» Николай Анциферов, работавший в московском музее Достоевского после отбытия заключения в советских лагерях, дал им самую высокую оценку, сочтя лучшими из того, что сделано в области иллюстраций к произведениям классика. Он же напутствовал художника на создание иллюстраций и к «Белым ночам». «Я бы на вашем месте не искал натуру для Мечтателя. Нарисуйте себя. У вас самого лицо петербургского мечтателя», – дал он ободряющий совет.
Уже переехав в Москву, Глазунов вновь погружался «в магию петербургских белых ночей, ощущал реальность мечты и ирреальность яви. В памяти вставали громады наемных домов, марево над Невой, и слезы наворачивались на глаза, когда вспоминал, как видел на канале перед зарей нового дня девушку, которую любил, но которая уходила с другим, скользя рукой по чугунной решетке канала…»
И, естественно, его неотступно сопровождал образ Достоевского, ставший спутником всей жизни – мучением, загадкой, утешением, который он запечатлел в ряде картин-портретов.
«…Большой лоб с могучими, как у новгородских соборов сводами, надбровных дуг, из-под которых смотрят глубоко сидящие глаза, исполненные доброты и скорби, глубокого раздумья и пристального волевого напряжения. Болезненный цвет лица, сжатый рот, сокрытый усами и бородой. Его трудно представить смеющимся. Достоевский…»
Предельное растворение личности художника в созданиях писателя особенно ощущается в иллюстрациях к «Белым ночам». Этап работы над ними, по аналогии с актерским мастерством, можно определить как вхождение в образ. Глазунов, как и сам Достоевский со своими героями, любил в студенческие годы бродить по улицам и набережным родного города, хранящим память его певца.
В этом состоянии предтворчества, погруженности в атмосферу, окружавшую героев любимого писателя, он и сам, вероятно, походил на них. «Попробуйте остановить его теперь, спросите его вдруг: где теперь стоит, по каким улицам шел? – он наверно бы ничего не припомнил, ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь, и, покраснев с досады, непременно сказал бы что-нибудь для спасения приличий…» Из этих прогулок и родились поэтические, проникнутые романтически-мечтательным восприятием мира или тоской одиночества картины «Белых ночей», будто высвеченные холодновато-голубым, каким-то фантастическим светом. И образ самого Мечтателя, который «не смотрит, но созерцает как-то безотчетно», как будто усталый или занятый в то же время каким-нибудь другим предметом и разве только мельком может уделить время на все окружающее.
Резкость социальных контрастов жизни, трагизм человека, задавленного бедностью или переживающего крушение своей творческой личности, обнажает художник в иллюстрациях к повести «Неточка Незванова». На этом фоне образ главной героини воспринимается как луч надежды.
Философской углубленностью, безбрежностью страстей человеческих захватывают работы цикла к роману «Идиот» (к этому произведению, как и к «Братьям Карамазовым», и к «Бесам», Илья Глазунов обращался неоднократно на протяжении всего творческого пути). Основные «нервные узлы» романа художник выразил в трех главных образах. Как символ исстрадавшейся в жестоком мире красоты воспринимается образ Настасьи Филипповны. Во взгляде ее огромных глаз – необъятность трагизма души. Земное плотское начало – в затемненном облике Рогожина, с буравящим взглядом маленьких, будто граненых, глаз. И детски просветленный лик князя Мышкина, сохранившего чистоту восприятия мира.
Далее художник проводит нас по кругам душевного ада героев вплоть до рокового трагического финала. Но трагедия загубленной красоты, без которой мир беднеет и мертвеет, развертывается не в замкнутом пространстве души. Город и общество выступают как активные соучастники и сотворцы этой трагедии.
Наивысшей концентрации философская мысль художника достигает в иллюстрациях к романам «Братья Карамазовы» и «Бесы». Первый из них, в котором соприкоснулись «мимоидущий лик земной и вечная истина», нередко называют духовным завещанием писателя. Здесь показываются не только величайшие бури и трагедии, свершающиеся в душе даже самого ничтожного человека, где «дьявол с богом борется», но и поднимается вопрос о сущности и перспективах всего мироустройства.
Борения и страсти героев на земном человеческом уровне представлены в драматически насыщенных сценах без всякого налета бытовизма. Среди персонажей романа у художника особо пронзительное звучание приобретает образ Грушеньки, через который продолжается развитие сквозной для писателя темы трагедии красоты. Одухотворенные образы старца Зосимы, монахов, Алеши Карамазова предстают как олицетворение духовности, устремленной к светлому идеалу. Легенда о великом инквизиторе переносит борьбу дьявола с богом на другой, высший уровень. В ней сокрыт исток главных пророческих откровений Достоевского, предостережение будущим поколениям. Но для того, чтобы оценить значимость сделанного Глазуновым в художественном раскрытии этой философской концепции писателя, являющейся отправной и в мировоззрении художника, необходимо остановиться на ее сути.
В поэме «Великий инквизитор», сочиненной якобы Иваном Карамазовым, повествуется о том, как после пятнадцати веков христианства, где-то в Севилье явился на землю Христос. Это было в то время, когда за малейшее сомнение в христовой истине сжигали на костре. А самым неистовым гонителем еретиков прослыл великий инквизитор. Он узнает Христа. Но велит страже взять его и заключить в темницу. Ночью со светильником спускается к нему. «Зачем же ты пришел нам мешать?» – спрашивает он узника.
В последующей исповеди инквизитор, вступая в спор с учением Христа, излагает свою концепцию сущности человека и устройства мира. Вначале он напоминает, как некогда страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия говорил с Христом в пустыне и поставил перед ним три вопроса, в которых как бы соединена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человечества.
В этих трех вопросах и заключались две противоположные точки зрения на человека – Христова и инквизиторская, антихристовская. Первый вопрос о приоритете «хлебов» или свободы. Ты пришел в мир с голыми руками, говорит инквизитор, с каким-то обетом свободы, которого люди, в простоте своей и прирожденном бесчинстве, не могут и осмыслить, которого боятся и страшатся, ибо ничего и никогда не было для человека и человеческого общества невыносимее свободы… Ты возразил, что человек жив не единым хлебом. Но знаешь ли ты, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли и сразится с тобою и победит тебя и все пойдут за ним…
Знаешь ли ты, продолжал инквизитор, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» – вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнут новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить содрогания людей.
Второй вопрос, в котором заключена вековечная тоска человеческая, – это «перед кем преклониться». Из-за всеобщего преклонения люди истребляли друг друга мечом, создавали богов и взывали друг к другу: «Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим».
Инквизитор согласен, что тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. «Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы». Но свобода выбора – непосильное бремя для человека. И вместо того, чтобы овладеть свободой человека, упрекает инквизитор Христа, ты умножил ее и обременил мучениями душу человеческую. А между тем тебе предлагались три силы, могущие навеки пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков: это чудо, тайна и авторитет.
Третий вопрос – вытекает из потребности людей во всемирном единении. Оно тоже происходит из слабости человеческой. Для удовлетворения этой потребности Христу было предложено обратиться к силе – мечу кесаря. Приняв этот третий совет могучего духа, говорит инквизитор, ты восполнил бы все, что ищет человек на земле, то есть: перед кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Но Христос отверг меч, не захотел насаждать единение людей силой.
И тогда мы взяли от него Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и доныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Далее инквизитор рисует картину нового устройства мира по проекту антихриста, идеи которого воплощает в жизнь.
В инквизиторском царстве рабство будет считаться истинной свободой. Своих поработителей люди воспримут как благодетелей. Получая от них хлебы, мыслит инквизитор, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более чем самому хлебу рады они будут тому, что получают его из рук наших! Они станут робки и станут прижиматься к нам в страхе. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и умны…
Они будут трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но сколь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и смеху, светлой радости и счастливой детской песенке… О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволили грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. Самые мучительные тайны их совести – все понесут они нам, и мы все разрешим и они поверят решению нашему с радостью, потому, что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного…
Подобная, не теоретическая, а уже реальная модель инквизиторства, утверждаемая в современной Достоевскому действительности, рассматривается в романе «Бесы». Борьба добра и зла, выраженная в конфликте идей Христа и антихриста, определяет содержание центрального полотна цикла работ к «Братьям Карамазовым» и «Бесам» – «Христос и великий инквизитор». В светлом, обращенном к нам лике Христа будто читается спокойный призыв дать самим ответ пытающему его инквизитору. Иссушенный пергаментный образ архитектора новой Вавилонской башни («Заговор против народа» – вот в чем тайна будущего «каменного строения» – отмечает в записной тетради Достоевский) воспринимается здесь как символ духовной смерти.
Моральная победа Христа, даже при временном торжестве инквизитора, не вызывает сомнения. Как пример возложенной на себя ответственности и страдания «за все грехи людские мировые и единоличные», проявление истинной свободы выбора вплоть до принятия смерти за высшую идею – образ Христа в терновом венце, несущего крест на картине «Голгофа». Поднебесная высота холма, по которому Христос свершает свой трагический путь, ассоциируется с высотой его подвига. Примечательно, что картины такого монументального масштаба, хотя и входят в цикл иллюстраций, могут рассматриваться как законченные станковые произведения.
Разложение одержимой бесовством души творцов антихристовой программы обнажает художник в образе Ставрогина – с безумным взглядом, мерзкой гримасой спекшихся губ, в вампирских образах теоретика разрушения общества Шигалева, главы организации разрушителей Верховенского; в воссозданном акте злодейства – убийстве Шатова…
Отмечая сложность выражения философских идей в зримых образах, не лишним будет в данном случае еще раз напомнить, что мир Достоевского весьма труден для восприятия. И даже сам факт обращения художника к этой непростой теме заслуживал бы признательности. Не говоря уже о высшем полете вдохновения и мастерстве, проявленном художником в интерпретации основополагающих творений великого мыслителя, благодаря чему его мысли нашли осязаемое предметное выражение для миллионов людей.
Воспринимая мир в борении добра и зла, писатель и вслед за ним и художник обозначают поле этой битвы, открывают реальную угрозу всякого рода бесовщины и используемые ею формы и средства достижения цели. Разложение современного мира осуществляется по сценарию великого инквизитора. В этом смысле после Достоевского ничего особенного добавить не приходится. Его пророчество все более обретает черты воплощенной действительности. Мировые скандалы, связанные с деятельностью тайных масонских лож, сионистских, террористических и иных организаций подобного рода, – красноречивое тому подтверждение.
Современное инквизиторство может еще уповать в своих притязаниях на новый аргумент, которого не было в XIX веке, – возможность уничтожения самого земного мира.
Так что вопрос – быть или не быть торжеству бесовщины – приобретает особо актуальное значение, первостепенное перед всеми другими. Но существует ли и где та духовная опора, которая могла бы помочь людям устоять перед бесовским наваждением? И если вновь обратиться к Достоевскому, одним из ответов может стать такое его рассуждение: «И впоследствии, я верю в это, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону! Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими… Что же разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина».
Конечно, за этими искренними словами при желании можно усмотреть намек на некую национальную исключительность – в свое время Достоевскому предъявляли и более жестокие упреки. Но нельзя сказать, что Федор Михайлович был одиночкой во взгляде на Богом дарованное предназначение русского народа. В начале XX века известный французский ученый Элизе Реклю, говоря о перспективах развития международного взаимообщения, писал:
«И вы, русские, какое участие примите вы в этом широком движении, которое несет нас ко входу в новый мир?… Какими великими доблестями щедро наделит вас история?
Заранее можем мы ответить на это: вашей главной заслугой все должны будут признать то, что вы были наиболее гостеприимным, наиболее братолюбивым из народов.
…Вы везде будете желанными гостями и всех будете принимать у себя как друзей; ни одна национальная группа не будет содействовать столько, как ваша, нарождению нации будущего, которая произойдет от всех рас и будет говорить на всех языках. Вы будете главными в деле истинно человеческой цивилизации, зиждущейся на свободе и праве».
Подобных предсказаний было немало. И теперь, даже после перестроечных шоковых потрясений, Россия в глазах многих зарубежных деятелей науки и культуры остается последним оплотом духовности, изгоняемой сатанинскими силами, уже в рамках осуществляемой глобализации. И, как считает Глазунов, именно Россия способна оказать Западу духовную и культурную гуманитарную помощь, в которой он так остро нуждается.
Обличая инквизиторство в иллюстрациях к произведениям классики и в станковых произведениях, Глазунов не терял веры в неиссякаемые духовные силы родного народа, его идеалы и великое предназначение. Помимо Достоевского, он заново приоткрыл читателям мир многих русских писателей и поэтов. Но, как и всегда и во всем, выбор художником имени того или другого творца слова не был случайным, зависящим от внешних преходящих причин и обстоятельств. Глазунов создавал иллюстрации к произведениям тех авторов, которые наиболее близки ему по мировосприятию и мировоззрению, в творчестве которых наиболее глубоко отразились самобытные национальные черты бытия народа, его культуры.
Например, строгий патриархальный уклад Заволжья, обусловленный последствиями русского раскола, предстал в художественных произведениях и исследованиях П. Мельникова-Печерского. Мир российской провинции и ее праведников – людей не единого прекраснодушного порыва, но каждодневного нравственного подвига – в сочинениях Н. Лескова. «Колумбом» московского купеческого Замоскворечья стал выдающийся русский драматург А. Островский.
То есть Глазунова привлекает творчество тех писателей, которые наиболее целеустремленно трудились над осмыслением главной проблемы общего дела развития русского национального самосознания – возвращение в современность всех добрых самобытных корневых начал (в организации труда и быта, в семейных и мирских взаимоотношениях и т. д.) как незаменимой основы в поиске истины и исполнении исторического предназначения народа.
Духовному родству художника с этими писателями способствовала и такая черта их творчества, как страстность, предельная искренность в духовных исканиях – черта, как уже отмечалось, характеризующая самого Глазунова.
Великим знатоком исконного народного быта и речи справедливо считается П. Мельников-Печерский. Еще будучи учителем нижегородской гимназии, он увлекся изучением истории. Особый интерес проявлял к русским раскольникам, множество которых обитало в Заволжье. С этим краем, где до сих пор живы предания о Батыевом нашествии, о граде Китеже, связана творческая деятельность писателя.
«Старая там Русь, исконная, кондовая, – повествует он в романе «В лесах». – С той поры, как зачиналась земля Русская, там чуждых насельников не бывало. Там Русь сыстари на чистоте стоит, – какова была при прадедах, такова хранится до наших дней. Добрая сторона, хоть и смотрит сердито на чужанина».
Основные проблемы произведений Мельникова-Печерского, определяющие драматизм и трагизм конфликта, – проблема веры, любви, губительной сущности денег. Но суровость жизненных ситуаций не заслоняет писателю поэзии чувств, открываемой им в народных представлениях и обычаях. Он воспринимает народ как хранителя незыблемых нравственных ценностей, хотя и осуждает некоторые стороны быта.
Подлинный мастер русского слова, Мельников-Печерский создает живописнейшие пейзажи и колоритнейшие жанровые сцены, до основания проникает в духовный мир героев. Недаром по живописности создаваемых им картин его сравнивают с Б. Кустодиевым.
Мир писателя Глазунов открывает нам в образах странников, купцов (иллюстрации к рассказам «Поярков», «Красильниковы»), ревнителей веры («В лесах» и «На горах»), в сценах раскольничьего быта. Пристальный интерес художника к жизни раскольников объясняется тем, что русский раскол как специфическое явление исторической жизни России был недостаточно оценен в свое время ни славянофилами, ни западниками – представителями двух важнейших течений общественной мысли прошлого века. Да и в последующие времена это явление, теснейшим образом связанное с проблемой национального самосознания, не выдвигалось в круг первоочередных забот исследователей. По утверждению Достоевского – и славянофилы, с их только московским идеалом Руси православной, не заметившие в расколе ничего хорошего, и западники, судившие о явлениях русской жизни по немецким и французским книжкам, увидевшие в расколе только одно русское самодурство, факт невежества, – не поняли в этом странном отрицании страстного стремления к истине, глубокого недовольства действительностью. И что «этот факт русской дури и невежества, по нашему мнению, самое крупное явление в русской жизни и самый лучший залог надежды на лучшее будущее в русской жизни».
А Глазунова как раз и привлекают натуры страстные, мятущиеся, неукротимые в своем стремлении к истине. Неслучайно и в «Братьях Карамазовых» Достоевского неоднократно обращается он к образу Алеши, который представляет собой тип молодого человека, истово жаждущего правды, ждущего ее и верующего в нее, требующего немедленного участия в ней, скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью.
К людям такого душевного склада принадлежит и Гриша, герой повествования Мельникова-Печерского, открывший своеобразие раскольничьего быта, день и ночь размышляющий: «Где ж правая вера, где истинное учение Христово?» Таким его показывает нам и художник. И хотя выход, найденный героем, имел характер рокового заблуждения, накал духовного горения поднимает его на истинно трагическую высоту.
Напряженность духовной жизни, процесс мучительного поиска истины, протекающий нередко в форме внешнего уединения от мира, прослеживается и в других глазуновских образах героев русской классики – иноков, обитателей монастырей. Кто способнее вознести великую мысль и пойти ей служить – уединенный и отъединенный от народа богач или «сей освобожденный от тиранства вещей и привычек» человек? Такой вопрос стоит за этими образами. Нет, считает один из героев «Братьев Карамазовых», действительное уединение не у нас, а у других, укоряющих нас в уединении. От народа идет спасение Руси. А русский монастырь, служивший и крепостью и хранилищем культурных ценностей, всегда был с народом.
«Я не мщу никому и гнушаюсь мщения, а лишь ищу правды в жизни» – так определил суть своего творчества Н. Лесков, занимающий равное место в ряду великих русских классиков, творцов священного писания о русской земле. Изображая нравственно-бытовые отношения людей разных сословий с позиций духовности, писатель реальные события жизни сплавляет с поэзией народного фольклора, повествований о деяниях мучеников за народ. Оттого жизнь лесковских героев предстает не просто как жизнь конкретных людей, но как житие и бытие национального духа. В их сознании неискоренимо присутствует мечта о человеческой красоте и справедливости, вера в свой добрый идеал, стремление послужить общественной пользе, доходя в этом до самопожертвования.
«Мне за народ очень помереть хочется» – эта мысль Ивана Флягина, героя повести «Очарованный странник», подводящая итог его блужданиям по свету, воспринимается как духовная доминанта образа, созданного Глазуновым. Служение Родине, даже при таких обстоятельствах, «когда спасение Отечества представлялось невозможным», слившееся с сутью русского национального характера, определяет смысл существования и других лесковских героев, одухотворенных правдолюбцев и праведников вроде протопопа Туберозова и дьякона Ахиллы из «Соборян», мастеровых Луки Кириллова и Марка Александрова из «Запечатленного ангела», умельца Левши («Левша»).
Но мимо взора писателя не проходили и темные явления российской действительности. Он рисует трагедию доведенных до отчаяния людей, нередко наделенных богатым природным даром. И тех страстных, глубоких натур, которые, не находя естественной сферы приложения бурлящим силам и чувствам, опускаются до чудовищных преступлений. Как, например, Катерина из «Леди Макбет Мценского уезда». Глазунов и здесь находит адекватные художественные средства для выражения особой природы трагизма, проявляющейся у Лескова, вычленяя сквозные для русской классики истоки трагических коллизий. Один из таких истоков связан с темой невинного убиения или страдания ребенка, последовательно разрабатываемой художником в иллюстрациях к произведениям Пушкина («Борис Годунов»), Достоевского, А. Толстого («Царь Борис»), в картинах исторического цикла.
Но вскрывает ли Илья Глазунов внутренний мир героя произведения или передает атмосферу свершившегося в нем события, в его картине всегда зримо присутствуют или ощущаются образ дороги и необъятного русского простора в слиянии земли и неба. Нередко герои оказываются застигнутыми художником в дороге – достаточно вспомнить его работы «Приезд в Мокрое» («Братья Карамазовы»), «Возвращение Дуни» («На горах»), «В пути» («Запечатленный ангел»), «Странник» («Очарованный странник»), «Метель» («Мороз, Красный нос» Н. Некрасова) и многие другие.
Дорога – это символ движения жизни, движения души. Это символ исторического пути Родины из прошлого в будущее и пути героев к ее постижению (подобный тому, который проделал сам художник, о чем говорят его картины и книги). Наконец, это символ пути постижения добра, самоочищения. И что этот процесс нередко свершался именно в дороге, говорит такая историческая черта в жизни русского народа, как странничество, паломничество.
Покаянные хождения ко святым местам народ с древних времен высоко ценил. Люди без гроша, старики и старухи, не знающие географии, после невероятных приключений действительно достигали святых мест. По возвращении их рассказы о странствиях, о житиях святых благоговейно выслушивались и передавались другим с удивительной точностью. Достоевский пишет в «Дневнике писателя», что сам слышал такие рассказы еще до того, как научился читать. Слышал их затем даже в острогах у разбойников. В этих рассказах, заключает он, есть для русского народа нечто покаянное и очистительное. Даже дрянные люди, барышники и притеснители, нередко получали странное и неудержимое желание идти странствовать, очиститься трудом, подвигом, и если не на Восток, в Иерусалим, то устремлялись ко святым местам русским – в Киев, к соловецким чудотворцам. Потому Н. Некрасов, создавая своего «Власа», не мог и вообразить своего героя иначе как в веригах, в покаянном скитальчестве. Из этой исторической черты вытекает способность народа к таким проникновениям в сущность самых сложных вопросов и событий, которые оказываются подчас недоступны представителям просвещенных «верхов» общества.
Да и тот тип русского скитальца в родной земле, откликающегося на всякое чужое горе и страдание и ищущего счастья не только для себя самого, но и всемирного, гениально выведенный Пушкиным в Алеко («Цыганы»), разве не говорит сам за себя?
Простор природы – символ и лик самой Родины, вечности ее бытия, сопряженности с огромным вселенским миром. Таким ощущением единения земной и небесной сфер, рождающим гармонию в душе, проникнута вся русская литература.
Вспомним стихи М. Лермонтова:
Выхожу один я на дорогу; Сквозь туман кремнистый путь блестит; Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, И звезда с звездою говорит…Или у С. Есенина:
Я по первому снегу бреду, В сердце ландыши вспыхнувших сил. Вечер синею свечкой звезду Над дорогой моей засветил…Или у Достоевского – описание того мгновения, когда у Алеши Карамазова душа вдруг наполнилась непонятным ему восторгом: над ним широко раскинулся небесный купол, на котором явился Млечный Путь. Чуден был мир вокруг и чуден стал в нем – «тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною» (что великолепно прозвучало в картине Глазунова «Алеша»), и он не умом, но всем существом своим словно понял что-то и от неожиданности этого откровения рухнул на землю и разрыдался.
Точность и полнота воплощения Глазуновым духа самых сложных литературных произведений объясняется не только его логической способностью улавливать как общие мотивы и тенденции искусства, так и тончайшие движения души и мысли конкретного автора. Художник сам обладает высшим даром поэтического восприятия мира. Оттого его картины и иллюстрации проникнуты поэзией и музыкой. С особой очевидностью это проступает в иллюстрациях к поэтическим произведениям – и прежде всего к стихам наиболее любимого в юности поэта Александра Блока. Позже отношение к нему изменилось как к одному из столпов богоискательства Серебряного века, представители которого немало способствовали приближению революции, а затем, как и сам Блок, ставшие ее жертвами.
Но лирика Блока, как ощущает ее Глазунов, пронизана болью дисгармонии и мечтой о преодолении ее. Он мудр в стихии поэзии и порою беспомощно запутан во вьюжных лабиринтах исторических времен. «Как у врубелевского Демона, губы его, запекшиеся от внутреннего огня, исторгают звон тревожного вселенского набата и пророчат по-детски чистую радость бытия. Как рыцарь, Блок служил своему духовному идеалу, он озарил и наполнил всю его жизнь биением абсолютной красоты, оплодотворяющей жизнь большого искусства».
Наибольшей полноты слияния мира поэта и художника достигается в иллюстрациях к циклу стихов «Город». Петербург, родной город поэта, вошел в его жизнь и творчество так же органично и неизбежно, как у Достоевского и Глазунова. Блок исходил его вдоль и поперек, постигая душу города, знал все его районы, но самое сильное впечатление производили те места, где «очень пахло Достоевским». И отражение их в поэзии было сродни «фантастическому реализму» писателя.
В загородном дачном поселке Озерки, в вокзальном ресторанчике «средь пошлости таинственной», родилась жемчужина блоковского городского цикла – «Незнакомка».
И веют древними поверьями Ее упругие шелка, И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука.«Незнакомка» – это вовсе не просто дама в черном платье со страусовыми перьями на шляпе. Это – дьявольский сплав миров, преимущественно синего и лилового», – уточнит позже поэт. Чудо блоковской поэзии обернулось чудом изобразительного искусства, романтическим и манящим таинством тревожной Красоты.
Иллюстрации Ильи Глазунова к произведениям русской классики уже давно отнесены к тому же разряду классики. И хотелось бы уточнить: классики живой, современной вдвойне, ибо произведения художника не только образец по-настоящему новаторского искусства, но и открывают современное звучание литературного первоисточника.
Представляя в иллюстрациях литературные образы, художник в полной мере добивается реализации своего принципа: надо являть их такими, чтобы читатель мог сказать: «Да, другими я их и не вижу».
В работе над иллюстрациями к русской классике ориентиром Глазунову всегда служили высокие традиции оформления книг в Древней Руси, традиции русских художников-иллюстраторов рубежа XIX–XX веков. Едва ли не лучшим, необычайно емким выражением сути творческой работы над оформлением книги являются, на мой взгляд, образные и точные слова самого Глазунова: «Работа художника над книгой требует сопереживания с писателем – организм книги должен быть живым, эмоциональным и глубоко духовным. Художник книги – это как пианист или дирижер, который должен, осмысляя произведение, раствориться в нем, чтобы органично выявить присущую ему индивидуальность, не превращая себя в такого оформителя, амбиции и своеволие которого довлеют над духовным миром писателя или поэта».
Портрет
«Великий ход времени» с извечной схваткой добра и зла, «где поле битвы – сердце человека» – предопределил глубокий интерес Ильи Глазунова и к внутреннему миру современников. В жанре портретной живописи воплотилась еще одна грань его кипучего таланта. Этот жанр издавна считался одним из самых труднейших. Ибо человек, по определению Тютчева, – средоточие всех горений.
В свое время Достоевский подметил, что человеческое лицо только в редкие моменты выражает главную черту свою, «главную идею физиономии». В умении не упустить этот момент, «когда субъект наиболее на себя похож», и состоит дар портретиста.
А как проникновенно умеет Глазунов вглядываться в человека, можно судить не только по его картинам. Вот строки из автобиографической книги художника о случайно увиденной в Угличе женщине «со скуластым лицом атаманши». Ее прозрачные, как волжская вода, глаза с удивительно черной точкой зрачка, словно нарисованы слегка размытой китайской тушью…» Это же готовый портрет!
И если собрать всех людей, которых портретировал художник, то по представительству общественных слоев, да и по количеству лиц получилось бы целое мини-государство.
Еще со студенческих лет его интерес обращен к образу простого русского человека, обусловленный стремлением понять и воплотить суть национального характера в гармонии внутренних и внешних черт личности, сформулировать свой идеал национальной красоты. В портретах девушек, старух и стариков («Старушка с посохом», «Старик с топором», «Волжанка») выражено видение русского человека от земли, каким он предстает в современной жизни. Многие такие работы при всей самостоятельности их значения можно рассматривать как эскизы к будущим крупным полотнам.
Параллельно с работой над безымянными образами, содержащими развернутую психологическую и социальную характеристику, художник приступал к целой галерее портретов деятелей культуры, как отечественных, так и зарубежных. Кстати, портреты зарубежных кинематографистов появились в самом начале творческого пути Глазунова. Что это – случайность или следствие осмысленного влечения к кино, занявшему важнейшее место в жизни людей?
– Началось все с того, – рассказывал художник, – что накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве известный итальянский критик Паоло Риччи написал обо мне книгу. И когда деятели культуры Италии приехали в Москву на фестиваль, у некоторых из них возникло желание побывать в моей мастерской, с тем чтобы я написал их портреты.
Это были Джина Лоллобриджида, Лукино Висконти и Джузеппе де Сантис. Но так как времени у нас было мало, я смог создать лишь графические портреты. Однако Джина Лоллобриджида захотела иметь свой портрет, написанный маслом. Так возникла дилемма: или она должна была задержаться в Москве, или я должен был поехать в Рим. В результате этого после преодоления многих препятствий и состоялась мое путешествие в Италию по приглашению деятелей культуры – первая поездка в Западную Европу.
Портрет Джины Лоллобриджиды создавался на ее вилле на виа Аппиа Антика, где некогда проходили отряды Спартака. Для меня очень интересным было общаться с актрисой в домашней обстановке, тем более что она с детства мечтала стать художницей.
К творческому общению располагала и окружающая атмосфера – старинные этрусские вазы, картины Каналетто, других художников, производившие на меня огромное впечатление. Из ее гардероба мы выбрали платье, в котором она снималась в фильме, повествовавшем о жизни Наполеона. В этом платье ее образ вызывал ассоциации с героинями Тициана.
На вилле Д. Лоллобриджиды я познакомился со многими деятелями итальянского кино. И во время этой поездки успел написать портреты Ф. Феллини – человека с волевым лицом кондотьера; его жены Д. Мазины, известной у нас по фильму «Ночи Кабирии»; режиссера Антониони.
Но в работе над портретами этих мастеров сыграла свою роль не только воля счастливого случая и глубокий интерес к творческой личности каждого из них. Кино вообще для меня, как и многих людей моего поколения, имело особое значение в формировании отношения к жизни, художественных пристрастий. В пятидесятые годы, когда я еще учился в Ленинградском художественном институте имени И. Е. Репина, огромное впечатление на нас, студентов, производили фильмы итальянского неореализма. В них подкупала суровая правда жизни, острота социальных проблем, полнота человеческих чувств. Сильное влияние на меня, как художника, оказал и франко-итальянский фильм Р. Клемана «У стен Малапаги», наполненный романтикой будней и трагизмом повседневности, с Жаном Габеном в главной роли.
В те же студенческие годы, – продолжает Глазунов, – журнал «Театр» предложил мне сделать серию портретов актеров театра «ТНП», возглавляемого Жаном Виларом. Тогда меня поразило нервное одухотворенное лицо Марии Казарес, покорившей советских зрителей в фильме «Красное и черное». Поразило и то, что она, объехавшая весь мир, считала мой родной Ленинград своим любимым городом. Замечу, что теперь и сам, побывав во многих странах мира, я все больше убеждаюсь в справедливости и истинности слов великой французской актрисы.
Навсегда врезались в память интеллигентность облика Даниэля Сорано, создателя образа кардинала Ришелье; солнечность Зани Камипан, острая пряность красоты Моник Шометт…
Немало добрых чувств, конечно, пробудило у художника и творчество наших отечественных кинематографистов, и прежде всего одного из ярчайших деятелей кино Сергея Федоровича Бондарчука.
– Мне посчастливилось познакомиться с ним много лет назад, – вспоминал Илья Сергеевич. – Это человек неуемной творческой энергии. Батальные сцены в его фильмах соперничают с лучшими произведениями русской батальной живописи.
Среди созданных им картин мне особенно дорога «Судьба человека». И в его портрете я хотел передать драматическую глубину чувств, мысли, свойственную его личности.
А прекрасный актер Иннокентий Смоктуновский! Мне был близок его острый талант, особенно ярко проявившийся в соприкосновении с творчеством Достоевского.
Уже тогда, в начале пути, Глазунов поражал своих товарищей способностью к мгновенной мобилизации творческих сил, быстротой и смелостью решения поставленных задач.
– Меня до сих пор поражает концентрированность творческой энергии Глазунова, которую я наблюдал в деле, – рассказывал мне вологодский художник Владимир Корбаков. – В 1957 году, в дни Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в Центральном парке культуры и отдыха столицы работала международная художественная студия. Мне, студенту Московского художественного института имени В. И. Сурикова, тоже посчастливилось быть в составе этой студии.
Вот перед нами села позировать французская актриса Анна Мишар. Рядом со мной расположился с мольбертом молодой симпатичный парень – это был Илья Глазунов. В нашем распоряжении имелось всего сорок минут. И за это время он успел создать великолепный, страстный, выразительный рисунок. Художники, собравшись в кружок, оживленно обсуждали этот факт и, надо признаться, были немало удивлены. Помнится, этот рисунок Глазунов подарил актрисе.
За столько лет темперамент художника не изменился. Тот же цепкий взгляд, та же сосредоточенность у мольберта, будто бы он один в мастерской, наедине с буйным цветением красок, которые вспыхивают на холсте ярким самоцветным огнем. Музыка цвета!
Глазунов пишет молча, вслушиваясь в музыку души человека. Каждый портрет для него – экзамен, к которому он не может относиться равнодушно. Каждый человек – вселенная, каждый интересен: и рабочий, и президент, и кинозвезда. Нарисовать человека – не значит сказать комплимент. Только правду! И человек должен быть похож на себя, иначе это не портрет. Но нельзя и сбиваться на фотографию. Портрет – документ человеческого духа.
Одним из наивысших образцов портретного жанра Глазунов считает фаюмский портрет II века нашей эры, дающий концентрацию духовного мира и человеческой индивидуальности.
Резкое определение формотворческим опытам дал в своем дневнике Георгий Свиридов:
«Ненависть к портрету, ненависть к человеку (его изображению) – за этим прежде всего ненависть к Христу, по образу и подобию которого создан человек. Желание показать, окарикатурить человека, лишить его богоподобия и сделать скотоподобным – все из того же.
…Я против таких портретов, которые можно назвать полигонами примитивного формотворчества, когда глаз нарисован на животе, а ухо на лбу. Как сказал Протагор, «человек – мера всех вещей», а у человека глаза не на животе».
Другой композитор, Игорь Стравинский, рассказал в своих записках, как однажды на пути из Рима в Швейцарию с ним случилось поразившее его происшествие. Он вез с собой собственный портрет, незадолго до этого написанный Пикассо. Когда на границе военные власти стали осматривать багаж композитора, они натолкнулись на рисунок и отказались пропустить его через границу. Им было разъяснено, что это портрет, нарисованный известным художником, но они не поверили, заявив, что «это не портрет, а план». Убедить их в обратном так и не удалось, в результате чего «портрет» пришлось отослать в посольство для пересылки дипломатической почтой.
Естественно, что подобное творчество перечеркивает понятие портрета, где перед художником стоит прямая задача – через внешний мир, внешние черты выразить мир внутренний. Нередко модернисты, занимаясь творчеством «по поводу человека», впадают и в другой вид извращения. К примеру, художница О. Кардовская так передает свои впечатления от увиденного ею на выставке портрета поэтессы А. Ахматовой, о котором говорили, что он «очень ловко сделан». «…Насилу я дошла до портрета Альтмана, изображавшего Ахматову. Портрет, по-моему, слишком страшный. Ахматова там какая-то зеленая, костлявая, на лице и фоне кубистические плоскости, но за всем этим она похожа, похожа ужасно, как-то мерзко, в каком-то отрицательном смысле…»
Такое «очень ловко сделанное» никак не вписывается в традиции русского искусства, на которые опирается Глазунов.
Портретная галерея деятелей мирового искусства, открытая образами французских актеров и итальянских кинематографистов, пополнялась все новыми и новыми произведениями. В какую бы точку планеты ни заносила судьба Глазунова – везде он знакомился с творчеством своих коллег, представителей иных творческих профессий, работал над их портретами.
– В личности каждого истинного художника живет нерв времени, отражается глубокий психологизм людей XX века, – так он объясняет свой интерес к этой категории портретируемых. – И поскольку я верен своим пристрастиям, то и дальше буду продолжать работу над образами деятелей культуры, творчество которых движет огненная совесть художника…
Широко известны глазуновские портреты зарубежных общественных, государственных и религиозных деятелей – короля Швеции Карла Густава, президента Финляндии Урхо Кекконена, президента Италии Пертини, премьер-министра Индии Индиры Ганди, глав других государств. Среди этой представительной галереи монументальностью, живописностью, глубиной проникновения в образ особо, как представляется, выделяются портреты Фиделя Кастро, короля Испании Хуана-Карлоса I и папы римского Иоанна Павла II. Мировая известность И. Глазунова как непревзойденного портретиста вызывала смертельную зависть у многих его коллег и критиков, клеветавших, что он получает приглашения от столь высших особ, пользуясь положением официального художника. Отбиваясь от подобных наветов, Глазунов уверенно заявлял, что весь ЦК КПСС и Политбюро не может приказать или использовать дружеские отношения с тем или иным зарубежным деятелем, чтобы тот заказал портрет именно Глазунову. Они могли выбирать кого угодно, но предпочли его. А Сергей Михалков однажды высказался по этому поводу так: заказать портрет по блату можно, но написать его по блату нельзя. Для того надо быть художником. А Глазунов писал так, что его безоговорочно признавали гением и он удостаивался самых высоких наград.
Советские лидеры также не хотели отставать от западной элиты и просили художника написать их портреты. Известны и случаи, когда люди боялись становиться его моделью. «Илья Сергеевич слишком глубоко проникает в душу», – признавался один высокопоставленный чиновник.
Если раньше о Тициане говорили, что он своими портретами вводит людей в дворянское достоинство, то о Глазунове, «художнике королей и короле художников» (как его нередко называют в зарубежной прессе), можно сказать, что он вводит человека в историю.
Самая значительная часть его произведений портретного жанра посвящена соотечественникам. Среди них научные работники и студенты, строители и космонавты, артисты и представители нынешних деловых кругов. Портрет – это документ человеческого духа, считает Глазунов. Но чей бы портрет он ни создавал: своего ли соотечественника, чилийского музыканта или итальянского президента, внутренний мир человека для него одинаково важен и неповторим.
«В портретах я стараюсь запечатлеть лик эпохи, – размышляет художник. – Портрет, по-моему, внутренняя сущность человека, музыка его уши. Нет неинтересных лиц, как нет неинтересных людей, потому что каждый человек имеет свою бессмертную душу, свою психологию, и выразить это, выразить отношение к человеку – есть задача портретиста».
Большинство портретов – например, академиков Л. Арцимовича и И. Шафаревича, писателей С. Высоцкого и В. Распутина, певицы народной артистки СССР Е. Образцовой – написаны маслом в русле классических реалистических традиций. Внимание художника сконцентрировано на выявлении характера, психологии героев. В решении этой задачи активную роль играет естественный фон, дающий представление не только о сфере деятельности портретируемого, но и о его мировоззрении, отношении к окружающему миру.
Портрет А. Демидова, выполненный в 1974 году, представляет образ молодого творца научно-технического прогресса. Белый халат рельефно выделяет крепкую фигуру героя на почти монохромном темно-зеленом фоне пульта управления, оживленном оранжевыми точками сигнальных лампочек. Сцепленные в напряжении мускулистые руки говорят о концентрации внутренней энергии, духовного и физического здоровья. В открытом и сосредоточенном взгляде прочитывается ощущение своего достоинства, независимости, работа мысли.
Портрет писателя С. Высоцкого, родившегося, как и Глазунов, в Ленинграде, создан в 1984 году. Эмоциональная структура образа решается в контрастном сочетании голубизны облачного неба и водной глади Невы с темным пятном костюма героя. Более насыщенная по тону драпировка голубых штор, будто отринутых ветром, увеличивает впечатление некоторой тревожности настроения при внешней поэтической лучезарности открывающегося из окна вида на город. Слитность героя с родным городом, пронизанность души его атмосферой подчеркивается голубыми пятнами воротника рубашки и манжет. Скрещенные на груди руки передают состояние закрытости внутреннего мира героя; в требовательном пытливом взгляде голубых глаз выражена стойкость перед лицом жизненных обстоятельств, цельность характера, готовность к серьезному диалогу.
Внимание публики и прессы всегда привлекают работы Глазунова 70 – 80-х годов, созданные в жанре интимно-лирического портрета. Это целая галерея живописных женских образов, где каждый из них сродни лирической новелле о человеке со своей внутренней тайной.
Значительная часть работ портретного цикла выполнена в разработанной художником технике графического портрета с использованием соуса в сочетании с подцветкой пастелью. Такого рода портреты, многие из которых создавались во время поездок по стране и за рубежом, отличаются выразительностью линии, тщательностью проработки определяющих деталей, наиболее полно характеризующих человеческую индивидуальность. Во всех случаях важнейшее значение для художника имеют глаза портретируемого. В них концентрируется духовное начало личности. Ведь недаром говорится, что глаза – это зеркало души. Применительно к портретам, выполненным Глазуновым, такое определение имеет особый смысл. «Глазуновские глаза» становятся окном во внутренний мир человека.
– Есть разные пошляки, – говорил как-то Глазунов, – острящие, что во всех портретах я изображаю одни и те же глаза. Но ведь у разных людей они разные. И Сергей Михалков, возражая против подобных нападок, сказал однажды: «Попробуйте вставить глаза князя Мышкина в портрет вьетнамского партизана!..» Глаза есть зеркало души. И неслучайно на фото человека, когда нужно, чтобы его не опознали, глаза заклеивают ленточкой.
Зеркалом души становятся глаза портретируемого и в работах 80-х и 90-х годов, в которых нашли отображение образы представителей самых разных кругов современного российского общества и зарубежья. Здесь известные государственные мужи Ю. Лужков, П. Бородин и Н. Назарбаев; люди из делового мира – В. Кругляк, В. Столповских, А. Чернышов; из артистического – И. Кобзон, И. Резник; из писательского и журналистского П. Горелов, П. Гусев, Т. Колесниченко, Л. Колодный. А сколько создано других портретов известных широкой публике или, как говорится, простых людей, введенных кистью художника в историю!
Разумеется, что в течение всей жизни его сердце безраздельно было отдано самым дорогим людям – жене Нине и детям – Ване и Вере, портреты которых составили целую биографическую серию.
Среди написанных в последнее время работ этого жанра особенно поражает поэтичностью несколько необычный для Глазунова парный портрет барона Ханса Хейнриха и баронессы Кармен Тиссен-Борнемиссе, где они представлены на фоне их галереи, в окнах которой как бы оживают персонажи находящихся в ней картин старинных мастеров. В этом произведении классические традиции необычайно выразительно сливаются с современным реалистическим письмом, что делает героев близкими нам и сопричастными к далекому прошлому.
И, конечно же, новым открытием стал автопортрет художника. Написанный в 1999 году, представляющий автора в пору весеннего половодья близ собственной дачи в Подмосковье. Глазунов не раз писал самого себя, естественно, не ради самолюбования, а обозначения своего места в современном историческом процессе. Этот же портрет-картину, впервые представленную на выставке в Манеже в 2000 году, многие определяют как проникновенную исповедь художника.
Особо следует сказать об историческом портрете, который требует от художника много других способностей, помимо сугубо профессиональных. Он должен не только обладать глубокими историческими познаниями о своем герое и его времени, но и особым чутьем, которое требуется при написании исторической картины. О чем говорил Достоевский. А именно: усвоив, что историческая действительность совсем не та, которая отображается в жанровом произведении, он должен отобразить ее с прибавкой всего последующего развития истории. Глазунов наделен такими качествами в высшей мере. Свидетельством тому созданные им образы исторических лиц – Сергия Радонежского и Андрея Рублева, Ивана Грозного и Бориса Годунова, Достоевского, ставшего неизменным спутником жизни художника. К этому же ряду относятся поэтичные, проникнутые таинственностью портреты Лермонтова и Пушкина. Если же говорить о запечатленных художником действующих лицах более близкого нам XX века, то надо принять во внимание еще одну сложность: идеологическая заданность, т. е. трактовка исторических событий с марксистских позиций и регулируемая направленность исторических интересов. Тогда обязательным критерием оценки личности и творчества художника была его работа в области историко-революционной тематики. Живописец или скульптор, не воспевший Ленина и других революционных вождей, не мог рассчитывать на официальное признание, возможность показать работы на выставке, стать членом Союза художников. Илья Глазунов, кроме написанного по необходимости в студенческие годы весьма своеобразного портрета Ленина, не плодил образы пламенных революционеров, трактуемых в требуемом ключе. Даже в самые неустроенные годы своей жизни он не занимался подобными или иными поделками. А произведения последующих лет, где образы такого рода появлялись, как, например, «Мистерия XX века» или «Костры Октября», вызывали ярость критиков и поток политических доносов.
Исторический портрет, как и историческая картина, давно исчез из выставочных залов. И даже в последние годы, когда наметился поворот общественного внимания в сторону отечественной истории, переосмысления ее уже вне рамок марксистской догматики, произведения такого рода, иногда появляющиеся в экспозициях общероссийских и региональных выставок, можно пересчитать по пальцам. Основная масса художников переключалась на жанр, что вполне объяснимо: прежние идеалы и ориентиры нарушены, а новые не обретены. Такая духовная пустота в еще большей степени характерна для художников ближнего зарубежья, где здоровые духовные и профессиональные традиции пытаются в меру своих сил сохранять прежние поколения художников, прошедших в свое время школу мастерства в академических заведениях России – институтах имени В. Сурикова и И. Репина. Новые же поколения практически раздавлены натиском авангарда, что со всей очевидностью обнаружилось на международной выставке «Искусство наций» (2000 г.) и выставке-салоне творческих союзов стран СНГ (2003 г.), проведенных Международной конфедерацией творческих союзов в Центральном доме художника.
Радостным исключением на постсоветском пространстве составляет лишь единственный бастион подлинно реалистической художественной культуры – Российская Академия живописи, ваяния и зодчества, как раз и созданная Ильей Глазуновым для возрождения исторической и религиозной картины. Единственный потому, что упомянутые выше академические художественные заведения все более и более поглядывают в сторону авангарда. Кстати, принципы деятельности Российской Академии, основанной в 1988 году, отрабатывались именно в портретной мастерской института имени В. Сурикова, которую И. Глазунов возглавлял в течение десяти лет. Но и теперь он остается примером для своих воспитанников, создавая произведения, становящиеся явлениями общественной жизни. Таким стал исторический портрет великого русского государственного деятеля Петра Аркадьевича Столыпина. Мимо этого события нельзя пройти мимо.
В середине апреля 2002 года состоялись первые за все послереволюционные годы массовые общественные акции, посвященные Столыпину: отмечалось 140-летие со дня его рождения. И хотя официального празднования на общегосударственном уровне не проводилось, тем не менее это событие внесло свою лепту в новое понимание значения личности Столыпина, в укрепление национального самосознания русского народа.
Кульминацией стало празднование юбилея в Зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя, главным моментом которого явилось представление портрета великого реформатора, написанного Глазуновым. Как известно, Глазунов не имеет и не имел обыкновения дежурно «откликаться» на какие-либо даты, что было обязательно вменяемой практикой в не столь давние времена. И то, что случилось, рано или поздно должно было свершиться, хотя предстоящий юбилей определенным образом оказался стимулирующим фактором. Художник рано или поздно должен был выразить свое завершенное видение образа, сопутствующего ему в течение всей жизни.
В зрелые годы художник, уже обосновавшийся в Москве, приезжая в свой родной Петербург, каждый раз обязательно навещал то место, на котором высился памятник-обелиск с уничтоженной в лихое время мемориальной надписью, всякий раз глубоко задумываясь о яркой и трагической судьбе выдающегося русского государственного деятеля. С раннего детства, когда он слышал от родителей о Столыпине, и в студенческую пору, когда во время поездки в Сибирь встречался там с потомками переселенцев «столыпинского призыва», и в пору творческой зрелости, когда при проведении своей выставки в Париже общался с сыном Столыпина Аркадием Петровичем, известным деятелем русской эмиграции. Естественно, что в его знаменитом историко-философском триптихе «Мистерия XX века», «Вечная Россия» и «Великий эксперимент», отражающем историческую судьбу России, образ Столыпина неизменно присутствовал среди образов других исторических лиц – участников главных трагических событий прошлого апокалиптического столетия.
Это ведь только с недавней поры стали свободно издаваться исследования о Столыпине, в которых анализируется его всеохватная реформаторская деятельность. Какой же гражданской смелостью нужно было обладать в те времена, когда имя Столыпина было предано анафеме и его позволялось упоминать лишь с употреблением установленных «сверху» определений, таких, например, как «столыпинский галстук», «вешатель», «погромщик», «ярый реакционер», чтобы не только художественно воплощать его образ, но и публично высказываться о нем как идеале великого государственного деятеля, положившего именно национальные интересы России в основу своей политики.
И неизменно отвечая на нередко задававшийся и ныне задаваемый журналистами вопрос: «Каким Вы представляете себе идеального политического деятеля?» – Глазунов мгновенно отвечает: «Столыпин». А на другой вопрос подобного свойства: «Кто из современных деятелей вам кажется наиболее масштабным и перспективным?» – следует столь же стремительный ответ: «Тот, кто лучше других воплотит идеи Столыпина».
А когда в некоторых публикациях, посвященных Столыпину, сообщается, что «в Киеве восстановлено надгробие Петра Аркадьевича, оно давно было осквернено победителями, как и склеп князя Багратиона на Бородинском поле…», то не только мы, но и многие даже из близко знающих Глазунова людей не подозревают, что за это дело надо благодарить Илью Сергеевича, сломившего сопротивление тогдашних партийных украинских властей и добившегося своего, причем за счет средств, полученных от выставки своих же работ, проходившей в то время в Киеве.
И вот заключительный аккорд – создание портрета Столыпина. Интерес к нему может быть обусловлен уже тем обстоятельством, что трудно назвать хоть какой-нибудь прижизненный портрет Столыпина. Так что в осознании исторического значения личности Петра Аркадьевича, его реформаторского наследия Глазунов был, как всегда, впереди других, даже национально мыслящих современников.
При этом опять-таки напомним, что это Глазунов первым поднял вопрос о восстановлении храма Христа Спасителя на памятном старшему поколению совещании творческой интеллигенции в ЦК КПСС в начале 60-х годов. Он был инициатором создания Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а позднее и Российской Академии живописи, ваяния и зодчества, которую сам же основал, равно как и Всесоюзный музей декоративно-прикладного искусства, которым руководил в течение пяти лет.
Но прежде чем обратиться к самому портрету, позволительно будет сказать несколько слов по сути истолкования «столыпинской проблемы».
Сегодня, какие бы задачи ни приходилось решать – аграрные, судебные, борьбы с терроризмом и многие другие, неизбежно приходится вспоминать о реформаторской деятельности Столыпина, имевшей в свое время поразительные результаты.
Свидетельств тому предостаточно. Один из первых российских марксистов Петр Струве отозвался так: в сравнении с ней по значению в экономическом развитии России в один ряд могут быть поставлены лишь освобождение крестьян и проведение железных дорог.
Приведем некоторые данные о сдвигах тогда не только в аграрной, но и других сферах. Как свидетельствует «Всеобщий русский календарь 1918 года», «28 декабря 1912 года двести пятьдесят изб сибирской деревни Старая Барда Бийского уезда Томской губернии осветились электричеством, причем за освещение брали три рубля в год».
Ныне широко известны официальные выводы ведущего французского исследователя экономиста Эдмона Тори о том, что население России за 1902–1917 годы выросло на 31,7 миллиона человек (22,7 процента), в то время как за предыдущие 10 лет прирост составил лишь 15,4 процента. А в нынешней России население сокращается на полтора миллиона в год!
Производство зерновых выросло на 22,5 процента, картофеля – на 31,6 процента, сахарной свеклы – на 42 процента. «Излишне говорить, что ни один из европейских народов не достигал подобных результатов», – комментирует исследователь.
Расходы на просвещение за десятилетие выросли на 216,2 процента, на оборону – на 68,2 процента. По заключению Э. Тори, при условии непрерывности столыпинских реформ, к 1948 году население России достигло бы 343 миллионов человек, и она могла бы доминировать в Европе как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении. Такая перспектива категорически не устраивала и страшила западные страны. «С Россией надо кончать скорее, потому что через десять лет она будет непобедима, как основанная на правильной форме хозяйства» – так отреагировал на складывавшуюся ситуацию в России тогдашний германский кайзер Вильгельм.
Ошеломляющие итоги реформаторской деятельности Столыпина были достигнуты при яростном противодействии ополчившихся на него внешних и внутренних сил. Не все удавалось довести до конца. А противодействующие силы были немалые: за свои вековые привилегии цепко держалось дворянство, видевшее угрозу себе со стороны нарождающихся при Столыпине в России хуторских хозяйств.
Но особенно лютовала «мировая закулиса»: из 12 миллионов долларов, отпущенных известным американским банкиром Шиффом на дестабилизацию обстановки в России, 1,5 миллиона предназначалось непосредственно для организации покушений на Столыпина. Их было 11. Последнее стало роковым. Ленин физическую ликвидацию Столыпина ставил главной задачей. Без этого, по его убеждению, революция в России будет невозможной.
Столыпин предчувствовал свою трагическую кончину с самого начала своей государственной деятельности. Не раз говорил об этом своим близким и тем не менее ни на шаг не отступил от своего понимания долга как русского государственника и патриота.
В той обстановке лишь подобный Столыпину титан мог сохранить в себе силу духа и редкостное мужество, с предельной выразительностью проявившиеся в его знаменитой бойцовской фразе: «Не запугаете!» и в откровении, ставшем крылатым: вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия! Все это великое достоинство покоилось в Столыпине на той высокой нравственной основе, которую выделил в нем выдающийся русский философ Розанов: на Столыпине «не лежало ни одного грязного пятна: вещь страшно редкая и трудная для политического деятеля. Его смогли убить, но никто не мог сказать: он был лживый, кривой или своекорыстный человек».
О многих ли современных политических деятелях можно сказать такие слова?
Личностные благородные качества Столыпина, считавшего, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает жизнь, осложняет работу, державная сущность его натуры прекрасно и убедительно выражены в созданном Глазуновым портрете. Столыпин представлен на нем в придворном парадном мундире, но не в парадном настроении. Незадолго до того момента, в котором художник как бы застает своего героя, на него состоялось очередное покушение, когда был взорван его дом и жертвами организованной трагедии оказались ни в чем не повинные люди. И ему, чудом уцелевшему, по приказу царя были отведены апартаменты в Зимнем дворце.
За открытым окном одной из комнат – вид на Дворцовую площадь под северным небом, исполненным тревожным борением грозовых облаков. Напряженность внутренней жизни, запечатленная во взгляде великого человека, заставляет нас вспомнить слова Розанова: «Трудно представить Столыпина смеющимся, даже улыбающимся». Тяжкий крест выпал на долю великого борца за великую Россию. И у ангела, взирающего на землю с вершины знаменитого Александрийского столпа, в руках свой крест, от которого он будто бы посылает небесное благословение Столыпину.
Люди, видевшие этот портрет в натуре, удивлялись, что Столыпин на нем выглядит столь живым, будто бы он сам позировал художнику. И действительно, он воспринимается как будто бы написанный с натуры. Но вместе с тем это и исторический портрет, как бы дописанный прошедшими со времени жизни Столыпина десятилетиями, выявившими в нем для нас завершенный образ не сравнимого ни с кем старателя государственного делания. Здесь в полной мере проявились глубокое понимание художником своеобразия портретного жанра, блистательный его профессионализм и особое присущее ему свойство проникать в суть человеческой личности. «В портретах я стараюсь запечатлеть лик эпохи»…
С возвращением имени Столыпина в нашу современную жизнь то и дело предпринимаются попытки принизить значение его деятельности, подмять его могучую личность. Утверждается, будто все ценное, что удалось сделать Столыпину, было якобы заимствовано им у Витте. В частности, в качестве одной из заслуг Витте отмечается введение в России парламентаризма. Но что только не способна переварить Россия, когда ее толкают к краю пропасти. Даже парламентаризм, к чему Витте, как тайный враг исконно монархической России, действительно причастен. И по мнению Василия Розанова, именно Столыпин «оказал единственно возможный путь парламентаризма в России, которого ведь могло бы не быть очень долго и, может, даже никогда». Он указал, «что если парламентаризм будет у нас выражением народного духа и народного образа, то против него не найдется сильного протеста и он станет многим и, наконец, всем дорог. Это первое условие: народность его. Второе: парламентаризм должен вести постоянно вперед, он должен быть постоянным улучшением страны и всех дел в ней».
Теперь мы живем при парламентаризме. Кому же он дорог? Дух и устремления какого народа он выражает? Куда ведет? Ответы на эти вопросы можно услышать разве что у штатных телевизионных «смехачей».
Опыт и поразительные успехи реформаторской деятельности Петра Аркадьевича Столыпина, заставившие трепетать недругов России, имеют для нынешнего времени бесценное значение. Об этом нам будет напоминать теперь и яркий образ великого подвижника национального духа, воссозданный Ильей Глазуновым с присущим ему талантом и высочайшим профессионализмом, образ, по которому следует сверять свои нынешние и будущие дела и поступки на благо Отечества.
В созвездии муз: музыка, театр, архитектура
Творческие взлеты Ильи Глазунова во многом определяются необыкновенной широтой диапазона его духовной жизни, обусловившей блестящие свершения в сфере разных видов искусства. Как это сопрягалось с чисто художническим призванием?
Еще с детских лет его всепоглощающей страстью стала музыка. В трудные послевоенные студенческие годы он нередко заканчивал день в консерваторском или филармоническом зале или с друзьями часами слушал великих итальянских певцов у знакомого собирателя музыкальных записей и пластинок. Музыкальные образы воспринимались в непосредственной связи с образами изобразительного искусства. Слушая голос великого Джильи, будто уносился под синие небеса Италии в словно ожившие гравюры Пиранези. И никто, по его мнению, не ощущал так глубоко музыкальных тональностей в цвете, как русский композитор Римский-Корсаков, которого можно назвать живописцем в музыке, подобно тому как Врубеля – музыкантом в живописи. Картины же самого Глазунова можно сравнить с симфониями в красках. Поэтому его работа в музыкальном театре была как бы предопределенным явлением.
Привожу некоторые фрагменты высказываний Глазунова на эту тему, опубликованных в разных изданиях в течение минувших десятилетий и ныне отнюдь не поблекших. Часть из них помещена в сборнике его публицистических работ, выпущенном издательством «Современник» в начале 90-х годов и ставшем библиографической редкостью.
Вот фрагмент одной беседы с ним, касающейся отношения к музыке, датированной 1984 годом.
– Илья Сергеевич, каково значение музыки для вас как художника?
– Всю сознательную жизнь, сколько я себя помню, музыка неотрывно сопровождает каждый мой шаг. Она всегда звучит в мастерской, когда я пишу. Выбираю наиболее соответствующие, на мой взгляд, художественному строю модели произведения, и они, как близкие друзья, сопутствуют мне на протяжении всей работы. Я прибегаю к магнитофону даже в поездках. Это, вспоминаю, особо отметили мои итальянские коллеги, когда создавалась серия портретов мастеров итальянской культуры – Джины Лоллобриджиды, Лукино Висконти, Федерико Феллини, Доменико Модуньо, Эдуардо де Филиппе…
По-моему, искусство вообще, а музыка тем более, есть самая таинственная, высокая и сокровенная сфера проявления человеческого духа. Она одаривает неизгладимыми впечатлениями душу человека (недаром в Древнем Египте она находилась под строгим контролем жрецов). Это непереводимый язык общения, незаменимое средство передачи высших духовных ценностей. Не монолог наедине с собой, но обязательно обращение к людям. Гендель говорил, что музыка – это огромное дерево, под сенью которого может отдохнуть любой уставший от жизни путник.
– Илья Сергеевич, а ваши первые музыкальные впечатления?
– Помню дни ленинградской блокады. Я был тогда ребенком. Радио в городе не выключали: звучала сирена – значит, очередной налет, потом долго, изматывающе тикал метроном… Все кончалось, и тотчас врывалась классическая музыка. Как же она действовала на душу – облегчающе, облагораживающе, поднимающе! И как хотелось жить и верить! Чудо музыки для меня – как чудо жизни. И кажется, ни один человек на свете не может жить без нее, без искусства.
Музыка значит для меня бесконечно много. Просто у меня есть три родные сестры, которые всегда со мной: живопись, музыка, поэзия. И может быть, поэтому мои музыкальные вкусы строго ограниченны. Я люблю только классику в широком смысле слова. Было время, конечно, когда мне нравились модные шлягеры, но увлечение это быстро прошло. Оно не затронуло главного – безмерной тяги моей к великому классическому наследию. Мои любимые композиторы – Бах, Моцарт, Вивальди, Вагнер, Шуберт, Шопен. А из русских самый дорогой – Рахманинов. Люблю Скрябина, Мусоргского, Бородина, Чайковского, Римского-Корсакова… Дело тут даже не в приверженности к творчеству одного или двух конкретных композиторов, художников или поэтов, а в самом принципе их художественных исканий, который замечательно сформулировал Врубель: «Будить современников величавыми образами духа».
Всякий раз, слушая то или иное произведение, открываешь для себя новые, незнакомые доселе горизонты, заряжаешься свежим импульсом духовного стремления. Великий Гёте, потрясенный гениальными творениями Микеланджело в Сикстинской капелле, сказал, что не находит в себе силы жить вровень с титаническими образами этого гиганта. Пусть внимая клокочущей речи бетховенской «Аппассионаты», грандиознейшему творению человеческого духа, мы осознаем свою несоразмерность дерзаниям композитора, но одновременно и наполняемся животворной энергией и становимся сами сопричастными тайне бытия. И как бы ни страдала душа в «Неоконченной» симфонии Шуберта, очищается человек, хочется снова и снова жить.
– Ваше углубленное изучение древнерусского изобразительного творчества вполне понятно. Но известно также, что вы серьезно интересуетесь музыкальным прошлым Руси, истоками нашей национальной культуры в целом.
– Будущее невозможно без прошлого. Чем глубже корни традиции уходят в многовековую толщу духовного бытия народа, нации, тем плодоноснее древо культуры. Если мы где-то обрубаем корни, тем самым обрубаем и культуру… Помню, как я в первый раз приехал в Италию, еще совсем молодым человеком. В гостях у композитора, автора музыки к нашумевшему в свое время фильму «Рим в 11 часов», мы слушали новую запись «Реквиема» Моцарта. А потом, загадочно улыбаясь, хозяин взял новую пластинку и сказал: «А теперь послушайте вот это»… Я был ошеломлен. Что-то настолько родное, знакомое с детства, величественное, точно необъятные русские просторы и склоненные вечерние облака над тихими далями, незримо явилось вдруг в мареве шумного зарубежного города. Это тоже был реквием – русский, то есть панихида. Вот с тех пор я и стал сам жадно собирать все, что связано с музыкой Древней Руси, с этой вековечной ее традицией. А ведь в ней – отдельные грани облика и Мусоргского, и Римского-Корсакова, и Рахманинова, и сегодняшнего Свиридова, наконец…
Мы говорим о таких великих русских художниках прошлого, как Андрей Рублев. Но, конечно, были тогда же и великие композиторы, которых мы, увы, пока не знаем. Мы помним Баха, Моцарта, но забываем подчас о шедеврах Бортнянского, иных выдающихся отечественных мастеров – безвестных, как и в живописи, где не позволялось ставить имя автора. Но разве от этого нас перестает пленять чарующее обаяние силуэта, напевность цвета старой русской живописи, перестает волновать благородное и возвышенное звучание древнего славянского расцвета? Культура всех европейских народов зажгла свой факел от Византии, от солнца античности. И вот у нас в России на рубеже XIX и XX веков, с моей точки зрения, происходило своего рода возрождение, ренессанс национальных художественных традиций давнего прошлого, помноженных на вековой опыт человеческой души. Причем это было и в живописи, и в музыке, и в литературе. Вспомните знаменитые «Русские музыкальные сезоны» Дягилева в Париже, буквально потрясшие весь мир. Вспомните Виктора Васнецова, первого, кто проложил и указал пути к богатейшим сокровищам национальной мифологии и сказки, национального орнамента, узора, красочности. Раскрытая из-под темного слоя олифы русская икона поразила мир сверкающими гранями своего многоцветья, россыпью цветовых аккордов. И то же – страницы древнерусского хорового письма… Неслучайно такой сверхсовременный тогда художник, как Анри Матисс, писал, что итальянский Ренессанс дает художнику значительно меньше, чем русская икона, у которой должно и должно учиться. Бытовавший издревле на Руси действенный синтез хорового пения, живописи и архитектуры – вспомним поющую красоту линий старинных наших церквей и соборов – для себя лично я ставлю гораздо выше западноевропейских аналогов тех же времен.
В музее-соборе Ростова Великого я был свидетелем чуда воздействия силы такого искусства на людей. Где-то наверху включили запись юрловской капеллы, и устремленные ввысь своды показались ожившими, плывущими в поднебесье, музыка оборачивалась фреской, а фреска – музыкой. Трудно передать словами то изумление и восторг, какой выражали просветленные лица вокруг, множество лиц – в едином порыве. Не здесь ли таятся секреты дерзкого замысла скрябинской мистерии, вбирающей в себя и звук, и цвет, и танец, и драматическое действо? Сколько бесценных творений нашего прошлого мы пока равнодушно теряем!
Благоговейно произносятся «имена» органов – Кёльнского собора, Домского собора в Риге; почитаются сохранившиеся скрипки – Страдивари, Гварнери, Амати… У каждого свой голос, свой облик. Вспомните – русские летописи как важное событие отмечали рождение или гибель колоколов. С искусствоведом Владимиром Десяниковым у нас в свое время возникла идея записать звоны колоколов Ростова Великого, которая, к счастью, благодаря его стараниям, осуществилась. Пластинка «Ростовские звоны» по сей день печатается тираж за тиражом, ее раскупают по всему миру. А звонари – умерли, не оставив учеников, и вместе с ними кануло в Лету их живое вечное искусство. Между тем в итальянских городах устраивают публичные концерты на колоколах. Наше уникальное русское национальное наследие следует не только сохранять и беречь, но куда более активно продолжать и развивать его традиции в современном творчестве.
Это о музыке. А сценическое искусство, особенно искусство музыкального жанра, имеет, как известно, синтетический характер. И неудивительно, что в этой области с особым размахом раскрылось богатство личности Глазунова, глубина его проникновения в сферы музыки и поэзии, драматургии и архитектуры, истории и народного творчества.
Им вместе с женой Ниной Виноградовой-Бенуа, художницей по костюмам, созданы блистательные декорации к постановкам опер «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. Римского-Корсакова в Большом театре, «Князь Игорь» А. Бородина и «Пиковая дама» П. Чайковского в Берлинской опере, к балету «Маскарад» А. Хачатуряна в Одесском театре оперы и балета.
В этих работах он продолжил театральные традиции русских художников, таких, как В. Васнецов, Н. Рерих, А. Бенуа, К. Коровин, А. Головин, заложивших на рубеже XIX–XX веков основы современного театрально-декорационного искусства. Постановки с декорациями Глазунова, воскрешающими дух знаменитых «Русских сезонов» в Париже, имели триумфальный успех. В первых же театральных опытах Глазунов показал, что умеет создавать не только впечатляющий фон сценического действа, меняющийся в процессе его развития. В колористическом богатстве декораций, световой партитуре спектакля, в исторической достоверности и художественной выразительности каждой детали оформления, проникнутого единством творческого решения, зримо раскрывались, в соответствии с замыслом композитора, конфликты и характеры действующих лиц, целостный образ произведения. А если всмотреться в эскизы декораций Глазунова, то можно обнаружить такую особенность: их театральная природа не препятствует восприятию этих работ и как иллюстраций к литературному первоисточнику, на основе которого рождались, например, оперы «Князь Игорь» или «Пиковая дама». А во многих его станковых произведениях ощущается присутствие театрального начала, как, например, в той же «Мистерии XX века», где само название заставляет вспомнить о средневековых театрализованных представлениях, в организации которых участвовали представители всех сословий населения. Вот это своеобразие работ Глазунова подметил на его выставке, проходившей в 1978 году в ГДР, директор Берлинской государственной оперы, известный музыкант X. Пишнер и, увидев в нем прирожденного театрального художника, предложил работать над постановкой любой классической русской оперы. Художник сразу же назвал «Бориса Годунова». Но эта опера была уже поставлена. «Тогда – «Князь Игорь». И вопрос был мгновенно решен. Так началась его непосредственная работа в театре.
Откуда появился у Глазунова интерес к сценическому искусству, сам художник поясняет в одном из интервью начала 80-х годов.
– Должен сказать, что для меня театр значит очень много. В детстве мечтал быть театральным художником.
Помню, конечно, первые детские спектакли, но один из них особенно. Это «Фельдмаршал Кутузов» в Театре имени Ленинского комсомола. Он был поставлен в 1940 году накануне войны с Германией и вызывал у нас горячие патриотические чувства. Образы Суворова, Багратиона, Кутузова нас, мальчишек, тогда очень волновали. До сих пор помню слова Багратиона из спектакля: «Солдаты, мы сражались вместе, мы сотни верст прошли в пороховом дыму, – отдайте жизнь, но Родины и чести не отдавайте никому»… Стихи запали в душу как воспоминания детства. Моя тетя свела меня за кулисы. И я увидел сказочный мир театра: какие-то канаты, отодвигающиеся полутемные драпировки, солдаты в киверах и… живого Багратиона. Эта магия театра, это таинство, эта связь нынешнего дня с днем вчерашним глубоко взволновали меня, задев самые сокровенные струны.
Потрясение от увиденного и услышанного привело к тому, что я стал дома делать из ящика свой театр. У букиниста отыскивал старинные книги и открытки, по ним рисовал на картоне героев 1812 года. А когда все было готово, стал разыгрывать перед родными события Отечественной войны. Мой «театр» был сожжен в маленькой буржуйке, когда настал блокадный холод и голод.
Когда был эвакуирован в новгородскую деревню Гребло, учитель местной школы задал сочинение на тему: «Кем я хочу быть». Я написал: «Хочу быть театральным художником».
Итак, в Берлинском театре стала осуществляться та давняя детская мечта Глазунова. Его работники пришли в восторг от привезенных эскизов декораций и костюмов, выполненных Глазуновым и его женой Ниной. Но тут же впали в шоковое состояние – как все это красочное богатство представить на сцене? По воспоминаниям Геннадия Васильевича Шевелева, являющегося в ту пору заведующим постановочной частью Большого театра, проблема заключалась в следующем. Берлинский театр был оборудован прекрасной сценической техникой, но она не использовалась на полную мощность. Декорации для спектаклей создавались в упрощенном авангардистском ключе или в традиционном сентиментальном духе с использованием стандартных аксессуаров. Так что понять тогда положение немецких коллег не стоило труда. Но и необходимо было искать выход.
– Я стал показывать, – говорил Геннадий Васильевич, – как надо располагать элементы декораций на разных сценических площадях. «А они же не работают», – заявили нам. «Надо, чтобы заработали!» – категорично утвердил Илья Сергеевич.
И немедленно поднял всех на ноги, для того чтобы весь устаревший хлам, которым оказались забиты эти площадки, был устранен, а они приведены в действие.
– Моя задача заключалась в оказании помощи Глазунову при решении разного рода постановочных проблем. Но она трансформировалась в другую. Я вынужден был находиться за его спиной и буквально скручивать руки, сдерживая порыв бушующей энергии. Чего стоит такой эпизод! Когда просматривались декорации одной из сцен спектакля театра, сотворенные с присущим немцам тщанием лучшими специалистами театра, Глазунов вскочил из кресла и буквально возопил: «Что это за небо?! Что за облака?! Это же не облака, а дохлые зайцы!»
А облака были сделаны из нашитых кусков тканей, подбитых ватой. Илья Сергеевич немедленно потребовал: «Принесите мой эскиз. И делайте по нему. Пусть я плохой художник, но сделано должно быть только так, как на эскизе».
А в театре следующий день – выходной. Тогда пошли в мастерскую театра, где два человека с бородками выдали нам ведра для красок, кисти, воду. «А вы выпотрошите всех этих дохлых зайцев», – давал распоряжение театральным мастерам Глазунов. Затем он, я и Нина приступили к росписи декораций. Потом началась их перемонтировка. И все это было сделано за один день!
В другом случае приходит Борис Покровский (постановщик спектакля, кстати, приглашенный по рекомендации Глазунова). И в декорациях сцены «Половецкий стан» начинает передвигать кибитки.
Илья Сергеевич снова впадает в ярость: «Поставьте кибитки на место!..»
Подобные случаи, сопровождающие творческую деятельность Глазунова, не свидетельствуют о его какой-то неуживчивости. Просто он никогда и никому не позволяет вмешиваться в творческий процесс или диктовать свою волю. Так, по режиссерскому произволу при постановке спектакля «Лабиринт» А. Софронова в Театре имени Ленинского комсомола были попытки вмешательства в декорационное решение (Глазунов, его жена Нина и работавший с ними Шевелев потребовали снять свои фамилии с афиши). Подобные столкновения случались не только с театральными деятелями, но и с самыми влиятельными людьми страны. Помню, как один из ведущих членов Политбюро ЦК КПСС пытался убедить Илью Сергеевича убрать из «Мистерии XX века» образ Солженицына, заменив его другим. От этого зависело, состоится ли столь долго ожидаемое представление картины на выставке во Дворце молодежи, да и самой выставки в целом. Но он остался непреклонен. И еще один из множества сходных случаев. Во время работы над реставрацией Большого Кремлевского дворца всесильный тогда начальник президентской охраны А. Коржаков попытался внести свои коррективы в размещение некоторых художественных полотен. Возмущенный Глазунов резко потребовал, чтобы все оставалось на своем месте. Дерзость художника поразила Коржакова, но потом, как ныне говорят – оппоненты, преодолели возникшую ситуацию. Художественное решение не было нарушено. А сколько всевозможных препятствий приходилось преодолевать Глазунову при осуществлении других его проектов!
После триумфального успеха «Князя Игоря» он осуществил еще ряд постановок. О своем восприятии конкретных произведений, над которыми работал, и общем отношении к театру, Глазунов высказался в уже частично цитировавшемся интервью.
– Какую задачу вы ставили перед собой, начиная работу над «Князем Игорем»?
– Воплотить в зримых образах замысел Бородина. Работая над эскизами декораций к опере, я старался также воссоздать дух и историческую правду давно ушедшей эпохи Киевской Руси двенадцатого века. «Князь Игорь» – это не только великая опера Бородина, но и бессмертный памятник «Слову о полку Игореве». Мы исходили из концепции, что князь Игорь – герой, идущий против сил тьмы. Несмотря на зловещее предзнаменование – затмение солнца, он все равно полон неустрашимой отваги и идет на врага. Игорь бежит из позорного плена, чтобы вновь собирать полки и ударить по врагу.
Для художника эта опера дает широкие возможности творческой фантазии. Древнее зодчество Путивля отражает самобытность Киевской Руси, еще недавней ученицы Византии, сумевшей преломить ее традиции в своем национальном стиле.
Русское воинство собирается в поход. Храм, украшенный мозаикой Богородицы – Оранты. Сзади бескрайние дали с излучиной широкой реки… Это не какой-то конкретный памятник двенадцатого века, а собирательный образ древнерусского зодчества. Устремленность ввысь, совершенство пропорций ослепительно белого пятиглавого храма должны рождать ощущение величественной монументальности этого удивительного сооружения, гармонично вписанного в русский пейзаж. Особенности быта и жизни того времени раскрываются через интерьеры деревянного терема Ярославны, двора Владимира Галицкого. Здесь затейливая деревянная резьба, красочные орнаментальные росписи, сказочные крыльца, все то, что передает мастерство древних мастеров.
Совсем иная чужая земля – земля половцев. Это пряная степная Азия. Половецкие шатры украшены конскими хвостами и черепами лошадей. Буйные орнаменты ковров. Полыхает кроваво-красное небо. Сгущаются сумерки, наступает черная ночь с огнями степных костров. Смятение и тревога в душе плененного князя, который рвется из позорной неволи.
Впервые красота древнего лика России поразила и навсегда вошла в мое сознание и волнующим чувством Родины от встречи с древним Угличем. Был я также и на месте древнего Путивля.
– Что было вашей следующей работой в театре?
– В том же театре, в Берлинской штадт-опере, осенью прошлого года в том же составе осуществлена постановка оперы «Пиковая дама» Чайковского. Это одна из вершин музыкальной мировой культуры. Работал я над постановкой с большим напряжением и чувством ответственности. Увлекательная задача – показать обстановку роскошного Петербурга восемнадцатого столетия и, с другой стороны, трагедию человеческих душ.
Занавес к спектаклю изображает холодный вечерний Петербург с замерзшей Невой, Зимний дворец, силуэт Петропавловской крепости на другом берегу. По сумеречному небу разбросаны три карты: тройка, семерка и пиковая дама. В решении бальной залы и крепостного театра я исходил из образов подмосковных дворцов в Останкино и Архангельском.
Согласно режиссерскому замыслу, декорации должны сменяться очень быстро. В спектакле семь картин, он идет с одним антрактом. И работники берлинского театра смогли справиться с этой трудно выполнимой задачей.
– В одной из телевизионных передач «Театральные встречи» вы говорили о том, что самое главное для вас как художника в театре свет. Поясните, пожалуйста, свою мысль.
– Постановка света в театральной декорации – очень важный и, я сказал бы, основополагающий компонент театрального действия. Без понимания роли света на сцене можно погубить самую лучшую декорацию. Свет, таинство света создают настроение сцены, гасят или подчеркивают нужные детали, выявляют драматизм происходящего на сцене. Декорации должны глубоко реалистически воплощать среду, где действуют герои оперы, а свет – это мощное оружие художника, образно работающее на раскрытие замысла автора. Поэтому одну и ту же декорацию, одну и ту же сцену можно осветить так, что она будет звучать в унисон содержанию или наоборот.
В «Пиковой даме», например, в комнате графини свет постоянно меняется. И, наконец, при общем мраке мертвенно зеленый луч высвечивает фигуру графини, что вызывает ощущение ужаса и смерти. Это живопись светом.
А вот другая картина. Герман проникает к Лизе через окно. Героиня в нежно-розовой одежде в лунном свете петербургской ночи. Все напоено поэзией любовного свидания.
– Как вы понимаете русские национальные традиции искусства театральной декорации в их историческом развитии?
– Безусловно, соответствие декорации замыслу композитора и автора либретто. На сцене должна воссоздаваться среда, где действуют и живут герои спектакля.
Общеизвестно, что в русском театре декорации стали большим искусством, когда на сцену в последней четверти прошлого века пришли живописцы Васнецов, Врубель, Коровин, Головин, Рерих. Они возглавили и направили русскую школу театрально-декорационной живописи. Особенно в этом хочется отметить выдающуюся роль Александра Николаевича Бенуа, которого справедливо называют патриархом русского театрального искусства. Его неуемная энергия, влюбленность в блестящие страницы русской и европейской культуры, в частности, восемнадцатого века, исключительная эрудиция, соединенная с организаторскими способностями Сергея Павловича Дягилева, обеспечили успех театру в России и за рубежом.
В начале двадцатого века в европейском театре царили рутина и шаблон. Существовали готовые бутафорские сооружения, представляющие, ну, скажем, замок или дворец, или другие необходимые атрибуты действия, заготовленные на все случаи, из которых и комбинировался в принципе любой спектакль.
Русские художники подходили к каждому спектаклю как к новой индивидуальной творческой задаче. Она заключалась в синтезе трех единств – музыки, либретто и декорации. Каждая театральная картина создавала единственный и неповторимый в своем поэтическом реализме художественный образ.
Во время «Русских сезонов» в Париже в начале прошлого века было показано все лучшее из всего созданного в России в области музыки, танца и живописи. Декорации и костюмы Бенуа, Головина, Рериха, Бакста, Добужинского, других художников поражали богатством цвета, вкусом и фантазией, проникновением и сопереживанием духу времени. Интересный факт. Дягилев объездил весь наш Север, собирая подлинные вещи для оперных и балетных постановок. На парижской сцене пел Федор Шаляпин, танцевала Анна Павлова… Это был триумф русского искусства.
Европа была ошеломлена, когда увидела могучее русское национальное искусство, влияние которого на развитие всего мирового театрального искусства бесспорно и очевидно.
Неслучайно в Париже есть площадь Дягилева, а на здании Шатле – мемориальная доска, сообщающая, что там впервые выступал русский балет.
Среди работ, как некогда выражались, «на театре» особое значение имело для Глазунова создание декораций к постановке «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в Большом театре (1983). С темой этого выдающегося творения русской музыкальной классики Глазунов вплотную соприкасался еще в те времена, когда работал над иллюстрациями к романам Мельникова-Печерского и выезжал в Заволжье, чтобы познакомиться с этим лесным загадочным краем и побывать на легендарном озере Светлояр, куда по преданию погрузился град Китеж. И как всегда, эскизы костюмов к постановке создавала Нина Виноградова-Бенуа. Вот что говорил по поводу этой работы сам художник: «Об этой опере Римского-Корсакова мы давно мечтали и рассматривали работу над ней как очень для себя важную, в чем-то этапную. И здесь мы старались сохранить верность лучшим традициям русского реалистического искусства. Ибо реализм в высшем смысле этого слова, как говорил Достоевский, есть выражение идеи борьбы добра и зла, где поле битвы – сердце человека. А современность искусства, мне кажется, есть по-новому пережитая традиция. Когда современные художники честно продолжают и развивают эту традицию, тогда и создаются подлинно новые явления в отечественной и мировой культуре XX века».
Таким эталонным явлением и стал спектакль в Большом театре, над созданием которого вдохновенно трудились дирижер Евгений Светланов и режиссер-постановщик Роман Тихомиров. А оформление спектакля тогдашним министром культуры П. Демичевым было отмечено как лучшее за последнее десятилетие.
Спектакль и его декорационное решение восхитили зрителей. Помню, с каким восторгом на премьере встречалась каждая смена декораций – море аплодисментов – и нескончаемые овации в финале!
Но самое удивительное было в том, что оформление «Сказания о невидимом граде Китеже» восхитило не только зрителей, но и музыкальных критиков, отдавших дань его создателям.
Примечательно, что сходные впечатления у критиков вызвало и созданное ранее оформление «Маскарада» на музыку А. Хачатуряна в Одесском театре оперы и балета. В частности, отмечалось, что «декорации и костюмы погружают зрителей в 40-е годы XIX столетия. При этом костюмы, обладая специфической «балетностью», сохраняют этнографическую точность времени и подчеркивают индивидуальные характеристики героев. Удивительной иллюзорности достигают перспективы интерьеров, увы, почти забытые театром.
Восторженные аплодисменты встречают декорации каждой картины спектакля – холодные заснеженные улицы Петербурга, «машкерадные залы», интерьеры дома Арбенина или баронессы Штраль».
Такое понимание сути работы художника не может не радовать… Но хочется привести несколько слов самого Глазунова, относящихся к постановке в Большом театре из его книги «Россия распятая»:
«Всемирно известный русский дирижер Евгений Светланов в полную мощь раскрыл достоинства произведения Римского-Корсакова. Я думаю, что это самая русская опера. Гений композитора объединил сокровенные легенды русской народной души, русского эпоса. Думается мне, содержание оперы особенно созвучно нынешней ситуации. Каким высоким примером предстают для нас целомудренность и чистота девы Февронии, воинская доблесть и жертвенность молодого княжича Всеволода, принявшего бой с врагами, когда все пали в страшной битве!
Важен и поучителен образ Гришки Кутерьмы – спившегося предателя, который приводит врагов к граду Китежу…»
Но, как водится, триумфальный успех не может быть безоговорочным. Всегда находятся люди, как бы живущие в иной плоскости бытия, одержимые противоположными устремлениями. А по отношению к Глазунову сказанное справедливо вдвойне. Так было и в этот раз. «Странным комплиментом, – завершает он свой краткий комментарий, – прозвучали переданные мне слова одного из ведущих театральных художников: «То, с чем мы боролись сорок лет, в одном спектакле восстановили Глазунов со своей женой. Хорошо бы их под поезд кинуть!» А как нам мешали во время работы!.. А сегодня во всемирно известном Большом русская музыка звучит все глуше и глуше…»
Вскоре же грянула перестройка, когда не только русская музыка, но и все русское стало шельмоваться и оплевываться, а театр, как и другие виды искусства, захлестнул «девятый вал» порнографии, бездуховности и прочего непотребства. Одно из литературных направлений получило дурнопахнущее название – «фекальная проза». Такое определение с полным правом можно было отнести и к сущности всей прозы жизни, которую обрело большинство населения России.
Нельзя не сказать еще об одной постановке, ставшей сенсационной, внесшей серьезные осмысления в последующую жизнь. В конце 70-х годов к Глазунову обратился Юрий Шерлинг, главный режиссер Еврейского камерного музыкального театра (базировавшегося тогда в Биробиджане) с предложением написать декорации к спектаклю «Черная уздечка для белой кобылицы». Существуют разные мотивации такого предложения. С одной стороны – Илья Глазунов, заклейменный как антисемит, никак не мог быть подходящей кандидатурой для одной из главных фигур, определяющей образный и духовный строй принципиально важной для Еврейского камерного театра постановки. С другой – его слава, высота художественного таланта, редкостная способность воспринять культуру другого народа (по Достоевскому – всемирная отзывчивость).
Глазунов предложение принял, ибо всегда проявлял интерес к духовной истории, неоднократно обращался в своем творчестве к ветхозаветным и евангельским преданиям. И, как водится, с головой ушел в работу. Насколько велик оказался ее объем, мне открылось, когда я, отыскивая в его необъятном архиве материалы к одной из публикаций, неожиданно натолкнулся на несколько объемнейших папок, в которых содержались всевозможные научные, исторические, литературные, художественные источники, на основе которых создавались эскизы декораций, не говоря уже о предварительных набросках разных элементов оформления. Когда и как Илья Сергеевич сумел собрать такое богатство? По собранным документам можно читать академический курс истории еврейского народа. Но ведь все это надо было еще переплавить в законченный художественный образ! Ни для кого иного ни то, ни другое было бы не под силу. Но все, близко общавшиеся с Глазуновым, знали, что для сна у него оставалось не более четырех часов в сутки, чему бесконечно изумлялись и только разводили руками. А мне не раз доводилось слышать его шутливое сетование на то, что человеку приходится тратить определенное время на еду и заходы в туалет; вот если бы освободиться от этого – сколько бы он мог еще сделать!
Поэтому вынужденные разные приемы и банкеты он воспринимает как наказание, ибо они отнимают время.
Для многих русских художников, особенно прошедших академическую школу, неизменным оставался интерес к архитектуре. Например, архитектурными проектами занимался Врубель, а по рисунку В. Васнецова построена Третьяковская галерея. Естественно, они занимались и интерьером, созданием внутреннего убранства архитектурных сооружений. Кстати, многих посетителей мастерской Глазунова удивляли и радовали образцы мебели, созданной по эскизам Васнецова.
Не мог остаться чуждым к этому роду искусства и Глазунов, выросший в атмосфере дворцовых ансамблей родного города, впитавший красоту и державную мощь творений великих зодчих не только Петербурга, но и Павловска, Царского Села, Петергофа. Во время путешествий в Углич, Ростов Великий, Псков, Новгород ему открылась красота древнерусского зодчества.
Первым архитектурным проектом Глазунова стал конкурсный проект музея народного искусства в Палехе, выполненный им совместно с молодым архитектором А. Поликарповым в традициях «новорусского стиля» (примером этого стиля могут служить здание французского посольства и Казанский вокзал в Москве). Но этот проект так и не был осуществлен, поскольку Министерство культуры тогда не сочло нужным поддержать его. Он якобы выпадал из русла господствующих архитектурных изысканий, базировавшихся на типовых проектах, когда здание театра оперетты, бани или райкома партии мало чем отличались друг от друга. Однако работа художника приглянулась, попавшись на глаза тогдашнему министру иностранных дел А. А. Громыко. И Глазунову было предложено работать над проектом здания советского посольства в Мадриде.
«Я стремился создать интерьер, говорящий о державном размахе и великой духовности традиций нашего русского зодчества, – пояснял свой замысел Глазунов. – Нам удалось отстоять Московскую и Петербургскую гостиные, Пушкинский зал и белоколонную ротонду зала приемов». И не только это. Мэр Мадрида Энрике Терно Гальван, ознакомившись с проектом, высказал убеждение, что здание советского посольства станет украшением испанской столицы. А на открытии выставки художника он сказал: «Илья Глазунов – великий художник нашего времени. Его искусство многообразно по своим формам. Добро пожаловать, гениальный художник, в наш город!»
И когда мне в начале 90-х годов посчастливилось увидеть интерьер здания посольства, я был ошеломлен: в холле и залах этого строения, возведенного по калькам «карбюзьевского» мышления, неожиданно открылось величественное державное оформление в лучших традициях отечественной архитектуры. Осуществление этого проекта стало событием в художественной жизни Европы.
Несколько слов об основных его чертах. Лестницы и аванзал посольства украшены восемью полотнами, рождающими торжественно-праздничную атмосферу, в которых через историю Московского Кремля воссоздаются кульминационные события из отечественной истории. Здесь образы древней Москвы: композиции, представляющие выезд князя Дмитрия из стен Кремля на Куликовскую битву, избрание на царство Михаила Романова, грозовую атмосферу Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной – вплоть до победного салюта на Красной площади в 1945 году. Эти монументальные произведения написаны в 1989 году по эскизам и под художественным руководством Глазунова коллективом художников, в который вошли П. Литвинский, С. Ерошкин, М. Майоров, И. И. Глазунов, Д. Портнов, С. Николаев.
По замыслу художника, гости посольства должны получать представление не только об истории России, но и ее культуре. Поэтому особо впечатляет конструктивное и художественное решение Петербургской и Московской гостиных. Первая выполнена в классическом стиле с витражами, на которых запечатлен герб города, и картинами, передающими образ и дух невской твердыни. Вторая – с интенсивным колористическим аккордом сводчатых потолков, создающих атмосферу допетровской Руси.
В целом же изысканность интерьера посольства, свидетельствующая о безукоризненном чувстве стиля, глубинном проникновении в традиции национальной архитектуры, вызвала восторг испанцев. Журналисты писали, что «не надо даже ездить в Россию, чтобы узнать ее, – все известно из работ Глазунова».
Однако обо всем этом на родине художника в средствах массовой информации не было сказано ни слова. Как умалчивается до сих пор и поражающая воображение его работа над реставрацией и реконструкцией зданий Московского Кремля, в том числе Большого Кремлевского дворца.
«Архитектурные прозрения» Глазунова возникли, как уже говорилось, не на пустом месте. Помимо энциклопедических знаний в области отечественной и мировой культуры, своеобразным «инкубатором» архитектурных идей становилась и обстановка, которую он создавал вокруг, когда после долгих мытарств окончательно обосновался в Москве. В чердачном помещении «моссельпромовского» дома в Калашном переулке разместилась мастерская художника, все более и более становящаяся не только столичной, но и мировой достопримечательностью. Собрание икон, предметы русского быта нашли свое прибежище в ней, будучи спасенными Глазуновым от уничтожения при разгроме церквей и старинных особняков.
Исторической достопримечательностью стала и его шестиметровая кухня, где дружески принимались многие выдающиеся люди, атмосферу общения в которой создавала талашкинская мебель и как бы парящий на витраже герб Российской империи, что по тем временам могло рассматриваться как вызов.
В квартире привораживала красотой отреставрированная «павловская» и «александровская» мебель, произведения искусства, возвращавшие представления о прежнем укладе жизни коренных обитателей дореволюционного Петербурга.
Храмом искусства называют теперь основанную Глазуновым Российскую Академию живописи, ваяния и зодчества, признанную лучшим в мире учебным художественным заведением. Залы, коридоры, мастерские академии, воссозданные в реконструированном здании постройки великого Баженова, пронизаны духом классицизма и державности, наполнены высокой гармонией, освящающей души молодых художников с первых шагов учебного процесса.
Возрождение московской городской усадьбы – еще один вклад Глазунова в воссоздании традиций отечественной архитектуры. Ее интерьер, поражающий благородством архитектурных решений, подбором мебели, люстр и канделябров, произведений искусства, рождает атмосферу высокой поэзии и домашнего тепла, свойственного дворянским особнякам, в которых некогда жили и собирались на вечера выдающиеся деятели русской культуры.
Вершинным вкладом в современное зодчество стала его работа над реставрацией комплекса зданий Московского Кремля, в частности, 14-го корпуса, где размещается представительство президента России (в 1997 году она была отмечена Государственной премией России), а затем Большого Кремлевского дворца.
В реставрации БКД, осуществленной под художественным руководством Ильи Глазунова, как и в других его архитектурных проектах, получили новое воплощение державные традиции русской архитектуры, казалось бы, безвозвратно утраченные. Нынешнее великолепие архитектурного комплекса БКД составляют восстановленные Александровский и Андреевский залы, спроектированные выдающимся архитектором К. Тоном, а также заново решенные в духе его архитектуры другие части дворца со всем богатством интерьеров, мебели, произведений искусства, портретов исторических деятелей. Работа, проделанная самим Глазуновым и отчасти несколькими молодыми художниками, привлеченными им к оформлению некоторых помещений БКД, стала вкладом в современное зодчество и изобразительное искусство.
О некоторых особенностях осуществления этого проекта я попросил рассказать сына Ильи Сергеевича – Ивана Глазунова, руководителя кафедры композиции Российской Академии живописи, ваяния и зодчества, ныне члена-корреспондента Российской Академии художеств. Иван Ильич по линии матери Нины Виноградовой-Бенуа – продолжатель творческих традиций своего предка Николая Бенуа – архитектора столь знаменитого рода, непосредственного участника сооружения Большого Кремлевского дворца, которого привлек к сотрудничеству К. Тон (равно как и к созданию храма Христа Спасителя).
– Иван Ильич, многие из наших соотечественников и высоких зарубежных гостей, побывавших в БКД, были изумлены художественным уровнем реставрационных и реконструкторских работ и отказывались верить, что такое великолепие возможно создать в наше время. С чего все у вас начиналось?
– С того, что мой отец Илья Сергеевич Глазунов, руководитель художественного проекта реставрации БКД, пригласил меня участвовать в решении ряда деталей в рамках его общего замысла. Один из любимых императоров Ильи Сергеевича – Николай I, тот, волей которого и был создан Большой Кремлевский дворец по проекту К. А. Тона. А царская воля была такова: построить дворец не в чисто классическом, греко-римском стиле, а чтобы в нем угадывались черты византийского и древнерусского стиля со свойственными ему белокаменными резными деталями, которые со времен Петровских реформ были уже забыты. А кроме того, дворец должен был вписаться в общий кремлевский ансамбль.
К. Тон с поставленными задачами справился блестяще, и его имя навсегда будет связано с возрождением русско-византийского стиля.
В сталинские годы дворец подвергся перепланировке, его знаменитые Александровский и Андреевский залы были разбиты на этажи, так что, по существу, от тоновской архитектуры ничего не осталось. Но если при возрождении этих залов Илья Сергеевич мог опираться на эскизы, чертежи, фрагменты лепнины, сохранившиеся в фондах Музея Кремля, то решение интерьеров других помещений приходилось искать заново, но в духе архитектуры Тона. К примеру, в прошлые десятилетия ко дворцу, на месте разрушенного храма Спаса на Берегу, сделали пристройку – так называемую зону «Е», вход в которую из Александровского и Андреевского залов осуществлялся через Аванзал. Это был комплекс служебных и подсобных помещений, где проводились совещания, хранился разный реквизит. При их создании использовались бетон, панели, фанера – как при строительстве обычных казенных зданий. И встала проблема: как органично соединить Аванзал и пристройку с БКД? Причем здесь особую сложность представляло то обстоятельство, что все параметры помещений были заданы и приходилось вписываться в готовые пропорции. Илья Сергеевич выдвинул такую идею: в Аванзале должны присутствовать красный мрамор, малахитовые колонны и портреты царей, чьими деяниями создавалось могущество государства Российского.
К детальной проработке этой идеи, кроме меня, были привлечены также архитектор Андрей Ванеев, художники Иван Кузнецов и Владимир Штейн. Нами были разработаны капители колонн, светильники, люстры и плафоны, рисунок паркета и эскизы мебели, изготовленной в Италии. Итальянские фирмы отливали все детали лепнины по пластилиновой модели, что в наше время делается крайне редко. В торцах Аванзала размещены два больших барельефа. Один из них посвящен славе русского оружия времен Александра Невского, другой – славе петровских побед. Эти барельефы по моему эскизу лепил петербургский скульптор Николай Васильев. В простенках Аванзала, между окнами и дверями, размещаются портреты князей и царей, помещенные в золотые рамы. Они подвешены на бронзовых цепях, которые держат в зубах бронзовые маски львов. И теперь, когда люди из Александровского и Андреевского залов попадают в Аванзал, они не чувствуют, что оказались в каком-то ином, неожиданном окружении.
– Вами создано 18 портретов князей, великих князей и царей. Но в многовековой истории Отечества их насчитывается гораздо больше. Какой критерий лежал в основе отбора той или иной исторической личности?
– В соответствии с общим замыслом Ильи Сергеевича должны были быть представлены образы князей и царей-воителей, которые оставили наиболее значительный след в военной истории России.
– В исполнении портретов чувствуется единство стиля. Что лежит в его основе?
– Мне была поставлена задача написать портреты в духе живописи эпохи Николая I. А тогда представления об исторических личностях были более мифологизированы, чем сегодня. Тем не менее я старался опираться на богатейший иконографический материал. Хотя и здесь возникали свои сложности. Скажем, остались прижизненные изображения Петра I и последующих монархов. Но они такие разные, что если поставить их рядом одно с другим – трудно будет предположить, что это образ одного и того же лица. Поэтому надо было создавать обобщенный, собирательный образ.
В тех случаях, когда прижизненные изображения не сохранились, работа шла по оставшимся историческим документам и описаниям. Притом было важно, чтобы складываемый образ становился не просто плодом личного видения художника, а, по возможности, представал таким, каким он отложился в памяти поколений. А представления и описания были довольно точными, хотя их художественная расшифровка требует немалого творческого напряжения. О Дмитрии Донском, например, в летописи осталось точное свидетельство: он был грузен телом, но быстр взглядом. Как выразить это на холсте?…
При этом важно было показать не просто вереницу исторических деятелей в доспехах – как некое пособие по истории военного снаряжения. Всем, например, памятен девиз святого Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде». Поэтому его, как не только военного, но и духовного устроителя, можно было показать в княжеском облачении. Посему требовалась серьезная работа и над историческим костюмом.
Как-то я смотрел телепередачу про Московский Кремль. В ней показывали изображения наших государей на фресках Архангельского собора. Диктор комментировал их гробовым голосом: «Прости им, господи, согрешения вольные и невольные». Но ведь многие из них давно уже почитаются святыми. И дай бог, чтобы они вымолили за нас прощение. Снисходительный тон по отношению к ним – признак крайнего невежества.
– Над чем, кроме Аванзала, вы работали в БКД?
– В зоне «Е» решены интерьеры трех этажей. Два из них, по замыслу Ильи Сергеевича, – в стиле николаевско-пушкинской эпохи. Еще один, где расположился Петровский зал, – в стиле петровских времен. В этом же помещении находятся Красный и Зеленый залы, их убранство продумано Ильей Сергеевичем. Зеленый зал – зал для переговоров, украшен его живописными полотнами. Хотелось бы, чтобы переговоры, которые там должны происходить, соответствовали высокому настрою картин.
– Ваша сестра Вера, как свидетельствуют ее работы, талантливая художница. Она тоже принимала участие в реставрации Кремлевского Дворца?
– В помещении пристройки находятся два ее пейзажа, соседствующие с портретом К. Тона, выполненным М. Шаньковым, портретом Николая I работы Д. Слепушкина и моим портретом молодого Петра I в латах. Там же нашли место и два монументальных полотна «Полтава» и «Гангут», созданные И. Кузнецовым и В. Штейном.
– Монументальная композиция – ваша – «Распни его!», как и работы названных художников, представленные в 1994 г. в московском и петербургском манежах, вызвали сенсацию и заставили говорить о новом явлении в современном искусстве – русском духовном реализме. Что вами сделано после той выставки?
– Помимо работы над БКД, принимал участие в проектах по реставрации других зданий Московского Кремля, осуществлявшейся тоже под художественным руководством Ильи Сергеевича. Написаны картины, посвященные Русскому Северу, которым я «заболел» еще в юности, и теперь я частенько бываю там. Полагаю, что такие поездки должны стать традиционными и для студентов мастерской исторической живописи, которой руковожу в нашей академии. Ибо на Русском Севере еще во многих чертах сохранилась та Россия, которая здесь уже почти что незаметна. Такие поездки помогают восстановить жизненные силы, которые в центре сегодняшней цивилизации иссякают очень быстро.
После той нашей беседы с Иваном Глазуновым было создано немало живописных композиций. Но не мог утратиться интерес его и к работе над реставрацией и оформлением интерьеров архитектурных сооружений. В 2002 году он закончил роспись одного из старейших московских храмов – Малого Вознесения времен Федора Иоанновича, находящегося вблизи Кремля на Большой Никитской улице. Годом позже была завершена им роспись уже нового храма, возведенного неподалеку от Екатеринбурга, вблизи Ганиной ямы, печально известной в связи с истреблением семьи последнего российского самодержца.
А сестра Ивана Вера написала монументальное полотно «Великомученица Елизавета Федоровна», воссоздающее трагическую сцену расправы под Алапаевском. Так в трудах детей Ильи Сергеевича продолжается и развивается его духовная и творческая жизнь.
«Дети мои – два крыла, – говорил он в пору их становления. – Стремлюсь воспитать в них скромность и трудолюбие. Ведь стыдно эксплуатировать известность отца. И они понимают, что существуют для высоких дел. Поэтому истязают себя работой».
Как всегда, и в этом благородном стремлении он достиг своей цели.
Российская академия живописи, ваяния и зодчества
Первого октября 1988 года в культурной жизни России произошло знаменательное событие. В старинное здание постройки Василия Баженова на Мясницкой, известное москвичам как «дом Юшкова», в котором размещалось знаменитое Московское училище живописи, ваяния и зодчества, а в послереволюционные годы ВХУТЕМАС, влился первый поток студентов новой Всероссийской (ныне Российской) академии живописи, ваяния и зодчества.
Так состоялось второе рождение крупнейшего центра российской культуры.
Новая академия, по замыслу ее создателя Ильи Глазунова, должна была возродить русскую академическую школу живописи. Выдающимся представителем этой школы в императорской Петербургской академии в 70-х годах XIX века был П. П. Чистяков, воспитавший плеяду великих мастеров: И. Репина, В. Сурикова, М. Врубеля, В. Серова… В основу тогдашней школы было положено глубокое изучение образцов мирового искусства и строгая последовательность выполнения учебных заданий по нарастающей сложности. Важнейшим методом обучения стало рисование с гипсовых слепков, снятых с античных скульптур, и копирование лучших произведений классиков. Вторым российским центром художественного образования было Московское училище живописи, ваяния и зодчества, официальное учреждение которого состоялось в 1843 году.
1850-е годы были решающими в становлении реализма как творческого метода русской школы изобразительного искусства. Провозвестником его в училище стал А. Венецианов, а затем П. Федотов, оказавший большое влияние на творческую молодежь. В 1865 году с открытием архитектурного отделения училище получило право присваивать ученикам звание художников и награждать малыми и большими серебряными медалями. Расцвет училища пришелся на 70-е годы, когда главной фигурой в нем был В. Перов и утвердилась близость училища с Товариществом передвижных выставок.
Передвижные выставки открылись сначала в Петербурге, затем перевозились в Москву и другие города. В Москве они размещались в здании училища, причем особый зал отводился только под работы учащихся.
Ученические работы на первой передвижной выставке в 1872 году вызвали особое внимание художественной Москвы. Репин так выразил свое ощущение от увиденного в письме к Стасову: «Тут же в залах выставка московских учеников художников: вот где перлы! Вот где таланты! Сколько жизни, силы, чувства, и все это так правдиво, просто… Я только думал об этом, что это будет скоро, а оно уже есть, вот оно наше родное и в Москве, на родине!»
К концу XIX века московская школа, отличавшаяся тяготением к жанру, достигла таких успехов, что стала рассматриваться как прямая соперница императорской академии. И в первую очередь они связывались с творчеством В. Перова, А. Саврасова, И. Прянишникова, В. Поленова, В. Серова, А. Васнецова.
Теоретические дисциплины в училище преподавали крупнейшие ученые и педагоги, профессора Московского университета: В. Ключевский (курс русской истории), А. Кирпичников (история русской словесности), Д. Зернов (анатомия), К. Быковский (история русской и зарубежной архитектуры). Это способствовало формированию у творческой молодежи высокой культуры и гражданской активности. В 1905 году училище получило права высшего учебного художественного заведения.
В 1918 году императорская академия художеств и Московское училище живописи, ваяния и зодчества были закрыты и подверглись сокрушительному разгрому деятелями коминтерновского левого искусства. Осколками драгоценных слепков с античных скульптур из академического музея мостились улицы, картины великих мастеров разрезались на холсты для подмалевок экспериментирующих авангардистов, а художники-реалисты объявлялись старьевщиками, оплевывались, лишались средств к существованию. Академическая школа стала возрождаться лишь в 30-х годах уже в новых учебных заведениях – ленинградском и московском художественных институтах, вошедших в систему Академии художеств СССР.
Чтобы глубже понять, какой хотел видеть академию Глазунов, приведу фрагмент беседы с ним, состоявшейся вскоре после ее открытия.
– Академия воссоздана в качестве высшего учебного заведения, – говорил тогда Илья Сергеевич. – И первая ее задача вытекает из необходимости укрепления отечественной школы искусства, в основе которой лежит уважение к национальным традициям, высокий реализм и мироощущение нашей великой европейской цивилизации.
Свободе «самовыражения», так распространенной в нынешнее время, необходимо противопоставить освоение школы высокого мастерства, которым отличались русские мастера реализма XVII–XIX и начала XX века.
Сегодня в неимоверном масштабе растет число самодеятельных художников. Этот факт говорит о тяге народа к искусству. Но когда средства массовой информации пытаются привить нам «творческую раскованность», дать в качестве высшего образца авангардизм 20-х годов, возвести дилетанта на пьедестал, с небывалой остротой встает вопрос о необходимости профессионального мастерства, оправдывающего высокое предназначение искусства, которое становится оружием в руках художника, желающего выразить свое отношение к современности, понимание реально существующего мира, а не жестких абстракций, от которых веет тленом и хаосом разрушения.
– В своих выступлениях вы нередко ссылаетесь на императорскую Петербургскую академию художеств как на образцовый центр подготовки творческих кадров. И, говоря о новой Всероссийской академии, чаще употребляете понятие не «создание», а «воссоздание». Что вы берете от старой академии и что предполагаете внести нового в решение проблем школы?
– Всероссийская академия живописи, ваяния и зодчества (в 1995 году переименована в Российскую с приданием особого статуса) имеет три факультета – живописи, скульптуры, архитектуры и два отделения – искусствоведения и реставрации. От старой академии мы хотели бы взять прежде всего систему художественного воспитания, сложившуюся в XVIII и XIX веках. Эта система была жесткой, ее принципы были общими для всех, а вот художники получались разными. Разными были и создаваемые ими произведения искусства, общественные здания и храмы. А ныне художники в погоне за индивидуальностью следуют моде и, к сожалению, очень часто так похожи друг на друга.
Мы считаем, что только в сочетании и взаимообогащении «трех знатнейших искусств», как говорили когда-то, лежит перспектива нового витка возрождения школы.
Если в старой Петербургской академии художеств в одном рисовальном классе, в одной мастерской работали бок о бок живописец, скульптор и архитектор, то сегодня, в течение последних десятилетий особенно, разъединенные представители свободных художеств – живописи, ваяния и зодчества, – как лебедь, рак и щука, пытаются сдвинуть из трясины застоя колесницу Аполлона!
А ведь когда-то, например, наши архитекторы умели все – не только спроектировать удивительно гармоничные, соответствующие своему назначению здания, но и мебель, сделать эскизы росписей и даже дверной ручки! В наше же время архитектура перестала быть пластическим искусством, превратившись в техническую службу на строительстве бездушных бетонных коробок.
Архитектор, не умеющий рисовать, писать, не владеющий графикой, перестает быть художником. Вспомните братьев Брюлловых. Архитектор Александр Брюллов писал гениальные акварельные портреты не хуже своего великого брата Карла! С другой стороны, скульптор и живописец, не знающие основ архитектуры, не могут быть высокими профессионалами. Итак, необходимо подлинное содружество трех искусств в процессе совместной учебы.
Далее. Систему старой академической школы отличала строгая последовательность учебных заданий, рисование античных гипсов, пластическая анатомия, работа над картиной – все то, что «проходили» те из наших великих мастеров, которые составляют гордость русского искусства.
Мы решили возродить традицию творческих мастерских по жанрам искусств. Мастерская исторической живописи, мастерская портрета, пейзажа. На наш взгляд, это поднимает до уровня картины и пейзажи, и портрет. Нам нужны серьезные, профессионально исполненные картины всех жанров, а не сырые этюды, сработанные под флагом «самовыражения».
Но не может быть художником человек, даже обладающий определенным мастерством, но не владеющий широкой культурой, не имеющий личного взгляда на мир, не занимающий своей позиции в борьбе добра и зла!
В программу академии включены курсы русской истории, истории искусств России и других стран мира, истории философской мысли, истории мифологии, религии и многое другое. Мы хотим привлекать к чтению лекций лучших специалистов в данных вопросах, в том числе и зарубежных.
Особую роль в возрождении школы мы связываем с возобновлением творческой практики за рубежом. Императорская академия регулярно посылала своих лучших воспитанников в Рим! Академия художеств должна бы иметь возможность делать то же…
Здесь уместно будет сделать небольшое дополнение к сказанному Ильей Сергеевичем.
Разумеется, если художник не будет знать и чувствовать своей страны, как он поймет чужую? Потому столь значительное место в учебных планах академии отводится изучению студентами памятников истории культуры нашей Родины, произведений искусства, хранящихся в разных музеях страны. В связи с этим вспоминается такая рекомендация из трудов Всероссийского съезда художников, проходившего в конце 1911 года и оставившего яркий след в истории отечественного искусства: «Знакомству с богатствами, разбросанными по всему лицу родной земли, ничто так не содействовало бы, как личное знакомство с ними художников путем поездок на места; поэтому было бы желательно большее содействие устройству подобных поездок по различным местностям России, особенно замечательных по красоте и богатству природы и пейзажа или изобилующим памятниками художественной старины…»
Именно с поездки по городам и памятным местам Древней Руси – в Киев, Чернигов – и начались занятия в академии. Поездки, разумеется, не туристического плана. Студентам читались лекции, они выполняли зарисовки с натуры, этюды.
По мнению студентов и преподавателей, эта поездка была очень плодотворной. Молодые художники увидели Софию Киевскую, Владимирский собор, расписанный группой художников под руководством В. Васнецова, познакомились с фресками М. Врубеля, памятниками древнего зодчества…
А следующий учебный год для многих студентов и преподавателей академии начался с поездки в Италию, куда Илья Глазунов был приглашен для написания портрета папы римского.
И пока он работал, его воспитанникам была предоставлена возможность побывать в городах Италии, познакомиться с выдающимися памятниками культуры Высокого Ренессанса. Само название тех мест, которые они посетили, может сказать о богатстве полученных ими впечатлений – Рим, Неаполь, Венеция, Сорренто, Капри и многие другие.
Помимо знакомства с памятниками, студенты академии приглашались на семинары и дискуссии, проводимые итальянской академией La premiere в связи с подготовкой конференции, посвященной трудам Игнатия Лойолы. И были немало поражены тем, что на этих семинарах с большим уважением и заинтересованностью рассматривалось творчество их ректора, причем особое внимание уделялось картинам «Вечная Россия» и «Великий эксперимент». Один из семинаров так и назывался: «Глазунов и Лойола».
Насыщенная программа, предложенная гостеприимными хозяевами, оставляла мало времени для этюдов. И все-таки по возвращении в Рим, где к тому времени должна была состояться презентация произведений Ильи Глазунова (в том числе портрета Иоанна Павла II и картины «Игнатий Лойола»), студенты сумели представить и свои работы. Они так и были выставлены рядом – картины учителя и учеников.
Но это было позже. Наивно думать, что открытие академии ознаменовалось всеобщим ликованием. В прессе это событие практически никак не было замечено. Не вызвало оно заметной реакции и в среде так называемой творческой интеллигенции.
Некоторые ее представители, более или менее лояльно относящиеся к Глазунову, усмотрели в этом очередной пассаж художника, постоянно шокирующего своими «выходками» власть и публику, и не сомневались в обреченности такой затеи. Другие, на дух не принимающие его, были настолько ошеломлены, что временно потеряли дар речи. Третьим было не до того – в политическом смраде «перестройки» все явственнее ощущался трупный запах разложения. О каком созидании, возрождении традиций в той обстановке могла идти речь?
А именно об этом во всех инстанциях, публичных выступлениях настойчиво твердил Глазунов, добиваясь открытия академии. «Ныне, – говорил он, – в результате проведенного геноцида Россия превратилась в республику, выполняющую функции донора для других республик. Идет разграбление ее духовных и природных ресурсов, уничтожение культурных традиций, в том числе и традиций великой русской школы изобразительного искусства. Доступ в высшие художественные заведения для молодых художников России практически закрыт».
– Илья, что ты хочешь получить – инсульт или инфаркт? – поинтересовались у него на одном из совещаний два руководителя крупнейших творческих учреждений, когда в очередной раз Глазунов поднял вопрос о создании академии. – Кругом все разваливается, мастерскую оборудовать или, извини, сантехнику отремонтировать – целая проблема. А ты хочешь отхватить огромное здание, набитое разными закрытыми оборонными организациями, да еще набрать студентов. Махни на все рукой и забудь!..
– Увидите, через месяц из этого здания все вылетят, как пробки, и студенты в положенное время приступят к занятиям, – отрезал Илья Сергеевич.
Так оно и случилось. Все это можно было отнести на счет божьего промысла, но надо знать характер Глазунова, его способность выкладываться в деле, подключать к нему самых несоединимых людей.
Однако учредить академию, отвоевать в центре Москвы здание бывшего прославленного Московского училища живописи, ваяния и зодчества, осененное именами великих художников, что уже можно расценивать как подвиг, – одна часть дела. Другая – где в условиях начавшегося тотального развала страны найти средства на его реставрацию и реконструкцию; где, пока все это будет осуществляться, проводить учебные занятия?
Но Глазунов сумел решить и эти проблемы. А я помню, как, входя в здание академии, где проходил первый набор студентов, ужаснулся от вида руин, которые оставили после себя пребывавшие здесь организации: зияющие дыры в переборках комнат, груды мусора и всяческого хлама, будто здание подверглось штурму. И разложенные на затоптанном, выщербленном полу – работы абитуриентов. Но уже тогда по помещениям сновали люди, готовящиеся приступить к реставрации баженовского творения. И пока она проводилась, Академия развивала бурную деятельность в разных арендуемых помещениях. О ее масштабе уже в первые годы существования говорят такие факты. Были сформированы три факультета – живописи, скульптуры и архитектуры, а также два отделения – искусствоведения и реставрации. Развернулась работа и на отделении повышения квалификации, на котором проходили переподготовку преподаватели средних художественных заведений России. Немногим позже открылся Уральский филиал академии в Перми. Ею же стало осуществляться и научно-методическое руководство художественными училищами в Брянске, Самаре, Йошкар-Оле и Челябинске. А студенты получали необходимую профессиональную подготовку и, на удивление многим, завоевывали известность на всероссийских и международных выставках.
Академия в полном смысле – детище Ильи Сергеевича Глазунова. Нет равного примера по степени его самоотдачи своим воспитанникам. Помимо постоянных отчислении средств от своих выставок, он из всех ближних и дальних поездок обязательно привозит что-то своим питомцам – картины для музея, гипсы, чудные материалы для драпировок. Предметом его особой заботы стала академическая библиотека, насчитывающая уже более 70 тысяч редких изданий. Мне помнится, как во время посещения академии был потрясен этим собранием Валентин Распутин.
В связи со сказанным вспоминается один любопытный эпизод. «Дорогие дети, – так обратился к студентам академии профессор, директор центра мистических исследований Джузеппе де Дженнаро, приехавший вручить Илье Глазунову серебряную медаль – главную награду итальянского города Аквила, присуждаемую за выдающиеся достижения в области наук и искусства. – Я говорю так, ибо вижу и знаю, что Илья Глазунов любит вас и заботится о вас, как о своих детях…» Это было в стенах храма Косьмы и Дамиана, тогда еще не открытого, где размещались некоторые подразделения академии. Профессор имел право сказать такие слова, ибо он не раз бывал в академии и принимал самое деятельное участие в организации поездки ее студентов в Италию.
А вот еще один эпизод, подтверждающий справедливость слов мудрого и наблюдательного итальянского гостя. Однажды, в середине 90-х годов, оказавшись с известным журналистом в знаменитой гостиной Глазунова в Калашном переулке, мы стали свидетелями напряженной сцены: Илья Сергеевич распекал своих, как он их иногда шутливо называет, «скубентов» за то, что они не выполнили учебное задание – сделать копию портрета одного из классических мастеров. Те ежились, лепетали о том, что не смогли подыскать устраивающий их образец. Тогда Илья Сергеевич, указав на висящий на стене портрет художника XVIII века, спросил: «А это вас устроит?» – «Прекрасная работа!» – выдохнули они. «Так немедленно забирайте, и чтоб духу вашего не было! Приступайте к работе сегодня же! Иначе не успеете к зачету…» И тут же стремительно вышел из зала. А «скубенты» деловито стали снимать и упаковывать картину. Журналист, с удивлением смотревший на все это, осторожно поинтересовался: «А куда вы повезете эту работу?» – «Как куда – в свое общежитие»… Тот оторопел. «Илья Сергеевич, – обратился он к возвратившемуся в комнату наставнику юных талантов, – но ведь это же коллекционная вещь. Как можно отправлять ее в какое-то общежитие? И вы часто так делаете?» – «Спроси у них сам». Ответ был краток: «Постоянно…»
Подобных примеров можно привести бесконечное множество. Но каковы же результаты? Они впечатляющие. Невиданный успех сопутствовал воспитанникам академии на выставках в московском, а затем в петербургском манежах в 1984 году. Тогда публика и пресса заговорили о рождении нового русского духовного реализма, что картины достойны быть в знаменитой Третьяковке. Кстати, подобное высказывается членами Государственной комиссии при каждой защите дипломов выпускниками академии.
Появление таких высокохудожественных произведений плеяды новых, не похожих друг на друга художников-реалистов, подлинных новаторов, вызвало бурю восторга у зрителей. Определенная часть критиков и художников, разумеется, приняла в штыки молодых мастеров, идущих якобы против течения. И неудивительно: возрождение традиций русского национального искусства, религиозно-исторической картины, психологического портрета, а также пейзажа, способного передать настроение – скрытую мысль, не могло не взволновать нашу общественность.
Многочисленные именитые иностранные деятели культуры и государственные мужи, знакомившиеся с произведениями молодых художников академии и постановкой в ней учебно-воспитательного процесса, говорили о ней как о лучшем учебном художественном заведении мира. Например, дон Альфонсо, президент ведущей испанской художественной фирмы «Ансорена», более полутора веков специализирующейся на отборе лучших произведений изобразительного искусства, печально констатировал, что студенты глазуновской академии лучше знают Веласкеса и европейское искусство, чем их испанские коллеги. Увы, не только испанские. В середине 90-х годов состоялся визит делегации Российской академии в Венецианскую академию художеств. О том, что открылось во время этого визита, поделился один из его участников – проректор академии Геннадий Геннадьевич Стрельников. «Наш разговор с венецианскими академистами начался с рассказа Ильи Сергеевича о принципах воспитания художников нашей академии, о важности возрождения академической реалистической школы, при праве каждого мастера выбирать свой путь.
То, что мы услышали в ответ от редактора, повергло в шоковое состояние. Оказывается, их заботят другие проблемы. Школы нет, нет и искусства, которое, по мнению современных теоретиков, умерло. В Венецианской академии некому учить – нет руководителей творческих мастерских. Студенты не занимаются натурой, природой, не копируют старых мастеров, полностью находясь под влиянием поп-арта. Впрочем, – продолжал ректор, – такая ситуация возникает не впервые. Возможно, через некоторое время появятся новые художники, которые снова заинтересуются древним искусством и создадут что-то новое.
Смерть искусства – это даже не его собственная смерть, а смерть заказчика. Изменились вкусы. И нет ориентиров ни у публики, ни у художников.
Словно нехотя в завершение разговора нас проводили в мастерские. Зрелище оказалось удручающим. На картинах увидели некие подобия человеческих фигур, вписанные в звезды, кубы, конусы. Штрихи на полотнах, цветовые пятна, конструкторские построения, диаграммы. «Современное искусство – это выражение человека через инженерию», – пояснили нам.
Выходя из мастерских, мы были потрясены и не знали – то ли плакать, то ли смеяться. Припомнился рассказ Ильи Сергеевича о его встрече с президентом Французской академии Арно де Трюффом, который с горечью тоже говорил о том, что искусство кончилось, учить некому и нечему. То же самое провозглашал в свое время один из основателей современного модернизма, автор «Черного квадрата» К. Малевич».
Случилось так, что в XXI веке нигде в мире не осталось системы профессионального академического обучения подобной той, какая создана в Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Она создавалась, как скромно замечает Глазунов, коллективом академии на основе русской школы реалистического искусства. Важнейшим принципом обучения в ней является обязательный выезд студентов после окончания I курса на практику в Петербург. В Эрмитаже они копируют произведения Веронезе, Рубенса, Рембрандта, Тициана, других мировых классиков. В институте имени И. Репина изучают технику гризайли, рисуя с оригиналов античных слепков. Картины старых мастеров, рассказывала мне Вера Глазунова, закончившая академию, это как идеальное учебное пособие, начиная от цвета до построения композиции. Но копирование – не просто процесс получения профессиональных знаний. Это еще и радость общения со старыми мастерами, вхождение в их духовный мир. Методику работы Брюллова и Сурикова, Врубеля и Репина студенты могут изучать и по произведениям, находящимся в собственном академическом музее, где также хранятся образцы лучших учебных работ, созданных в императорской академии, равно как и произведения, характеризующие уровень мастерства преподавателей, большинство из которых закончили Суриковский институт в мастерской портрета Глазунова. Эта мастерская стала своеобразной творческой лабораторией по отработке системы воспитания молодых художников, получившей затем развитие в стенах Российской академии. В то время как студенты художественных вузов рассылались на практику по производственным предприятиям, студенты портретной мастерской, по настоянию ее руководителя, совершали поездки в Ленинград для копирования в Эрмитаже произведений классиков, в Царское Село и Павловск, а также на Валаам, в Новгород, Псков, другие древние русские города. А на лекционных курсах они знакомились с изъятыми из духовной жизни сочинениями великих русских историков и религиозных мыслителей – А. Нечволодова, В. Ламанского, С. Гедеонова, А. Гильфердинга, Е. Классена, К. Леонтьева, С. Булгакова, И. Ильина. Впервые за десятилетия советской власти студенты мастерской на средства от выставочной деятельности своего руководителя выезжали за рубеж для знакомства с коллекциями крупнейших европейских музеев.
– В моей мастерской обучение начиналось с первого курса, – вспоминает И. Глазунов. – Рисование с гипсов в Суриковском было отменено, понятие «гризайль» (вид живописи, выполненный в оттенках какого-либо одного цвета. – В. Н.) не существовало. Не существовало также вдумчивого изучения и копирования старых мастеров. Практика студентов всех курсов обычно проводилась в городе, на фабрике и заводах, где студенты должны были отражать «производственные процессы». Однако некоторые старшие курсы ездили в Ростов Великий и даже в Великий Устюг. Самой желанной для руководства была практика в Керчи на Черном море: преподаватели загорали вместе со студентами, писали натюрморты и морские пейзажи.
Как все были удивлены, руководство института даже противилось моему требованию, чтобы первый и второй курсы проходили практику в Ленинграде, копируя в Эрмитаже и Русском музее. Я был счастлив, что мог вывезти студентов в Новгород, в Изборск и в Псково-Печерскую лавру. Темами их композиций были, как в старой академии, мифологическо-библейские сюжеты русской истории и свободные темы, дающие простор крепнувшему мастерству молодых художников.
О той поре учебы вспоминает в своей мемуарной книге «Да будет воля твоя» один из учеников Глазунова, ныне профессор его академии Михаил Шаньков: «В критическую, тяжелейшую для меня пору Илья Сергеевич не махнул на меня рукой, просил и заступался за меня на всех уровнях, но чиновники, пообещав, так ничего и не сделали. Глазунов, несмотря ни на что, поддержал меня, помог выстоять: разрешал нелегально посещать занятия в мастерской, позволял наравне со студентами приходить к нему домой, пользоваться его библиотекой… Кто был я ему? Родственник? Сын влиятельного знакомого?… Конечно же, нет. И то, что он принял меня таким, не забудется никогда.
Не мне одному подставил свое спасительное плечо Глазунов. Сколько было нас в его жизни, разочаровавшихся в справедливости, – сотни, а может, тысячи людей разного возраста и рода занятий, поддержанных в беде, а то и безо всякой беды облагодетельствованных его щедростью. Он помогал бескорыстно, даром, надеясь на единственную возможную и желанную отплату: что когда-нибудь хоть кто-то из нас принесет пользу России».
И когда М. Шаньков все-таки поступил в Суриковский институт и стал учиться в мастерской Ильи Сергеевича, он осознал свое состояние так: «Теперь мне, пожалуй, уже ясно, что Глазунов насквозь видел опасные ступени нашего развития, даже предугадывал их. Не случайно он называл нас гигантами, признавая нашу самоценность, нашу творческую свободу, индивидуальность. Он зрил на сто шагов вперед, что, несмотря на всю ясность для нас его учительской необходимости, мы неминуемо должны будем подняться к вершинам полноты и всеобъемности своих «я»…»
Подготовка живописцев в академии изначально направлялась тремя кафедрами: живописи, рисунка и композиции. Последняя – основополагающая для любого художника.
Композиция – это вершина изобразительного искусства. В ней выражаются образ мыслей, философия живописца или ваятеля, воплощенная в художественных образах. Понятие «композиция» происходит от понятия «компонировать». Чем отличается понимание и преподавание этой дисциплины в академии от преподавания ее в других учебных заведениях России и Запада? Прежде всего тем, что ни в Европе, ни в Америке она не преподается. А если говорить об истории западноевропейских школ, то в них художники готовились как профессионалы-ремесленники для исполнения заказов на конкретные произведения. Поэтому на Западе можно очень мало увидеть картин, написанных «для себя», по зову души. Русские же художники, особенно со времен великого Александра Иванова, всегда стремились выразить свой духовный мир, свое понимание добра и зла. Показывая картину на выставке, они через нее духовно воздействуют на зрителя. Вот почему, как нигде, в России художник из ремесленника превратился в творца. Но вместе с тем, обладая мастерством, он мог исполнить и любой заказ. И здесь уместно вспомнить завет Врубеля, говорившего, что художник должен выполнять свой замысел твердыми руками ремесленника, а не дрожащими руками истерика. Таких мастеров и готовит академия. И недаром ее ректор любит повторять, что только тот, кто войдет в ворота классики, может стать современным художником.
Занятия по композиции в академии строятся на постепенном усложнении задач – от исполнения двухфигурных композиций до решения сложных многофигурных – исторических и современных.
Характерной особенностью занятий по композиции является то, что на живописном факультете проводятся специальные занятия, называемые «встрясками», во время которых студентами выполняются самые неожиданные задания. Их цель – раскрепощение творческой энергии и развитие способности быстрого понимания и образного решения различных тем, а также формирование личности студента не только как художника-профессионала, но и, по выражению Ф. Достоевского, «по-русски широко образованного человека».
Мне приходилось бывать на таких «встрясках». Некоторые записи, которые я делал во время этих «педагогических процедур», у меня сохранились. В моем архиве хранится наиболее полный вариант такой «встряски», переданный мне бывшим проректором академии Петром Петровичем Литвинским. Бесспорно, что записи могут заинтересовать не только любителей изобразительного искусства, но и самих его творцов.
Встряска
Итак, как учить композиции?
Это, пожалуй, наиболее неисследованный вопрос, хотя нет недостатка в методической и научной литературе, в которой подвергаются глубокому анализу картины мастеров, выводятся закономерности визуального восприятия, пространственного построения картинной плоскости и т. д.
Но в вопросе преподавания композиции чаще всего встречаются взаимоисключающие мнения. Одни весьма уважаемые специалисты, чаще всего художники-практики, не без основания опасаются излишнего тереотезирования и считают нецелесообразным сообщать студентам уже открытые в прошлом системы, приемы и закономерности построения картины, опасаясь механичности восприятия их студентами. Другие держатся прямо противоположного мнения.
Опыт мастерской портрета интересен в плане некоторого объединения этих полярных положений и новой формой подачи материала.
Здесь особенно важен первый урок, где закладывается вся дальнейшая система проведения курса композиции.
На первый курс института попадают студенты с уже сложившимися отчасти взглядами, заученными приемами, принятыми в разных школах нашей страны.
Попробуем передать характер и атмосферу этих занятий, проводимых в мастерской портрета еженедельно по субботам на примере одного такого урока.
Вот первый урок.
Суббота, 10 часов утра. Все студенты мастерской собираются довольно бодро. Первый курс уже в полном составе – все пятеро новеньких, такие разные и пока незнакомые. Остальные – «старички», готовясь к работе, переговариваются односложно: «Миши почему нет?», «Где Андрей?», «Когда наши из Кубы возвращаются?»
Как всегда стремительно появляется И. С. Глазунов, внося с собой совершенно другой ритм.
Все задвигалось, задействовалось в несколько раз «бодрее». Несколько коротких вопросов, замечаний, остроумных, метких, но не обидных словечек, и уже задернуты шторы, поставлен импровизированный экран – грунтованный белый холст, и начинается знаменитая глазуновская импровизация.
– Включи музыку. Божественный Джильи. Он очень подходит для итальянской школы. Сегодня мы посмотрим слайды мало знакомых вам шедевров итальянцев. Миша – отвечает за проектор и слайды.
На экране «Тайная вечеря»…век… Итальянская школа. Глазунов только что из Италии и весь полон впечатлениями.
– Первый курс – всем видно? Ближе, ближе садитесь. Сегодня вы в центре внимания. Бумага, карандаши есть у всех? Нет, шариковой ручки не надо! Ею можно писать заявления, письма, но не рисовать. Карандашик – святое дело. Так! Внимание на экран. Что изображено? Первый курс, кто может рассказать сюжет?
Робкое молчание. Слово из темноты аудитории: «Кажется, тайная вечеря».
– Верно! Но что за сюжет, расскажите! Констатирую полное незнание. Первый курс слыхом не слыхал о мифологии, на сюжетах которой основано мировое классическое искусство. Саша, расскажи им, будь добр!
Студент старшего курса, спокойно, тихим голосом, но очень толково рассказывает известный библейский сюжет о последней трапезе Иисуса Христа со своими учениками, о предательстве Иуды, о словах Христа «Се плоть моя, а се кровь». Объясняет, что момент, взятый для сюжета этой картины, отличается от великой «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, где изображен момент – «Один из вас предаст меня».
Приятно слушать толковый рассказ Александра, так выгодно отличающийся от казенных, заученных ответов на зачетах по истории искусств, которые частенько приходится слышать. Чувствуется непосредственное, личное отношение к теме, картине. Свое понимание психологической задачи.
– Спасибо, Саша, очень хорошо! Кто может дополнить? Вот Лейла молчит, а она в прошлом году сделала прекрасный доклад на эту тему.
Лейла, удивительно симпатичная девушка с умными глазами, уверенно и спокойно дополняет рассказ Александра, называя, как старых знакомых, по именам учеников Христа, апостолов.
– Так, спасибо, – снова вступает Глазунов, – сюжет нам ясен. А что было после этого собрания, кто знает? Помните, что совершил Иуда? Когда группу учеников Христа окружила римская стража, он подошел и поцеловал его, таким образом предав его в руки стражи. Он предал его поцелуем! Что может быть ниже – предать через любовь!
Может быть, некоторым покажется не нужным разбираться в такой древней истории. Зачем копаться в мифах? Где же современность? А разве не современно, не вечно звучит эта тема?
Я вполне могу представить себе такую картину. Партизаны-подпольщики на конспиративной квартире, кругом враги. Командир партизанского отряда говорит: «Друзья, среди нас сидит предатель!» Представьте, какой диапазон чувств, движений возникает после этой фразы.
Посмотрим теперь, какими средствами решает это мастер итальянской школы.
Кстати, прошу учесть, что это не великий гений, не Леонардо да Винчи, не Рафаэль. Это рядовой мастер. Но в том-то и величие школы, что она дает силы даже рядовым талантам работать в сфере высокого искусства.
Наш президент Борис Сергеевич Угаров (президент Академии художеств СССР. – В. Н.) очень верно сказал, что школа дает нам крылья! Поэтому наша с вами задача – возродить великую русскую школу. Художник, овладевший школой, не может работать плохо. А на фоне прекрасных произведений школы появляются супершедевры.
Итак, кто расскажет, какими средствами автор добился такой степени выразительности, что мы, даже иногда не зная всех тонкостей сюжета, покорены и восхищены картиной?
Студент пятого курса, высокий красивый украинец с казацкими усами, известный в мастерской «композитор» (освоивший законы композиции. – В. Н.), обладающий темпераментом исторического живописца, рассказывает о своих наблюдениях. Все внимательно слушают. Нет и следа пассивности, скуки, иногда встречающихся на лекциях. Говорит их товарищ. Вопрос становится дискуссионным. Каждый может либо поддержать, либо опровергнуть доводы товарища.
Глазунов как опытный дирижер не дает затухнуть дискуссии, ободряя, вставляя нужное слово.
Идет разговор о важнейших законах композиции, о принципах визуального восприятия, построения картинной плоскости, о значении вертикалей и горизонталей, опорных точках картины, о «рифмах», акцентах, паузах. Все это не абстрактно, схоластически, а в связи с высоким образным содержанием.
– Обратите внимание, как «волнообразно» строится холст. Встречаются как бы две волны: темная – затененный потолок в форме полуовала и светлая – стол с белой скатертью и группой «светлых» учеников.
Это не только композиционный прием. Борьба света и тьмы, добра и зла. Это вечная философия, диалектическое единство противоположностей. Смысловой центр – фигура Христа, – четко рисуется в обрамлении окна. Существует термин – изоляция центра – прием, при помощи которого достигается выявление главного.
Но в данном случае этот прием тоже несет высокое философское содержание.
Окно – это небо, это мир, космос. Окно округлено сверху – всем известная арка. Но в то же время – это как бы нимб, светящееся небо вокруг головы Христа. Круглый хлебец – просфора, который он держит в поднятой руке, мы замечаем сразу. Это самая светлая точка на всей картине. Но это как бы планета Земля, символическая цель предстоящей жертвы. Вот насколько многогранна, многослойна живопись мастера, если научиться читать ее, сопереживать.
В живописи тоже есть свои поэты и прозаики, но нет места холодным фиксаторам, подражателям природы. По моему мнению, например, великие русские художники Суриков, Репин – величайшие прозаики, такие, как Толстой, Достоевский.
Поэты в живописи как А. Иванов, К. Брюллов, М. Врубель – вносят в свой изобразительный язык большую долю условностей, добиваясь поэтической выразительности, емкости содержания.
Рифма в живописи так же правомерна, как и в поэзии. Посмотрите на отшатнувшуюся фигуру Иуды в правом углу картины, и в рифму ему в противоположном – фигуру апостола, обращенного к центру. Любая фигура в картине имеет свой ответ, свою рифму. Это же можно проследить и в колорите. Аккорды белых и красных цветов, ритмически повторяясь, создают то музыкальное, органное звучание, которое зачаровывает нас даже раньше, чем мы проникнем во все таинства сюжета.
В обсуждении принимают участие все. Даже первокурсники, вначале робко молчавшие, вставляют – и часто «впопад» – свои слова.
Картина прочитана, почувствована.
– А теперь, – говорит Глазунов, 10 минут поработаем карандашом. Каждый делает эскиз композиции в маленьком размере. Только концепцию, только главное в решении картины. Художник должен думать с карандашом в руке.
Музыка звучит громче. Все рисуют. Божественный голос Джильи снимает напряжение, утомление и направляет мысли на самую суть работы.
– Величайший певец, – говорит Глазунов. – Умер относительно недавно. Мы все его современники, но он весь принадлежит великой Итальянской школе. Он голосом делает то же, что великие художники делали кистью, резцом. Он силен и нежен. В его голосе все – от крика, рыдания до шепота.
Проходит 10 минут.
– Миша, дай-ка твой рисунок, – говорит Илья Сергеевич. – Смотрите все! Вот так четко и ясно надо делать эскизы. Так и вы должны компоновать свои холсты. Главное – замысел, концепция – все подчинено ей. Нет случайностей, активность восприятия. Долой равнодушие, подражание! Подражают обезьяны. Человек почесался – обезьяна почесалась.
Теперь посмотрим еще одну «Тайную вечерю».
На экране появляется гениальная фреска Гирландайо. Другое решение, другая концепция. Но ребята с воодушевлением и радостью первооткрывателей вновь находят те же закономерности в великой фреске. Обсуждение закончено.
– Так, внимание, прежде чем мы посмотрим очередной шедевр, – такое задание ко всем. Поклонение волхвов. Кто может рассказать, о чем тут речь?
Первый курс снова молчит! Что это за сюжет? Кто они – волхвы, откуда пришли и кому поклоняются?…
Снова встает Александр. Начав с характеристики зороастризма, с личности Заратустры, он очень глубоко и по-своему рассказывает всем известный миф из библейской истории. Обращает на себя внимание то, что все эти выступления заранее не готовятся. Никто не объявляет заранее темы бесед. Нет налета зубрежки, ответа «чужими» словами. Все пережито, перечувствовано. Единственное, что здесь не прощают, – неискренности и фальши.
– Спасибо, Александр! Как всегда на высоте! Теперь общее задание – все в течение 10 минут делают эскиз композиции на эту тему. Те, у кого нет вдохновения на евангельский сюжет, на вечную и вечно современную тему – рождение ребенка. У нашего друга Н. родился ребенок. Мать трепещет от счастья. Вы, друзья, приходите поздравить. Тема добра, света, счастья, но не скрою – будущих трудностей…
Все рисуют, проходит 10 минут, и, как ни странно, на «суд» выкладываются около 20 эскизов, очень неплохих, с определенным налетом влияния старых мастеров, но ясных по теме и общему решению пятна. Глазунов проводит оценку, отмечает лучшие, говорит о возможных вариантах.
– Теперь посмотрим, как это решают великие, – говорит он. На экране – «Поклонение волхвов» Рубенса.
Вновь идет подробный разбор композиционного строя картины. Каждый стремится добавить свои наблюдения, мнения, замечания.
Рубенса сменяет Эль Греко – идет разговор об удивительной индивидуальности мастера, его собственном видении, прозрении темы.
Дискуссия разгорается, когда на экране появляется известный шедевр Пуссена на ту же тему. Леша, студент 5-го курса, уже «ветеран» мастерской и глубокий, вдумчивый аналитик школы, дает свое понимание строя картины, несколько спорное с точки зрения Глазунова. Видно, что Илья Сергеевич слегка утрирует свое «непонимание» и специально разжигает «страсти».
В доказательство правоты Леши с мест подаются остроумные реплики. На помощь приходят калька, карандаш. Все увлечены. Фиксируются неожиданные находки в строе картины, приводятся доказательства и других мастеров.
Глазунов доволен. Живой разговор состоялся.
– Но, друзья, – резюмирует Илья Сергеевич, – я хочу подчеркнуть одно, на мой взгляд, очень важное обстоятельство, а именно: никакое знание приемов, законов и схем композиции не гарантирует появления произведения искусства. Картина начинается с личного переживания, с рождения образа. Все остальное – техника воплощения. «Что и как» – вот короткая формула искусства. Хочу привести пример из прошлого. Хороший ленинградский художник, взяв за основу великий шедевр Веласкеса «Сдача Бреды», решил на его схеме современную тему. Причем, надо отдать ему должное, проявил высокое мастерство исполнения. До сих пор помню, как был написан круп лошади – прямо как у Веласкеса.
Но картина получилась мертвая, бездуховная. Нельзя пользоваться композиционными приемами как отмычкой в великое искусство. Все должно быть пережито, тогда придет решение – единственно верное. Но знать грамоту надо.
Реплика с места:
– Так же, как анатомию – знать и забыть. – Правильно! Забыть, но чтобы это осталось в сердце, в руке. Невежество никому не помогало, но глубокое, скрупулезное знание предмета еще не искусство. Пример из нашей истории. Профессор Басин, крупнейший рисовальщик академической школы, который мог, начав с мизинца, нарисовать натурщика, – не стал великим творцом. Наш современник М. Нестеров, на мой взгляд, рисовал гораздо слабее, но он принес миру свою тему, и он велик.
По предложению И. С. Глазунова всем дается задание – подготовить небольшие доклады о своем любимом художнике. Особенно это важно для 1-го курса. Старшекурсники Леша и Миша назначаются кураторами первого курса по этому заданию.
Тут же выбирают тему. Охват велик. От Рублева до Рафаэля, от Леонардо до Сурикова.
Неожиданно появляются особо личные темы.
Гриша Г., родом из Смоленщицы, берет темой доклада личность княгини Тенишевой, а наша умная Лейла Хасьянова, снова проявляя свою незаурядность, берет Генриха Семирадского – сложного, противоречивого художника удивительного темперамента и мастерства, но трагической и сложной судьбы.
Доклады решено делать каждую субботу по два в одно занятие.
Первая часть урока закончена. Все переходят в соседнюю, светлую аудиторию, садятся за стол, не выпуская из рук бумагу, карандаши.
Без всякого «перекура» Глазунов снова бросается в атаку:
– Внимание! Будем писать исповедь. В форме письма другу. Первый курс – вам дается 30 минут. Все пишут эссе – «Почему я хочу стать художником». Остальные – «Самое яркое мое впечатление за лето». Коротко, грамотно, ясно. Через 30 минут я приду. Музыку включаю погромче – Шопен, Лист, – чтобы направить ваши мысли на благое дело.
Проходит полчаса. Все пишут. Некоторые исписали всю страницу, у других 2–3 строчки. Сосредоточенно думают.
– Все, господа, – говорит, входя в аудиторию, Глазунов. – Музыку пока выключаем. Первый курс – вам слово. Кто начнет?
На «трибуну» во главу стола садится несколько стесняющийся парень. Он представился всем и стал монотонно читать «сочинение». Оно изобилует общими фразами, готовыми формулировками, чужими мыслями, взятыми напрокат, очень похожее на те, что пишут на контрольных по литературе. Он явно не понял задачи и написал «сочинение на заданную тему».
Посыпался град вопросов. Студенты-старшекурсники явно не удовлетворены. Они остро и беспощадно «разбирают по косточкам» бедного первокурсника. У него краснеют уши, но он стойко держится.
Глазунов, умело «дирижируя» и добавляя не менее острые критические замечания, не дает превратить дискуссию в обидную. Все выглядит так, как будто семья отчитывает своего родного, но слегка заблудшего сына.
Парень явно растерян, но начинает кое-что понимать. Мудрый пятикурсник Юра говорит: «Илья Сергеевич, с него пока хватит, он просто не все понял, но надежда есть».
– Ладно, – соглашается Глазунов, – сходи с «трибуны», твое счастье.
На «трибуне» появляется первокурсник Сережа. Он уже год ходил «вокруг» мастерской и несколько знаком с необычными методами Ильи Сергеевича. Очень коротко, чуть стесняясь, он читает свою исповедь, не поднимая глаз, но готовый к любой критике. Искренние слова парня дошли до сердец строгих «судей».
– Хорошо сказал! Теперь только исполни, что задумано.
Сережа уступает место Айдару – высокому стройному парню из Татарии с красивыми темными и мечтательными глазами. Он читает лирическое эссе о своей любви к природе, к журчанию воды в ручье, догорающему костру в темном лесу. Считает своей целью выразить это и показать людям. Он всем симпатичен, но его так же «беспощадно» критикуют за созерцательность, бесцельность, пассивность стороннего наблюдателя.
Глазунов говорит о необходимости осознать корни культуры своего народа. Говорит о величии мусульманской культуры, о необходимости продолжать и отстаивать традиции национального искусства.
– Делаешь для своего народа – делаешь для всех, – говорит он. – Но мне понятна и ясна позиция Айдара. Она проникнута любовью к миру. И если на его глазах запоганят химическими отходами его любимый святой ручей, то он не будет сторонним наблюдателем. Я верю в это. Художник – это борец. Мы боремся со злом, с тьмой, мракобесием. Великий Достоевский, по его собственному выражению, писал свои произведения руками, «дрожащими от гнева».
Вообще для русского искусства характерна эта боль за «униженных и оскорбленных». Я не могу согласиться с Матиссом, говорившим, что искусство предназначено только для отдыха уставшего чиновника. Мы не хотим щекотать нервы и забавлять людей великим искусством…
Первокурсники все прошли через «трибуну». Решение общего собрания – им дано время подумать и изложить свои мысли еще раз.
К чтению своих сочинений приступили «старики». Милая, маленькая, но очень серьезная и значительная Лейла – единственная девушка во всей мастерской, – спокойно и серьезно прочла написанный хорошим языком рассказ о том, как при каждом посещении Русского музея она «бережет напоследок» встречу со своим любимым художником Генрихом Семирадским, о своем понимании его картины «Фрина на празднике Посейдона».
Это совершенно самостоятельные мысли – ни тени штампа. Илья Сергеевич благодарит ее, и на ее лице вдруг появляется совершенно детская улыбка. Похвала Глазунова – это редкая награда.
Юный Дима, всеобщий любимец, белобрысый симпатичный парень с тонкими чертами лица, читает остроумно и легко написанную новеллу о впечатлениях празднования Пушкинских дней в Пушкинских горах. Не верится, что это написано за 30 минут.
Пушкинская тема глубоко пережита Димой. Он весь находится под обаянием Пушкина, вжился в его эпоху. За лето он сделал более 30 листов иллюстраций к «Евгению Онегину» и углубленно разрабатывает эскиз дипломной картины на тему «Смерть поэта». В его новелле чувствуется боль и возмущение опошлением традиций праздника, желание защитить память любимого поэта.
Все говорят о самом сокровенном. Чувствуется, что в атмосфере «глазуновской субботы» нет места фальши. Ее сразу распознают и «высветят» внимательные, остроумные и бескомпромиссные друзья.
Зато с какой бережностью и тактом замолкают все, когда дело касается интимных признаний. Чувствуется почти родственная забота друг о друге.
Коля Р. рассказал о встрече со столетним стариком в гоголевских местах на Украине. Старик сидел на пне и задумчиво ворошил палкой сухие листья. Мне показалось, сказал Коля, что он ворошит свои прожитые годы.
– Молодец, – сразу отметил Глазунов, – это слова и чувство поэта. Это картина. Делай эскиз.
Еще один студент рассказал о своей встрече с картиной Рибейры «Несение креста», о безмолвном диалоге, который он вел с этой великой картиной во время копийной практики в Эрмитаже.
– Хочу отметить сразу, – прервал Илья Сергеевич, – для всех, кто будет копировать в Эрмитаже, надо ставить себе не просто технические задачи. Николай глубоко прав, что думал об образе, содержании и сделал великолепную копию. Она останется для него событием на всю жизнь.
Гриша признал, что самым глубоким переживанием лета для него было открытие балета. Он прекрасно описал свои чувства после спектакля «Лебединое озеро» в Кировском театре. «Я открыл для себя музыку в живописи», – заключил он.
Разговор о лете окончен, но урок продолжается. Он длится уже 4 часа фактически без перерыва, но ни у кого не появляется даже мысли «поныть» и попроситься «перекурить». Все захвачены стихийным творческим зарядом Глазунова, его отдачей себя всем и требованием ответной отдачи.
Последний этап урока. Все берут снова бумагу и рисовальные материалы. Задается тема на 10 минут. Первый курс – «Мой дед». Все остальные – каждый ту композицию, которую он разрабатывает дома.
Трогательно смотреть на еще наивные, но всегда честные и беспощадные к себе исповеди-рисунки первокурсников. Они уже поняли, что банальным сюжетом, полуправдой, а то и вовсе враньем здесь никого не удивишь. Эскизы не совершенны по форме, но интересны по замыслу. Обсуждают их все на равных. Эскизы разложены на полу. Каждый автор объясняет идею и выслушивает ряд дельных и метких замечаний педагога и товарищей.
Эскизы старшекурсников серьезнее, совершеннее. Некоторые встречают бурное одобрение за свежесть решения и интересную идею.
Урок окончен, расходиться никому не хочется, хотя прошло уже 5 часов. Все взбудоражены, взволнованы, настроение почти праздничное. Первокурсники уже почувствовали себя в единой семье, они уже члены мастерской, хотя их и не «гладили по головке». Удивительный урок заканчивается общим разговором, планами на ближайшую неделю, на воскресенье. Неутомимый Глазунов утомлен. Он как актер на сцене – весь выложился, весь отдался своим ученикам, хотя в уроке участвовали все и в нем не было обычного «вещания» педагога кафедры.
Каков же результат этого урока? В итоге произошло очень многое. Во-первых, естественно, без нажима произошло знакомство, а пожалуй, и полное вхождение новых студентов в сплоченный коллектив мастерской. Их узнали не формально, а в процессе творчества, узнали их мысли, чувства, цели. Они сами оценили своих старших товарищей, поняли свои слабости, поняли, что им предстоит узнать и сделать. Они еще несколько ошеломлены «обвалом» новых впечатлений, но по их глазам видно, что это все им интересно, они уже живут новым творческим режимом. Они уже члены семьи.
А ведь на это обычно уходит не один месяц, да и то иногда до конца учебы существует разделение на старших и младших.
Стиль мастерской – творческого единства и взаимопомощи – им ясен. Они поняли, что их учителями являются не только профессора, а и старшие товарищи. И в то же время они почувствовали, что и к ним прислушиваются на равных, если им есть что сказать. Кроме того, в этой удивительной форме – лекции без лектора, когда в серьезном разговоре о законах композиции участвуют все, – рассмотрен ряд теоретических вопросов в тесной связи с творчеством. За один урок проделаны также и практические упражнения. Проделан огромный объем работы – более ста рисунков, набросков эскизов, из которых многие станут основой картин.
Можно проследить целый ряд положительных моментов, но, пожалуй, поражает еще и то, в какой форме подачи материал воспринимается активно, без вполне естественной после пятичасовой напряженной работы утомления, «отупения» и скуки.
Вспоминаются кем-то сказанные мудрые слова о том, что учение не копилка знаний, а факел, который нужно зажечь. Пробудить желание к самостоятельному творчеству, мышлению, разжечь огонь любви к своему народу, его истории – это ли не главная цель воспитания художника?
Говоря об учебных «встрясках», проводимых в академии, невольно рождается мысль, что для каждого ее воспитанника все годы пребывания в ней становятся душевной встряской, пробуждающей духовные и творческие силы. А в целом – Академия дает встряску художественной жизни России.
А что же делают другие академические вузы – имени Репина и Сурикова – можно задать вопрос.
Ответ дала выставка в залах галереи искусств Зураба Церетели на Пречистенке, где были представлены произведения воспитанников трех академических заведений. Событие редкостное, позволяющее судить об уровне и направленности творческих устремлений молодых художников, которые призваны выразить лицо искусства нынешнего времени. Поэтому о ней скажем подробнее.
Среди картин воспитанников глазуновской академии на историческую тему выделялась композиция А. Михеева «Михаил Черниговский в стане Батыя». Сюжет ее основан на трагическом событии времен ордынского нашествия, когда князь Михаил был вызван в ставку Батыя, где ему предстояло испытание огнем, поклониться идолам ордынцев, что означало отречение от православной веры. Несмотря на увещевания сопровождавших его бояр, князь остался непреклонным, за что его обрекли на мученическую смерть. Растерзываемый озверевшими ордынцами, князь произнес последние слова: «Христианин есмь…» Его участь разделил и верный боярин Федор. Впоследствии русская церковь обоих мучеников причислила к лику святых.
Современное обращение к этому сюжету имеет особую ценность. Прежние работы, отражавшие его, страдали иллюстративностью. Эта же – пример высокого духовного осмысления и художественного решения творческой задачи во всех компонентах. Илья Глазунов при обсуждении этой картины в Академии напомнил один из заветов великого Сурикова: есть колорит – есть художник, нет колорита – нет художника. В картине Михеева прекрасно прописаны и сгармонированы в цветовом и композиционном решении все детали.
Действие развертывается на фоне моря огней ордынского стана, контрастирующего с небом. В центре композиции – князь Черниговский с прижатым к груди крестом. Взгляд его обращен как бы внутрь души. Ведь стоит поддаться искушению, как нашептывают ему склонившиеся к нему бояре, – и останешься жив. Такое уже бывало.
Его красный плащ воспринимается как символ мученичества, а дым двух котлов с огнем – как исход самой души князя на небеса.
Я недаром задерживаюсь на этом талантливом произведении. Поднятая художником тема, как подчеркнул Илья Сергеевич, очень важна в наше тяжелое время, когда многие изменяют своей совести. Кто из нынешних политиков поступил бы так же, как Михаил Черниговский? (Кстати, после его подвига ордынцы прекратили подобные пытки над русскими князьями.)
В общем, художник напоминает нам о верности православному духу, Отечеству. В его картине отражается сегодняшний день, проникнутый в прошлое.
В картине «Этап» Т. Харитоновой запечатлена группа ссыльных, отправляемых на Соловки, сгрудившихся на носу то ли катера, то ли баржи. Дует пронизывающий ветер, холодом смерти обдают волны северного моря. Несчастные, как бы объединенные центральной фигурой священника, вместе с сидящими перед ними двумя бездушными конвоирами воспринимаются как образ того времени, когда многие люди стали жертвами «великого эксперимента». Эта картина также обращена и к современности. А непосредственно о наших днях – картина Т. Юшмановой «Пристань», на которой изображены жители Севера, собравшиеся на деревянном помосте в ожидании некоего плавучего средства. И основательно прописанные образы, и окружающая природа создают тревожное настроение, заставляют задуматься о нынешней судьбе Русского Севера, переживающего мерзость запустения.
Не менее поражают и пейзажисты. Работая в этом жанре, очень непросто отразить определенное содержание, наталкивающее на глубинные размышления. Полотно Е. Муковнина «На краю света» сразу же притягивает образом сурового моря с уголком одного из Соловецких островов, на котором возвышается покосившийся православный крест. При обсуждении этой картины, наполненной музыкальным звучанием (недаром художник был назван Моцартом пейзажной живописи), высказывалось согласное мнение, что в ней достойно возрождаются традиции, связанные с именами выдающихся пейзажистов – Жуковского, Горбатова, Колесникова, не по своей воле закончивших свой путь в эмиграции.
Высокопрофессиональные, западающие в души образы, по-новому представляющие красоту русского Севера, созданы А. Мочалиным («Соловецкий монастырь») и С. Кожиным («Ферапонтов монастырь»), а также пейзаж Я. Зяблова «Разлив Сетуни». Поражает редкое умение пейзажистов Академии писать небо, которое в их работах воспринимается не просто как фон, а Божья обитель.
Радуют достижения портретистов, создавших образы известных деятелей культуры – композитора В. Овчинникова (Н. Сапункова), актеров Ю. Яковлева (Е. Матецкая) и Б. Плотникова (Ю. Соколовская), трех живописцев из Федоскино (А. Левченков). Все они уверенно продолжают традиции русского реалистического портрета, выразительно передают духовную наполненность создаваемого образа, поддержанную окружающей их обстановкой.
К сожалению, не все из названных работ можно было увидеть на выставке, но они помогают уяснить главенствующую тенденцию деятельности всего коллектива Российской Академии живописи, ваяния и зодчества – осознанное миссионерское служение искусству.
Говорить же о достижениях в области создания реалистической картины, сравнимой по своему значению с романом в литературе или симфонией в музыке, если иметь в виду институт имени И. Репина, а особенно имени В. Сурикова, не приходится. Напротив, в последнем обозначился явный отход от реалистических традиций. Пока что это не повальное увлечение, о чем говорит, например, талантливейшая скульптура дипломника 2000 года М. Соломатина «Иуда», покоряющая образностью пластического решения. Но симптомы очень тревожные. И справедливо художники Российской академии живописи, ваяния и зодчества с гордостью относятся к своей обители и считают ее самой верной хранительницей традиций, единственным бастионом высокого реалистического художественного искусства в Европе, как театр Ла Скала в музыке. Да, здесь исповедуется одна школа, а художники все разные. И выпускники Академии, оказываясь по разным причинам за рубежом, сразу же становятся профессорами и их буквально носят на руках. Это говорит о том, что интерес к реалистическому искусству в мире не угас, и теперь уже Россия может оказывать Западу свою гуманитарную помощь.
А обращаясь к своим питомцам Академии, Илья Сергеевич говорит:
– Вы вступаете в мастерские и аудитории в наиболее тяжелый момент для России. И Россия нуждается в том, чтобы молодые художники как летописцы по примеру своих великих предшественников отразили это сложное время. Наша задача – вооружить ваш талант профессионализмом, знанием отечественной и мировой культуры. Мы служим России через вас. И пока живы, в отличие от других, деньги за обучение брать не будем. Служите и вы России так, как говорил о себе Васнецов: «Мое искусство – это свеча, зажженная перед ликом Бога».
Русский ковчег Вместо послесловия
Об Илье Глазунове написано и сказано немало. И сам он с предельной откровенностью говорил о себе в бесчисленных интервью, публикациях периодической прессы, своих книгах. Но в данном случае хотелось бы представить один документ, который, на мой взгляд, представляет некую квинтэссенцию его исповедальных высказываний. Это ответы Ильи Сергеевича на вопросы анкеты, предложенной ему одним из печатных изданий накануне открытия в 2000 году его выставки в Манеже. В них приоткрывается мир его души. Итак – короткий вопрос и столь же короткий ответ.
– Ваша любимая добродетель?
– Любовь к ближнему.
– Высшее качество мужчины?
– Мужество.
– Ваше любимое занятие?
– Творчество.
– Ваша отличительная черта характера?
– Неистовость.
– Как вы представляете себе счастье?
– Ощущение гармонии.
– А несчастье?
– Крушение надежд и веры.
– Ваш любимый цвет и цветок?
– Голубой. Василек.
– Кем бы желали стать, если бы не состоялись в качестве художника?
– Композитором или моряком.
– Где бы предпочитали жить? Всегда в России.
– Ваши любимые прозаики?
– Достоевский и Бунин. Поэты?
– Пушкин, Лермонтов, К. Р. и ранний Блок.
– Ваши любимые художники?
– Рублев, Эль Греко, Микеланджело, Александр Иванов, Суриков, Нестеров, Кустодиев, Васнецов, Врубель.
– Композиторы?
– Творцы русской церковной музыки, Бах, Рахманинов, Чайковский, Римский-Корсаков, Бородин, Альбинони, Григ.
– Любимые герои в истории и действительности?
– Сергий Радонежский, Патриарх Гермоген, Николай I, Александр III. Из современных деятелей – тот, кто продолжает деятельность Столыпина и возрождает великую Россию, сказавшего: «Нам нужны не великие потрясения, нам нужна великая Россия».
– Ваши любимые героини в истории?
– Шарлотта Корде, великая княгиня Елизавета Федоровна.
– Ваш любимый герой в литературе?
– Алеша Карамазов.
– Героиня?
– Настасья Филипповна, Незнакомка.
– Ваше любимое кушанье?
– Не замечаю, что ем, потому что всегда спешу.
– Любимые имена?
– Иван, Вера, Ольга, Сергей.
– К чему больше всего питаете отвращение?
– К предательству.
– Кого больше всего ненавидите из исторических деятелей?
– Врагов России и русского народа. Сегодня тех, кто предает интересы России, превращая ее в американскую колонию.
– Каково ваше нынешнее внутреннее состояние?
– Героический пессимизм и стойкость при поражениях. Вера в победу России и подчинение этому всей моей жизни.
– К какому пороку имеете больше всего снисхождение?
– Любвеобильности и наивной вере. Ваш любимый девиз?
– Честь и верность!
– Следите ли за развитием политической жизни?
– Я монархист. Надеюсь, что скоро монархия восстановится. Для этого нужен такой человек, как Франко. И он скоро появится. Он ходит среди нас…
Главным предметом волнений и треволнений художника всегда оставалась Россия, ее народ. Стоит прочитать книги отзывов с любой его выставки – какие восторженные чувства излиты в них! Вот одна из характерных записей: «Я будто напился чистой родниковой воды. В ваших полотнах – наша русская земля и наш русский человек. Познакомившись с выставкой, стал лучше понимать, какие мы есть и, главное, какими мы должны быть. У ваших картин удивительное свойство – они живут и говорят о том сокровенном, чего мы все ждали… Спасибо вам за праздник души, сердца и ума! Вы не только вдумчивый художник, но и философ, глубоко понимающий жизнь». Или еще: «Вы – художник-мыслитель. Вы первый в наши дни заговорили о корнях духовных, о том, что всегда питало любое искусство. Духовность, память народная, боль и заботы нашего сложного времени на ваших картинах…»
О сущности национального гения вряд ли кто сказал лучше, нежели Иван Ильин: «Жизнь народного духа находит себе в творчестве гения сосредоточенное и зримое выражение. Гений говорит от себя, но не за себя только, а за весь свой народ… Гений подъемлет и несет бремя своего народа, бремя его несчастий, его исканий, его жизни, его исторического и естественного существования; и подняв его, он несет его творчески к духовному разрешению всех его узлов и трудностей». Это будто сказано о Глазунове, чье искусство стало великим примером жертвенного служения Родине.
В последнее время на Западе и среди соотечественников наблюдается новая трактовка творчества Ильи Глазунова, обладающего некой действенной мистической силой. Когда я узнал, что в период работы Глазунова над портретом папы римского в Италии проходили семинары, где его искусство рассматривалось как искусство «мистического реализма», то не особенно этому удивился. На Западе принято давать «товарное» обозначение всякому явлению.
А вот что сказал писатель Александр Проханов о картине художника «Россия, проснись!»: «Русский спецназ, воюющий в Чечне, берет репродукцию этой картины, в которой всякий любящий Россию человек увидит себя. У Ильи Глазунова любовь к России уникальна. Да, все мы любим Россию. Патриотов у нас много. Но глазуновская любовь – не просто генетическая. Она даже не религиозная, не культурно-историческая – это какая-то мистическая любовь…» И далее: «Нет ни одного серьезного деятеля в современном русском движении, который бы не был окормлен на том или ином этапе Ильей Глазуновым. Нет никого, к кому бы он не приложил свою руку, с кем не пообщался, кто бы не унес из его мастерской глоток этой волшебной глазуновской русской субстанции. Все прошли через его русский ковчег. И Кожинов, и Солоухин, и Куняев, и ваш покорный слуга… Мессианство глазуновское может быть равно его живописи и столь же важно».
Работы Глазунова видели и в пылающем Приднестровье на Кошинском разъезде, и в Югославии, когда она подвергалась агрессии со стороны НАТО…
Так что мистика мистике рознь.
Все свои подвижнические дела Глазунов совершал, опираясь не только на своих друзей и единомышленников, но и на незримую духовную поддержку миллионов поклонников своего творчества. Но самой главной отрадой в жизни была его жена Нина. Сколько проникновенных строк посвящено ей в книге художника «Россия распятая». «Нежное девичье лицо в моей работе «Любовь» – это Нина. Она была так не похожа на всех, кого я знал до нее! Меня навсегда поразило сочетание в ней трепетной женственности девушек Ренуара и внутренней волевой силы, присущей героиням Тургенева и Достоевского. С первой встречи и до сего дня я не расстаюсь с Ниной, озарившей мою жизнь спокойной ясностью своих рассветных глаз». «Вера жены в мою предначертанную Богом миссию давала мне великую силу и спокойствие, которые помогали выстоять в страшной борьбе».
Талантливая художница, блистательный знаток истории костюма, она была живой и трепетной душой дома, сердечно и заботливо относившись к каждому из друзей, переступавших его порог.
Но горе утраты любимого и преданного человека, незаменимой помощницы в трудах и борьбе не сломило Глазунова. С неистовой энергией продолжал он свою творческую и общественную деятельность, вовлекая в нее все более широкий круг людей.
О воздействии Глазунова на мыслящих людей Валентин Распутин сказал: «Просветителем многих из национально просветившихся… был Илья Глазунов…» А выдающийся композитор Вячеслав Овчинников, которого в свое время Илья Сергеевич и Нина знакомили с сокровищами Эрмитажа и Русского музея и во многом просвещали, однажды признался Глазунову: «Я всегда буду благодарен тебе и Нине, что вы вырвали меня из объятий сатаны.
Ведь когда мы познакомились, я увлекался додекако-фонией авангардной музыки. Что было бы со мной?»
В отношении к Глазунову проявляется отношение к России не только его друзей, но и врагов. Некогда тот же Валентин Распутин коротко и емко сказал: «Кто против Глазунова – тот против России». И действительно, нанося удары по Глазунову, его недоброжелатели стремятся нанести урон прежде всего самой России.
Его терзали за воспевание ушедшей в прошлое «патриархальной Руси», за «религиозный мистицизм», проповедь Достоевского, «уводящего Русь в монастырь». Вопреки здравому смыслу его, с одной стороны, обличали как отщепенца, искусство которого тормозит построение «светлого будущего», а с другой – как прихлебателя власти, извлекающего выгоду из портретирования королей и советской правящей верхушки.
По поводу обвинений в скандальности Илья Глазунов высказался на одной встрече со зрителями так:
– Скандальным остаюсь потому, что в любом обществе высказанная правда всегда вызывает скандал. Например, сказать, что король голый, – это скандал. Сказать, что такое рынок нашей демократии, – тоже. А что значит быть официальным художником? Уж не то ли, что какие-то журналисты написали про меня, что я – придворный художник? Тогда хотел бы уточнить – какого двора. Меня приглашали и приглашают для написания портретов короли, президенты, главы многих государств. Раньше богатые русские и даже императоры приглашали для этого иностранцев. И я горжусь, что теперь за рубеж приглашают меня, русского художника. Нравятся созданные мной портреты или нет – это ваши проблемы – они у всех на виду. И если эту сторону моей деятельности считать официозом, то здесь присутствует глубокое непонимание сути дела.
Официозом у нас раньше был соцреализм. Я был против соцреализма, за что меня в течение 15 лет не принимали в Союз художников. Сегодня официоз пропагандирует авангард, шоу-бизнес, который я ненавижу, потому что он просто скучен. И опять я неофициальный, потому что я против демократии, ибо я – монархист. Я ненавижу такую демократию, которая несет гибель народу…
Но несмотря на тяжкую, только ему посильную ношу истинного подвижника и патриота, Илья Глазунов по-прежнему полон творческих сил. Он пишет новые полотна, продолжается реставрация основного здания академии, готовится к выходу новое издание его книги-исповеди «Россия распятая». И, наконец, свершилось событие, которое долгие годы с нетерпением ждали не только жители столицы. В ее исторической части, вблизи храма Христа Спасителя и Кремля, открылась Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова.
В течение десятков лет не было ни одной выставки художника, чтобы книги отзывов не переполнялись бы требованиями зрителей открыть «храм искусства Глазунова», произведения которого потрясали их глубиной духовного содержания, пробуждали самые светлые чувства и надежды. Теперь можно увидеть в галерее произведения Глазунова, начиная со студенческих работ до всемирно известных историко-философских полотен «Мистерии XX века», «Вечная Россия», «Великий эксперимент», «Рынок нашей демократии» и других.
Целые поколения – от школьников, открывающих мир русской классики с помощью иллюстраций Глазунова, до ветеранов, переживших с Россией потрясения прошлого века, – посещая галерею, могут сколь угодно изучать произведения любимого художника, получая ответы на тревожащие вопросы. А для молодых художников работы, представленные здесь, – высокий пример служения искусству и Отечеству, образец творчества, противостоящего разрушительному натиску бездуховности.
Среди новых произведений – картины на евангельские, религиозные сюжеты («Рождество Христово», «Прокопий Праведный останавливает тучу»). К историческому циклу примыкает полотно «Возвращение», относящееся к периоду ордынского нашествия на Русь, но связанное с современной действительностью, когда на Россию, говоря словами Николая Рубцова, опять обрушились они – «иных времен татары и монголы». Это и жанровые композиции, и архитектурные пейзажи, открывающие новые представления о живописном мастерстве Глазунова.
Особый интерес представляет зал с византийскими и русскими иконами, которые были спасены художником во времена разгрома храмов и отреставрированы им, а также образцы старинной русской мебели, в том числе созданные по эскизам Васнецова и Билибина.
И как не выразить благодарность строителям, сумевшим, преодолев многие трудности, превратить обветшавшее здание бывшего Дома науки и техники в настоящий дворец искусства – теперь украшение столицы. Между тем автором проекта реставрации здания стал сам художник. И это еще одна победа Ильи Глазунова, которого миллионы называют солнцем русского искусства.
Примечания
1
Литературное наследство. Ф. М. Достоевский. М.: Наука, 1973, т. 86, с. 716.
(обратно)
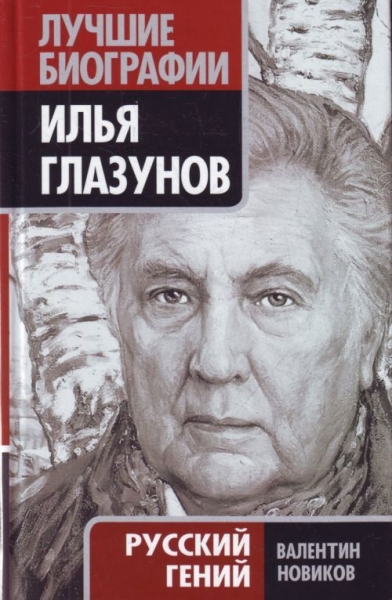



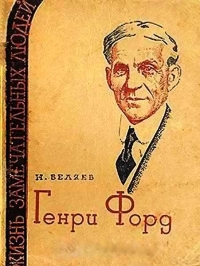

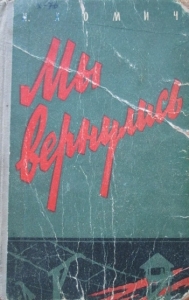

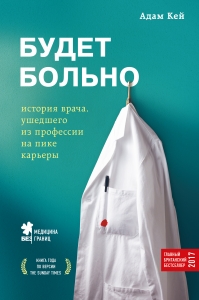
Комментарии к книге «Илья Глазунов. Русский гений», Валентин Сергеевич Новиков
Всего 0 комментариев