И. З. Фаликов Борис Рыжий. Дивий Камень
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В комнате за сценой собралась послеконцертная компания, и Борис почитал свои стихи наравне с другими, а потом спросил:
— Евгений Александрович, вам не кажется, что здесь только два поэта — вы и я?
Евтушенко ответил, коротко подумав:
— Да, наверно.
Шел июнь 1997 года. Евтушенко прилетал в Екатеринбург на один-единственный концерт. Через три года Борис сказал мне:
— Я не читал ни строки Евтушенко.
Под занавес 2000-го Рыжий обронил в печати, что «Евтушенко» в его семье было «ругательным словом». Существуют и эти стихи:
Евгений Александрович Евтушенко в красной рубахе, говорящий, что любит всех женщин, — суть символ эпохи, ни больше, ни меньше, ни уже, ни шире. Я был на его концерте и понял, как славно жить в этом мире. Я видел бессмертье. Бессмертье плясало в красной рубахе, орало и пело в рубахе атласной навыпуск — бездарно и смело. Теперь кроме шуток: любить наших женщин готовый, во все времена находился счастливый придурок. …И в зале рыдают, и зал рукоплещет. («Евгений Александрович Евтушенко в красной рубахе…», 1997)Так себе стишок, но он есть, а внутри сих разоблачений — вздох белой зависти и, между прочим, восхищения натурой. Счастливый придурок…
Более того. Вскоре после встречи с Евтушенко он принес домой фотку: они сидят в обнимку — и поставил ее на полку среди прочих заветных снимков.
Что-то припоминаются такие евтушенковские стихи:
Я груши грыз, шатался, вольничал, купался в море поутру, в рубашке пестрой, в шляпе войлочной пил на базаре хванчкару.Ну да, потом было написано:
В рубахе белой с чёрным бантом…[1]Или:
Рубашка в клеточку, в полоску брючки…Рыжий это написал. Забавный упор на рубаху.
Можно отыскать и такую параллель. Евтушенко:
Играла девка на гармошке. Она была пьяна слегка, и корка черная горбушки лоснилась вся от чеснока.Рыжий:
Ах, подожди ещё немножко, постой со мной, послушай, как играет мальчик на гармошке — дитя бараков и бродяг.Подобного много, если всмотреться.
Таков герой этой книги. Непрост, скажем так.
Тотчас по его уходе, крайне раннем, к Борису Рыжему прилепили две этикетки: «последний советский поэт» и «первый поэт поколения». То и другое опять же напоминает о Евтушенко, каковой и сам определяется как последний советский поэт. Дивны дела твои, Господи, — Борису и в голову не пришла бы эдакая аналогия, ан кто знает, как наше слово отзовется. Так что́? Борис Рыжий — оный новый Евтушенко? Речь не о том.
Рыжий:
Тут речь о том, что будем Мы нашу честь беречь.Стоит почитать стихи Рыжего начиная с середины 1990-х: тематически, стилистически и тому подобное — «Камень хладный поцелую…», Петербург. Блоковская музыка, лебеди, фонтаны, парки, дворцы, каналы, мосты. Обожаемые мэтры — Рейн, Кушнер. В классических образцах — Державин, Батюшков, Пушкин, Дельвиг, Денис Давыдов, Лермонтов, Боратынский, Вяземский, Некрасов, Тютчев, Аполлон Григорьев, Полонский, Огарев, Фет, Случевский, Блок, Брюсов, Анненский, Сологуб, Заболоцкий, Георгий Иванов, Адамович, Ахматова. Никакого «больше чем поэта». Поэт. Только поэт, и никто другой.
Петербургская поэзия на уральской почве? Уральская поэзия на питерском камне? Такой выверт? Не было выверта. Был поиск себя. Осознанное стремление свести концы с концами, Царское Село со Вторчерметом. Что такое Вторчермет, читатель узнает позже.
Над саквояжем в чёрной арке всю ночь играл саксофонист. Бродяга на скамейке в парке спал, постелив газетный лист. Я тоже стану музыкантом и буду, если не умру, в рубахе белой с чёрным бантом играть ночами на ветру. Чтоб, улыбаясь, спал пропойца под небом, выпитым до дна, — спи, ни о чём не беспокойся, есть только музыка одна. («Над саквояжем в чёрной арке…»)Написано в том самом 1997-м. В Петербурге. У Рыжего много стихов об уличных музыкантах и вообще об уличной музыке. Это о себе? Поэт улицы, уличный мальчишка. Так? Не так. Близкие знали: он по сути домосед и неделями не выходит из дому.
Города было два, два бурга — в честь Петра и в честь Екатерины. И Петр, и Екатерина — не те, о ком мы думаем. Мы еще поговорим на сей счет. Для начала напомню: Петр есть Камень.
Дома у него было тоже два. Свой, с женой и сыном, и — родительский, в двух шагах от своего. Там и там — сперва только у родителей — был телефон. Это уже нечто третье — остальной мир, с которым он говорил чуть не без умолку. Раздвоенность? Вряд ли. Один в одном.
Борю в детстве спросили: кем работает твой папа?
— Царем.
Отца, директора Института геофизики Уральского отделения Академии наук СССР, возила служебная черная «Волга». Боря утверждал в кругу дворовых кентов:
— Мой папа — вор в законе.
Ему верили.
В другом случае он сообщил, что его папа — забойщик скота, а мама — жиловщица мяса.
У поэта Александра Леонтьева об Урале сказано: перебитый хребет. Челябинск[2] по этой метафоре находится в районе копчика или шеи. Очень ранимые места. На юге хребта. Но не будем мрачно гиперболизировать. Хотя и может показаться, что город расслабленно раскинулся на спине, он не хвор, не стар, не лежач — ходит, бегает, движется, летит на иномарках, напоённый пятью озерами. Течет река Миасс, изрядно поросшая ряской и камышом, подъемы и спуски не бьют в глаза, а центральный проспект Ленина прям как стрела, и чугунный Ильич на пьедестале — это площадь Революции — могуче широкоплеч, массивно кряжист и почернел, по-видимому, оттого, что стоит, как Брестская крепость, во вражеском окружении бесчисленных банков и супермаркетов, а его прямым оппонентом высится небоскреб Видгоф, произведение местного олигарха-депутата Видгофа. Там гранд-отель.
Когда родился Борис — 8 сентября 1974 года, — ничего подобного, естественно, не было и Ленин не смотрел в сторону «Арбата» (так тут и называют улицу Кирова, б. Уфимскую). Теперь, наверное, везде на Руси имеется свой Арбат, то есть пешеходная улица со всеми аксессуарами московского образчика, в частности с кафешками, ресторанами, банками и бутиками, с фонарями и мемориальными досками на старых домах, брусчаткой и музыкантами и живописцами на ней. Есть на улице и пара книжных магазинов, но книг Бориса Рыжего там нет, и персонал не знает этого имени. Зато на чугунной скамейке сидит черный чугунный юный Пушкин с лицом казачка, в большом ведре-цилиндре, а неподалеку — бронзовый Розенбаум с гитарой, весьма похожий, блещущий от ладонных прикосновений восхищенной публики. Время такое. Блескучее.
Среди пешеходов обнаруживаются и другие изделия уральского ваяния в бронзе и чугуне — верблюдица и верблюжонок, саксофонист (портрет в полный рост символического кумира), дамочка чеховского типа начала XX века с соблазнительно изогнутым тазобедром, в шляпке и с зонтиком, но без собачки, а также странничек в треухе, лаптях и с сумой на плечах перед пюпитром с раскрытой книгой — называется ЗАКОН: непосредственно перед дверью Областного законодательного собрания. До нынешнего губернатора Б. Дубровского с этого поста полетел М. Юревич, потративший около 0,5 миллиарда бюджетных денег на собственную охрану и вертолет Bell 429. Когда его сняли, встал вопрос: куда девать вертолет?..
В ногах верблюдицы и верблюжонка азиатский мальчик в тюбетейке сидит, скрестив ножки. Играет на флейте. Борис называл себя трансазиатским поэтом. Башкирия и Казахстан рядом. На улицах много скуластых черноглазых лиц восточного типа, а топонимика этих мест сплошь тюркская и угорская (ханты-мансийская). На гербе Челябинска — золотой навьюченный верблюд, воспоминание о Великом шелковом пути.
До того как эта местность покрылась купеческим двух-трехэтажьем в камне и дереве (кое-что осталось поныне), русские служилые люди в первой половине осьмнадцатого века (1736) обнаружили, говоря словами старинного документа, «на реке Миясе в урочише Челеби в тридцати верстах от Миясской крепости» дивное пространство, где ни одного места не было «с недостатками к житью человеческому, земля черная, луга, рыбные и звериные ловли довольные». Начали осваивать землю и обучать новоселов «казачьей экзтерции» дважды в год, дабы у каждого «была годная к случаю лошадь и конная верховая, также санная и тележная сбруя». «Челяба» в переводе с тюркского — «царевич», а также «образованный, миловидный, красивый, солнцеподобный». Тоже в точку. А как же. Мой папа работает царем.
На почве этой и оперный театр вырос (1954) мощноколонный, с тремя белеными фигурами над передним фасадом: советские юноша и девушка по краям фронтона воздушно взмахивают руками, в центре — сидящая арфистка с мощными конькобежными икрами. Есть только музыка одна, в основе русская — Михаил Глинка и Сергей Прокофьев увековечены ваятелями во внезапных для себя местах, поскольку не имели счастья бывать в этих краях. Город чувствовал себя русским — и никаким иным. Борис говорил: я — еврей.
Мы к этому еще, разумеется, вернемся. Первое толкование навскидку:
В сём христианнейшем из миров Поэты — жиды! (М. Цветаева «Поэма конца», 1924)Итак, музыка. В детском парке «Орленок» на площади по имени «Алое поле» стоял Органный зал, краснокирпичный, многофигурный, с зелеными куполами и шатрами — прежний храм Святого благоверного Александра Невского, потерявший имя и кресты от рук большевиков, став поначалу складом. Алое поле носит свое название с мая 1920 года, а было Александровской площадью, названной так в 1881 году в память об убиенном императоре Александре II. Вообще говоря, орган — не самое худшее из того, что пришло на смену голосу священника. В новые времена храм возвращен на место, и рядом с ним, у крыльца сбоку, надпись на белом памятном камне обещает прямо здесь же установку памятника Петру и Февронии Муромским во имя семейных ценностей. Забегая вперед скажу, что таковой памятник уже стоит в Екатеринбурге. Видимо, города соперничают. Вот и опять — двойка городов. Между ними 200 километров по Свердловскому тракту.
Нам предстоит постоянно забегать вперед. С тем чтобы видеть предмет рассмотрения, как сказал Александр Межиров относительно «тайны Ахматовой», — «изнутри и немножечко со стороны».
Сестра Лена, тринадцатью годами старше, показывала Боре Алое поле. Жили неподалеку, с переходом через проспект Ленина, на улице Свободы, 149. Сюда младенца и принесли из роддома. Окна двухкомнатной квартиры выходили во двор, а сама квартира, располагаясь на втором этаже, нависала над аркой, соединяющей улицу и двор. В проеме арки по ночам было конечно же темно и раздавались разнообразные звуки — от хохота до воплей. Однажды отец, Борис Петрович Рыжий, набросив полушубок на голое тело, выскочил из дому с топором. Он летел спасать. До смертоубийства не дошло, но тишина вернулась, тем более что она — тишина — требовалась не только для сна. Над черной аркой стоял рабочий стол Бориса Петровича, где в результате многочасовых ночных бдений появилась его кандидатская диссертация.
Эта спальня-кабинет в 15 (или около того) квадратных метров вмещала, помимо гардероба, рабочего стола и книжной полки, родительскую кровать. В соседней комнате — гостиной — спали дети и Евдокия Сергеевна, мать матери, она же баба Дуся. Там были обеденный стол и целая орава кукол-девочек, всяческих игрушек и, опять-таки, книжные полки.
На ночь каждый раз рассказывались сказки, народные, книжные и собственного авторства, и вообще всяческие байки, по преимуществу фантастические. Когда все смолкало, отец садился за стол. Перед ним были окно и балконная дверь. Геофизик посматривал на звездное небо.
Абсолютно точен питерский критик Андрей Арьев, угадывая ту самую — или очень похожую — неназванную, но имеющуюся в виду по рифме арку в стихах Георгия Иванова:
Над кипарисом в сонном парке Взмахнет крылами Азраил — И Тютчев пишет без помарки: «Оратор римский говорил…» («А что такое вдохновенье?..», 1958)Тем не менее черная арка — достояние детства Бориса. Как, собственно, и Тютчев.
Философия семьи была незатейливой: люди — хорошие. Дом населяли геологи, все знали друг друга почти по-родственному. Довольно скоро после рождения Бориса семья переехала на улицу Сони Кривой, 69, — сие замечательное имя принадлежало пламенной революционерке.
Это хорошо звучало:
— Это что за люди?
— Это Рыжие с Сони Кривой.
Игра на фамилии шла постоянно. Сестра Лена помнит: студенческая группа отца состояла из людей с такими фамилиями — Глухих (комсорг), Плохих (профорг) и Рыжий (староста).
В Челябинске вдобавок к Алому полю есть и улица Красная. Много позже, участвуя в поэтическом состязании за губернаторскую премию, поэт получил диплом победителя на имя Бориса Красного. Он тогда заявил, что вот, дескать, Сергей Гандлевский отказался от денег за победу в Антибукеровском конкурсе, но сам-то он деньги возьмет, а от декламации стихов отказывается. Как раз тогда, несколько раньше, в перестроечное время, откуда ни возьмись в Москве объявился поэт Саша Красный — 103 лет от роду. Мал ростом, хил, гологолов, с красными веками. Это чудо долголетия, пару лет отфигурировав на виду, исчезло как не было.
С улицы Сони Кривой коляску с Борей возили, а потом и водили его на своих двоих в Парк культуры и отдыха им. Юрия Гагарина, расположенный на берегу Шершневского водохранилища, широкого, как море. Парк плавно переходил в сосновый бор. Сейчас на входе в парк высится солидный монумент академика Курчатова. В Челябинске ковался атомный меч державы. Известная кыштымская авария 29 сентября 1957 года произошла неподалеку. Взорвалось бетонное хранилище радиоактивных отходов, в течение 10–11 часов радиоактивная отрава выпала на протяжении 300–350 километров в северо-восточном направлении от места взрыва по направлению ветра. В зоне радиационного загрязнения оказались территория нескольких предприятий комбината «Маяк», военный городок, пожарная часть, колония заключенных и далее территория площадью 23 тысячи квадратных километров с населением 270 тысяч человек в 217 населенных пунктах трех областей: Челябинской, Свердловской и Тюменской. 23 деревни из наиболее загрязненных районов с населением от 10 до 12 тысяч человек были отселены, а строения, имущество и скот уничтожены.
Попутно говоря, именно в Челябинске в свое время была открыта и описана сибирская язва: в 1786 году лекарь Семен Андриевский и его помощник Василий Жуковский (не путать с поэтом) приехали в Челябинск. Целый год у экспедиции не получалось понять, откуда у человека появляются смертельные язвы. Андриевский намеренно заразил себя этой болезнью, ввел себе кровь носителя инфекции и на протяжении нескольких месяцев под наблюдением Жуковского вел «скорбный дневник» — историю болезни. Семен Андриевский не только обнаружил причину возникновения инфекции (от животного к человеку), но и придумал способ лечения. Он спас жизни сотен тысяч людей, а также себя, описал способы профилактики заболевания и впервые дал ему официальное название: сибирская язва. А Василий Жуковский прожил в Челябинске около полувека, став одним из ключевых общественных деятелей, его сын Иван позже стал челябинским городничим.
3 апреля 1979 года в закрытом городке Свердловск-19 случился выброс бактериологического оружия — новой сибирской язвы, с семьюдесятью смертями. Борису Рыжему было неполных пять лет.
Старенький двор в нехорошем районе — Те же старухи и те же качели. Те же цветы и цветы на балконе, Будто не годы прошли, а неделя, Как я отсюда до капельки вышел. До испарившейся с века слезинки, После упавшей на серые крыши Капелькой. Радиоактивной дождинкой. («Старенький двор в нехорошем районе…», 1994, май)15 февраля 2013 года около Челябинска рухнул метеорит. Несколько зданий задело взрывной волной. Людей не затронуло, не считая госпитализированных 69 человек, пострадавших в основном от стекольных осколков и страха. При желании и некотором воображении тот метеорит можно счесть блудным сыном Урала, вернувшимся в отчий дом. Такое ощущение, что великолепный Сад камней на берегу Миасса пополнился собратом с небес.
Тютчев:
С горы скатившись, камень лег в долине. Как он упал? Никто не знает ныне — Сорвался ль он с вершины сам собой, Иль был низринут волею чужой? Столетье за столетьем пронеслося: Никто еще не разрешил вопроса. («Problème», 15 января 1833; 2 апреля 1857)Иногда так возвращаются поэты.
Иногда в их честь устанавливаются мемориальные доски. Это произошло 8 сентября 2014 года на улице Свободы, 149. Бронзовую доску поместили между окон угловой парикмахерской на первом этаже. Борис похож на боксера после победного боя. Чубатого, с глубоким шрамом на левой стороне лица от глаза до нижней челюсти. Художник С. Л. Черкашин, скульпторы В. Ю. Булычев и Д. В. Костылев.
«В этом доме 8 сентября 1974 года родился поэт Борис Рыжий».
Это не совсем так (роддомом пренебрегли), но родился он действительно в Челябинске на улице Свободы. Хорошо, что это город металлургии и металлообработки — металла на мемориалы хватает. Хорошо, что есть такие люди, как Андрей Крамаренко, — инициатор и мотор создания памятной доски. У барда Крамаренко шестнадцать песен на стихи Рыжего. С ним-то мы и приехали на Урал. Туда, где возникает тютчевский вопрос, повторенный Мандельштамом:
Паденье — неизменный спутник страха, И самый страх есть чувство пустоты. Кто камни нам бросает с высоты — И камень отрицает иго праха? («Паденье — неизменный спутник страха…», 1912)Люди — хорошие. Так думал Борис Петрович. Так думали тогда многие — молодость геофизика выпала на времена «оттепели». Он был во власти поэзии, сам не сочинял, но знал наизусть бесчисленное количество стихов, а позже и все стихи сына. Однажды он спросил повзрослевшую дочь Ольгу: слушай, я правда надменный? А в чем дело, папа? Да вот стою себе в очереди в кассу за зарплатой, думаю исключительно о стихах, никого не вижу, а потом говорят, что я ни с кем не здороваюсь. Между тем как раз о нем, когда он стал директором института, говорили: если вы хотите найти нашего начальника, то знайте — тот, кто с вами первым поздоровается, тот и есть Борис Петрович Рыжий.
И вообще: наш рассказ — о русской интеллигенции в советское время, в пространстве вне столиц.
Он рано поседел. Добела.
Более всего он любил Валерия Брюсова. В его библиотеке был и семитомник декадента, и двухтомник, и том прозы. Сына Бориса он с детства заливал русской поэзией, в том числе брюсовскими стихами («Тень несозданных латаний…», «Чтоб меня не увидел никто…», «Я жрец Изиды светлокудрой…», «Ассаргадон»), и воспитание этой пробы сказалось и в том, что потом сын в поисках самого себя предпринял опыт брюсовского свойства: дописывал иные стихи Пушкина, отыскивая у него те вещи, где стояли цензурные пропуски, и убеждал сестру Олю, что по-другому в тексте быть не могло, поскольку законы поэтической формы точны, как математические. Разве?
Затем, что ветру и орлу И сердцу девы нет закона. (А. Пушкин «Езерский», 1832)Как известно, Брюсов некогда написал вариации «Медного всадника» и завершил на свой лад «Египетские ночи», за что схлопотал инвективу Маяковского «В. Я. Брюсову на память» (1913 год, автору 20 лет):
Разбоя след затерян прочно во тьме египетских ночей. Проверив рукопись построчно, гроши отсыпал казначей. Бояться вам рожна какого? Что против — Пушкину иметь? Его кулак навек закован в спокойную к обиде медь!Надо сказать, ББ — назовем его так в разговоре о БП — выбрал в этом споре Маяковского, первый том которого пронизал насквозь его самые ранние стихи, да и БП обожал футуристического апаша в общем-то почти на равных с рационально-волевым вождем символизма. Чувствительный по природе, БП и сам достаточно жестко руководил своим институтом. У него был богатейший опыт работы и в поле, и за письменным столом, и в недрах геолого-минералогических учреждений на руководящих должностях.
Более того. Отец БП — дед ББ — Петр Афанасьевич Рыжий имел возможность передать сыну лидерские навыки по наследству, поскольку в зрелые годы возглавлял райком КПСС в Кургане и во время праздничных демонстраций стоял на трибуне на той же площади, куда выходили окна его квартиры.
В длинном пальто итальянском. В чёрной английской кепке. В пиджаке марки «Herman». В брюках модели «Dublin». Стою над твоей могилой, Депутат сталинского блока Партийных и беспартийных Пётр Афанасьевич Рыжий — Борис Борисович Рыжий, Не пьяный, но и не трезвый, Ни в кого не влюблённый, Но и никем не любимый. Да здравствуют жизнь и скука. Будь проклято счастье это. Да будет походка внука Легче поступи деда. («В длинном пальто итальянском…», 1998)Дед начинал комсомольским вожаком в Харькове. Его женой стала Аня Шапиро, дочь представителя французской фирмы на Украине по продаже сельхозтехники, выпускница школы ФЗУ (фабрично-заводское ученичество) по специальности электрик. Отсюда «я — еврей». Может быть, сегодня стоит отдельно отметить место ее рождения: Мариуполь.
Мать Ани Шапиро — Ханна Ароновна, в девичестве Лекус, родилась в Эстонии, но этот факт — слабое основание для отнесения ее к славному племени прибалтов. Некоторые исследователи сюда примешивают почему-то и греков. Это вряд ли, хотя… на юге России всё есть. Смесь кровей у нашего героя была и без того вполне гремучая. Это довольно жестокая химия:
Во мне в молчании великом, особенно — когда зальёт шары, за благородным ликом хохол жида по морде бьёт. («А. Пурину при вручении бюстика Аполлона и в связи с днем рождения», 1998)Борис, когда вырос и созрел, был изумлен стихами Тараса Шевченко и читал в старых журналах украинские, болгарские и польские стихи на кириллице, тем более что БП прекрасно помнил рідну мову и «Заповіт» Кобзаря мог прочесть наизусть в любое время суток.
Близкие предки Осипа Мандельштама, как известно, тоже вышли с тех лифляндских берегов. Но имеет, разумеется, исключительную причину тот факт, что Борис испытывал особое отношение к шедевру Иннокентия Анненского «Старые эстонки (Из стихов кошмарной совести)»:
Если ночи тюремны и глухи, Если сны паутинны и тонки, Так и знай, что уж близко старухи, Из-под Ревеля близко эстонки. Вот вошли, — приседают так строго, Не уйти мне от долгого плена, Их одежда темна и убога, И в котомке у каждой полено. Знаю, завтра от тягостной жути Буду сам на себя непохожим… Сколько раз я просил их: «Забудьте…» И читал их немое: «Не можем…» Как земля, эти лица не скажут, Что в сердцах похоронено веры… Не глядят на меня — только вяжут Свой чулок бесконечный и серый. Но учтивы — столпились в сторонке… Да не бойся: присядь на кровати… Только тут не ошибка ль, эстонки? Есть куда же меня виноватей. Но пришли, так давайте калякать, Не часы ж, не умеем мы тикать. Может быть, вы хотели б поплакать? Так тихонько, неслышно… похныкать? Иль от ветру глаза ваши пухлы, Точно почки берез на могилах… Вы молчите, печальные куклы, Сыновей ваших… я ж не казнил их… Я, напротив, я очень жалел их, Прочитав в сердобольных газетах, Про себя я молился за смелых, И священник был в ярких глазетах. Затрясли головами эстонки. «Ты жалел их… На что ж твоя жалость, Если пальцы руки твоей тонки, И ни разу она не сжималась? Спите крепко, палач с палачихой! Улыбайтесь друг другу любовней! Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий, В целом мире тебя нет виновней! Добродетель… Твою добродетель Мы ослепли вязавши, а вяжем… Погоди — вот накопится петель, Так словечко придумаем, скажем…» …………………………………… Сон всегда отпускался мне скупо, И мои паутины так тонки… Но как это печально… и глупо… Неотвязные эти чухонки… 1906Кошмарная совесть, сюжетность, прямая актуальность, точная живопись предмета — всё это свойства будущих стихов Бориса. «В целом мире тебя нет виновней!»
Исторически достоверна гипотеза о том, что дед и бабушка БП стали жертвой тифа во время гражданской смуты 1920-х годов. Однажды Петр, зайдя в заводской цех, где не было света, включил рубильник на электрощите. В это время Аня занималась починкой оголенной проводки. Девушка упала с большой высоты, ее увезли в больницу, она долго не приходила в сознание, и у нее отнялись ноги. Петр стал навещать ее. Возможно, именно так началось родовое чувство вины.
Постепенно больная пошла на поправку, стала ходить и в итоге вышла замуж за Петра. Фамилию она оставила свою.
Фамилия Рыжий получилась так. Жили себе на Украине люди по фамилии Рудый: от прозвища «Рудый». На Древней Руси это слово означало «руда», то есть первоначально «кровь», «грязь», «сажа». Однако в южных и западных губерниях «рудый» — «рыжий», «красный», «бурый». Тот, кто рыжеволос, тот и есть Рудый. На севере Рудым могли прозвать смуглого, загорелого человека. Но наши Рудые жили не на севере. Был и запорожский сотник Рудый, был и Рудый — чумак, на свой салтык дальнобойщик: «…протяжной извозчик на волах; в былое время отвозили в Крым и на Дон хлеб, а брали рыбу и соль. <…> Весь в дегтю, в смоле, как чумак» (Толковый словарь Вл. Даля).
Превращение Рудых в Рыжих произошло то ли в прошлых веках, когда кто-то из Рудых записывался в русскую армию и писарь модернизировал устаревшую кличку, то ли Революция (напишем с большой буквы, как у Тютчева и Блока) все перевернула, и русскоязычный Харьков из Рудых сделал Рыжих.
Мифотворчество сопутствовало семье издавна, и ББ стал законным наследником всех ее легенд, дополнив их от себя с присущим ему воображением. Остросовременность его творчества имеет своим истоком далекое прошлое.
Там была непростая коллизия. У Петра был брат, крупный уголовный элемент, бандит с большой дороги, не раз убегавший с каторги. Что они не поделили, не совсем ясно, если, разумеется, не считать обретение Петром революционной идеологии, но так или иначе Петр всю жизнь чурался встречи с лихим и не прощающим (чего?) братом. В Харькове славилось место под названием Холодная Гора, больше напоминающее Вторчермет, нежели Московскую горку (екатеринбургские топонимы), по причине буйства и пьянства. Семья Рыжих обитала именно там.
Все шло своим чередом, у Петра и Анны родилось четверо сыновей — Анатолий, Борис, Владимир и Григорий. Вместе с первым сыном Юрием от первого брака Петра их было пятеро братьев, и они пожизненно дружили.
Петра Афанасьевича бросали по партийной линии на работу в разные места, под конец определили в Курган. В Зауралье выросли его дети. Все получили образование и нашли себе работу, видную и важную.
Не случайно в «Балладе» (1997) Бориса возник и железный сталинский нарком:
На Урале в городе Кургане в День шахтёра или ПВО направлял товарищ Каганович револьвер на деда моего.Далее — метафизика:
Выходил мой дед из кабинета в голубой, как небо, коридор.Это уже похоже на «золотое, как небо, аи» из Блока. Револьвер, разумеется, не черная роза в бокале, а дед — не Прекрасная Дама, но лирическая нота замешает и вытесняет даже самое семейное предание:
Где и под какими облаками, наконец, в каком таком дыму, бедный мальчик, тонкими руками я его однажды обниму?Что произошло между Л. М. Кагановичем и П. А. Рыжим? Кажется, в годы Великой Отечественной войны нарком пригрозил райкомовцу не рваться на фронт, а собирать урожай, пока не выпал снег, каковой взял да и выпал, но дети войны выкопали из-под снега тот хлеб, который питательно вошел в стихи внука.
БП, уроженец села Кошкуль Омской области, окончил Свердловский горный институт. Его трудовая биография на редкость целостна — с геофизической линии он не сходил ни вправо, ни влево, шел по прямой. В 1981-м его назначили главным геофизиком Уральского производственного геологического объединения. Директорское кресло в Институте геофизики он занял в феврале 1988-го. Параллельно с 1989-го руководил лабораторией.
В его трудовой книжке зафиксированы и факты материального поощрения в суммах, можно сказать, умилительно-огромных. От 15 до 75 рублей. Так, в 1962 году он был одарен 20 рублями, а те самые 75 получил в 1975-м на День геолога.
Остались и названия его многочисленных рационализаторских предложений — одно из них, сделанное в 1979-м, звучит как песня: «Восстановление детекторных кристаллов, непригодных к применению из-за попадания порошка осушителя между кристаллами и стеклом выходного окна».
В 1999 году БП по болезни снял свою кандидатуру с выборов на должность директора, оставаясь завлабом, а в 2004-м стал главным научным сотрудником своего института. Доктором геолого-минералогических наук он к той поре был уже давно, а тут пришло и международное признание: его выбрали в Нью-Йоркскую академию наук и Международную академию минеральных ресурсов. Некое латиноамериканское издание избрало его «Лицом планеты» и затребовало фотографию. В те дни он претерпел инсульт, рот его был несколько перекошен, БП сурово пошутил: им нужно такое лицо планеты?
Во избежание неточностей надо сказать: ни членкором, ни действительным членом Академии наук РФ он не был.
У него было несколько инфарктов, но себя он не щадил и вел достаточно неосмотрительную жизнь. В молодости было много застолий (без перебора) и гостей, потом собирались реже, но тем не менее хоккей они с женой Маргаритой Михайловной смотрели по телевизору под сухое белое винцо (в меру, в меру…).
Нет, он не был фанатичным бессребреником, но когда Академия наук выделила ему землю для дачи, он сперва задумал там отстроить коттедж для молодых — Бориса с женой Ириной, но в итоге передал участок в Горный институт. Тем более что он там читал лекции, будучи профессором. У него уже был небольшой кусок земли под Екатеринбургом, где стояло строение под названием вигвам: БП соорудил его из гнутых тонких водопроводных труб, покрыв толем и сделав потолок из пластика. Печка-буржуйка, отсутствие водопровода. Это был семейный сад, так он и именовался — сад. Так называют дачные участки в тех краях.
— Поехали в сад!
Сад стоял на торфянике, там было что-то вроде колодца — яма глубиной полтора-два метра; ББ однажды вычистил колодец.
Во саду-ли-в-огороде понемногу созревало некоторое количество фруктов и овощей. Происходили умеренные семейные пиры. БП был отчаянным охотником, дичи к столу хватало. Рыбалка его интересовала не очень, но пострелять ему было в охотку.
А иногда отец мне говорил, что видит про утиную охоту сны с продолженьем: лодка и двустволка. И озеро, где каждый островок ему знаком. Он говорил: — Не видел я озера такого наяву прозрачного, какая там охота! Представь себе… А впрочем, что ты знаешь про наши про охотничьи дела! Скучая, я вставал из-за стола и шел читать какого-нибудь Кафку, жалеть себя и сочинять стихи под Бродского, о том, что человек, конечно, одиночество в квадрате, нет, в кубе. Или нехотя звонил замужней дуре, любящей стихи под Бродского, а заодно меня — какой-то экзотической любовью. Прощай, любовь! Прошло десятилетье. Ты подурнела, я похорошел, и снов моих ты больше не хозяйка. Я за отца досматриваю сны: прозрачным этим озером блуждаю на лодочке дюралевой с двустволкой, любовно огибаю камыши, чучёла расставляю, маскируюсь и жду, и не промахиваюсь, точно стреляю, что сомнительно для сна. Что, повторюсь, сомнительно для сна, но это только сон и не иначе, я понимаю это до конца. И всякий раз, не повстречав отца, я просыпаюсь, оттого что плачу. («А иногда отец мне говорил…», 1999)Стихи написаны так, словно это сын потерял отца, а не наоборот.
Время от времени БП записывал свои мысли и наблюдения на разрозненных листах бумаги, но они не собраны и не сведены воедино. Не исключено, что в отрочестве-юности у него были и стихи, но они утеряны. Ровно наоборот он поступил с наследием сына — собрал всё до последней буковки, систематизировал, поместил в белые картонные папки. В водительском удостоверении мужа Маргарита Михайловна нашла клочок бумаги с моим именем и домашним телефоном, оставленными рукой мужа. Я видел эту запись. Почерк обычный, не каллиграфический, так пишут многие.
Иногда он звонил мне после мая 2001-го, после ухода Бориса. Когда я пообещал ему выслать журнал «Арион» с моей публикацией о Борисе, он попросил оформить бандероль — с доставкой, по причине перенесенного инфаркта. Я так и сделал.
Сестра Лена говорит, что Борик (так называли его дома) никогда бы не попросил о том же в силу предельной щепетильности. Да, но у него не было инфарктов. Старости у него тоже не было.
Артем в детстве однажды спросил маму: вот Москва великий город, а чем знаменит наш Екатеринбург? Ирина ответила: тем, что у нас убили царя, дали миру Ельцина и снесли дом инженера Ипатьева.
Храм-на-Крови стоит непосредственно на месте снесенного дома. Отзвук русско-византийского зодчества, он виден отовсюду, поскольку Вознесенская горка, названная по небесно-голубой Вознесенской церкви, доминирует над городом и будет, пожалуй, повыше двух других горок — Московской и Обсерваторской.
Вознесенская церковь, естественно, возникла намного раньше нового собора, покаянно сооруженного в память уничтоженной царской семьи: «Пролияша кровь их яко воду окрест» (Пс. 78:3).
Никогда не понимал, почему «дело прочно, когда под ним струится кровь» (Некрасов). По идее — наоборот.
Говорят, Уральская гряда может ожить. Она сейсмически активна, разлом проходит возле екатеринбургского цирка. Вознесенская горка была вулканом.
В подножье храма поставлена крупная скульптурная композиция из нескольких фигур: августейшая семья, идущая на расстрел. Одна из царевен очень напоминает Зою Космодемьянскую. Ассоциация неслучайна: тут все переплетено, и бегущая слева от храма в прямой к нему близости Пролетарская улица прежде называлась Офицерской.
Это Литературный квартал Екатеринбурга. Замыкается он Камерным театром и сразу же, если идти со стороны храма, после Литературной эстрады за домом 16 по Пролетарской, презентует ряд исторических литературных домов, сохранивших первоначальный архитектурный облик образца XIX столетия. В некогда жилом доме В. И. Иванова под номером 10 (архитектор И. К. Янковский, 1812-й, восстановлен в 1986-м) расположен Объединенный музей писателей Урала «Литературная жизнь Урала XX века». В доме 6 родился (1841) писатель-демократ Ф. М. Решетников — дом построен по проекту архитектора М. П. Малахова. Особь статья — Д. Н. Мамин-Сибиряк, одно время квартировавший на Офицерской у казначеи Ново-Тихвинского женского монастыря X. И. Черепановой, но у него есть свой отдельный музей на улице Пушкина. А улица Пролетарская пересекается с Первомайской, и на точке их пересечения, в небольшом сквере, на серой гранитной плите стоит полированно-бронзовый Пушкин — рослый, босой и прикрывающийся, по-видимому, простыней от груди до земли: Пущина встречает в Михайловском (скульптор Г. А. Геворкян). Лик поэта обращен к небесам и вместе с тем в сторону улицы своего имени. Кстати, на улице Пушкина несколько неожиданно сидит в чугунном кресле изобретатель радио А. С. Попов, уроженец Урала.
Отдельно уважил Екатеринбург П. А. Бажова: и музеем на улице Чапаева, и бюстом на плотине Городского пруда. С ним соседствует и бюст Мамина-Сибиряка.
Как видим, Екатеринбург более чем литературен, но когда Бориса Рыжего пригласили участвовать на тематическом фестивале в честь города, он отказался. Не было в нем екатеринбургской оды. Чаще его влек антипанегирик, и вообще местный патриотизм не его стезя.
Надо отметить и большое количество зданий в стиле конструктивизма, в частности гостиница «Исеть» или Главпочтамт. Свердловск называли «вторая столица конструктивизма» (после Москвы).
С упомянутой плотины, именуемой в народе вполне ласково Плотинка, хорошо виден и Храм-на-Крови, и стоящий неподалеку от него роскошный дом в стиле классицизма с флигелями и парком. Чистая цитата Петербурга. Усадьба овеяна историей: начала строиться одновременно с закладкой Вознесенской церкви в 1794–1795 годах, завершена к 1824 году, первоначально ее спроектировал Томмазо Адамини, ученик и сподвижник Дж. Кваренги, а в строительстве принял участие уже известный нам М. П. Малахов. Владели усадьбой поочередно купцы Л. И. Расторгуев и П. Я. Харитонов, его зять. Ходили легенды о подвалах, где томились мятежники с заводов, о целой сети подземелий, расходящихся от дома во все стороны. Тут были и штаб революции, и Дворец пионеров. Борис жил далеко от центра города, и под сводами расторгуевско-харитоновского дворца вряд ли бывал, потому что занимался авиамоделированием — в кружке районного Дома пионеров, но Харитоновский сад наверняка посещал и в детстве, и позже. Тихое озерцо с белокаменной ротондой на его берегу, могучая трехствольная ива (на одном из стволов, почти стелющемся по земле, сидят парочки), плавучая кормушка для уток и сами утки на всей акватории, а вокруг — море зелени: лиственница, сосна, рябина, липа, бузина красная, сирень амурская, яблоня лесная, тополь бальзамический.
Чуть ниже этой благодати, у подножья Вознесенской горки — сквер на набережной Городского пруда. Тоже благодать. Здесь-то и стоит эта пара — князь Петр и княгиня Феврония Муромские. У него колечко в поднятой правой руке, на их сомкнутых руках голубок восседает, за их спинами — парусная ладья в виде птицы. Святость брака. При Борисе этого благолепия еще не было — зато был на этой же стороне Городского пруда «Космос», нынешний ККТ (киноконцертный театр), а тогда ресторация центровой мафии, реальных пацанов с испортаченными пальца́ми и золотыми цепями на бычьих шеях.
Первой экономической стычкой — полуразбойной разборкой — на Урале конечно же можно счесть конфликт Горного начальника в Сибирской губернии Василия Татищева, отца-основателя города, с кланом промышленников Демидовых касательно добычи огнеупорного камня и запуска железоделательного предприятия — казенных заводов, разорению и отъему коих способствовали Демидовы, обвинив Татищева перед троном во всех смертных грехах. «Оболгание» Татищева Демидовыми привело к розыску и суду, но истину установил эмиссар Петра I генерал-майор Вильгельм де Геннин. На Плотнике сейчас стоит парный памятник Татищеву и де Геннину.
Поздний друг Бориса — голландец Кейс Верхейл — в эссе «Остается любовью» (Знамя. 2005. № 1) говорит:
Этот Виллем Янсзоон Хеннинг (или де Геннинг или Геннин, фамилия писалась то так, то этак), до сих пор считающийся на Урале мифическим основателем города, не упоминается ни в одной нидерландской энциклопедии. В России же о нем известно, что в двадцать один год он приехал вместе с Петром из Голландии как специалист в области артиллерии и, сделав здесь, в частности, на Урале, карьеру инженера, умер в возрасте семидесяти трех лет в Петербурге. На парадном портрете, написанном маслом, он представлен уже немолодым человеком. Увешанный наградами высокопоставленный чиновник и одновременно военный, чье лицо явно не славянского типа под напудренным париком свидетельствует, что называется, о силе воли.
Из документов следует, что именно Виллем Янсзоон придумал название Екатеринбург. Великолепная находка, по целому ряду причин. Использование имени тогдашней царицы было поклоном не только в ее сторону, но еще в большей мере в сторону самого царя. Петр в это время как раз решал вопрос, кто будет его преемником на российском престоле. На первый план он выдвигал свою жену Екатерину — пощечина консервативной России, потому что она была а) женщиной, б) сомнительного происхождения, в) второй женой царя после развода, г) так же, как он, жаждала нововведений. <…>
Екатеринбург на рубеже XIX–XX веков был, вероятно, городком вроде Эссена или Ноттингема. Если, конечно, не принимать во внимание его затерянность в пространстве и ту дополнительную функцию, какой не знал ни один европейский город, а именно — в карательной системе дореволюционной России. Из-за своего расположения город был как бы перевалочным пунктом для всех арестантов, которых ссылали «в Сибирь» со всей европейской части России. После относительно комфортабельной доставки от места жительства до Екатеринбурга далее арестанты шли пешими колоннами, в цепях, под снегом и дождем. Постоянное присутствие в городе подобных «транзитников» не могло не оказывать воздействия на здешних жителей. И сегодня не иначе как с благоговейным страхом вам покажут старую тюрьму в центре города и начало Сибирского тракта, уходящего от портика в классическом стиле на восток, к горизонту.
Царь развел схлестнувшихся бойцов, каждому отведя свой ареал для бизнеса. В отдаленном результате Екатеринбург обрел огромную промышленную мощь. В основе которой — неслабый отечественный Военно-промышленный комплекс.
Во время Великой Отечественной войны стальная труба Левитана — «Говорит Москва!» — некоторое время раздавалась из свердловского подвала на улице Радищева. Урал был голосом Отечества, но об этом знали два-три человека. Где-то рядом (в Тюмени) в ту пору пребывало и тело Ленина.
Существует екатеринбургская окраина — Елизавет. Место было названо в честь дочери царя Петра. Ирина Князева, в будущем жена поэта, выросла в поселке Елизавет. В юном возрасте — 21 марта 1992 года — Борис написал свою «Елизавет»:
Копьём разбивши пруда круп, вонзилась рыжая река. Завод сухой клешнёю рук доил седые облака. Слюной яичного желтка на сосны вылился восток. Я б строил башни из песка там, где бушует водосток.Ну, это, разумеется, урок Маяковского, его знаменитого дебюта:
Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана; я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? («А вы могли бы?..», 1913)Налицо вызывающее ученичество, манифестарное по сути: я иду от Маяковского.
А Маяковский между тем в 1927 году, когда его уже не интересовали флейта водосточных труб и флейта-позвоночник, посетил Урал, и были результаты. Такого порядка:
Из снегового, слепящего лоска, из перепутанных сучьев и хвои — встает внезапно домами Свердловска новый город: работник и воин. Под Екатеринбургом рыли каратики, вгрызались в мерзлые породы и руды — чтоб на грудях коронованной Катьки переливались изумруды. («Екатеринбург — Свердловск»)И так далее.
Такой Маяковский Рыжему понадобился минимально: рифмой «лоск — Свердловск».
Приобретут всеевропейский лоск слова трансазиатского поэта, я позабуду сказочный Свердловск и школьный двор в районе Вторчермета. («Приобретут всеевропейский лоск…», 1998)Не естественно ли, что нынешний мэр столь литературного Екатеринбурга — поэт Евгений Ройзман, знавший Бориса Рыжего?
Справка. Первый конкурс неформальных поэтов (кто не являлся членом Союза писателей и не собирался вступать в эту организацию) в Свердловске состоялся осенью 1987 года. По итогам голосования публики первое место и титул короля поэтов получил Евгений Ройзман. Он писал так:
Белый туман. Предрассветная тишь. Тишь (куда денешься?) — да благодать. Как ни глядишь — никого не видать. Да и вообще — никого не видать. Хочешь не хочешь — вокруг никого. Да ты не понял — не здесь, а везде. Кроме тебя. И тебя одного. И твоего отраженья в воде.Нам нужна предыстория поэта Бориса Рыжего, его истоки, причины судьбы.
Евгений Рейн сказал о Рыжем: «Слова простые, а корни глубокие». Лучше всех об этом знают мать Бориса Маргарита Михайловна и его сестры — Елена и Ольга.
С Маргаритой Михайловной и Еленой мы два дня проговорили в Челябинске. Дело было в офисе еженедельника «Футбол — хоккей Южного Урала», издаваемого супружеской четой Игорем и Еленой Золотаревыми. На потолке — неясные следы повреждения от взрывной волны недавнего метеорита, соседняя комната практически разрушена по той же причине. Маргарита Михайловна являлась на разговор с королевской точностью, как уговаривались. Миниатюрная и седенькая, с бледно-голубыми глазами. Говорит на редкость хорошо, то есть внятно и точно, с учетом интересов собеседника: слышит — отвечает. Это было сверх моих ожиданий.
Родители были февральскими: Маргарита Михайловна родилась 6 февраля 1936-го, Борис Петрович — 27 февраля 1938-го. Втайне она стеснялась этой разницы в два года и, упомянув о ней, бегло и непонятно улыбнулась. Маргарита Михайловна каждый раз приносила в небольшой сумочке некоторые документы: фотографии, листки бумаги, корочки удостоверений, папки и проч., все это выкладывалось на стол несколькими горками, листалось и теребилось, рассыпалось и собиралось, показывалось и озвучивалось, а потом одним движением беспорядочно возвращалось в сумочку, причем сумочка, разбухая, иногда не застегивалась, рискуя потерять содержимое.
Это не было смятением. Это было воспоминанием прожитой жизни, не раз прокрученным в памяти и в чем-то дословно затверженным. Нет, не заезженная старая пластинка, но общий сюжет, давно осознанный и выстроенный не без законов художественности: композиция, акценты, состав героев, динамика повествования.
Как оказалось, Борис в некоторой степени — косвенно — москвич: Маргарита Михайловна родилась в столице нашей Родины, на Красной Пресне. Родители были из пришлых москвичей: из деревни Скрипово на Орловщине, где почти все носили фамилию Пашковы. Но мать ее отца Михаила Ивановича Евдокия Митрофановна в девичестве была Раевской, и ее отец, по разговорам, был незаконнорожденным от человека из какого-то более высокого сословия, нежели крестьянское.
Те Раевские были из Прибалтики или Белоруссии. У мамы было четыре класса образования, они с мужем, моим отцом, работали на одном заводе. В 1936-м отец, Михаил Иванович Пашков, погиб, сорвавшись с подножки набитого трамвая. Маме было двадцать семь лет. У нее уже были мы — старшая сестра Женя шести лет и я, мне было одиннадцать месяцев. Его положили на Ваганьковском кладбище, могила затерялась.
Мне было два года, когда мама отвезла меня к бабушке в деревню Скрипово. Знаете, как у Некрасова — Неелово, Горелово, Неурожайка тож. Бабушка была счастлива принять меня, отец был ее единственным сыном, и она говорила, что я очень похожа на него. Бабушка меня кормила с ложечки. Бабушка была знатной портнихой, обшивала всю деревню. Набожная была бабушка, ходила в церковь, соблюдала посты, отмечала все церковные праздники. Родилась она в 1880-м, а умерла в 1953-м — как Сталин.
Дед еще был жив, кем был — не помню, но ходил не в лаптях, а в сапогах. У него было присловье: «вот черт, вот черт», а также он всех называл дураками, женщин тоже, и самого себя тоже.
Когда началась война, мама привезла в Скрипово мою сестру Женю, вернуться в Москву не успела, через неделю пришли немцы. Началась сеча за деревню, ее захватывали то наши, то фрицы. Как в Гражданскую войну — то красные, то белые. Деревня переходила из рук в руки.
Немцы застрелили троих мужчин, за что — непонятно, потому что они не могли быть партизанами: леса вокруг не было, топили хворостом. Молодых почти не было, младший брат мамы погиб недалеко от деревни. С нами жили два сына погибшего.
Дом в деревне Скрипово был большим, наполовину каменным, наполовину деревянным. Немцы устроили у нас свой штаб. Сожрали всех кур. Мы жили в деревянной половине дома, а когда деревню захватывали немцы, прятались во дворе — в каменном погребе, где в мирное время были бочки — с медом, огурцами, капустой. Дедушка брал чугунок, наполнял его на огороде мерзлой картошкой и варил ее. Когда хотелось пить, сгребали снег с земли. Колодец был далеко, за водой немцы гоняли деда. Он заболел, залез на печку, заснул и не проснулся, похоронили мы его за домом.
Даже конница Буденного залетала к нам. Было очень много убитых лошадей, мы ели конину, а всех коров поели немцы. У нас осталась корова Жданка. Когда немцы стали ее забирать, мама уцепилась за хвост, и один немец выстрелил вверх. На следующий день нам сказали прийти за этим хвостом и заодно за головой и шкурой. Мы все это привезли к себе на санках.
Немцы сожгли наш дом. Потом нас поселили в чужом доме, комнат там не было, одно помещение с печкой, и там набилось пятьдесят человек.
Сорок третий год, все мы — бабушка, мама, я с сестрой Женей — живем в чужом большом доме, спим на соломе, обовшивели, у меня фурункулы пошли по телу. Староста вел себя нехорошо. Недалеко был хутор, там жил мужчина, немцы его нашли — староста подсказал, что там живет мужик с ребенком. Они в погребе сидели. Его застрелили. Жена с ребенком, раздетые, побежали в нашу деревню. Часовой-немец ее остановил, привел к нам, к бабушке. Мы их обогрели, приютили.
Этот староста — из местных — был мародер. Он багром вылавливал трупы, плывущие по реке, — снимал одежду, даже портянками не брезговал.
27 июля немцы собрали население в толпу. Ходили с оружием по дворам, выгоняя всех из дому. Нам ничего не сказали, куда отправляют. Погнали строем. Кто-то ехал на телегах. По бокам шли немцы. Пешком прошли до польской границы. То мама, то бабушка несли меня на руках. Боялись отстать. С нами шел сосед старый-престарый, на нем суконная свита с высоким воротником, подпоясанная тонкой веревкой, шапка деревенская, лапти. Он плакал. Говорил: когда я в Первую мировую попал в плен, немцы на мне пахали.
Орловско-Курскую дугу — это совсем рядом с нашими местами — наши уже прорвали, и наши самолеты бомбили немцев, но старались не бомбить колонну. Мы прятались от бомб по кустам на обочинах. Пока дошли до Польши, ели что попало, набрасывались на гурты свеклы и ели, пока немцы не видели. С тех пор полюбила белую свеклу. От того времени осталось только чувство страха и голода. Немцы погрузили нас в товарные вагоны и сказали: счастливого пути в Германию.
В Германии, это был Лейпциг, нас выдворили из вагона, пришли бауэры — помещики — отбирать рабочую силу. Кого-то разобрали, остальных устроили в отдельном месте — в трудовом лагере. Нас в баню погнали, облили какой-то дрянью, чтобы вшей не было. Присвоили номера. Потом выдали одежду — мы обносились. Никто не менял никакого белья, однажды мне дали пальто. Одежду снимали с тех, кто погиб. Жили мы за колючей проволокой, через нее никого не пропускали. Это был не концлагерь — просто огражденная территория, трудовой лагерь, по-немецки «арбайтлагер», полицейские охраняли.
Мама работала на каком-то заводе, она и в Москве работала на военном заводе. Мне было семь лет, прожила там до девяти лет. Кормили нас так — выдавали хлеб, маргарин, суп из шпината, шпинат очень полезный. Насучили немного немецкому языку. Кроме «руссиш швайн», «бауэр» и «муттер» — ничего больше не запомнила.
Я была маленькой, чтобы работать, сестра Женя — подросток, ей тринадцать лет — тоже не работала. Двоюродные братья — младший еще малолетка, а старший работал сварщиком. Внутри барака — женщины и дети, старик только один.
Да, это был город Лейпциг, недалеко Дрезден. Уже открыли второй фронт, падали фосфорные бомбы. Мы работали на огороде, пололи, убирали урожай. Вдоль дорог росли фруктовые деревья — груши, яблоки, мы подбирали падалицы. За нами следила немка с плеткой в руке, в черной форме. Однажды она отлучилась, мы бросились к деревьям, она выследила нас и выстроила в строй и давай стегать плеткой. Женя загородила меня: лучше меня два раза, а ее не бейте. Обеим попало. Боялись ее очень.
Уже в конце войны наши приближались. Неподалеку был концлагерь для военнопленных, мы называли их «полосатики» из-за их одежды. Бельгийцы, французы. Мы еще были за проволокой. К ним приходили посылки, через Красный Крест, они у своей ограды продукты вываливали на землю, нам махали — идите берите. Мне нравились большие макароны с дырочками. Женщины перебрасывали через проволоку одеяла, дети шли, брали продукты, заворачивали в одеяла. Я была трусливая, перелезла, идет полицейский, я — обратно, порвала платье, вернулась пустой, мама расстроилась.
Бабушка была подсобной рабочей на кухне, приносила кусочки хлеба, суп в банке, подкармливала меня, а надо было Женю, ей шло уже к шестнадцати, она росла.
Под самый конец войны немцы накормили военнопленных в концлагере, закрыли окна одеялами, облили бензином и подожгли. Один спасся, мы его спрятали.
Поговаривали, что нас туда поселят и тоже сожгут.
Начались бомбежки, шли постоянно. Бабушка сидела в бараке, молилась, но бомба однажды попала в барак. Полицейские в бараки не заходили, вокруг ходили. Проволоку потом убрали. Мы сфотографировались — когда убрали проволоку, сохранилась фотография Жени, там написано: «Лейпциг, 1945».
В Лейпциг вошли американцы, в апреле. Стали приходить письма, в одном письме сообщалось, что мамин отец умер в дороге, от аппендицита. Всем хотелось — домой, домой. Нас там агитировали ехать в Бельгию, во Францию, в Канаду, в Америку. Оставайтесь, мол. Но выступали советские генералы: дорогие соотечественники, скоро мы вас отправим домой.
Когда кончилась война, мы оставались на американской стороне, советская зона была восточнее, на другом берегу Эльбы. Фильм «Встреча на Эльбе» я потом пять раз смотрела. Нас поселили в какой-то дом типа канцелярии: столы, бумага, цветные карандаши, а мы — ни читать, ни рисовать, ни писать. Мы развлекались, наряжались — шапочки из картона утыкали красивыми английскими булавками. В день капитуляции бабушка пошла в церковь, хотя там другая вера, помолиться в честь победы. А в том доме была лестница отполированная, мы — дети — ехали по перилам с пятого этажа. Я пошла одна покататься, перевалилась через перила, вниз головой упала в подвал, прямо в бочку. Какой-то мужчина меня нашел, на руки взял: где твоя квартира?
Меня поместили в американскую больницу. Маму положили со мной. Зашили мне голову. Лекарств было мало, что ли, запомнился лишь красный стрептоцид. Рана нагноилась, стало расти мясо, прижигали ляписом. Мама переживала — всех отправят, а мы останемся. Я встала, не могу наступить на ногу, нога ушиблена. Делали компрессы, а нога не заживала. Позвали какую-то бабку, тоже из лагеря, — заговаривать могла. В окно поздно вечером влезла эта знахарка. Вправила ногу — это был вывих.
Стали отправлять. На автобусах через Эльбу. Впервые негров увидела, не испугалась. Но русские девушки с флажками, регулировщицы, с презрением на нас смотрели. Мол, предатели. Будто бы мы сами приехали сюда. Многие потом сидели. Двоюродных братьев не приняли в Суворовское училище. Но в паспорте мамы не было указано про плен.
Нас посадили на высокие платформы, груженные железными трубами. Был ноябрь. Ехали на трубах, просыпались — все в инее. По дороге на эшелон нападали бандиты, переодетые в советскую военную форму. Думали, что везем богатства. А нам выдали на всю дорогу по буханке хлеба. Мы ссорились из-за горбушки, нам казалось, что она больше. На остановках немцы побирались, мы им подавали хлеб.
Приехали в Брянск, оттуда к себе в деревню. Женя в дороге простыла, очень заболела. У Жени кровь из горла шла. Скоротечная чахотка, то есть туберкулез. Староста не дал лошадь, чтобы съездить за врачом. Женя умерла.
Ни игрушек, ни санок у нас не было, на ящиках из-под снарядов катались с горок. Мы играли пулеметной лентой. Ребята глушили рыбу, взрывая капсулы снарядов, — там река Ока.
Мама написала родному брату в Курганскую область, тот прислал гонца — своего помощника, и мы поехали к дяде. Заехали в Москву. Маму выписали из ведомственной квартиры, ничего из вещей нет, мебель разошлась по чужим рукам, мама видела ее у соседей. На завод ее назад не взяли. Поехали дальше в Курганскую область — в поселок Юргамыш. Нас там приняли хорошо. Дядя был директор домостроительного завода, строил будки для железной дороги и построил себе дом. Все в нем устроились. У дяди жена, дочка, теща, но все было хорошо, он стал как отец.
Там я пошла в первый класс, мне десять лет, переросток. Говорила очень быстро, писать не умела. Дядя посоветовал маме, чтобы она нашла мне учительницу, чтобы я освоила второй класс. Летом училась. Таблицу умножения не могла запомнить. Двоюродная сестра диктовала диктант, ставила двойку. Мне дали справку, что я закончила второй класс и переведена в третий.
К концу третьего класса все освоила, получила похвальную грамоту. Будущий муж Борис появился в шестом классе. С шестого мы вместе. Петр Афанасьевич брил голову наголо и сына Бориса брил. У него уши торчали. Борис увидел, придя в класс: самая красивая девчонка.
Родители меня назвали Маргаритой, бабушка была возмущена: нет ни одной святой по имени Маргарита. В «Трех мушкетерах» я нашла колодец святой Маргариты.
Материнские испытания не прошли бесследно и для него. Ее детство было известно ему с его детства и, как некое общее детство, вошло в стихи, в данном случае с точной датировкой (курсив мой):
Поздно, поздно! Вот по́ небу прожектора загуляли, гуляет народ. Это в клубе ночном, это фишка, игра. Словно год 43-й идёт. Будто я от тебя под бомбёжкой пойду — снег с землёю взлетят позади, и, убитый, я в серую грязь упаду… Ты меня разбуди, разбуди.Если представить, что сын ее не поэт, а она не мать поэта, все равно мы имеем дело с историей интеллигентской семьи в нетепличных условиях русской жизни на фоне глубинных процессов, происходящих на территории огромной страны, глобальных событий и сокровенных частностей, ставших достоянием социума.
Но сын ее — поэт, а она — мать поэта.
Так я понял: ты дочь моя, а не мать, только надо крепче тебя обнять и взглянуть через голову за окно, где сто лет назад, где давным-давно сопляком шмонался я по двору и тайком прикуривал на ветру, окружён шпаной, но всегда один — твой единственный, твой любимый сын. Только надо крепче тебя обнять и потом ладоней не отнимать сквозь туман и дождь, через сны и сны. Пред тобой одной я не знал вины. И когда ты плакала по ночам, я, ладони в мыслях к твоим плечам прижимая, смог наконец понять, понял я: ты дочь моя, а не мать. И настанет время потом, потом — не на чёрно-белом, а на цветном фото, не на фото, а наяву точно так же я тебя обниму. И исчезнут морщины у глаз, у рта, ты ребёнком станешь — о, навсегда! — с алой лентой, вьющейся на ветру. …Когда ты уйдёшь, когда я умру. («Так я понял: ты дочь моя, а не мать…», 1999)Во время нашей с Маргаритой Михайловной беседы из глубины комнаты раздался голос Андрея Крамаренко:
— Маргарита Михайловна! Расскажите о башмачках! Пожалуйста!
Попутно Андрей снимал кино о нашей поездке.
Итак, новелла о башмачках. Уже после детства, после войны.
Когда кончался учебный год, мы получили двойную стипендию — за два месяца, я купила себе ботинки белого цвета на подошве, подкладка фланель, считались зимними. Уехала на каникулы домой, в Юргамыш. Декан предупредил: опоздаете на один день — лучше не приезжайте. А зима стояла страшная — заносы, ветры, дикая стужа. На холодном вокзале долго ждала поезда, устала, поезд отправился, устроилась на боковую полку, легла, ботинки сняла, поставила под голову, сплю себе. Вдруг меня будит милиционер: девушка, а вы ботинки не потеряли? — Смотрю, нет ботинок. — Собирайте свои вещички.
Мама пекла песочные торты, я привозила их в Омск, везу с собой, а как идти по снегу? Один мужчина-попутчик предложил свои галоши, но сказал вернуть их ему. Выпрыгнула из тамбура на землю, галоши свалились, надела их, поплелась. В отделе милиции спрашивают, что и как. Спала, ничего не видела. А сама волнуюсь, смотрю, чтоб от поезда не отстать, меня же выгонят из института. Дали звонок, побежала в этих галошах, галоши снова свалились в снег, достала их из сугроба, добежала босиком до вагона. Сижу, думу думаю. Заходят два парня. Что ты тут одна сидишь? У нас гитара, песни поем, пойдем. Взяла опять галоши, пришла к ним в компанию, сижу, слушаю, ноги поджала, чулки мокрые. Мне стали предлагать кеды, тапочки. Песни, смех. Вдруг один вышел куда-то, вернулся и несет в руках мои ботинки: твои? Пошел в туалет, они за унитазом стоят. Потом выяснилось, что их украла молодая воровка, ходила по вагонам, пыталась продать эти ботинки, а когда узнала, что милиция ищет, — спрятала.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Это были времена, когда свердловский губернатор Эдуард Россель вознамерился создать Уральскую республику, и сия эфемерида фактически существовала с 1 июля по 9 ноября 1993 года. Это было вершиной той вольницы, волны которой омыли детство Бориса. Сейчас дорогу, ведущую в аэропорт Кольцово, в народе называют Россельбан. По которому можно добраться на Нижнеисетское кладбище.
Времена были такие, что впору заводить серию «Смерть замечательных людей».
Так вот. Вторчермет («Вторчик») — это завод вторичного черного металла, попросту большой пункт приема металлолома, идущего на переплав. По его имени называют весь район, официально Чкаловский. Рядом расположены мясокомбинат («Мясик») и жиркомбинат («Жирик»). РТИ — завод резиновых технических изделий, где изготавливают, например, шины. Мясокомбинат источает запах невыносимого свойства, к которому надо было привыкнуть, и люди привыкли.
Это были люди неприхотливые — по преимуществу бывшие зэки, в огромном количестве принимаемые без всяких препон, с пропиской на Вторчике. Помимо общаг в районе существовали и обычные квартиры, заселенные разнообразным обществом — от работяг до интеллигенции и даже начальства небольшого, но взаимополезного калибра: директор фабрики одежды, директор школы ДОСААФ, директор городского ОВИРа.
Дома́ — в основном типовые пятиэтажки, натуральные хрущобы грязно-желтого цвета, мало отличимые друг от друга. Дома стоят тесно, образуя лабиринт, интересный для пацанов с их прятками и побегами. Царил взрослый уголовный элемент безотносительно к новым временам — Вторчермет построили давно и надолго, заведомо рассчитывая на непритязательную рабочую силу, и эта окраина десятилетиями славилась в соответствии с необходимыми и неизбежными для окраины качествами.
Семья Рыжих оказалась в районе по недоразумению, а точнее — по спешке и безамбициозности Бориса Петровича. Когда его призвали из Челябинска в Свердловск на должность главного геофизика Уральского производственного геологического объединения, он около года жил в отрыве от семьи, ему это надоело, жилье для обмена нашел по-быстрому и почти не глядя, потому что думал, что вскорости все это улучшится и устаканится. В 1981-м они въехали в дом на улице Титова, 44, кв. 30. Было просторно — четыре комнаты-комнатушки, всем нашлось место — и родителям, и бабе Дусе, и детям — Оле и Боре. Лена осталась жить и учиться в Челябинске, в Политехе.
Маргарита Михайловна устроилась на работу по специальности — в санэпидемстанции, Боря пошел в школу № 106. Тогда уже было разделение школ на мажорные и простые, но по большей части все дети ходили гуртом и вперемешку в ту или иную школу, однако 106-я все-таки отличалась от других определенной лихостью подрастающего поколения и крутизной преподавательского состава. По крайней мере, директриса Алевтина Ивановна Зыкова — по кличке Алифа — хотела быть грозой и все для этого делала. На подходе к туалету, где пацаны курят, фиксируется и орет:
— Я иду!!!
Сигареты летят в унитаз, штаны расстегиваются.
Ей дали еще и кличку Фюрер.
В 106-й школе учительница младших классов била учеников указкой по рукам и головам. Всех, кроме Бориса, хотя он хулиганил не меньше других. Она уважала Маргариту Михайловну. Боря вел себя строптиво. На уроки по ритмике ходить отказался категорически, в школьную администрацию вызывалась мама, говорила: у нас в семье никто не танцует, даже дочки. Не вышел из него плясун.
Двор был как двор, с детской площадкой, старушечьими скамеечками, с липами и тополями и кустом боярышника у крыльца подъезда. Дети занимались своими делами, подростки кучковались у подоконников лестничных пролетов. Летом бегали купаться на пруд — или болотце — Муху, это недалеко. Зимой Муха замерзала, катались на коньках, а вокруг — лес и возможность лыжных прогулок.
Борис хотел быть как все. Участвовал во всех дворовых и школьных проделках, более того — часто инициировал таковые.
Быть, быть как все — желанье Пастернака — моей душой, которая чиста была, владело полностью, однако мне боком вышла чистая мечта. («Я был учеником восьмого класса…», 1998)Был у него друг Серега Лузин с соседней улицы Сухоложской. В школу путь Бориса пролегал как раз мимо Серегиного дома, номер 4, где они поутру соединялись на углу по направлению к 106-й. Это происходило восемь лет подряд.
В моде у них были телаги, то есть телогрейки. Телагу ему — еще небольшому и худенькому — достала через подругу из магазина «Рабочая одежда» на Уралмаше сестра Ольга, ушила ее по бокам и хлястику, пришила ворот от пальто.
Выхожу в телаге, всюду флаги. Курят пацаны у гаража. И торчит из свёрнутой бумаги рукоятка финского ножа. («Ничего не будет, только эта…», 1998)После бокса Борис пробовал себя в культуризме (режимил, завтракал ячневой кашей). Травмы, раны, шрамы — с младенчества. В четыре года осколок банки, выпавшей из руки, оставил след на всю жизнь отчетливым рубцом во всю левую щеку. Лет в одиннадцать, пробуя самодельный парашют в прыжке с дворового тополя, сломал плечо, а через полгода получил перелом запястья на тренировке по дзюдо. Ногу тоже ломал.
Раны украшают героя. Много позже Борис поведал Сергею Гандлевскому такую историю:
…в геологической партии на Северном Урале… <…> они с напарником прослышали, что в ближайшем поселке по субботам танцы, и затеяли — как раз была суббота — бриться перед осколком зеркала, чтобы идти на танцплощадку. «Что это вы делаете?» — крикнули им работяги с проезжавшего грузовика. Друзья ответили. «Да вас же убьют», — захохотали в кузове. Мужики преувеличивали несильно. Убили только напарника, Бориса лишь полоснули по лицу…
Бокс в городе был в чести и очень нравился вторчерметовским пацанам. В первом выезде на соревнования Боря проиграл.
13 лет. Стою на ринге. Загар бронёю на узбеке. Я проиграю в поединке, но выиграю в дискотеке. («Восьмидесятые, усатые…», 1998)Противник был намного опытней и старше. Потом на общегородских соревнованиях в спорткомплексе «Юность», ближе к концу восьмого класса, зимой, оба заняли призовые места. Боря выиграл первое место среди юношей от 13 до 14 лет. Кубков не давали, обходились грамотами. Победу не обмывали. Они тогда даже еще не курили. Но когда Боре предложили стать профессионалом и поехать на трехмесячные сборы в лагерь у моря, он отреагировал решительно: три месяца в казарме у моря вне дома — не поеду. Это было похоже на то, как после восьмого класса его хотели перевести в 61-ю школу с математическим уклоном, а он уперся: не пойду. Родители стали на его сторону, похлопотали где надо (районо), упрямец был оставлен в 106-й.
Борис был наследственно сухощав, обыкновенного среднего роста, ничего выдающегося. Баба Дуся еще в Челябинске была ему и яслями, и детсадом, и ни в одно из этих учреждений он не ходил. Насыщенное народное питание, ею изготовляемое, делало внука полноценно здоровым без признаков акселератства. В итоге он достиг 175 сантиметров и на этом успокоился.
В 1982 году Боря окончил второй класс. Летом его хотели отправить в пионерский лагерь, он не хотел ехать. У Маргариты Михайловны внезапно заболел живот, врач говорит: аппендицит. Пришла беда — отворяй ворота: у бабы Дуси заболел палец на ноге. Маргарита Михайловна согласилась оперироваться. Договорились — под местным наркозом. У бабы Дуси началась гангрена. Краснота до колена. Прошел месяц, ногу надо было оперировать, а тут у бабы Дуси обнаружили сахарный диабет, баба Дуся пошутила: теперь нам гречку будут давать бесплатно. Ногу удалили. Маргарита Михайловна дежурила у нее в больнице четыре дня. Глаза у бабы Дуси стали голубые-голубые. А тут позвонил Борис Петрович: у Борика сорок градусов температура. Маргарита Михайловна ночью поехала из больницы домой, плакала всю дорогу. У него болячки по всему телу. Но менингита вроде бы нет. Увезла Борика в больницу, а ей звонят: ваша мама умерла.
Когда баба Дуся умерла, Боря вынужден был ходить на продленку. Он возмущался: за нами никто не смотрит, сидим за пустыми партами, я ничего не ем в столовой.
Дважды в неделю Ольга пропускала институт, чтобы он мог уйти с продленки.
Маленький, сонный, по чёрному льду в школу вот-вот упаду, но иду. …………………………………… Мрачно идёт вдоль квартала народ. Мрачно гудит за кварталом завод. Песня лихая звучит надо мной. Начался, граждане, день трудовой. Всё, что я знаю, я понял тогда — нет никого, ничего, никогда. Где бы я ни был — на чёрном ветру в чёрном снегу упаду и умру. («Соцреализм», 1995)Серега был первым и, пожалуй, единственным соавтором Бориса, кроме сестры Ольги. Вместе сочиняли фельетоны на потребу классных зубоскалов, на школьно-уличную тематику. Но у Лузина были другая семья, другие условия произрастания, другая дорога в результате. Они общались всю жизнь. Напоследок Борис обратится к нему:
На границе между сном и явью я тебя представлю в лучшем виде, погляжу немного на тебя, Серёга. Где мы были? С кем мы воевали? Что мы потеряли? Что найду я на твоей могиле, кроме «жили-были»? Жили-были, били неустанно Лёху-Таракана. …А хотя, однажды с перепою обнялись с тобою и пошли-дошли на фоне марта до кинотеатра. Это жили, что ли, поживали? Это умирали. Это в допотопном кинозале, где говно казали, плюнул ты, ушел, а я остался до конца сеанса. Пялюсь на экран дебил дебилом. Мне б к родным могилам просквозить, Серёга, хлопнув дверью тенью в нашем сквере. («На границе между сном и явью…», 2000–2001)В юности он стал определенно походить на молодого Блока, но писаным красавцем не был. В детстве — иное дело. Сестра Оля привела трехлетнего Борю в парикмахерскую, парикмахерша засюсюкала: ой, какая хорошенькая девочка.
Боря сказал как отрезал: стричься у этой дуры не буду.
Наркомания еще не накрыла его сверстников, а вот те, кто родились в 1975–1976-м, ушли в это дело повально. Обыкновенного курева было достаточно. Кстати, Рыжий-отец курил в основном «Беломор». Отчетливо желтыми были «курительные» пальцы правой руки Бориса: след сигарет «Прима». Это позже, в туалете учебного здания Горного института, студенты кайфовали от анаши.
Учитель русского языка и литературы, молодой парень в джинсах, Виталий Витальевич Савин поведал классу о ранее запретных вещах. О треугольнике Маяковский — Лиля — Осип Брик. Рыжий сказал дружку Ефимову:
— Ты будешь Ося!
— Это почему?
— Потому.
Дом номер 44 ничем не отличался от других домов по составу жильцов.
В том доме жили урки, завод их принимал… Я пыльные окурки с друзьями собирал. («В том доме жили урки…»,1996, март)У Рыжих были соседи Лешие, два брата. Как-то Борис сказал Ольге: слушай, братья Лешие мужика убили.
— Боря, откуда ты знаешь?
— Об этом все знают. Убили мужика, зарыли его в землю.
Пришла весна, труп нашли, братьев посадили. Потом «закрыли» (посадили) другого соседа, затем он «откинулся» (освободился), идет по лестнице навстречу Боре, глаза стеклянные, вынимает нож, присматривается: а, это ты, Борька…
Только справа соседа закроют, откинется слева: если кто обижает, скажи, мы соседи, сопляк. А потом загремит дядя Саша, и вновь дядя Сева в драной майке на лестнице: так, мол, Бориска, и так, если кто обижает, скажи. («Только справа соседа закроют…», 1999)В сообщающихся сосудах дома и двора срабатывал некий фильтр: ни дом, ни двор не знали Бориса целиком, во всей полноте его натуры. Он оставался самим собой во всех сферах, в школе тоже. Внутренние свойства высвечивались ярче или гасли по обстоятельствам, без нажима со стороны их носителя. Скажем, часть уличного словаря он приносил домой, смеша или шокируя домашних, а вот накачанность поэзией, отцовым и сестринским чтением стихов и прозы оставлял для себя, не оповещая кентов об их существовании.
Но жизнь вообще была разная до изумления, и она не замыкалась на Вторчермете.
В 1987 году, летом, Борис Петрович сказал жене: — Хочешь, я тебе сделаю подарок?
Они втроем — родители и Борис — поехали в деревню Скрипово. Борису тринадцать лет. Приехали в Орел, в Болхове стояла геологическая экспедиция, Борис Петрович — его знали многие геологи страны — договорился, что их встретят. Их встретили на машине, довезли до Скрипово.
Там был сад великолепный до небес. Набрали много яблок. А недавно случился Чернобыль, это рядом, почернели огурцы, помидоры, трава почернела, яблоки тоже, места опустели.
На всю деревню был один дом, в котором жили старые муж и жена, да сын к ним приезжал из Калининграда сено косить. Хозяин дома спросил Маргариту Михайловну: кто ты такая? Такая-то. Старик вспомнил: ой, такие добрые люди были, а бабушка всю деревню обшивала. От вашего дома остались одни кирпичи. Остатки дома долго искали, без результата; в одной деревне нашли единственный дом с больным человеком в нем, а в другой — два дома; про какую-то деревню приезжим людям сообщили, что есть еще деревня, в которой живут хамы. Это как? Ходят в лаптях, грязные, моются в печке.
Пробыли Рыжие на родине предков Бориса — Пашковых — два или три дня. Бориса все это потрясло.
Свой эпистолярий Борис начал, по-видимому, с писем сестре Ольге. В 1990-м она уехала в Адыгею к мужу Магомеду. Борису пятнадцать лет, он пишет ей туда регулярно, даром что сумбурно. Сохранилось 19 писем. Письма он подписывал по-разному, а на конвертах в обратном адресе значились такие имена: Рыжий Жора, Рыжий Борис Борисович, Боря Ржавый, Рыжий Вилли, Боря Барбаросс.
Был и такой отправитель: Йозер Арафат Визи-Ахат Рыжий, младший.
Датировать письма было не в его обыкновении, но штемпель на конверте дает представление о дате его отправки. Таково письмо, проштемпелеванное 11 059 012, то есть 11 мая 1990 года. Правописание автора писем сохраняем неукоснительно.
Привет, Ольга!
Всё (он принципиально писал «ё»; позже он напишет: «Расставляю все точки над „ё“». — И. Ф.) пытаемся позвонить, да не получается, то заняты, то трубку бросают.
Сегодня проснулся в 14.30, и сразу мне начали звонить мои кореша. Когда все вызвонились, то я сел учить билеты, а сейчас почти выучил, решил тебе написать письмо.
Сегодня 9-ое мая — день победы над фашистской Германией, и весь двор «ента банда, чё во дворе стоит» ходит вся на рулях «все бухие». Половина джентльменов мирно сидят на скамейках у первого подъезда, и их тошнит. Остальные матерятся. И вот, когда я ходил отправлял тебе письмо, они на меня наехали, я сначала объяснял им, что я «их друг» Боря, а потом надоело, и самому крутому и самому пьяному сунул прямо в харю. Тогда они меня признали, и предложили «бухнуть», но я сказал, что я пить не буду, а пойду лучше домой. Они сделали вид, что обиделись, и опять стали наезжать. Но я всё-таки прошел домой.
Вчера с мамой из окна видели НЛО. Такая странная вещь. А папа нам с мамой мало верит. Вот как оно выглядело: (рисунок НЛО. — И. Ф.). Такой шар, от которого сзади расходятся лучи белого света. Когда он улетел, то эти лучи (ровный свет) остался (так. — И. Ф.) и дом напротив как бы был освещён.
Вот такие дела у нас творятся. Жизнь становится странной и полной разных неожиданных поворотов. Вот взять к примеру Ждахина (одноклассник. — И. Ф.), ведь мухи ни за что ни про что покусали <его>. Вот ведь какой поворот.
Ну ладно. У нас всё хорошо, пытаемся разговор заказать. Папа пишет тебе письмо. Я когда проходил, пару строк из его письма заметил. Такие эти строки сентиментальные, что мне сразу жить расхотелось. Мама сейчас спит, а я тоже пишу тебе письмо.
Сейчас пойдём с кентами шляться по улицам. Потом салют будем смотреть на крыше какой-нибудь лачуги шестнадцатиэтажной.
Вот я пришёл с салюта. Ездили на площадь. Было очень интересно. Был салют и фейерверг (так. — И. Ф.). Класс! Встретили баб из класса с парнями. Ну, думаем, шалавы, зря вы так гордо на нас смотрите. И я сразу каких-то баб в дали (так. — И. Ф.) засёк, подошёл, познакомились с ними и с нахальным видом прошли мимо них.
Я, Оля, тебя очень, очень люблю и Аську (дочка Ольги. — И. Ф.) тоже очень люблю, соскучился по всем вам очень.
Ну пока, Ольг. Люблю, целую.
Пиши.
Борисман.
В одном из писем он говорит: «Я тебя очень люблю, очень! Я письмо тебе пишу, как будто дневник веду…» (24 апреля 1990 года). Сообщает школьно-дворовые подробности и сюжеты. 28 мая пишет:
Пчелинцев (одноклассник. — И. Ф.) влюбился (взаимно).
Ах, Ленка, первая краса, Пускай немного толстовата, На оба глаза косовата… Зато до пояса коса!Правда, она не косит. Для рифмы.
На следующий день добавляет: семья Пчелинцевых получила пятикомнатную квартиру. Все оторопели — откуда такое счастье привалило? Боря с Серегой решили: Пчелинцевы фиктивно прописали у себя нищих, а те взяли да поселились там по-настоящему — собирающая бутылки бабка, побирающийся в хлебном магазине дед и проч.
Рассказывается и об обмене «пластами» (пластинками). «Пластоманы» собирались около Дома офицеров. Борис обменял группу Kiss на Kix, этих исполнителей — на Black Angelos, купили с Серёгой пласт Scorpions, пустили в обращение ДДТ, Metallic Bunnys, на дому соорудил сам — цветомузыкальную установку.
Читаем письмо, отправленное, похоже, тогда же, 11 мая 1990 года.
Привет, Ольга!
Сегодня получил твоё письмо. Пишу я почти каждый день, только всё забываю отправлять. Беда просто. Про Нау (группа Nautilus Pompilius. — И. Ф.) с песней «Хочу быть с тобой» ты не права. Во первых (так. — И. Ф.) её не Кормильцев, а Бутусов написал, даже на пластинке написано, и никакая эта песня не талантливая, мне она никогда, с самого начала, не нравилась, дешёвая. Во-вторых про Бутусова в фильме (финский фильм «Серп и гитара», 1988, посвященный советскому року. — И.Ф.) это никакая не шутка была, а правда. Он вообще дрянь порядочная. Не даром все от него ушли, даже Умецкий <НРЗБ> когда Бутусов вступил в театр А. Пугачёвой. Ну да ладно, чёрт с этим Наутилусом, но мне тот фильм просто отвращение вызвал с Нау. Чёрт с ним.
Но раз уж начал про группы, а меня сейчас на Свердловский рок потянуло и Ленинградский, так среди знатоков, которые отрицают все эти «Ласковые маи», провели опрос и лучшей группой вышла ДДТ, затем Аквариум, а потом свердловская Чайф, (Агата Кристи <НРЗБ>), а «Нау» даже не вошёл в первый полтинник (50).
Ну ладно, тебе наверное наскучило.
Я теперь начал коллекционировать значки с Лениным, думаю лет через дцать (так. — И. Ф.) моя коллекция станет уникальной. Вот так то. Ну что дальше писать то и не знаю.
Я, Ольг, тебя очень люблю — очень-очень, Аську тоже люблю очень сильно, а Магомеда — уважаю (шутка, ну уважаю конечно, просто вставил неудачно). Получила ли ты мои письма со стрёмным настроением, если получила, то не расстраивайся, сейчас у меня получше.
Правда, в школе не очень. Шуток моих не понимают. Неужели у меня шутки такие дурацкие, и мама и папа тоже не понимают. Ты бы была бы сейчас со мной, хочется увидеть тебя, Аську, хочется посидеть с тобой, посмеяться, но вот сейчас расплачусь как баба («как баба» это шутка, я вспомнил просто, что кто в детстве плакал на улице, того бабой называли, а я плакал всегда дома и поэтому меня считали настоящим мужиком). Настроение у меня такое, что то плакать хочется, то смеяться. Сейчас опять смеяться, но когда я с чем-нибудь шучу, это не то, как мы с тобой на кухне смеялись. Слушай, Ольг, я тебя и Аську очень, очень люблю, я никого больше вас никогда не любил и любить не буду.
Вот сейчас ДДТ первый их концерт так они в конце частушки поют, вот например:
Рейган из Америки нам войной грозится, Мы сыграем «Не стреляй», он угомонится.Сегодня пытались разговор заказать. Но когда 07 набираешь, гудки и всё. Не получается. Папа к стати (так. — И. Ф.) Аську и тебя очень часто вспоминает. Он тебя тоже очень любит. Но всё равно я тебя больше всех люблю. БОЛЬШЕ всех я тебя люблю, больше, чем мама, папа, Лена. И мне без тебя очень плохо, даже не скучно, а плохо, хочется тебя увидеть, поговорить, чаю попить. Но, Ольг, ни в коем случае это ни значит, что ты должна всё бросать и ехать ко мне.
Поживи там хоть для Аськи, Магомед ведь тоже хороший парень (ты мне пиши про него побольше, хочется узнать, какой он там).
В школе как то не очень, я последнее время даже Виталия Витальевича уважать меньше стал. Дело в том, что Алифа на Эдика (одноклассник. — И. Ф.) тянет, мол он пьяный был на вечере, вызвала его отца, а Эдик не был пьяным. Так Виталич при отце Эдика одно говорил, что он не пил. А при Алифе, что пил. Ну его можно понять, но ведь это самая натуральная трусость. Таких я не люблю. Вот при таких людях (я не боюсь такого громкого слова, может тебе даже и смешно покажется), нам ни когда не сделать перестройку. Конечно, я ни чего не говорю, Виталич — хороший парень. Но раньше я мог сказать «парень свой», а теперь не скажу.
Слушай мне стыдно, что я редко пишу, но ты не думай, я тебя в каждом почти сне вижу, только забываю письма эти отправлять.
Я вспомнил, в школе ЧП. Представляешь, муха-то, которая деда Ждахина чуть не съела в Намибии и которую этот дед потравил дихлофосом, умерла, но муж этой сраной[3] мухи прилетел в СССР и чуть Ждахина самого не загрыз прямо в школе, хорошо, что мы всей братвой на этого муха навалились и еле еле заломали ему крылья за спину и лапы скрутили, а Пчелинцев, когда мы его скрутили, по морде его бил, так, что этот мух от его ударов чуть не прикинулся. А потом, когда мух сознание потерял, мы его в зоопарк отвезли и там, прямо на глазах наших он «кинул ноги». Я думал, это его Пчелинцев так избил, а эксперты утверждают, что просто с мясокомбината нахер принесло ветром он и не вынес.
Зато нам по медали дали на линейке «За спасение от насикомого» (рисунок медали с изображением мухи. — И. Ф.). А с другой стороны медали Ленин нарисован. И я эту медаль на груди ношу. А Пчелинцеву ещё и грамоту «За проявленную храбрость в спасении от насикомого».
Каково? А. (так. — И. Ф.) Во дела в натуре, ну ладно, Ольг, я пошёл спать, спокойной ночи, спокинг спокинг, спокойной ночи.
Привет, Ольг, вот сейчас должна ты позвонить как раз, я из школы пришёл и сразу сел тебе писать. Ну когда ты позвонишь? Я скажу тебе, что пишу всё время, но забываю отправлять. В школе сегодня всё нормально было.
Слушай, я забыл нумировать письма, и поэтому начинаю с начала. Это третье (3).
Я, Ольг, тебя и Аську очень люблю, буду писать ещё чаще.
Ну пока, люблю очень, пока целую пока Боря Ржавый.Ему было все те же пятнадцать, когда он как-то вечером наткнулся на труп самоубийцы, выбросившегося из окна, и промолчал об этом до середины следующего дня, пока Ольга не решила прогуляться с Асей: осторожней, я чуть не наступил на него…
Ему стукнуло шестнадцать лет — позвали в военкомат Чкаловского района на предмет получения приписного свидетельства. Хотя бы предварительно захотелось попридуриваться — в смысле умственной непригодности. У хирурга Борис, присев на стул, небрежно поинтересовался: я вас слушаю! Перед этим плюнув в открытую форточку.
Но шутки оказались плохи, когда брали кровь из вены. Маргарита Михайловна на этот случай принесла одноразовый шприц, коих тогда почти не было в русской природе, а стоило ткнуть шприцем в вену — Борис упал в обморок.
Было время, свои стишки на случай он называл «шкварками» и расписывал ими стены, школьные и уличные. Как-то, когда Борис на парте писал некий текст, учительница отчитала его: будешь писать на столе у себя дома. Он ответил: почему буду, я уже пишу. Это было правдой. Ирина Князева, придя к нему домой, увидела огромный лист ватмана на письменном столе. Исписав такой лист, он заменял его новым.
Литературу он учил в школе и прилично знал ее, особенно русскую. Но все любимое у него было вне школы — ну, не считая Ирины Князевой. Так, «Мастера и Маргариту» он получил из рук, вернее — из уст сестры Ольги: она прочла ему булгаковскую книгу. Это относится и к Бродскому.
Позже он скажет (интервью к шестидесятилетию Бродского):
Мне было лет 13–14, мы пили чай с моей сестрой Олей, я говорил о Маяковском и восторгался фрагментом (от «Дождь обрыдал тротуары…» до «…слезы из глаз, да, из распахнутых глаз водосточных труб…») его поэмы («Облако в штанах». — И. Ф.). А Оля прочитала мне «Ниоткуда с любовью…» и сказала, что это Бродский. Я, конечно, был потрясен.
Бродский, пожалуй, походил на сурового Мастера, но у Булгакова Бориса привлек как раз Понтий Пилат, не самый фанатичный приверженец художественной фантазии.
Надо сказать определенно. «Бог» он писал со строчной. Постоянно, практически до конца, за редкими исключениями — в тех случаях, когда надеялся на Его существование.
Мир создан не для нас — и бога нет. («Певец во фраке, словно носорог…», 1995)Это было опять-таки протестом: что-то вы все слишком уверовали.
Были ли у Ирины Князевой соперницы? В стихах — всё по-другому. Мелькание девичьих имен имеет место, еще до Ирины:
Двенадцать лет. Штаны вельвет. Серёга Жилин слез с забора и, сквернословя на чём свет, сказал событие. Ах, Лора. Приехала. Цвела сирень. В лицо черёмуха дышала. И дольше века длился день. Ах, Лора, ты существовала в башке моей давным-давно. Какое сладкое мученье играть в футбол, ходить в кино, но всюду чувствовать движенье иных, неведомых планет, они столкнулись волей бога: с забора Жилин слез Серёга, и ты приехала, мой свет. («Двенадцать лет. Штаны вельвет…», 1998)Обратим внимание на «движенье иных, неведомых планет». Без них нет поэзии Бориса Рыжего.
Или — намного позже:
Вы, Нина, думаете, Вы нужны мне, что Вы, я, увы, люблю прелестницу Ирину, а Вы, увы, не таковы. («Вы, Нина, думаете, Вы…», 1999)Нина существовала, но больше это имя — скажем так, Лермонтов, условный знак, маскарад.
Была ранняя, еще челябинская, вполне детская, до-первая любовь, ее имя — Юля. Это имя — не эту девочку — он перевел в другое время:
Ты в пионерский лагерь отъезжал, тайком подругу Юлю целовал всю смену. Было горько расставаться. Но пионерский громыхал отряд: «Нам никогда не будет шестьдесят, а лишь четыре раза по пятнадцать!» («Матерщинное стихотворение», 1997)С Юлей срифмовалась Эля, девочка из 106-й, рано умершая, года через три после школы. По звуку и образу — одно лицо, отроческая звезда, ребяческая Лаура, Беатриче, Лиля (если уж по-маяковски). Такое ощущение, что Юля стала Элей по требованию жанра — элегии, их зарифмовал сам жанр. «Элегия Эле» (1994):
Как-то школьной осенью печальной, от которой шёл мороз по коже, наши взгляды встретились случайно — ты была на ангела похожа. …………………………… Ты была на ангела похожа, как ты умерла на самом деле. — Эля! — восклицаю я. — О Боже! В потолок смотрю и плачу, Эля.Это Юля, став Элей, безвременно ушла, ознаменовав уход детства, лучших лет, лучших чувств и упований.
Эля, ты стала облаком или ты им не стала? («Во-первых, — вторых, — четвертых…», 1998)Когда Борис Петрович сказал, что они переезжают в центр — на Московскую горку, Борис ему заявил: я туда не поеду, меня там убьют, меня знают только здесь, на Вторчермете, я здесь в авторитете, а там я никто.
Не прошло и двух месяцев, его там избили и ограбили около Дворца спорта, когда он за полночь, после провожанья Ирины на Елизавет, возвращался домой. Сняли новый костюм, привезенный отцом из Германии. Со следами побоев сдавал вступительные экзамены в Горный институт, отделение геофизики и геоэкологии. С 1934 года вуз именовался Свердловским горным институтом (СГИ), а затем Уральским горным институтом, с 1993-го — Уральской государственной горно-геологической академией. В мае 2004 года получил высший статус — университет.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Путь Бориса Рыжего чем-то отдаленно смахивает на общий саундтрек «Наутилуса», на музыкальную судьбу этого коллектива: столичные снобы не принимали группу — как нечто провинциально-доморощенное, пока она не проломила стену, получив всю страну в качестве своей аудитории. Группа распалась из-за внутренних неурядиц. Вспыхнула, просияла и растворилась в пространстве, оставив по себе незаемный звук и глубокий след в памяти поколения.
Говорил ли он напрямую от лица поколения? Бывало.
Мы были последними пионерами, мы не были комсомольцами. Исполнилось четырнадцать — галстуки сняли. И стали никем: звёздами и снежинками, искорками, летящими от папиросок, лёгкими поцелуями на морозе, но уже не песнями, что звучали из репродукторов, особенно первого мая. («Мы были последними пионерами…», 1996)Не лучшие его стихи, вид декларации, на вид безыскусны, даже без рифмы, но он и сюда вставил перифраз, на сей раз Хлебникова:
Русь, ты вся поцелуй на морозе!Через год было написано нечто более связанное с этой темой:
Как-то приснился мне — нет, не Гомер-Омир — на голубом слоне Хлебников Велимир. Вишну! — кричал я, — ты! Или всё это сон? Розовые цветы хоботом нюхал слон. Солнце — багровый шар. Тонких носилок тень. Так начинался жар, я просыпался: день. Тусклый, сквозь шторы, свет; воздух — как бы вода. Было мне десять лет, я умирал тогда. («Как-то приснился мне…», 1997)Ритм и размер раннего Мандельштама:
Я ненавижу свет Однообразных звезд. Здравствуй, мой давний бред, — Башни стрельчатый рост! («Я ненавижу свет…», 1912)Он учился на глазах у всех, это совпало с периодом цитаты, накрывшей русское стихотворство. Впрочем, Ахматова обронила задолго до того:
Не повторяй — душа твоя богата — Того, что было сказано когда-то. Но, может быть, поэзия сама — Одна великолепная цитата. («Из цикла „Тайны ремесла“», 4 сентября 1956 года)1991 год был самым событийным в жизни семьи. Мало того что в конце года рухнул СССР, — на пути к этой катастрофе Бориса Петровича постиг первый инфаркт, ББ окончил школу и женился. Все это увязалось в единый узел.
Рыжие разменяли вторчерметовскую квартиру так, что и там, на Московской горке — на улице Шейнкмана, 108, — жили по существу неразрывно: однокомнатная Ольги была бок о бок, дверь о дверь с трехкомнатной старших Рыжих, на той же лестничной площадке.
27 декабря 1991 года Борис женился на Ирине. Молодые поселились у родителей Бориса — надолго: на пять лет. Наутро после брачной ночи Борис вышел к родителям и заявил:
— Все равно мы у вас жить не будем.
Ошибся.
Готовить Ирине Маргарита Михайловна не разрешала. И то сказать, на третий день после свадьбы Ирина получила ожог и на год отстала от учебы.
Все было непросто, но рядом были старшие Рыжие, со своим опытом, весьма поучительным.
Говорит Маргарита Михайловна:
Я окончила школу с серебряной медалью, по алгебре четверка. Был у нас учитель немецкого языка Герберт Алойзович, немец с Поволжья. В него были влюблены все девчонки. Я учила язык изо всех сил. Был кружок немецкого языка. Был и музыкальный кружок. Выучила песню о Лорелее. На мандолине научилась. Играла «Светит месяц, светит ясный». Герберт Алойзович был и редактором стенной газеты, я его помощницей.
Был короткий эпизод — в классе девятом Борис (Борис Петрович. — И. Ф.) сказал: пойду в семинарию, буду попом. Я спрашивала: а я кем буду?
— Попадьей.
Закончив школу, написала заявление в мединститут — хочу быть хирургом, хочу на лечебное отделение. Тогда последний год медалистов принимали без экзаменов. Мама мне говорила: только не вздумай на санитарный факультет поступать. У нее были плохие воспоминания, когда она помогала своей матери в столовой посуду мыть, картошку чистить, и когда приходила санэпидстанция, мать дочку прятала.
Стала читать список принятых — вижу: зачислили на санитарно-гигиенический факультет. Это декан зачислил, разогнав троешников. Но не стала переводиться — ребята однокурсники оказались хорошие.
После четвертого курса поженились. Он жил в Свердловске, я в Омске, у дяди с пятью его дочерьми. Встречались на каникулах. Загадали — будем смотреть на северную звезду, по ней сверяться. В Омск приехал он, сказал: поехали в Курган, к родителям. Соседский пацан, увидев его, дал оценку: классный жених, на Свердлова похож. Кудрявый! Съездили к маме в Юргамыш, мама согласилась. Поехали в Курган. Надо регистрироваться. Отец велел. Пришли в загс, а нас не регистрируют. Я-то прописана в Омске. Петр Афанасьевич устроил, меня срочно прописали. Это 1959 год, сентябрь.
Получали стипендию, у него была повышенная — 75 рублей.
Свадьбы не было. Насчет фамилии: свекор предупредил — возьми его фамилию. Я говорю: почему бы ему не взять фамилию Пашков? В общем, стала Рыжая. Все смеялись. Пошла на практику на завод, кадровичка говорит: какая красивая фамилия.
В Кургане родила дочерей.
Первый дом нам дали в деревне Долговка. Мне в Курган дали направление, а муж забрал в деревню, где он обитал. Для меня нашлось место детского врача в той больничке. Там начинал работать Елизаров, слыхали о таком? Лечил ноги.
Работаю педиатром, а сама ничего не знаю, но была у меня хорошая медсестра. Я только подумаю — она уже рецепт выписывает. Шприц стерильный. Было много больных раком. На вызов надо было ехать на лошади. Лошадь смирная. Однажды лошадь исчезла от столба, куда я ее привязала. Мне заменили ее на допотопный «Газ-67», мотор течет и дверь не закрывается. Борис увидел на дороге и скомандовал: вылезай.
Из Долговки уехали в Куртамыш, когда он стал начальником партии. Меня на работу он все время устраивал сам.
В Челябинск переехали в 1965-м, жили там 15 лет. Сначала было Ново-Синеглазово — жили там. Ездили в Челябинск на работу. Потом в городе получили квартиру, пять человек на две комнаты.
У мужа было 120 научных работ, в том числе 3 монографии, более 30 открытий месторождений железных руд, бокситов, золота, патенты. Его почему-то не вписали в группу открывших месторождение золота. Защитился в Свердловске. Первый раз не сдал кандидатский минимум: не знал немецкого, купил пластинки, учил тексты. Стали жить получше после защиты диссертации.
В Челябинске он уже сделал все, что мог, ему говорили: не поедешь в Свердловск — отправим в Новосибирск. В Челябинске мы постоянно хоронили раковых больных. ТЭЦ на угле, канцерогенная пыль летит в глаза. Цинковый завод, ЧМЗ. Вонища.
В Свердловске стал главным геофизиком Урала.
У нас дома было много камней. Ездили на раскопки, собирали камни, он нашел агат — у озера, целый портфель.
26 октября 1996 года Борис, Ирина и Артем, родившийся в 1993-м, въехали в отдельную двухкомнатную квартиру на улице Куйбышева. Это жилье было выдано Борису Петровичу Академией наук вдобавок к ограниченным квадратам на улице Шейнкмана. Новое пристанище было уютно и просторно, с большим балконом.
Обживали, благоустраивали, украшали как могли. Борис работал руками — тут пристукнуть, там пристегнуть — и у него получалось. Он принес домой дверную ручку, на которой было написано «Мой дом — моя крепость», даже две такие ручки, посадил их на двери и заперся в своей цитадели. Ирина говорит: моих подружек отшил, от своих дружков отошел. Впрочем, кое с кем — с поэтами в основном — встречался: у родителей. Те были и рады, молодежь освежала душу, да и Боря под присмотром.
На красные кирпичи балконной стены маркером золотого цвета с 1996 по 2001 год Борис нанес 44 стиха — по катрену на продолговатом кирпиче, — принадлежащих Заболоцкому, Блоку, Вяземскому, Аполлону Григорьеву, Мандельштаму, Ахматовой и самому себе вперемежку с классиками, и это было столь же дерзко, сколь наверняка удачно, поскольку четырехстопный ямб вообще больше, чем что-либо другое, роднит русских поэтов, делая их порой схожими чуть ли не до неразличимости. Своим гостям Борис задавал загадку на сообразительность. Себе — способ самоутвердиться в рамках если не отечественного стихотворства, то на территории собственного жилья как минимум.
И воют жалобно телеги, И плещет взорванная грязь, И над каналом спят калеки, К пустым бутылкам прислонясь. И остаётся расплатиться, И выйти заживо во тьму. Поёт магнитофон таксиста Плохую песню про тюрьму. И нам понять доступно это, И выразить дана нам мощь: Приют поэта, дом поэта — Прихожая небесных рощ. И под божественной улыбкой, Уничтожаясь на лету, Ты полетишь как камень зыбкий В сияющую пустоту. И Баден мой, где я, как инок, Весь в созерцанье погружен, Уж завтра будет — шумный рынок, Дом сумасшедших и притон. И с бесконечной челобитной О справедливости людской Чернеет на скамье гранитной Самоубийца молодой. И тот прелестный неудачник С печатью знанья на челе Был, вероятно, первый дачник На расцветающей земле. Да и зачем цветы так зыбки, Так нежны в холоде плиты? И лег бы тенью свет улыбки На изможденные черты. Мне тяжело, мне слишком гадко, Что эта сердца простота, Что эта жизни лихорадка — И псами храма понята. А сам закат в волнах эфира Такой, что мне не разобрать: Конец ли дня, конец ли мира Иль тайна тайн во мне опять? И стоя под аптечной коброй, Взглянуть на ликованье зла Без зла — не потому, что добрый, А потому, что жизнь прошла.В принципе — это единое стихотворение, центон, натуральные стансы. Каждая строфа, существуя отдельно, составляет часть целого. Если надо доказать единство русской поэзии, нагляднее не бывает.
Свои настенные стансы Рыжий завершает катреном Сергея Гандлевского из стихотворения «Скрипит? А ты лоскут газеты…».
Заметим, что именно «Стансы» (1987) — одна из лучших вещей Гандлевского:
В это время вдовец Айзенштадт, сорока семи лет, Колобродит по кухне и негде достать пипольфена. Есть ли смысл веселиться, приятель, я думаю, нет, Даже если он в траурных черных трусах до колена. В этом месте, веселье которого есть питие, За порожнею тарой видавшие виды ребята За Серёгу Есенина или Андрюху Шенье По традиции пропили очередную зарплату. ……………………………………………… После смерти я выйду за город, который люблю, И, подняв к небу морду, рога запрокинув на плечи, Одержимый печалью, в осенний простор протрублю То, на что не хватило мне слов человеческой речи. Как баржа уплывала за поздним закатным лучом, Как скворчало железное время на левом запястье, Как заветную дверь отпирали английским ключом… Говори. Ничего не поделаешь с этой напастью.На очевидную взаимосвязь Рыжего с Гандлевским не устают кивать филологи. В частности, А. Скворцов («Полицейские» и «воры» // Вопросы литературы. 2008. № 1):
…литературная генетика стихов Бориса Рыжего критикой выявлялась не раз и в деталях. Действительно, если говорить лишь о русской поэтической традиции, кого тут только нет. Угадывается то С. Есенин, то современный блатной шансон, то отечественный рок, то М. Кузмин, то Г. Иванов, то Д. Новиков, то Е. Рейн… А что напоминают, к примеру, такие строки: «Включили новое кино, / и началась иная пьянка, / но все равно, но все равно / то там, то здесь звучит „таганка“»? Попробуем сравнить их со следующим: «Что-нибудь о тюрьме и разлуке, / Со слезою и пеной у рта. / Кострома ли, Великие Луки, — / Но в застолье в чести Воркута» (в последней цитате в свою очередь есть скрытая отсылка к Н. Некрасову: «Скучно! скучно!.. Ямщик удалой, / Разгони чем-нибудь мою скуку! / Песню, что ли, приятель, запой / Про рекрутский набор и разлуку…»). Теперь поставим эксперимент, смешав строфы из других стихов тех же авторов. «Под сиренью в тихий час заката / Бьют, срывая голос, соловьи. / Капает по капельке зарплата, / Денежки дурацкие мои. / Вот и стал я горным инженером, / получил с отличием диплом, / не ходить мне по осенним скверам, / виршей не записывать в альбом. / Больше мне не баловаться чачей, / Сдуру не шокировать народ. / Молодость, она не хер собачий, / Вспоминаешь — оторопь берет. / В голубом от дыма ресторане / слушать голубого скрипача, / денежки отсчитывать в кармане, / развернув огромные плеча». Не правда ли, получилось нечто связное? Только одни строки написаны в первой половине восьмидесятых, другие — более чем на десять лет позже. Сможет ли читатель, ищущий корни поэзии Б. Рыжего, пройти мимо ощутимого влияния на него Сергея Гандлевского?
В строфе, принадлежащей Рыжему, стоит отметить и воздействие инфинитивного письма («слушать», «отсчитывать»), богатые «мнемонические» свойства которого в последние годы активно изучает А. Жолковский. Вполне возможно, инфинитивность у Рыжего вообще тесно связана с влиянием стихотворения Гандлевского «Устроиться на автобазу…». В нем, как отмечалось М. Безродным и более поздними исследователями, скрыто цитируется блоковское «Грешить бесстыдно, непробудно…». Стихотворение Блока, по наблюдению Жолковского, тоже напрямую отозвалось у Рыжего: «С трудом закончив вуз технический, / В НИИ каком-нибудь служить…», «В подъезде, как инстинкт советует, / Пнуть кошку в ожиревший зад. / Смолчав и сплюнув где не следует, / Заматериться невпопад…» и т. д. Похоже, влияние некоторых конкретных текстов и мотивов Блока шло у Рыжего с учетом опыта Гандлевского. Общность отсылок к Блоку дает подтверждение гипотезы вполне сознательного ученичества младшего поэта у старшего.
«Стансы» открывают первую книгу Гандлевского «Праздник», о которой позже Рыжий сказал: «нетленный „Праздник“» — в отзыве на выход книги Гандлевского «Порядок слов». В почтении к мэтру сомневаться не приходится:
Впервые после многолетнего перерыва, открыв обычный литературный журнал, мы можем взять и прочитать шедевр, написанный не сто, даже не пять лет назад, а вот совсем недавно, и почувствовать такую близость вечности, какую ощущали, быть может, только тогда, когда читали в периодике «Поэму без героя», например, еще живой Анны Андреевны Ахматовой.
А без ощущения вечности жить можно только теоретически…
Могу добавить. В 2012 году, когда вышла книга Бориса Рыжего «В кварталах дальних и печальных…», ее премьеру отмечали в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко»[4]. Мы с Сергеем Гандлевским случайно оказались в первом ряду плечом к плечу, и первым делом, после приветственного рукопожатия, он сказал совершенно неожиданно:
— Не люблю я вашей Ахматовой…
Отчего бы? Неважно. Так жили поэты.
Взаимосвязи муз и музык не так уж и замысловаты. Достаточно прокрутить магнитофонную ленту в обратном направлении.
Борис Рыжий:
Так гранит покрывается наледью, и стоят на земле холода, — этот город, покрывшийся памятью, я покинуть хочу навсегда. Будет тёплое пиво вокзальное, будет облако над головой, будет музыка очень печальная — я навеки прощаюсь с тобой. («Так гранит покрывается наледью…»,1997)Намного раньше был Гандлевский («Самосуд неожиданной зрелости…», 1982):
Для чего, моя музыка зыбкая, Объясни мне, когда я умру, Ты сидела с недоброй улыбкою На одном бесконечном пиру И морочила сонного отрока, Скатерть праздничную теребя? Это яблоко? Нет, это облако. И пощады не жду от тебя.Однако еще раньше — Мандельштам, звучащий несколько иначе, но в основе очень похоже («Стихи о неизвестном солдате», 1 марта 1937):
Научи меня, ласточка хилая, Разучившаяся летать, Как мне с этой воздушной могилой Без руля и крыла совладать. И за Лермонтова Михаила Я отдам тебе строгий отчет, Как сутулого учит могила И воздушная яма влечет.Другое дело, что в каждом случае из, казалось бы, общего звука вырастает совершенно свое произведение, а сам этот звук в истоке — больше, может быть, некрасовский, нежели названного Мандельштамом Лермонтова Михаила.
Ну а свои «Стансы» (1995, октябрь), уже не центонные, а совсем собственные, Рыжий посвятил как раз женщине-поэту — Евгении Извариной.
Фонтан замёрз. Хрустальный куст, сомнительно похожий на сирень. Каких он символ чувств — не ведаю. Моя вина. Сломаем веточку — не хруст, а звон услышим: «дин-дина». Дружок, вот так застынь и ты на миг один. И, видит бог, среди кромешной темноты и снега — за листком листок — на нём распустятся листы. Такие нежные, дружок. И звёзд печальных, может быть, прекрасней ты увидишь цвет. Ведь только так и можно жить — судьба бедна. И скуден свет и жалок. Чтоб его любить, додумывай его, поэт. За мыслью — мысль. Строка — к строке. Дописывай. И бог с тобой. Нужна ль тоска, что вдалеке, когда есть сказка под рукой. Хрустальный куст. В твоей руке так хрупок листик ледяной.Красивовато, но ведь хорошо. Поначалу отдает Бродским (ироническая инверсия «каких он символ чувств», фирменное «дружок»). Но тонкое сплетение легкой мужской увлеченности с переходом в разряд дружбы — уже черта лирической психологии, которой сильны более поздние стихи Рыжего. А начальные стихи «под Бродского» были в избытке, и одна из таких вещиц написалась много позже (2000) и не только называлась, как у Бродского, «Разговор с небожителем», но и копировала образец в самом стихе: размер, ритмика и проч. Правда, он туда ухитрился вставить и Блока: «Все это было, было, было», а заголовок снял.
Ответ Извариной Рыжему хорош тем, что почти куртуазен, но глубоко серьезен:
Говоришь как поёшь, пьёшь весёлый коньяк, чуешь, каждый глоток — золотист? «…Только сразу скажи, если что-то не так: я поставил на ухарский свист, я на узкое облако глаз положил, отряхнувшее с перьев росу. Молдаванский коньяк только пену вскружил, а слабо — удержать на весу?» На двоих разливал, за троих обещал, только что эта муть в янтаре — перед тягой подростка к опасным вещам, боже праведный! — к честной игре?Подросток, честная игра — сказано точно.
Судьба Рыжего — хоровод муз: в детстве — женское преобладание (бабушка, мать, сестры), потом — то же самое: череда благожелательниц, хлопотуний, заботниц, подруг. Говорят, он капризно требовал к себе женского внимания и расстраивался, если не находил такового. Это важно — Борис умел дружить с женщинами, даже когда они, увы, пишут стихи. При нехорошем желании в этом его свойстве можно отыскать оттенок провинциальной галантности. Пусть.
Как ни странно, этот поэт не ограничивается монологизмом — вся его жизнь насыщена рядом диалогов, это система диалогов, выраженная в разговорах, письмах, посвящениях etc.
Жена Ирина иронически отпустила по поводу поэтского романа ее мужа с Еленой Тиновской:
— Кондукторша!..
Тиновская тогда на самом деле трудилась на общественном транспорте в должности кондуктора, а до того — торговала на вещевом рынке. И что? Потом они стали близкими подругами.
Происходил обмен стихами. К Тиновской обращено это стихотворение (1999):
Мальчик-еврей принимает из книжек на веру гостеприимство и русской души широту, видит берёзы с осинами, ходит по скверу и христианства на сердце лелеет мечту. Следуя заданной логике, к буйству и пьянству твёрдой рукою себя приучает, и тут — видит берёзу с осиной в осеннем убранстве, делает песню, и русские люди поют. Что же касается мальчика, он исчезает. А относительно пения — песня легко то форму города некоего принимает, то повисает над городом, как облако. («Мальчик-еврей принимает из книжек на веру…»)Еврейство Рыжего было чем-то вроде желтой кофты Маяковского. Нате! Между тем, под настроение, он приуменьшал степень своего еврейства, сказав однажды А. Кузину о том, что еврейской крови в его отце лишь четверть. Впрочем, не исключено, что так оно и было.
Но в этих стихах вызова нет. Мечта христианства странным образом сближается с буйством и пьянством — такова широта русской души. А сам этот мальчик отнюдь не исчезает, но очень напоминает подобного мальчика — в «Романсе» из поэмы Маяковского «Про это» (1923):
Мальчик шел, в закат глаза уставя. Был закат непревзойдимо желт. Даже снег желтел к Тверской заставе. Ничего не видя, мальчик шел. Шел, вдруг встал. В шелк рук сталь. С час закат смотрел, глаза уставя, за мальчишкой легшую кайму. Снег хрустя разламывал суставы. Для чего? Зачем? Кому? Был вором-ветром мальчишка обыскан. Попала ветру мальчишки записка. Стал ветер Петровскому парку звонить: — Прощайте… Кончаю… Прошу не винить… До чего ж на меня похож!Этот мальчик надолго — навсегда — задержался в стихах Рыжего.
Осыпаются алые клёны, полыхают вдали небеса, солнцем розовым залиты склоны — это я открываю глаза. Где и с кем, и когда это было, только это не я сочинил: ты меня никогда не любила, это я тебя очень любил. Парк осенний стоит одиноко, и к разлуке и к смерти готов. Это что-то задолго до Блока, это мог сочинить Огарёв. Это в той допотопной манере, когда люди сгорали дотла. Что написано, по крайней мере в первых строчках, припомни без зла. Не гляди на меня виновато, я сейчас докурю и усну — полусгнившую изгородь ада по-мальчишески перемахну. («Осыпаются алые клёны…», 2000)Этого мальчика заметили и поэты старших поколений, прочитавшие Рыжего. Наталья Аришина (2004):
На Крепостной, без тени крепостной стены, на улице сшибает мелочишки бродяга. Он одет сей позднею весной в шубейку, снятую с подросшего мальчишки. И я о мальчике. Уж он бы снял с плеча заморское пальто и вывернул карманы, чтобы согреть заезжего бича, чтоб прикупили травки наркоманы. И я о мальчике. Он позднею весной из дома вырвался и фору дал гулякам, и, как предсказывал, свердловскою шпаной и нервною Москвой обвально был оплакан. Он, явный умница и ярый книголюб, мобильник истязал длиннотой Луговского и там, где был его дискуссионный клуб — на кладбище — искал единственного слова. Махнул в такую даль, что страшно тот полет представить наяву. И представлять не надо, как из последних сил он крылышком взмахнет над полусгнившей изгородью ада.Жизнеописание предполагает хронологическую последовательность. Однако иные свидетельства жизни нашего героя, как водится, появились постфактум, после его ухода. Обращение к таким свидетельствам обеспечено привязкой к времени, к тому, что было в тот или иной период жизни поэта. Это дает эффект калейдоскопа, но поверьте на слово — автор книги постоянно смотрит в календарь и ничего не путает.
Эссе Евгении Извариной «Там залегла твоя жизнь» написано в 2006 году — было время на трезвое обдумывание всей судьбы поэта. Изварина рассматривает «три истории», сведя под единым углом зрения столь непохожих Владимира Гандельсмана, Дениса Новикова и Бориса Рыжего. Каждому воздано по достоинству, всем сестрам по серьгам, найдены сходства и различия. За сходствами далеко ходить не надо. Все вьется вокруг потерянного рая детства-отрочества.
Вот Гандельсман:
На хлопчатник хлынула вода. Свекла сахарная, виноград. Летне-лагерное скота содержанье. Весомый вклад. Вроде газовый свет-рожок — февраля синевеет ель. Я пойду сегодня в кружок шпаклевать корабля модель. Как рождается пафос? Течь есть в «Седове», сжатом во льду. Разрешите спуститься, лечь и заделать собой беду…Вот Новиков:
Ну хоть ты подтверди — это было: и любовь, и советская власть. Горячило, качало, знобило, снег летел на проезжую часть. Ты одна избежала распыла, ты по-царски заходишь не в масть. Если было — зачем это было? Как сумело бесследно пропасть? Отвечают петля и могила. Говорят: одержимость и страсть. Что ты знаешь про не было-было? Что любовь и советская власть? Самочинно не то что стропила — Малый волос не может упасть. Неделимый на «не было-было», снег летит на проезжую часть.Разница в возрасте — Гандельсман старше Рыжего на двадцать (почти) лет, Новиков на семь — поразительно исчезает еще и потому, что этому способствует сама просодия: традиционный в общем и целом стих, с нюансами личностной печати и голосовыми модуляциями. Пристальней всего — и очень зорко — Изварина всматривается в Рыжего. Есть у нее духоподъемное право и на социологический анализ этого творчества.
Поэтический посыл, язык и речь формируются и под воздействием атмосферы времени, того короткого отрезка истории, на который приходятся ранние годы поэта. В случае Бориса Рыжего они пришлись на самые последние, уже вырожденные и выморочные, советские годы, «перестройку» и — ранняя юность — на начало 1990-х. Время полной деморализации подавляющего большинства населения страны, как «верхов» так и «низов», время без уважения к прошлому и должного попечения о будущем. Из тех лет запомнился газетный заголовок: «Россияне в океане». Я бы добавила: в открытом море, но все еще, подобно пушкинским героям, в заколоченном пивном бочонке… <…> Но в стихи о себе-ребенке Борис Рыжий эти «ветры перемен» сознательно не допускает. Они бушуют в других стихах, строго тому времени и посвященных. <…>
В основном же в стихах-воспоминаниях о детстве и отрочестве (если поэт родился в 1974 г., то это будет период примерно с 1980 по 1989 г.) Рыжий рисует именно годы «застойные», в его индивидуальном восприятии — спокойные, мирные, «прочные». Солнце сияло, облака плыли, «комсомольские бурлили массы, / в гаражах курили пионеры», страна слепо, но беззлобно облизывала своих щенков (стихотворение «Воспоминание» о покупке мальчику пальто), дымили заводы, люди шли по утреннему гудку на работу, по вечернему — в пивную… <…> Какие бы мерзости ни творились, они сглажены ностальгической дымкой, оправданы не временем и обстоятельствами, а иной основой человеческих отношений, утрату которой и оплакивает автор. <…>
Сам он так и не сделал выбор в пользу «теневой» жизни, преступно-блатного сообщества (хотя в пользу соответствующей субкультуры выбор все-таки сделан) — за него распорядилась судьба, и герой лишь досадует по прошествии лет: «А что не я убийца — случайность, милый друг».
Могло, следовательно, все пойти по-другому, и тому есть свои предпосылки. В стихах явно прописан первый шаг по пути нравственной деградации — рождение циника… <…> Все та же преданность времени, месту и дворовому братству. Но с обязательным уточнением: «ты пил со мной, но ты не стал поэтом». Слегка варьируясь, эта сентенция повторяется у Рыжего не раз. Еще одно стихотворение заканчивается утверждением-убеждением:
Мы все лежим на площади Свердловска, где памятник поставят только мне.Кроме громадного самомнения за этими словами — еще более космическое чувство отчужденности и одиночества, даже рядом с близкими сердцу людьми. Отсюда и ирония — вроде чтобы сбить пафос, а на самом деле — чтобы скрыть боль:
В безответственные семнадцать, только приняли в батальон, громко рявкаешь: рад стараться! Смотрит пристально Аполлон. Ну-ка ты, забубень хореем! Ну-ка, где тут у вас нужник?Всерьез говорить о главном в своей жизни в новейшей поэзии считается дурным тоном. Приходится соответствовать… <…>
Есть у Бориса Рыжего стихотворение, с абсолютной точностью указывающее на самую суть его человеческой трагедии — на поражение его как автора. Поражение это (скажу даже — падение) выразилось не в недостатке средств, а в исчерпанности и самоотрицании цели. До самого последнего момента с поэтическими средствами у Рыжего было все в порядке. Вне сомнения, он писал все лучше и лучше, избавлялся от влияний и мог уже говорить («петь») своим уникальным голосом. Но — произошел коллапс его мировоззренческой системы, изнутри стал разрушаться искусственно замкнутый мир:
Городок, что я выдумал и заселил человеками, городок, над которым я лично пустил облака, барахлит, ибо жил, руководствуясь некими соображеньями, якобы жизнь коротка. Вырубается музыка, как музыкант ни старается. Фонари не горят, как ни кроет их матом электрик-браток. На глазах, перед зеркалом стоя, дурнеет красавица. Барахлит городок.Поэтический мир болен и умирает. Подразумевается, что душевные силы и иные средства, затраченные на его создание, не оправдались и обречены вместе с ним. А что же — его создатель, лирический герой? Как это ни прискорбно, но в его самовосприятии и поведении явственно проглядывают черты инфантильности и действительная беззащитность, которую совестливый человек готов почувствовать как собственную никчемность. Вот — из новогоднего «Детского стихотворения»:
…и под ёлку жить уйду. Устроюсь там с тихой сказкой пополам. …крошку хлеба принесёшь и нальёшь наперсток водки. Не простишь и не поймёшь. Погляжу тепло и кротко на тебя. Ну что я мог, право, ростом с ноготок.Отсюда — инфантильность самой лексики, обилие уменьшительных суффиксов, странные, малоуместные во вполне «взрослых» лирических стихотворениях «ладошки», «ручки», «ножки», «глазки»… Все становится на свои места, когда мы убеждаемся: герой именно так(им) себя и чувствует. В стихах он всегда — мальчик, соответственно и подруга его — девочка, чистый и нежный ребенок.
Нет, он не ошибался, ища женской дружбы. Женщины понимали его как никто. Однако социология во взгляде на поэзию все-таки, как правило, хромает. «Деморализацией» и прочими штуками нельзя объяснить такую нематериальную, такую воздушную вещь, как стих.
Каждый поэт — почти каждый, если он не выкидыш поэзии, — локализован в своем времени-пространстве, да, он голос времени, да, он певец своей земли, но в жилах его пульсирует поток неблагополучия всего мироустройства, вселенское сиротство, поверх себя самого и быстротекущей действительности: то самое «космическое чувство отчужденности и одиночества». Рыжий всегда чувствовал «движенье иных, неведомых планет».
Жизнь — сволочь в лиловом мундире, гуляет светло и легко, но есть одиночество в мире и гибель в дырявом трико. («Больничная тара, черника…», 1998)Овидий жил в золотом веке императора Августа. Ему было от этого легче? Анакреонтическое эпикурейство имело своей основой острое чувство бренности бытия. Memento mori, товарищ, помни о смерти.
Вот образчик прямой социальной сатиры Рыжего («Кино», 1997):
Вдруг вспомнятся восьмидесятые с толпою у кинотеатра «Заря», ребята волосатые и оттепель в начале марта. В стране чугун изрядно плавится и проектируются танки. Житуха-жизнь плывёт и нравится, приходят девочки на танцы. Привозят джинсы из америки и продают за ползарплаты определившиеся в скверике интеллигентные ребята. А на балконе комсомолочка стоит немножечко помята, она летала, как Дюймовочка, всю ночь в объятьях депутата. Но всё равно, кино кончается, и всё кончается на свете: толпа уходит, и валяется сын человеческий в буфете.Подлинное измерение всему стихотворению дает последняя строка. Сын человеческий. О нем речь. Оглядка на Христа, пусть скороговоркой. Да и Георгий Иванов, с его горьким скепсисом, промелькнул, в том же ямбе, помнящем трехсот спартанцев:
Стоят рождественские елочки, Скрывая снежную тюрьму. И голубые комсомолочки, Визжа, купаются в Крыму. Они ныряют над могилами, С одной — стихи, с другой — жених… …И Леонид под Фермопилами, Конечно, умер и за них. («Свободен путь под Фермопилами…», 1957)Время — ложный свидетель поэзии. Это поэзия говорит правду о времени — она чутче его. Чувство времени завелось в человеке раньше самого времени, если оно есть. По слову Ивана Бунина:
Поэзия не в том, совсем не в том, что свет Поэзией зовет. Она в моем наследстве. Чем я богаче им, тем больше — я поэт. Я говорю себе, почуяв темный след Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве: — Нет в мире разных душ и времени в нем нет! («В горах», 12 февраля 1916)Прошу не усматривать в этих рассуждениях гендерного перекоса. Куда как суров в требованиях к стихам и людям честный, многоопытный Дмитрий Сухарев, и он движется в той же аналитической плоскости («Влажным взором», предисловие к книге Бориса Рыжего «В кварталах дальних и печальных…»):
«А что такого особенного в его стихах?» — спросила девица с телеканала «Культура».
Чем дольше думаешь, тем трудней ответить. В тот раз я ответил сразу, запись сохранилась, вот расшифровка:
По-видимому, есть нечто особенное, поскольку разные люди, которые считаются авторитетами в поэзии, говорят: да, Рыжий выделяется во всем поколении. Спросите хоть Кушнера, хоть Рейна, да и многих других — все говорят в один голос. Если попробовать объяснить… Могу попробовать.
Нужно закрыть глаза на второстепенное, хотя оно-то и лезет в глаза: на имидж, который он себе создавал, на его смерть, почему она случилась, зачем была нужна. Не многовато ли матерщины. Потом этот Свердловск, который живет в его поэзии. Почему он не похож на реальный Екатеринбург? Всякие такие вопросы — они интересны, но отвлекают от сути. Есть, по-моему, три главные вещи.
Во-первых, он соединил концы. Понимаете, после того как рухнул Советский Союз (и даже до того), очень большую развели при помощи зарубежных доброхотов пропаганду, что у нас в советскую эпоху ничего хорошего не было. Ни музыки, ни литературы — ничего. Это вранье, но на многих оно повлияло. И возникла целая генерация молодых поэтов, которые даже не знали, какая великая была у нас поэзия. Не знали, не читали, не желали читать. Поверили лукавой схеме: «Серебряный век — эмигранты — Бродский».
Рыжий на вранье не купился, у него было замечательное знание предшественников, редкостно замечательное.
Для него оставались значимыми и поэты Великой Отечественной (в первую очередь Борис Слуцкий), и поэты тридцатых (больше других Владимир Луговской).
Лишая культуру контекста, обрекали ее на погибель. Рыжий убедительно восстановил контекст. Это первое.
Второе. Мне кажется очень важным, что Рыжий продлил ту линию русской поэзии, которую называют некрасовской. Я имею в виду поэзию милосердия, сострадания, когда страдание другого волнует поэта сильнее, чем собственное. Этого у нас почти ведь не бывает, поэтам свойственно испытывать жалость к себе. А тут…
Полвека назад Илья Эренбург задел тогдашнего читателя за живое, написав в «Литературной газете», что Некрасову прямо и непосредственно наследует никому тогда не известный поэт-фронтовик Борис Слуцкий. В самом деле, Слуцкий, у которого фашисты убили близких, мог писать милосердные, исполненные живого сочувствия стихи даже о поверженном враге — о захваченном разведчиками «языке», об эшелоне с пленными итальянцами… Полузабытая тема сострадания была мощно реабилитирована.
Теперь Рыжий наследует в этом Слуцкому:
…но не божественные лики, а лица у́рок, продавщиц давали повод для музы́ки моей, для шелеста страниц.Урки, пропойцы, наркоманы и менты — они для него люди, они кочуют по его стихам, их можно любить, понимать, жалеть. Это огромная редкость.
И третье — Рыжий перечеркнул тусовки. Это первым отметил Дмитрий Быков, который сразу после смерти Рыжего опубликовал дельную статью о его творчестве. В отсутствие крупных имен у нас развелось изобилие амбициозных литературных кучек. Я имею в виду не кружки любителей и не литературные объединения, а именно кучкующихся квазипрофессионалов. Каждая такая кучка считает себя могучей, провозглашает гениев собственного розлива. Так вот, все это стало ненужным. Знаете: висят, пляшут в воздухе комариные стайки, а махнет крылами орел — и нету. Сами тусовки этого, может быть, еще не осознали, но дело сделано, и общая литературная ситуация неизбежно изменится.
Не стану отрекаться от сказанного тогда перед объективом, но есть ощущение недостаточности. Тогдашнее второстепенное уже не кажется таким. Выбор между реальным Екатеринбургом и «сказочным Свердловском» — не пустяк. Имидж — слишком вялое слово, чтобы выразить то, что Сергей Гандлевский назвал «душераздирающим и самоистребительным образом жизни».
Сухарев непримирим, верен вечным идеалам, но влажный взор — там, где надо: он любит этого поэта, восхищен им, равно знает и его песню, и ее соотношение с разными временами, пережитыми страной в обозримой истории.
Однако — нет, не безоблачным, не однотонным, не бело-голубым, не розовым был обратный горизонт истории отечества, Рыжий это ясно видел.
Давай, стучи, моя машинка, неси, старуха, всякий вздор, о нашем прошлом без запинки не умолкая тараторь. Колись давай, моя подруга, тебе, пожалуй, сотня лет, прошла через какие руки, чей украшала кабинет? Торговца, сыщика, чекиста? Ведь очень даже может быть, отнюдь не всё с тобою чисто и страшных пятен не отмыть. Покуда литеры стучали, каретка сонная плыла, в полупустом полуподвале вершились тёмные дела. Тень на стене чернее сажи росла и уменьшалась вновь, не перешагивая даже через запёкшуюся кровь. И шла по мраморному маршу под освещеньем в тыщу ватт заплаканная секретарша, ломая горький шоколад. («Давай, стучи, моя машинка…»,1998)Написано под Смелякова или под Евтушенко, когда Евтушенко писал под Смелякова. Хорошо, между тем, написано.
Через десять лет Бориса окликнул Евтушенко:
Мы дети выбросов, отбросов, и, если кто-то станет бронзов, кто знает, что за зеленца разъест черты его лица? Как страшно, Господи, как жалко, что отравляющая свалка идей прогнивших и вождей воздействует на всех людей. И всем давно на свете ясно, что хуже и сибирской язвы, когда безнравственный падеж обрушился на молодежь. Нет больше Рыжего Бориса. Мир обворован, как больница, где нет у стольких государств от безнадежности лекарств. Неужто это неизбежность, что в измотавшей нас борьбе всемирно умирает нежность к другим, а даже и к себе? Нас так пугает непохожесть тех, кто себя в себе нашли, но беззащитная бескожесть — спасенье собственной души. Есть в Слове сила милосердья, и может вытянуть из смерти, когда надежду людям дашь, но не обманешь, не предашь. Смерть и бессмертье — выбор наш.В разговорах о Рыжем — в статьях о нем и воспоминаниях — затерялись три стихотворения, связанные с тем самым визитом Евтушенко в Екатеринбург (1997). Иногда упоминают (через не хочу) «Евгений Александрович Евтушенко / в красной рубахе…», а ведь были еще две вещи, примыкающие к «красной рубахе».
Написаны они поспешно, почти вчерне, без доводки и прояснения, но одно из них — «Ночная прогулка» — стоит процитировать целиком:
Дождь ли всех распугал, но заполнен на четверть зал в районном ДК. Фанатичные глотки попритихли. Всё больше о боге и смерти он читал. Отчитавшись: — Налейте мне водки. — Снисходителен, важен: — Гандлевский за прозу извинялся. Да-да. Подходил. Не жалею Б. А. Слуцкого. — Лето в провинции. Розы пахнут после дождя. По огромной аллее мы идём до гостиницы. — Знаете, Боря, в Оклахому стихи присылайте. — Извольте, буду рад. — В этот миг словно громкое море окатило меня: — Подождите, постойте. На центральном, давайте, сейчас стадионе оглушим темноту прожекторами, и читайте, читайте, ломайте ладони: о партийном билете, о бомбе, о маме. Или в эту прекрасную ночь на субботу стадион забронирован: тени упрямо мяч гоняют? Кричат, задыхаясь от пота: — ЦСКА, ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ, ДИНАМО.Значит, были и эта прекрасная ночь на субботу, и прогулка по огромной аллее, и провожание до гостиницы, и стихи «о боге и смерти», и греза о стадионе, и отвращение к воцарившейся антипоэзии, кричащей и потной.
Есть у Рыжего и такие стихи, написанные тогда же:
А какая была смелость, напористость. Это были поэты настоящие, это были поэты, без дураков. («Все хорошо начинали…»)Так что не все так просто во взаимоотношениях новых поэтов, пришедших в девяностые, со своими предшественниками из шестидесятых. Впрочем, свои стихи в Оклахому он так и не отправил и впоследствии уклонялся от воспоминаний о евтушенковском эпизоде в своей жизни.
Отец готовил ему геофизическое будущее, но совершил огромную — для своих планов — педагогическую ошибку: внушил младенцу поэтический образ мира, состоящий из русских стихов, высоких идеалов, великих надежд. Колыбельной Бориса была русская поэзия. Эта музыка в мужском исполнении и была истинным уроком ритмики. Потомок запорожского сотника переварил эту музыку в соответствии с данным ему временем, включив в арсенал своих боевых средств некоторые ноты из письма турецкому султану. Репинские хохочущие казачины неотъемлемо присутствовали в аудитории, какой бы она ни была — школьной, студенческой, рабочей, бандитской, екатеринбургской, питерской, роттердамской, московской, трансазиатской.
Нет, он не писал юмористику. Острота высказывания — одна из его главных целей. Задеть ум и сердце тех, к кому все это обращено. Элегия — жанр меланхолический — постоянно наплывала на автора стихов резких и вызывающих, не микшируя, но усиливая остроту горечи, потому что слезы — вещь соленая. Поэт — конечно же еще и чумак, пропитанный солью. В дегтю́ и смоле.
Он начал со смешных стишков, помним эту рифму: «толстовата — косовата». Многое было «для рифмы», модель становилась не совсем собой, наверняка обижалась, но аудитории именно это и надо было. Самые первые упражнения по сплетению слов в рифму Боря проделал еще в восьмилетием возрасте под руководством сестры Оли — перед сном. При том что эпиграммы и прочие колючки регулярно сыпались на головы окружающих, — говорят, стихописание — уже как высокая болезнь — поразило его лет в четырнадцать. Еще раньше он и детективчики пописывал.
Но это было секретом. Дело шло медленно. Он довольно долго утаивал и чувства и мечты свои, остро сознавая, что мысль, извлеченная из-под его пера (карандаша), ложна по неумению ее хорошо изречь. Однокурсники поначалу были не в курсе. Он щеголял фотоаппаратом «Полароид», первым на факультете заимев таковой, и проявлял себя больше в проделках и дурачествах с лидерским уклоном. Такого типа:
На практике в городке Сухой Лог, рядом — поселок Знаменка, с целью знакомства с ребятами с других факультетов (геология и гидрогеология) Борисом была создана ДНД (Добровольная народная дружина). В задачу данной дружины входило: контроль за порядком в лагере (который сами же и нарушали), а в некоторых случаях и экспроприация спиртных напитков у злоупотребляющих лиц. Сформировали инициативную группу, которой были выданы красные повязки и люди стали выходить в дозор. Таким образом был установлен контроль обстановки в лагере, а также дополнительный источник спиртосодержащей жидкости. Большинство компаний считало почетным угостить представителей ДНД несколькими рюмочками водки. За особые заслуги сотрудникам ДНД разрешалось какое-то время поносить «знаменитую» кожаную кепку Бориса.
Это свидетельство (письмо ко мне) Вадима Курочкина, однокурсника Бориса. О поэзии речи нет. О ней и не говорили в Сухом Логу. Но она там была.
Там, на левом берегу реки Пышма, есть вулкан девонского периода, высокий холм, голый — не заросший лесом, похожий на спину гигантского мамонта, полувылезшего из вечной мерзлоты. Имя этого места — Дивий Камень: старое название от первопроходцев-казаков, старое слово, означающее «удивительный, дивный», а в песнях и сказках — «лесной, дикий, дикорастущий», даже «девий», а также «неручной, недомашний». Все вместе это и есть поэзия.
Здесь уместно напомнить название первой книги Мандельштама: «Камень».
Кружевом, камень, будь И паутиной стань: Неба пустую грудь Тонкой иглою рань.Из исторического далека, по законам долговременной оптики, Дивий Камень напоминает и могильный холм, а также поставленное природой надгробье.
В чьих карих, скажи мне, не дивные стлались просторы — грядою могильной вставали Уральские горы? («Вопрос к музе», 1996, январь)Рыжий вопрошал и в двух вариантах стихотворения «О чём молчат седые камни…»:
О чём молчат седые камни — о боли нашей, может быть? Дружок, их тяжесть так близка мне, зачем я должен говорить, а не молчать? Остынут губы, потрескаются навсегда. Каналы, грязь, заводы, трубы, леса, пустыни, города — не до стиха и не до прозы, словарь земной до боли мал. Я утром ранним с камня слёзы ладонью хладной вытирал. 1995, июньВторой вариант:
О чём молчат седые камни? Зачем к молчанию глуха земля? Их тяжесть так близка мне. А что касается стиха — в стихе всего важней молчанье, — верны ли рифмы, не верны. Что слово? Только ожиданье красноречивой тишины. Стих отличается от прозы не только тем, что сир и мал. Я утром ранним с камня слёзы ладонью тёплой вытирал. <?>В ту пору он исторг целый каскад каменных стихов, посвященных Питеру:
…дождинка, как будто слеза, упала Эвтерпе на грудь. Стыжусь, опуская глаза, теплее, чем надо, взглянуть — уж слишком открыт этот вид для сердца, увижу — сгорю. Последнее, впрочем, болит так нежно, что я говорю: «Так значит, когда мы вдвоём с тобою, и осень вокруг — и камень в обличье твоём не может не плакать, мой друг». ……………………………… …как будто я видел во сне день пасмурный, день ледяной. Вот лебедь на чёрной воде и лебедь под чёрной водой — два белых, как снег, близнеца прелестных, по сути — одно… Ты скажешь: «Не будет конца у встречи». Хотелось бы, но лишь стоит взлететь одному — второй, не осилив стекла, пойдёт, словно камень, ко дну, терзая о камни крыла. («Летний сад», 1995) Дай я камнем замру — на века, на века. Дай стоять на ветру и смотреть в облака. («Петербург», 1995)Здесь опять-таки слышен Иннокентий Анненский, эхо его «Петербурга»:
Сочинил ли нас царский указ? Потопить ли нас шведы забыли? Вместо сказки в прошедшем у нас Только камни да страшные были. Только камни нам дал чародей, Да Неву буро-желтого цвета, Да пустыни немых площадей, Где казнили людей до рассвета. А что было у нас на земле, Чем вознесся орел наш двуглавый, В темных лаврах гигант на скале, — Завтра станет ребячьей забавой. ………………………………… Ни кремлей, ни чудес, ни святынь, Ни миражей, ни слез, ни улыбки… Только камни из мерзлых пустынь Да сознанье проклятой ошибки. 1909А вот Урал у Рыжего с самого начала, в те же годы, был таким (строки из разных стихотворений в столбик):
На Урале дожди ядовиты. … глухой Урал к безумству и злословью. Урал научил меня не понимать вещей элементарных. Урал — мне страшно, жутко на Урале.И тому подобное.
…Это было в июле 1994-го, на сухоложской базе геологической практики студентами руководил преподаватель Горного института Алексей Кузин (род. 1956), и ничего удивительного не было в том, что Кузин — сам поэт. К той поре они были, можно сказать, давними знакомцами: познакомились в начале февраля 1992-го. Кузин вел дневник. 21 февраля записано:
У него <Рыжего> явно выраженное драматическое мироощущение, образное мышление, свободное владение поэтической формой (за исключением некоторой небрежности в рифмовке). Но он еще очень молод и неуправляем.
Это осталось навсегда: молод и неуправляем. Как видим, семнадцатилетний Борис становится своим в некоем кругу, среди стихотворцев, о чем чуть позже не оповещает однокашников по институту. Продолжается эта схема существования по двум параллельным линиям. Он уже участвует в поэтических вечерах, ходит в лито́ (литературное объединение) «Горный родник», которым руководит опытный поэт Юрий Лобанцев. Эти два человека — Лобанцев и Кузин — вошли в его судьбу первыми советчиками, и надо отметить парадокс ситуации, ибо оба они — абсолютные традиционалисты, если не консерваторы, включая верность Маяковскому советской эпохи, а Борис к той поре прошел полосу любви и к раннему Маяковскому, и, скажем так, к Илье Кормильцеву, поэту «Наутилуса», с его специфическими текстами не без западнического привкуса. Песни Высоцкого тоже не назовешь каноном стихотворства, а они были на слуху и на устах уже новых поколений, в том числе генерации Рыжего. У Бориса были, похоже, попытки вот именно песни на известный ему одному мотив:
Если меня убьют на войне, Надень, дорогая, чёрный платок. В плечо моей маме рыдай по мне, Брось на могилу алый цветок. Если меня убьют на войне, Назови моим именем сына, плачь, Когда спросит тебя обо мне, Катая по полу розовый мяч. Если меня убьют, Люди не вспомнят, Друзья не поймут. 12.01.92Он и подписывал поначалу, или согласился подписывать, в печати свои стихи на манер эстрадных звезд — Боря Рыжий.
Времена стояли тяжкие, преподаватель Кузин подрабатывал службой на вахте института в позднее время, Борис приходил к нему в вечерние часы. Писал много и показывал новое старшему товарищу; в июле 1992-го принес 40 (!) стихотворений, написанных за март — июль, при этом от февральских своих стихов категорически отказался.
Наверняка среди тех стихов были эти опасные игры с самопророчествами ранних Маяковского («точка пули в своем конце») и Есенина («на рукаве своем повешусь»):
Я никогда не верил в бога. Но он наверно только рад, что над решёткой водостока я слышу, как вздыхает Ад. ……………………………… Даже если совсем потеряю рассудок, чтоб залатать свою рану никогда не повешусь… А если и буду, то на мачте подъёмного крана. 26.02.92Те стихи почти не сохранились, но Кузин записал впечатления от них и кое-какие строки. В стихотворении Рыжего «В. В. Маяковскому», написанном 12 апреля, было сказано:
Он написал поэму «Плохо» одним нажатием курка.За два дня до этого написано «О моей смерти». В изложении Кузина оно выглядит так:
Я умер, когда осень и вечер весь день. Лету осиновый кол. Сигарета, кухня. Улица — легкие ветра. Хочется спать.Образ «улица — легкие ветра» дорогого стоит. Накануне 14 апреля — дня гибели Маяковского — юноша тяжело думал об этом событии, о жизни и смерти.
Было еще и лито им. М. М. Пилипенко — покойного журналиста, поэта, барда — при молодежной газете «На смену!» под руководством Николая Мережникова. Туда ходили и Кузин, и Рыжий. У Бориса появились новые приятели — Игорь Воротников, Леонид Луговых, Алексей Верницкий, Вадим Синявин (стихов не писал — играл на кларнете и многих прочих инструментах).
Лито в Доме культуры автомобилистов — то место, куда пришел Лобанцев после «Горного родника». Там было многолюдно и бурно. Вообще надо сказать, конец 1980-х — начало 1990-х в Екатеринбурге — взлет стихотворства, молодое кипение вокруг стихов и поэтов, поток вечеров, встреч, выступлений, изданий коллективных и индивидуальных (очень скромных, малым тиражом, обычно — за свой счет).
Я пишу не трактат об уральской поэзии. Но рядом с Рыжим были другие.
Юрий Лобанцев был, что называется, крепким поэтом, сколачивая стихи продуманно и без внешних эффектов. Он писал стихи, как вел литобъединение, уча и наставляя:
Поэтов, присосавшихся к березам, теперь обходит время стороной.Лобанцев был знаком с тем же Евтушенко, не претендуя на привилегированную близость, почитал его и вообще элиту шестидесятнической эстрады, но стилистически тяготел к той условной «тихой лирике», вождем которой критика назначила Владимира Соколова. Это не противоречило любви к выступлениям перед живой публикой — сам выступал и воспитанников приводил на сцену. Он продолжал наставлять (стихотворение «Слово»):
Зеркально отшлифован слог. Писать становится несложно. Но в недрах речи, будто рок, мерцает будущее Слово. Еще заученность крепка, а новь — корявостью пугает, еще стремятся намекать, а молвить прямо — избегают. И все же слогу не сберечь высокомерного величья! И чем старательнее речь, тем все слышней косноязычье. И кто-то, разрывая круг, назло наветам и запретам такое слово скажет вдруг, что вровень с Правдою и Светом. <?>Напоминает стихи старого поэта Николая Ушакова:
Чем продолжительней молчанье, Тем удивительнее речь. 1926Позиция симпатичная, отсюда — интерес и любопытство к новым людям, среди которых Рыжий оказался самым ярким и многообещающим. Лобанцев поддерживал его всеми подручными средствами, прежде всего рекомендациями разного рода. Именно Лобанцев выдвинул его, обеспечив участие в различных столичных акциях. С первым фестивалем студенческой поэзии (1992) произошло то же самое, что и с его первым боксерским поединком на выезде — Рыжий занял призовое второе (или третье) место, зато в следующий раз (1997) выиграл состязание.
На Всероссийском совещании молодых поэтов (Москва, 1994), куда его послал тот же Лобанцев, Борис обрел не только успех, но дружбы и связи наперед. Такое не забывается. Лобанцев ушел — инсульт, перед этим долго и тяжело болел, Борис навещал его, рыдал — идя по больничным коридорам. «Памяти друга»(1997):
Ю.Л. Жизнь художественна, смерть документальна и математически верна, конструктивна и монументальна, зла, многоэтажна, холодна. Новой окрылённые потерей, расступились люди у ворот. И тебя втащили в крематорий, как на белоснежный пароход. Понимаю, дикое сравненье! Но поскольку я тебя несу, для тебя прошенья и забвенья я прошу у неба. А внизу, запивая спирт вишнёвым морсом, у котла подонок-кочегар отражает оловянным торсом умопомрачительный пожар. Поплывёшь, как франт, в костюме новом, в бар войдёшь красивым и седым, перекинешься с красоткой словом, а на деле — вырвешься, как дым.Кто-то потом истолковал это Ю. Л. как окликание Юрия Левитанского. Неверно.
В ниспровержении авторитетов, в частности местных классиков, Рыжий не упражнялся. В узком кругу он мог съязвить по тому или иному адресу, но эпатажных манифестов или физических сбрасываний стариков с парохода современности не было. Опекавший его Кузин — человек, первым представивший его стихи на страницах «Российской газеты» (местной, не московской), сам писал стихи другие.
Сравнить несложно. В 1995-м они вместе были на очередной практике — в той же соотнесенности: руководитель и студент — в Верхней Сысерти, и там Кузин узнал от Бориса, что неподалеку — в поселке Кытлым — «…однажды на границе участка работ он (Борис. — И. Ф.) нашел кирку с изящной тонкой ручкой. Он взялся за нее, но дерево рассыпалось в прах. А потом он увидел человеческий скелет. И убежал». Был скелет, не было скелета — неважно. Проще говоря, сработало воображение поэта.
Кузин так отреагировал на случившееся:
Б. Р., ты точно был не прав: У мертвых спрашивают имя. А там, на приисках в Кытлыме, Скелет среди камней и трав… ……………………………… Ты думал выскочить, но где там — Он будет помнить сотни лет… Давай в Кытлым поедем летом И похороним тот скелет. Но прежде весь Кытлым поднимем, Поищем род его и след. А нет — давай составим имя Из наших двух: работы всей — Поведать буквами прямыми: «Здесь спит Борисов Алексей».Стихи шероховатые, с элементом первозданного косноязычия, и что интересно: взрослый человек говорит со школяром на равных, более того, в двойном имени, им придуманном, Борисов — фамилия скромного человека Алексея…
Немудрено. Кузин пишет в дневнике: на той практике при нем жила его дочь Валя тринадцати с половинкой лет, однажды она спросила отца:
— А что, Борис тут преподаватель?
Кузин удивился: как это? Валя продолжила:
— А у него все спрашивают, что нужно делать.
Действительно, я помню, как Настя Новикова (студентка. — И. Ф.) несколько раз обращалась к Борису: «Боря, когда зажигать? Когда зажигать, Боря?» Зажигать надо было вечерний костер. Борис — не отвечал, он был суров сквозь улыбку. Ни в каких танцах, перетягиваниях каната, заготовке дров он демонстративно не участвовал.
Он с улыбкой показал мне, приподняв край суконного одеяла, две чистые неразвернутые простыни — за 6 недель практики он ни разу не спал на своей кровати. Но опять же, в конце 90-х годов, придя ко мне выпившим и виноватым перед родителями и Ириной, сквозь слезы говорил: «Помнишь в Верхней Сысерти? Я ведь Ирине ни разу не изменил». И я его горьким словам верю. Он не был гулякой, он играл.
На стихотворение Кузина последовал ответ Рыжего в стихах «Север» с посвящением А. Кузину.
Он лежал под звездою алмазной и глядел из-под хвои и сучьев — безобразный, богатый, трёхглазый. Ах, какой удивительный случай! Я склонился — небритый и грязный — с любопытством. Почти бурундучьим. У ручья, где крупицы металла дорогого сулят вам свободу, человечья руина лежала и глядела в лицо небосводу. Белка шишкой кедровой играла, брал медведь свою страшную ноту. Схоронить, отнести ли в посёлок, может, родственник чей-то. Но — боже — как же так, ведь мертвец — не ребёнок, поднимать его, тискать негоже. Даже пять драгоценных коронок на зубах говорили мне то же. …Как мы любим навязывать мёртвым наши мненья — всё в радость нам, глупым. Он погиб незнакомым и гордым — даже вздох свой считаю преступным, уходя налегке бесконечным и тёмным лесом — страшным, густым, неприступным. 1995, августСтихов подобного рода Рыжий больше не писал. Что имеется в виду? Это называется философская — или медитативная — лирика, в духе зрелого Заболоцкого. Борис прощупывал в себе эти возможности — и нашел их недостаточными для своей органики. «Смерть коня» Спиридона Дрожжина ему оказалась роднее, нежели «Лицо коня» Николая Заболоцкого. Но и Заболоцкий был неотразимо убедителен, когда не лишал авторское я человеческого сердца:
Вчера, о смерти размышляя, Ожесточилась вдруг душа моя. Печальный день! Природа вековая Из тьмы лесов смотрела на меня. И нестерпимая тоска разъединенья Пронзила сердце мне, и в этот миг Все, все услышал я — и трав вечерних пенье, И речь воды, и камня мертвый крик. («Вчера, о смерти размышляя», 1936)Будущее чтение философской литературы — от Ницше до Шестова — не изменит положения дел. Как слушание Баха не перенастроит его вторчерметовско-царскосельской лиры, далекой от, например, симфонизма Бродского.
С другой стороны, и прямая злободневность не ложилась на «сетку вещания» Рыжего подобающим образом, несмотря на прикосновение к великим образцам:
Злой чечен ползет на берег… (М. Лермонтов) Про себя я молился за смелых… (И. Анненский) Когда сырой поднимется туман — мне кажется, мой город наконец поднялся к небу — этакий обман — где речь пойдёт о качестве сердец. Взлетай, пари — ресницы лёгкий взмах. Ты этот сон так бережно хранил. И плещутся афиши на углах домов. Сей плеск подобен плеску крыл. Но мне, Господь, мне нечего сказать — твой лик одних младенцев устрашил. Отсутствием твоим мне оправдать легко тебя. Но как себя, скажи, мне оправдать? Ведь мне не страшен ад — я ад прошёл. Что ж выбрать мне из двух зол — гордый, как войду я в райский сад, где души тех младенцев, тех старух? («Когда сырой поднимется туман…», 1995, июнь)Отозвались-таки «Старые эстонки»…
Перевести политику (первая чеченская кампания) в онтологию не получилось. Но понятие ад, с самого начала вошедшее в его стихи, еще до привязанности к Маяковскому он нашел — у Лермонтова, или это произошло одновременно, поскольку и яростный футурист не бесплодно для себя побывал в сферах русской поэтической метафизики и сказал об этом с присущим вызовом:
Не высидел дома. Анненский, Тютчев, Фет. Опять, тоскою к людям ведомый, иду в кинематографы, в трактиры, в кафе. («Надоело», 1916) Версты улиц взмахами шагов мну. Куда уйду я, этот ад тая! Какому небесному Гофману выдумалась ты, проклятая?! («Флейта-позвоночник», 1915)А что — ад? Лермонтов мог найти его, заглянув в Александра Полежаева:
О, дайте мне кинжал и яд, Мои друзья, мои злодеи! Я помню, помню жизни ад, Мне сердце высосали змеи! («Отчаяние», 1836)На этом стихотворении был раскрыт полежаевский том, лежавший на рабочем столе Бориса в роковую ночь его ухода.
А тогда, в 1995-м, Кузин вместе с И. Зубовым, И. Воротниковым, Л. Луговых и Рыжим организовал литературное движение «Горный родник». Оно просуществовало недолго и было некоторой — легкой по существу — игрой. Ничего значительного не случилось. Интересней другое — движение Рыжего исключительно наверх. Уже в 1993-м у него, начинающего по всем статьям, был авторский вечер на площадке ДК автомобилистов. Он выезжает в Москву, его обильно печатают на Урале. Вот ряд первых публикаций: уже названная подборка в «Российской газете» (1992), первое журнальное выступление — в «Уральском следопыте» (1993. № 9), восемь стихотворений с интервью Юрию Шинкаренко в «Екатеринбургской газете» (1994), десять других публикаций в течение 1994–1995 годов и подборка в журнале «Урал» (1995), почетная вещь для молодого да раннего.
Борис дает интервью газете «Горняк» (1994. № 4), голос его решителен:
— В чем состояла работа семинаров? — В моем семинаре — в обсуждении стихов. Каждый из участников читал свои произведения, а затем остальные, а также руководители семинара высказывали свои впечатления, замечания, пожелания. Взгляды на поэзию не всегда совпадали. Например, когда я прочитал свои стихи, то услышал, что пишу не совсем в традиционном ключе, ориентируюсь на «иной пласт культуры». Имя почитаемого мной Иосифа Бродского, на творчество которого я сослался, не оказалось здесь авторитетным. Но никто не запрещал спорить, доказывать свою точку зрения. Мне тоже не все нравилось из того, что читали другие. В конце концов С. Золотцев (поэт, руководитель семинара. — И. Ф.) подвел итог: лично не разделяя моих поэтических симпатий, он все-таки отозвался о моих стихах положительно и ободряюще. В общем, я остался доволен обсуждением, которое помогло мне шире, профессиональней взглянуть на смысл поэзии и ее средства. — Значит, время и деньги, потраченные на поездку в Москву, не пропали зря? — Я не надеялся, что меня примут в Союз писателей, подобно тем, кто уже являются авторами книг. Главная польза была в творческом общении с более опытными товарищами по перу — Николаем Колычевым из Мурманска, Сергеем Квитковым из Краснодара, Александром Леонтьевым из Волгограда и другими. Я понял, что только серьезное, критическое отношение к собственному творчеству помогает не удовлетворяться сделанным. Лишь поэт, который постоянно развивается сам, может повести за собой читателей. Иначе не бывает…
С Олегом Дозморовым Бориса познакомил тот же Кузин, это было в 1996-м, в начале октября. «Иду красивый, двадцатидвухлетний», — мог бы сказать каждый из них — полных сверстников между собой и Маяковским периода «Облака в штанах», и Борис, возможно, так и делал или так и думал. Олег был другим. Каким? В 2000 году Борис написал в предисловии к книжке собрата: «Олег Дозморов — один из любимых моих поэтов, мой, пожалуй, единственный друг, которому я могу пожелать вдумчивого читателя, но, увы, не громкой славы, он недостаточно решителен для этого». Эта книга — «Стихи» — Дозморова вышла уже без Бориса (2002), но путь до нее они проделали поистине совместно.
С самого начала эта дружба сопровождалась фонтаном строк.
«К Олегу Дозморову» (1997):
Владелец лучшего из баров, боксёр, филолог и поэт, здоровый, как рязанский боров, но утончённый на предмет стиха, прими сей панегирик — элегик, батенька, идиллик. Когда ты бил официантов, я мыслил: разве можно так, имея дюжину талантов, иметь недюжинный кулак. Из темперамента иль сдуру хвататься вдруг за арматуру. Они кричали, что — не надо. Ты говорил, что — не воруй. Как огнь, взметнувшийся из ада, как вихрь, как ливень жесткоструй− ный, бушевал ты, друг мой милый. Как Л. Толстой перед могилой. Потом ты сам налил мне пива, орешков дал солёных мне. Две-три строфы неторопливо озвучил в грозной тишине. И я сказал тебе на это: вновь вижу бога и поэта. …Как наше слово отзовётся, дано ли нам предугадать? Но, право, весело живётся. И вот уж я иду опять в сей бар, единственный на свете, предаться дружеской беседе.Поздний друг Бориса Кейс Верхейл писал ему о том, что в его стихах постепенно обнаруживается эпик. Это почти так. У него были когда-то наивные попытки поэм — «Мы» (1992), «Звезда — Размышление» (1993), но он и сам их разогнал.
Я скажу тебе, что хотел, но сперва накачу сто грамм. Так я в юности разумел вне учебников и программ: Маяковский — вот это да, с оговорками — Пастернак, остальное белиберда. По сей день разумею так. Отыграла музыка вся. Замолчали ребята все. Сочинить поэму нельзя — неприлично и вообще… («Я скажу тебе, что хотел…»,1998)Однако со временем Рыжий все чаще пишет лирический нарратив, сюжетику, рассказ в стихах. Его Вторчермет — череда новелл, внешне бытовых, повседневно предметных, абсолютно вещественных. Онтологическая надстройка — борьба Добра и Зла — ненавязчиво сквозит в самом звуке, в ноте высокой горечи. В посвященном Олегу стихотворении он дает полуфантазийную конкретику частной жизни товарища на фоне общей жизнедеятельности города и мира.
Дозморов отвечает стихотворением «Аполлон» (1997):
Борису Рыжему, с любовью
Остановись прикурить на мосту, на Боровицком. Вечер, как бритвой, проводит черту в сумраке мглистом. Вот и закат два погона пришил к храму, который, красными взорван, недавно ожил, ожил по новой. Здесь, где трава изукрасила склон, вывив полоски, с водкой, гитарой гулял Аполлон, но не Полонский. В точно таком же, да только в другом — жил против правил, в дальних кварталах отыскивал дом. (Шпили расплавил, влил в себя бронзу, запойный закат.) О, то и дело в жизни случался как будто затакт. Не надоело? Жил он и умер, бедняга, и свет словно растерян, там, где родился великий поэт, верный потерям.О каком великом поэте в конце концов идет речь? Похоже, о друге любезном.
Попутно заметим это посвящение: «Борису Рыжему, с любовью». Тоже игра — на соответствующем посвящении «Рождественского романса» Бродского: «Евгению Рейну, с любовью». Потом будет и это посвящение Бориса: «Кейсу Верхейлу, с любовью». Многое в этих судьбах вилось вокруг Бродского, по следу его звездной славы, с утаенным распределением ролей.
Дозморов живет сейчас в Лондоне. Я написал ему. Он отозвался: «Я целиком поддерживаю этот проект и готов помочь Вам всеми силами». Я попросил ответить на некоторые вопросы.
26.8.2014 14:58:58 пользователь Олег Дозморов… <…> написал:
Илья Зиновьевич, как Вы просили, тезисно:
1) Что Вы считаете наиболее точным и справедливым в материалах о БР — в мемуарах, рецензиях, оценках и проч.?
— Наиболее ценны, по-моему, те материалы, где Борис показан как поэт. Статьи Пурина, Машевского, Лурье, вообще питерское крыло — там главным образом поэт, его стихи, то, что он сам считал бы ценным услышать о себе. Там Борис поставлен в контекст поэзии, и это верно, я считаю. Я уверен, что все сказано в стихах, все ключи и отмычки там и самый продуктивный путь к пониманию его поэзии, жизни и смерти — через стихи.
Мемуары же в основном о человеке, а тут все видели Бориса с разных сторон: сын, муж, брат, школьный товарищ, начинающий поэт, играющий силой молодой мэтр, эпатажный персонаж литжизни и т. д. Что тут правда и где настоящий Борис, сказать сложно. Это вереница ролей, отражений в зеркалах. В плане отдельных моментов биографии я не уверен в необходимости полной объективности, потому что мы имеем дело с поэтом, ну и потому, что не для всего наступило время. Я бы выбрал правду стихов, а не бытовую правду. Мне кажется, последняя все запутывает.
2) Что достоверно у Мельникова[5], а что — вранье? Он ведь схлопотал по морде от Ольги Рыжей.
— Мельников задавал вопросы и, как мне кажется, расшифровывал с установкой на поиск некоей «правды», как он ее понимает. Понимает он эту правду низко, на уровне «пил, дрался, совершал неприглядные поступки». У него не вранье, а часть правды, что даже хуже вранья. Он этакий разоблачитель, ничего не смыслящий в стихах. Он искал скандальные подробности, действовал вне этики. Он посылал тем, кого интервьюировал, то, что говорили о них другие, провоцировал, интриговал. Тексты интервью он не заверял и распространял вопреки запретам. Кроме того, он разговаривал с родственниками и знавшими Бориса поверхностно или вне литературы (знакомые по лит-объединению, одноклассники, учителя), а с литераторами почти нет. Он их легко разговорил на бытовые темы. Отсюда такой перекос.
В общем, я думаю, что собирательно Мельников — это такая часть культуры, которая еще напишет своего «Анти-Рыжего». Борис отверг его стихи, когда работал в «Урале».
Все стихи последних лет посвящены жене. В них есть внутренняя история всего происходившего. Он любил именно Ирину. Остальное неважно.
Wed, 27 Aug 2014 07:34:34 +0400 от Илья Фаликов <…>:
Доброе утро, Олег.
Прежде чем мы свяжемся по скайпу — парочка предварительных вещей.
Что бы Вы хотели увидеть в разговоре о БР из него самого о себе и своего о нем?
Арифметика взаимных посвящений: сколько у него о Вас и сколько у Вас о нем. Названия.
Что о нем вообще написано Вами.
Неплохо было бы подослать мне его предисловие к Вашей книге.
Самый подробный ответ Олега — 27 августа 2014 года:
…Арифметика прижизненных посвящений — наверное, было поровну, но у меня нет здесь моих стихов 90-х годов, весь архив остался в Екатеринбурге. Мы, кроме того что встречались и говорили по телефону, еще и переписывались. Эта шуточная переписка включала в себя и стихи.
Из своих, написанных при жизни Бориса и посвященных ему, смог найти только то, что опубликовано.
«Боря, двадцать два…» (есть в «Роттердамском дневнике»), написано в 1996 году (ошибка Олега: стихотворение начинается строчкой «Боря, двадцать три…» и написано годом позже. — И. Ф.).
«Аполлон» («Остановись прикурить на мосту…») — опубликовано в «Арионе», № 1, 2002 год, написано в 1997.
«Воспоминание» — «Звезда», 1998, № 11, написано в 1997 году.
Еще есть «Нижневартовск, Тюмень и Сургут…» (не опубликовано, написано в 1998 году).
И очень много стихов, где есть Борис, написанных после его смерти. Несколько десятков…
Что же касается посвящений Бориса мне, то вот они:
«Мысль об этом леденит, О…»
Офицеру лейб-гвардии Преображенского полка г-ну Дозморову, который вот уже десять лет скептически относится к слабостям, свойственным русскому человеку вообще
О. Дозморову («Над головой облака Петербурга…»)
К Олегу Дозморову («Владелец лучшего из баров…»)
Памяти Полонского («Мы здорово отстали от полка…»)
Стихи, где я упомянут:
«Вы, Нина, думаете, вы…»
«До утра читали Блока…»
Поездка («Изрядная река вползла в окно вагона…»)
«Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь…»
Стихи с эпиграфом «Нижневартовск, Тюмень и Сургут…»
И еще что-то было, нужно проверить по книгам.
Предисловие к моей книге прилагаю. Оно было написано в 2000 году к предполагавшейся книге (она вышла уже после смерти Бориса).
Написано мной о Борисе:
— Некролог — был напечатан в газете «Уральский рабочий» 10 мая 2001 (прилагаю)
— «Премия „Мрамор“» («Знамя», 2006, № 2)
— Статья для журнала «Русская литература» (прилагаю)
— Интервью Мельникову («Урал», 2001, № 5)
Еще были маленькие предисловия к публикациям Бориса на Урале в 90-е годы. Их, к сожалению, у меня нет под рукой.
Мы еще не раз вернемся к Олегу Дозморову.
Сюжеты взаимодействия поэтов, не обязательно равных по известности и дарованию, складываются зачастую причудливо. В 2004 году в Екатеринбурге А. Кузин выпустил книжку «Следы Бориса Рыжего», свод его дневниковых записей. Вряд ли будет преувеличением найти след Кузина — по праву рождения в городе Верхний Уфалей Челябинской области — в молодом шедевре Бориса (1997):
Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей и обеими руками обнимал моих друзей — Водяного с Черепахой, щуря детские глаза. Над ушами и носами пролетали небеса. Можно лечь на синий воздух и почти что полететь, на бескрайние просторы влажным взором посмотреть: лес налево, луг направо, лесовозы, трактора. Вот бродяги-работяги поправляются с утра. Вот с корзинами маячат бабки, дети — грибники. Моют хмурые ребята мотоциклы у реки. Можно лечь на тёплый ветер и подумать-полежать: может, правда нам отсюда никуда не уезжать? А иначе даром, что ли, желторотый дуралей — я на крыше паровоза ехал в город Уфалей! И на каждом на вагоне, волей вольною пьяна, «Приму» ехала курила вся свердловская шпана. («Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей…»)Здесь поставлен мучивший тогда Бориса вопрос: «Может, правда нам отсюда никуда не уезжать?»
Нет, уезжать не из страны — из родного города. Ни Штаты, куда его звал погостить Владимир Гандельсман, ни Прага с приглашающим Кириллом Кобриным не прельщали Бориса, да и финансы пели романсы. Кобрин до отъезда в Прагу жил в Нижнем Новгороде. В веселом месяце мае двухтысячного года он устроил нижегородский фестиваль-конференцию на тему русской провинции. Туча участников мероприятия за три дня пролилась слезами, счастливыми и пьяными вперемешку. Великая река матушка Волга пополнилась патриотической влагой.
Его <Рыжего> немедленно полюбили местные нижегородские бандиты и стали приглашать в сауны и казино. В сауне он потерял часть одежды, а в казино проиграл чудовищную сумму чужих денег. За стихи ему прощали всё. Криминальные личности ошибочно считали, что он пишет про них и для них. Видимо, то же самое происходило с Есениным и Высоцким (Голицын А. Рыжий // Новые времена (в Саратове). 2003. № 7(22). 21–27 февраля).
Все это не исключало таких вещей, как участие в работе семинаров или выступления перед народонаселением. В Нижнем Новгороде они последний раз повидались с Сашей Леонтьевым. О нем — чуть ниже.
Много позже в екатеринбургской газете «Книжный клуб» (2001. № 1) Рыжий пытается объяснить, почему он не пошел на вечер поэзии Екатеринбурга:
Я тоже должен был читать на этом вечере, но почему-то отказался, сославшись на какие-то неотложные дела, болезни неизлечимые, еще на что-то. Соврал, короче говоря, и не пошел. Потом стал думать: а почему? Что, сложно почитать с листочка в зал пару-тройку стихотворений? Несложно. Или я жутко боюсь взыскательной местной публики? Нет, не боюсь я никого. Так в чем же, собственно, дело, может, мне просто наплевать на то, что происходит в родном городе? Да нет же, я люблю мой город. Ну, так отчего же? Не имею понятия, господин в зеркале, но город я свой люблю.
Люблю его двоечником, сбежавшим с уроков и собирающим пахнущие осенью окурки на аллее, где осыпаются так называемые яблони. Люблю его хулиганом, выигравшим благодаря краплёной колоде четвертной у соседа по парте. Люблю его заводы, включая даже Мясо — и Жиркомбинат. Люблю его чумазое небо. Я люблю свой город влюбленным в одноклассницу молодым человеком, тощим спортсменом, проигравшим очередной поединок, пьяным студентом Горного института, другом своих друзей и врагом дружинников и милиции. Выдыхая дымок сигареты, я на самом ломаном в мире английском рассказывал двум бездомным неграм, как я люблю свой город, и вспоминал телеграмму, которую в то утро отъезда в Роттердам получил от Ромы Тягунова:
друг мой рыжий в добрый путь в роттердамах и парижах про свердловск не позабудь.На вопрос «Какой он, твой город?» я отвечал: «Сказочный, поэтичный!» — начинающийся матерящимися грузчиками в Кольцово, а кончающийся на самой высокой точке неба. Именно, поэтичный, именно.
Таким образом, речь о поэзии, почти не рядящейся в прозу. Обе действительности — первая и вторая — сливаются по законам художества и к суровой реальности внутренних причин имеют отношение лишь на основе этих законов. Он опять недоговорил, умолчал, утаил и скрылся.
А что касается самого стихотворения «Я на крыше паровоза…» — музыка и есть музыка.
Дмитрий Сухарев говорит:
Я слышал его в переложениях нескольких бардов — Дмитрия Богданова, Григория Данского, Андрея Крамаренко, Вадима Мищука, Сергея Никитина… Если самым разным музыкантам хочется петь эти слова, значит, в них содержится нечто важное для всех.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Витебский вокзал — самый старый, первый вокзал в России. Его построил на месте предыдущих зданий (деревянное 1837-го, каменное 1849–1852 годов) архитектор А. Бржозовский в 1904 году. Это модерн, ничего старческого в нем нет, а светлой красоты и суровой исторической достоверности — достаточно. Включая новейший горельеф на северном фасаде — идеальные русские солдатики, их трое, в теплушке возвращаются с фронта Первой мировой, с Георгием на груди. Но история — мать мифа. Или наоборот: миф — отец истории. Это необходимо диссонирует с Блоком:
Петроградское небо мутилось дождем, На войну уходил эшелон. Без конца — взвод за взводом и штык за штыком Наполнял за вагоном вагон. В этом поезде тысячью жизней цвели Боль разлуки, тревоги любви, Сила, юность, надежда… В закатной дали Были дымные тучи в крови. И, садясь, запевали Варяга одни, А другие — не в лад — Ермака, И кричали ура, и шутили они, И тихонько крестилась рука. Вдруг под ветром взлетел опадающий лист, Раскачнувшись, фонарь замигал, И под черною тучей веселый горнист Заиграл к отправленью сигнал. И военною славой заплакал рожок, Наполняя тревогой сердца. Громыханье колес и охрипший свисток Заглушило ура без конца. Уж последние скрылись во мгле буфера, И сошла тишина до утра, А с дождливых полей всё неслось к нам ура, В грозном клике звучало: пора! Нет, нам не было грустно, нам не было жаль, Несмотря на дождливую даль. Это — ясная, твердая, верная сталь, И нужна ли ей наша печаль? Эта жалость — ее заглушает пожар, Гром орудий и топот коней. Грусть — ее застилает отравленный пар С галицийских кровавых полей… («Петроградское небо мутилось дождем…»)Писано 1 сентября 1914. Сегодня как раз 8 сентября 2014, столетний день окончания Галицийской битвы и сороковой день рождения Бориса Рыжего.
Прямым откликом на эти стихи Блока было его высказывание 1996-го:
Положив на плечи автоматы, мимо той, которая рыдала, уходили тихие солдаты прямо в небо с громкого вокзала. Развевались лозунги и флаги, тяжело гудели паровозы. Слёзы будут только на бумаге, в небе нету слёз и слова «слёзы». Сколько нынче в улицах Свердловска голых тополей, испепелённых И летит из каждого киоска песенка о мальчиках влюблённых. Потому что нет на свете горя, никого до смерти не убили. Синий вечер, розовое море, белые штаны, автомобили.А здесь, в Питере, некогда ходил очень молодой, высокий и худой человек в предощущении грядущего:
Мне, чудотворцу всего, что празднично, самому на праздник выйти не с кем. Возьму сейчас и грохнусь навзничь и голову вымозжу каменным Невским! (Маяковский «Флейта-позвоночник», 1915)Кованые рисунки на балконах напоминают лиру — и вообще надо сказать, что в Питере лира на каждом шагу, по слову Ахматовой:
Здесь столько лир повешено на ветки, Но и моей как будто место есть… («Все души милых на высоких звездах…»,1921)Речь о Царском Селе, куда и вела поначалу дорога от этого — первоначально Царскосельского — вокзала. На ступенях Царскосельского вокзала, как после атомной бомбежки, выжжена тень ахматовского — и не только — учителя Иннокентия Анненского, замертво упавшего там перед последним возвращением в Царское Село[6].
Без лиры никуда. Питер — город лир и венков. Аполлон на фасаде Александринки — бог этого города, осеняющий все его существование, в руках у него, как и положено, лира и венок. Но не только.
Каждый русский поэт, когда юн, входит в этот город с особым ощущением. Во времена Блока все знали: это блоковский город. С Есенина, когда он при первой встрече смотрел на Блока, капал пот. У Рыжего было так («Бледный всадник»):
Над Невою огонь горит — бьёт копытами и храпит. О, прощай, сероглазый рай. Каменный град, прощай! Мил ты мне, до безумья мил — вряд ли ты бы мне жизнь скостил, но на фоне камней она так не слишком длинна. Да и статуи — страшный грех — мне милее людей — от тех, с головой окунувшись в ложь, уж ничего не ждёшь. И, чего там греха таить, мне милей по камням ходить — а земля мне внушает страх, ибо земля есть прах. Так прощай навсегда, прощай! Ждать и помнить не обещай. Да чего я твержу — дурак — кто я тебе? Я так. Пусть деревья страшит огонь. Для камней он — что рыжий конь. Вскакивает на коня и мчит бледный всадник. В ночи. 1994, октябрьНапоминаю, Брюсов был любимым поэтом Бориса Петровича — и вот в стихах сына отзвук брюсовского стиха — его «Конь блед»:
Показался с поворота всадник огнеликий, Конь летел стремительно и стал с огнем в глазах. В воздухе еще дрожали — отголоски, крики, Но мгновенье было — трепет, взоры были — страх! Был у всадника в руках развитый длинный свиток, Огненные буквы возвещали имя: Смерть… Полосами яркими, как пряжей пышных ниток, В высоте над улицей вдруг разгорелась твердь. Июль — декабрь 1903–1904Другой размер, другая ритмика, у Рыжего — близкая к Бродскому, но ведь всадник — тот самый, а не плод незатейливой каламбуристики на рифме «медный — бледный» с намеком на пушкинского «Медного всадника». Рыжий начал по-своему осваивать цитадель камня, город, ставший общекультурной школой человека с Урала.
Витебский вокзал смотрит на здание Военно-медицинской академии (клиника военно-морской и общей терапии, а также клиника челюстно-лицевой хирургии), которое недавно Минобороны пыталось отлучить от медицины, но этого, к вящей радости Питера, не произошло, и можно пройтись вдоль академии по улице Введенского канала непосредственно к Фонтанке, где в мутноватой воде различаются вьющиеся длинные водоросли, похожие на русалочьи волосы утопленниц. Под ногами на асфальте крупно оттиснуто белыми типографскими буквами: «Несерьезные знакомства (рисунок сердца) 24 часа», по другую сторону улицы на обшарпанной стене крупно начертано: «ВСЕ МЫ ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ». Согласен.
Военно-медицинская академия сменила (1940) Обуховскую больницу для бедных. Там был морг. Туда привезли писателя Гаршина, когда он простился с собой в лестничном пролете. Туда перенесли бездыханного Анненского с вокзальных ступеней. Туда же привезли из «Англетера» тело Есенина. Так заканчивается завоевание столиц.
Рыжего постоянно сравнивали с Есениным. Но он сам определил дистанцию между народным кумиром и собой:
Там вечером Есенина читали, портвейн глушили, в домино играли. А участковый милиционер снимал фуражку и садился рядом и пил вино, поскольку не был гадом. Восьмидесятый год. СССР. Тот скверик возле мясокомбината я помню, и напоминать не надо. Мне через месяц в школу, а пока мне нужен свет и воздух. Вечер. Лето. «Купи себе марожнова». Монета в руке моей, во взоре — облака. «Спасиба». И пошел, не оглянулся. Семнадцать лет прошло, и я вернулся — ни света и ни воздуха. Зато остался скверик. Где же вы, ребята, теперь? На фоне мясокомбината я поднимаю воротник пальто. И мыслю я: в году восьмидесятом вы жили хорошо, ругались матом, Есенина ценили и вино. А умерев, вы превратились в тени. В моей душе ещё живёт Есенин, СССР, разруха, домино. («Там вечером Есенина читали…», 1997)…У русской поэзии есть память об Андре Шенье, павшем на плахе[7]. Молодой Пушкин назвал его Андреем, посвятив обширное стихотворение жертве революции (1825):
Зовут… Постой, постой; день только, день один: И казней нет, и всем свобода, И жив великий гражданин Среди великого народа. Не слышат. Шествие безмолвно. Ждет палач. Но дружба смертный путь поэта очарует[8]. Вот плаха. Он взошел. Он славу именует… Плачь, муза, плачь!..Борис Рыжий — не тот тип, он больше напоминает печально-разгульного шотландца — посетителя буйственных заведений Роберта Бёрнса с его веселыми нищими:
Здесь краж проверяется опыт В горячем чаду ночников. Харчевня трещит: это топот Обрушенных в пол башмаков. К огню очага придвигается ближе Безрукий солдат, горбоносый и рыжий, В клочки изодрался багровый мундир. Своей одинокой рукою Он гладит красотку, добытую с бою, И что ему холодом пахнущий мир. Красотка не очень красива, Но хмелем по горло полна, Как кружку прокисшего пива, Свой рот подставляет она. («Веселые нищие» в переводе Эдуарда Багрицкого, 1928)Здесь же неподалеку и певец канавы, луны и пьяного корабля, законченный безумец Артюр Рембо, о котором здорово написал в далекой бурной молодости учитель Рыжего Евгений Рейн:
Он бросится назад, в Марсель, но будет поздно. Без франка за душой, в горячечном бреду. Есть медь и олово — из них получат бронзу. Есть время и стихи — они не предадут. Еще он будет бегло перелистан. Его еще не смогут прочитать. Его провоют глотки футуристов И разнесут на тысячи цитат. Он встанет над судьбой стиха и, точно Последний дождь, по крышам прохлестав, Разанилиненный при трубах водосточных — Цвет гениальности на выцветших листах. («Артур Рембо», конец 1950-х)Шенье погиб из-за препирательства с новыми временами, полными кровавой свирепости. Борис сам скоропалительно сжег свою животрепещущую жизнь, скорей всего это палач-генетика. «Наследственность плюс родовая травма» («Снег за окном торжественный и гладкий…», 1997). Ни в какую распрю с «оккупационным режимом» не вступал. Конечно же он мог бы написать нечто подобное тому, что говорит Шенье в пушкинском стихотворении:
Где вольность и закон? Над нами Единый властвует топор. Мы свергнули царей. Убийцу с палачами Избрали мы в цари. О ужас! о позор!Но ничего подобного он не писал. Напротив, была поэма о ГКЧП, пропала. Пронзительно скучая по детству, он не стремился, не ломился назад. По слову Кушнера: «Времена не выбирают. / В них живут и умирают».
В этом ряду и другой — русский — шотландец: Лермонтов, потомок Томаса-стихотворца. По следам Пушкина, внутри своего обширного стихотворения давшего якобы-перевод из Шенье, он тоже поминал погибшего собрата («Из Андрея Шенье», 1830 или 1831 год, Лермонтову шестнадцать лет):
За дело общее, быть может, я паду Иль жизнь в изгнании бесплодно проведу; Быть может, клеветой лукавой пораженный, Пред миром и тобой врагами униженный, Я не снесу стыдом сплетаемый венец И сам себе сыщу безвременный конец…Но все они похожи, эти нестарые поэты, потому что на лире бряцали, пели кто о чем и смотрели на небеса.
Может быть, от века и до сих пор во главе этой мировой ватаги молодых стоит Гай Валерий Катулл, веронский повеса и смутьян.
Поводырь старичка Фалерна юный! в чаши горечь мне влей, — повелевает так Постумии глас, царицы пира, пьяных ягод налившейся пьянее. Вы ж отсюда, пожалуй, прочь катитесь, воды, порчи вина, и вон к сварливым убирайтесь — чистейший здесь Фионец!Дерзкий переводчик веронца — Максим Амелин — соперничает с Пушкиным, переложившим Катулла в 1832 году:
Пьяной горечью Фалерна Чашу мне наполни, мальчик! Так Постумия велела, Председательница оргий. Вы же, воды, прочь теките И струей, вину враждебной, Строгих постников поите: Чистый нам любезен Бахус. («Мальчику. Из Катулла»)Еще никто не заметил, что это — рифма, довольно модерновая: «Фалерна — велела»?..
Вернемся в Петербург.
В редакцию «Звезды» на второй этаж ведет видавший виды, с щербинами и выбоинами, темносерый гранит — широкая и длинная лестница в два марша с разворотом. Подымаясь по ней, я вспомнил байку прошлых времен: известный поэт Н., участвуя в днях советской литературы в Ленинграде, после обильных массовых возлияний подался поутру в Эрмитаж, но, пройдя немного по мраморной лестнице, упал с болью в сердце и был доставлен в лазарет музея, где его откачали и спросили: ну, теперь вы сделали выводы?
— Да, мне совершенно противопоказан Эрмитаж.
Не исключено, что журнал «Звезда» внушал младому поэту некий трепет, тем более что его осведомленности хватало на то, чтобы знать несмешную, многотрудную историю издания, попавшего в 1946 году под топор партийного постановления[9], и уж если Зощенко — писатель местами смешной, то Ахматова явно не вызывает юмористической реакции.
По пути в журнал я заглянул в Музей Ахматовой на Фонтанке со стороны Литейного проспекта. Было рано, музей не работал, но у входа в ахматовский дом ходил красавец кот — львиной породы, массивный и оранжево-рыжий. В ошейнике. Таких теперь называют Чубайс, но я подумал о другой фамилии, потому как только о ней и думал в последнее время. Сближение странное, но вряд ли случайное.
Яков Гордин, один из двух соредакторов журнала, сказал о моей затее (писание этой книги):
— Дело благое. Но надо предвидеть и некоторые трудности…
— Да уже не предвижу, а вижу — фигура непростая.
В огромной комнате, точнее сказать — в зале, мы сидели с Александром Леонтьевым за небольшим круглым столиком.
— Вы полагаете, Борис равен Лермонтову?
— Почему бы и нет?
Борис Рыжий («Царское Село»):
Александру Леонтьеву Поездку в Царское Село осуществить до боли просто: таксист везёт за девяносто, в салоне тихо и тепло. «…Поедем в Царское Село?..» «…Куда там, господи прости, — неисполнимое желанье. Какое разочарованье нас с вами ждёт в конце пути…» Я деньги комкаю в горсти. «…Чужую жизнь не повторить, не удержать чужого счастья…» А там, за окнами, ненастье, там продолжает дождик лить. Не едем, надо выходить. Купить дешёвого вина. Купить и выпить на скамейке, чтоб тени наши, три злодейки, шептались, мучились без сна. Купить, напиться допьяна. Так разобидеться на всех, на жизнь, на смерть, на всё такое, чтоб только небо золотое, и новый стих, и старый грех… Как боль звенит, как льётся смех! И хорошо, что никуда мы не поехали, как мило: где б мы ни пили — нам светила лишь царскосельская звезда. Где б мы ни жили, навсегда! 1996, июньЭто было не первое посвящение другу Александру. Они познакомились в Москве на совещании молодых поэтов в 1994-м. Леонтьев обитал сразу в двух городах: в Питере, где родился, и в Волгограде, куда его отвезли в детстве. Он предпочитал историческую родину — берега Невы. Где и бросил якорь.
Мгновенно сблизились, началась переписка. Борис явился в Питер уже в том же году. Он остановился в маленькой академической гостинице на улице Миллионной, в то время улице Халтурина. Там он пребывал каждый раз, его приезды оформлялись как научные командировки от аспирантуры, не без участия отца, разумеется. В каморке гостиничного номера клубился дым, потреблялись напитки, в основном вино (разное, недорогое) и пиво («Балтика-6», «Портер»), текли пространные речи о поэзии, читались стихи, назывались имена. Бывали в гостях, в компаниях собратьев читали стихи по кругу, импровизировали: строчку — Борис, строчку — Саша. Накопилась куча стихов-посвящений Бориса, претерпевших разные редакции. Ходили в Новую Голландию, на Пряжку — к Блоку, на Литераторские мостки, на кладбище Александро-Невской лавры, где лежат Боратынский, Вяземский, Жуковский. Появился в знакомствах первый иностранец — Ханс Боланд, переводчик, жил на канале Грибоедова, много лет преподавал голландский язык в университете, позже — переводил стихи Бориса.
Конечно же все эти годы блистало и имя Мандельштама, чье «Поедем в Царское Село!» напрямую обыгрывается в «Царском Селе» Рыжего.
Тот же Мандельштам — и в «Элегии» 1998 года:
…И вечно неуместный, как ребёнок, самой природы вечный меньшевик, я руку жал писателям, поэтам, пил суррогат в посёлке приисковом, кутил, учился в горном институте, печатал вирши в периодике. Четыре года занимался боксом, а до того ещё четыре года — авиа-моделированием. Лечился. Пил. И заново лечился. — Ты должен быть авиамоделистом, — мне говорил Сергей Петрович Комов. — Ты должен стать боксёром, — говорил мне чемпион Европы А. Засухин. И приглашал меня в аспирантуру Иосиф Абрамович Шапиро. А некто Алексей Арнольдыч Пурин сказал: вы замечательный поэт. Я жить хочу. Прощайте, самолёты. Висите на гвозде, восьмиунцовки. И крепко-крепко спите под землёй, мои месторождения урана. Стихи, прощайте. Ждёт меня тайга. Два трогательных ангела над драгой.«Восьмиунцовки», говорю для непосвященных, это такие боксерские перчатки (весом восемь унций).
Рыжий всегда писал многоуровнево, многосоставно — при всей внешней простоте. Здесь мы найдем не только мандельштамовского мохнатого деятеля («Полночь в Москве», 1932):
Где арестованный медведь гуляет — Самой природы вечный меньшевик,но и отзвук Михаила Кузмина, действительно гениально звучащего:
Венок над головой, открыты губы, Два ангела напрасных за спиной. Не поразит мой слух ни гром, ни трубы, Ни тихий зов куда-то в край иной. («Мой портрет», 1907)У Рыжего есть стишок «Два ангела» (1996):
…Мне нравятся детские сказки, фонарики, горки, салазки, значки, золотинки, хлопушки, баранки, конфеты, игрушки. …больные ангиной недели, чтоб кто-то сидел на постели и не отпускал мою руку — навеки — на адскую муку.В принципе, у него не раз встречаются некие «два ангела» («два ангела за чаем», «два ангела — Серега и Андрей»), в данном случае это скорей всего сказано о своих сестрах, а вот этих двух людей — Леонтьева да Пурина — в некоторой степени можно было бы и отнести к его двум питерским ангелам-покровителям, но какой уж там покровитель из Леонтьева — лишь на четыре года старше, ни имени, ни книг, но уже печатался в «Звезде», а в том журнале ведает поэзией как раз Пурин, Алексей Арнольдович. Виртуозный поэт, кстати.
Некоторые подробности этих отношений — в письме Алексея Пурина ко мне (сентябрь 2014-го):
В первый же день мы с Б. Р. повздорили (вероятно, он услышал покровительственные нотки в моем голосе; на следующий день нас помирил Саша <Леонтьев>). С этим смешным событием связан мой стишок, опубликованный позже, кажется, в «Октябре» с инициалами в посвящении, на что Б. Р. все же обиделся и сочинил стих-ние «Почти случайно пьесу Вашу…». <…>
Его бесило (конечно, это я узнал потом — из писем Б. Р. к А. Л<еонтьеву>), что первая подборка была напечатана лишь через год (вообразите!), а вторая тоже тянулась, но так и не была опубликована в «Звезде»: в расширенном виде он отдал ее Ольге Юрьевне (Ермолаевой. — И. Ф.), когда и у нас все решилось в его пользу. Да и альманах «Урби» (наш) его напечатал. <…>
У меня есть некоторое количество его писем. Публиковать их невозможно: они полны нелестных высказываний о третьих лицах. Я читал его письма «третьим лицам», там есть много крайне нелестных высказываний обо мне. <…>
Да, стоит добавить: вероятно, я видел Б. Р. в Петербурге раз восемь, примерно. Иногда выпивали, иногда он «лечился», но НИ РАЗУ не видел его «не в форме» и даже «возбужденным»! (Даже на Фестивале поэтов 1999 г., кажется, но могу ошибиться. Только — в Нижнем Новгороде, увы.) <…>
Мне очень хочется восстановить правду отношений Рыжего и Леонтьева.
Все теперь хотят быть «учителями» Б. Р! Но им был ТОЛЬКО А. Ю. (Александр Юрьевич Леонтьев. — И. Ф.). И двигал «в литературу» Б. Р. всегда, пока тот не оперился, сами знаете до какой степени. (И тогда А. Ю. стал ему не нужен.)
Например такая история.
В 1998 г. была «малая» поездка питерских литераторов на Роттердамский поэтический фестиваль (вне Большого Ежегодного (летнего) фестиваля, зимой). Арьев, Лурье, Стратановский, Шварц и я. По итогам ее Татиана Данн, куратор тогда фестиваля, спросила Арьева, кого из русских пригласить на Большой (видимо, была продолжительная «дырка» в общении с Россией). Арьев спросил у меня, тонко намекнув, что хотят поэта МОЛОДОГО. «Так Леонтьева!» — сказал я. Всё чудом сбылось — и Саша поехал туда в 1999-м.
Но я не о том, как Леонтьев там чудесно оказался, а о том, что он сделал. Оказалось, что участники этого фестиваля пишут потом две фамилии будущих претендентов. Леонтьев написал Рыжего и меня (вероятно, в такой последовательности). Машина сработала железно. В 2000-м поехал Б. Р. с Рейном (Рейна приглашали как почетного гостя), а в 2001-м — я. <…>
Не хвастаюсь, но в 2001-м на этом фестивале специально несколько минут было посвящено памяти Б. Р. Я прочел его стихи, а Ханс Боланд — переводы.
Фотограф (а там всех участников портретируют) спросил меня: «Раша?» И на полунемецком-полуанглийском мы обсудили, каков был Б. Р. «Зээр штарк манн!»[10] — сказал фотограф.
Непростая история. К эпистолярным свидетельствам А. Пурина стоит добавить его же стиховое:
(Он меня недолюбливал — и поделом: мне смешно, если дразнят гусей… Но со смертью его все на свете на слом вдруг пошло с очевидностью всей.)У Рыжего во время первых посещений Питера были только стихи такого толка («Трубач и осень»):
Полы шляпы висели, как уши слона. А на небе горела луна. На причале трубач нам с тобою играл — словно хобот, трубу поднимал. Я сказал: посмотри, как он низко берёт, и из музыки город встаёт. Арки, лестницы, лица, дома и мосты — неужели не чувствуешь ты? Ты сказала: я чувствую город в груди — арки, люди, дома и дожди. Ты сказала: как только он кончит играть, всё исчезнет, исчезнет опять. О, скажи мне, зачем я его не держал, не просил, чтоб он дальше играл? И трубач удалялся — печален, как слон. Мы стояли у пасмурных волн. И висели всю ночь напролёт фонари. Говори же со мной, говори. Но настало туманное утро, и вдруг всё бесформенным стало вокруг — арки, лестницы, лица, дома и мосты. И дожди, и речные цветы. Это таял наш город и тёк по рукам — навсегда, навсегда — по щекам. 1994, сентябрьОн тогда питал слабость к слонам — вспомним стихи о Велимире Хлебникове.
Да, Леонтьев привел Рыжего к Пурину. Надо сказать — и они сейчас говорят об этом, — что ошеломительности открытия оба не испытали, все было проще и скромней: появился парень с хорошими стихами, умеющий много и много обещающий. Нет, не гений, не чудо… не Есенин, словом. Леонтьев говорит: он услышал в Рыжем интонацию. Интонация. Да, в этом дело. Поэт есть интонация.
Потому что интонация стихов должна быть правдивой — и красивой — и похожей на автора. Значит, стихи удаются, только когда поэт чувствует (знает), что он прав. Что совесть чиста. Ему надо любить себя — или хотя бы жалеть. В противном случае не пишется. Иному — и не живется (Лурье С. Поэт Рыжий — синие облака // Русский журнал. 2003. 21 июля).
В этот день — 8 сентября 2014 года — в Челябинске открылась памятная доска Рыжему. А накануне в Нью-Йорке на пересечении 108 Street и 63 Drive появилась табличка с именем Sergei Dovlatov Way. Кстати, в Питере на улице Рубинштейна давно (с 2007 года) висит доска с профилем Довлатова — нос картошкой (довольно большой), по автошаржу.
Сближения нарастают. Некоторые — изумляют.
8 сентября 1914-го Александр Блок написал знаменитые стихи:
Рожденные в года глухие Пути не помнят своего. Мы — дети страшных лет России — Забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы! Безумья ль в вас, надежды ль весть? От дней войны, от дней свободы — Кровавый отсвет в лицах есть. Есть немота — то гул набата Заставил заградить уста. В сердцах, восторженных когда-то, Есть роковая пустота. И пусть над нашим смертным ложем Взовьется с криком воронье, — Те, кто достойней, Боже, Боже, Да узрят царствие твое! («Рожденные в года глухие…»)Сказано, к сожалению, на все времена, то есть, увы, навсегда актуально. В 1997-м Рыжий написал стихотворение «А. Блок»:
…Дописав письмо Борису, из окошка наблюдал, как сиреневую крысу дворник палкой убивал. Крыса мерзкая пищала, трепетала на бегу, крысьей крови оставляла красной пятна на снегу. Дворник в шубе царской, длинной величав, брадат, щекаст — назови его скотиной, он и руку не подаст.У дома Блока на берегу Пряжки стоят два высоких тополя, возможно, видевших поэта. Они заглядывают в ту комнату на четвертом этаже, где в стеклянном кубе лежит его посмертная маска, белая и маленькая, остроносая и отчужденная, нагляднее всего подтверждающая его европейское происхождение, антропологическую связь с Дантом и Гёте. Брутально-сиротским лицом Высоцкого торгуют уличные художники на Невском проспекте, а Блок на Офицерской улице жил отшельником, не окружал себя причиндалами декаданса и служения крылато-мраморной Музе — гипсовый бюст Аполлона он разбил перед смертью кочергой, вынув ее из белокафельного камина, пережившего революцию (а позже и блокаду). Он спал в проходной комнатушке за прочной, высокой ширмой пушкинской эпохи, на зеленом сукне компактного стола в его кабинете горела керосиновая лампа. Дом стоит незыблемо, на верху подъезда написано «Лествица № 3 кв. 14, 15, 16, 18, 21, 23». Некоторые квартиры исчезли со временем. Жизнь идет, современность реальна, рядом с блоковской лествицей в подвальном помещении функционирует «Школа причесок».
Сама жизнь работает на понижение, как делал это в стихах Рыжий. Постижение Блока шло через другого друга — Дозморова, ему и посвящено (1997):
Над головой облака Петербурга. Вот эта улица, вот этот дом. В пачке осталось четыре окурка — видишь, мой друг, я большой эконом. Что ж, закурю, подсчитаю устало: сколько мы сделали, сколько нам лет? Долго ещё нам идти вдоль канала, жизни не хватит, вечности нет. Помнишь ватагу московского хама, читку стихов, ликованье жлобья? Нет, нам нужнее «Прекрасная Дама», желчь петербургского дня. Нет, мне нужней прикурить одиноко, взором скользнуть по фабричной трубе, белою ночью под окнами Блока, друг дорогой, вспоминать о тебе! («Над головой облака Петербурга…»)В пандан написано и это:
До утра читали Блока. Говорили зло, жестоко. Залетал в окошко снег с неба синего как море. Тот, со шрамом, Рыжий Боря. Этот — Дозморов Олег — филолог, развратник, Дельвиг, с виду умница, бездельник. Первый — жлоб и скандалист, бабник, пьяница, зануда. Боже мой, какое чудо Блок, как мил, мой друг, как чист. Говорили, пили, ели. Стоп, да кто мы в самом деле? Может, девочек позвать? Двух прелестниц ненаглядных в чистых платьицах нарядных, двух москвичек, твою мать. Перед смертью вспомню это, как стояли два поэта у открытого окна: утро, молодость, усталость. И с рассветом просыпалась вся огромная страна. («До утра читали Блока…», 1997)Дозморов сказал в эссе «Премия „Мрамор“»:
Это благодаря тебе, мальчику со свердловской окраины, блоковская музыка победила все прочие поэтические шумы и стала главной мелодией в эфире русской поэзии прошлого столетия. Это благодаря тебе она закрыла какофонический век, который когда-то открыла с железным скрежетом. Это благодаря тебе я понял и полюбил Блока — лучшего поэта XX века. Это благодаря тебе я стал поэтом, во всяком случае, надеюсь, что стал им или скоро им стану.
На почве Якова Полонского — на его кавказской лирике — Рыжий с Дозморовым выстроили игру — не в солдатики, но в офицеры царской армии, с поручиком в центре, «в духе Дениса Давыдова». Поручик сменил лейтенанта фронтовой плеяды советских поэтов. «Памяти Полонского» (1998):
Мы здорово отстали от полка. Кавказ в доспехах, словно витязь. Шурует дождь. Вокруг ни огонька. Поручик Дозморов, держитесь! Так мой денщик загнулся, говоря: где наша, э, не пропадала. Так в добрый путь! За Бога и царя. За однодума-генерала. За грозный ямб. За трепетный пеон. За утончённую цезуру. За русский флаг. Однако, что за тон? За ту коломенскую дуру. За Жомини, но всё-таки успех на всех приёмах и мазурках. За статский чин, поручик, и за всех блядей Москвы и Петербурга. За к непокою, мирному вполне, батального покоя примесь. За пакостей литературных — вне. Поручик Дозморов, держитесь!
То же самое, та же игра — с Леонтьевым или Пуриным, но уже в пространствах всей отечественной поэзии от Державина и Батюшкова до самих себя. В стихи впущена эдакая изысканность, и на пишмашинке как нарочно ломается буква «х».
Дабы не было никакой двусмысленности, Рыжий, автор альманаха «Urbi», отдельно и неполиткорректно касается темы, в ту пору дразнящей:
Разломаю сигареты, хмуро трубочку набью — как там русские поэты машут шашками в бою? Вот из града Петрограда мне приходит телеграф. Восклицаю: «О, досада!», в клочья ленту разорвав. Чтоб на месте разобраться, кто зачинщик и когда, да разжаловать засранца в рядовые навсегда, (на сукна зелёном фоне орденов жемчужный ряд), в бронированном вагоне еду в город Петроград. Только нервы пересилю, вновь хватаюсь за виски. Если б тиф! «Педерастия косит гвардии полки». («Разломаю сигареты…», 1998)Ничего особенно нового в той офицерской игре не было — совсем недавно, в перестроечные времена, и сладостный тенор Александр Малинин (между прочим, изначально земляк-свердловчанин) источал шлягер о поручике Голицыне, воскресли и запелись старые (1920) стихи белогвардейского поручика Арсения Несмелова «Каждый хочет любить — и солдат, и моряк» в исполнении Валерия Леонтьева, и поручик Лермонтов навсегда был на виду и на слуху, и близкие предшественники в поэзии — недавно молодые Тимур Кибиров с Бахытом Кенжеевым или Львом Рубинштейном, Сергей Гандлевский с Дмитрием Александровичем Приговым — обменивались посланиями в духе приблизительно XIX века.
Стихотворство 1970–1990-х купалось в возможности поговорить на языке предков из не очень отдаленного прошлого — стилизаций седых времен на струнах Средневековья не было: этим занимались поэты шестидесятых, в частности питерец Виктор Соснора на материале «Слова о полку Игореве».
В девяностых Тимур Кибиров написал книгу «Памяти Державина», а Максим Амелин занялся наследием графа Хвостова.
Два поэта, эти или те, — не два ли тополя на берегу Пряжки? Поэты ходят парами.
Некой парой оказались в поэтическом пейзаже Рыжего Кушнер и Рейн. Раньше, до новых времен, в шестидесятых — семидесятых, Александра Кушнера критика сводила с Олегом Чухонцевым по принципу «интеллектуальной поэзии» (и такая была!), и Кушнер не напрасно посвятил Чухонцеву одну из лучших своих вещей — «Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки…».
Новые времена перегруппировали поэтов, ныне у Петербурга два виднейших певца, живые классики, к ним и стремился Рыжий. Правда, на этом пути стояла несколько иная пара: Бродский — Рейн, и в конечном счете Рыжий предпочел Рейна: «Последние стихи Рейна мог бы сочинить Иосиф Александрович, будь он чуточку не душевнее, а человечней и, следовательно, талантливей», а в середине девяностых Кушнер и Рейн были теми именами, к которым влекло неумолимо. Еще восемнадцатилетним он отправил стихи тому и другому (без последствий).
Правда, сам Рыжий поначалу (в письме Кушнеру) выстраивал триаду Кушнер — Рейн — Бродский, и он был по-своему прав. «…Вы, Рейн, Бродский… Воюют только эпигоны, Ваши и Бродского. Мне кажется, вы части одного целого, громадного чего-то».
С Кушнером отношения, начавшиеся в 1995-м, складывались прекрасно, но в мае 2000 года получилось нехорошо. Рыжий явился в кушнеровский дом под градусом, ему — не понимая ситуации — хлебосольно предложили выпить водки, что он и сделал, а потом зарвался, стал фамильярничать (предложил хозяйке дома выйти за него замуж, это шутка), Кушнер по телефону вызвал поэта Михаила Окуня («Вы курируете Рыжего?»), Окунь и гостящий у него Дозморов приехали, Кушнер наскоро проводил их из дому, дав денег на такси, даже с избытком, не зная конъюнктуры цен в таксомоторном бизнесе.
Были и извинения, и прогулки по Таврическому саду, и книги с автографом, и отзывы в печати, вполне комплиментарные. Были и стихи. Такие:
Столичный бард мне сухо говорил, Что я стихи дурные сочинил, А я ему почти не возражал, И как я возразить мог в самом деле, Учитывая то, что Слуцкий жал Ему однажды руку в ЦДЛе. Я пожимал плечами: нет так нет, Он был, конечно, неплохой поэт, Но я его ни разу не читал, А Слуцкий на меня наводит скуку. Но года не прошло с тех пор, и руку Мне Александр Семёныч Кушнер жал. 1997А также такие:
Александр Семёнович Кушнер читает стихи, снимает очки, закуривает сигару. Александр Блок стоит у реки. Заболоцкий запрыгивает на нары. Анненского встречает Царскосельский вокзал. Пушкин готовится к дуэли. Мандельштама за Урал увозит поезд, в окне — снежные ели. Слуцкий выступает против Пастернака, Пастернак готов простить его, а тот болен. Боратынский пьёт, по горло войдя во мрак. Бродский выступает в роли мученика. Александр Семёнович смотрит в окно — единственный солдат разбитого войска, — отвечая жизнью за тех, в чьей смерти вы виноваты. 1997 (?)Слуцкого младой автор ругнул просто так, из лихости. У него будет случай самооправдаться, ведя речь от лица специфического персонажа:
До пупа сорвав обноски, с нар сползают фраера, на спине Иосиф Бродский напортачен у бугра — начинаются разборки за понятья, за наколки. Разрываю сальный ворот: душу мне не береди. Профиль Слуцкого наколот на седеющей груди! 1999Кушнер у Рыжего представительствует от всей русской поэзии. Не менее того. Своей жизнью отвечая за тех, кого убил социум. Так полагал Рыжий, и так ответил ему Кушнер (Новые заметки на полях // Знамя. 2007. № 10):
Борис Рыжий, живший стихами, разговор о них предпочитавший любому другому, в одном из последних своих писем (3 апреля 2001 года) писал мне: «Я сейчас читаю (впервые!) стихи Парнок. Просто потрясен ее поэзией. А то, что Мандельштам стибрил у нее „Налей мне, друг, лучистого, Искристого вина. Смотри, как гнется истово Лакейская спина…“, меня просто шокировало — так вот за что он ее не любил».
В своем ответном письме я эту тему не затронул: вот приедет в Петербург в конце мая (я был уверен, что он получит «Северную Пальмиру»: он ее и получил, но посмертно), тогда и поговорим. Мелодический, напевный характер его стихов, «выводивший их в люди», делавший их запоминающимися и такими привлекательными, был едва ли не решающей особенностью его поэтики. Вот почему он «потрясен» Софьей Парнок, вот почему он прогневался на Мандельштама («стибрил у нее»).
Нет, конечно, ничего не «стибрил». Сочетание четырехстопного ямба с трехстопным — общее достояние. И Мандельштам в своем стихотворении об Александре Герцовиче через голову Софьи Парнок обращается к Лермонтову: «Одну сонату вечную Играл он наизусть…» Шуберт, итальяночка, летящая в санках за Шубертом (эта ассоциация нам знакома и по другим его стихам и прозе, отсылающим к смерти А. Бозио в Петербурге и стихам о ней Некрасова), и еврейская речевая повадка музыканта («Он Шуберта наверчивал, Как чистый бриллиант»), и «шуба», и «вешалка», не говоря о самом главном — теме человеческого одиночества в этом мире, — всё это делает его стихотворение несравненным, «мандельштамовским», ни на что не похожим. Никакого «искристого, игристого вина» у него нет, «все равно» рифмуется не с вином, а с «на улице темно» и «давно»!
В сознании Бориса произошла контаминация, стихи об Александре Герцовиче у него наложились на другое мандельштамовское стихотворение: «…Ой-ли, так ли, дуй-ли, вей-ли, Всё равно. Ангел Мэри, пей коктейли, Дуй вино», написанное совсем в другом, хореическом размере. Да, конечно, Мандельштаму запомнилось стихотворение Софьи Парнок, прочитанное им, по-видимому, за несколько лет до создания двух этих стихотворений, и отзвук ее стихов в них присутствует, но это — обычное дело и никоим образом не заимствование.
Вот о чем мы поговорили бы с Борей, только, наверное, не так подробно: он всё схватывал на лету, с полуслова. И я бы, наверное, пошутил: «Борис, ты неправ».
«Легкие мелодии» хороши, но в стихах большого поэта с ними происходит то же, что с фольклорным напевом в симфонической музыке композитора: они усложняются, «аранжируются», приобретают глубокий смысл. <…>
В один из своих визитов ко мне вместе с Сашей Леонтьевым, поэтом, своим другом, когда, посидев за столом, мы перешли в другую комнату — покурить. Боря с блестящими, «прозрачными», как у Долохова, глазами, спросил меня — и было видно, как это для него важно («Как будто в руку вложена записка — и на нее немедленно ответь»): «Гений и злодейство действительно несовместны или это не так?» Вопрос был задан не случайно, имел под собой реальное основание, конкретный повод, о котором рассказать не могу. И я с полной ответственностью, понимая серьезность «детского» вопроса, ответил: «Несовместны». Он обрадовался этому ответу так, как будто сейчас, в эту минуту, произошло нечто, от чего зависело его отношение к жизни и мирозданию.
Несовместны потому, что без чувства «внутренней правоты» нельзя писать стихи. Несовместны потому, что поэтический дар предполагает особое устройство души. А еще потому, что поэтический труд занимает все мысли, все время: на злодейство просто не остается времени. Но это, конечно, была уже шутка, призванная разрядить и разбавить серьезность разговора.
Ничего странного, все правильно. Рыжий действительно учился у Кушнера, вплоть до построчных совпадений. Сравним. Вот Рыжий:
Я ничего не понимал, но брал на веру, с земли окурки поднимал и шёл по скверу. И всё. Поэзии — привет. Таким зигзагом, кроме меня, писали Фет да с Пастернаком. («Трамвай гремел. Закат пылал…», 1998)А вот его образец, то есть Кушнер:
И этот прыгающий шаг Стиха живого Тебя смущает, как пиджак С плеча чужого. Известный, в сущности, наряд, Чужая мета: У Пастернака вроде взят. А им — у Фета. («Свежеет к вечеру Нева…», 1981)Заметим попутно: фетовская вещь «Фантазия» еще в ранней юности восхитила Бориса, знал наизусть, часто читал вслух и чуть ли не начал жить в стихотворстве со стихотворения «Фет» (1995, ноябрь).
Парадоксально, но уралец Борис Рыжий нашел для самых душещипательных стихов — другой камень («Петербург», 1994):
Я уехал к чёрту в гости, только память и осталась. Боже милый, что мне надо? Боже мой, такую малость — так тихонечко скажи мне страшной ночью два-три слова, что в последний вечер жизни я туда приеду снова. Что, увидев пароходик, помашу ему рукою, и гудок застынет долгий над осеннею Невою. Вспомню жизнь свою глухую — хороша, лишь счастья нету. Камень хладный поцелую и навеки в смерть уеду.Вот вам и отзвук Фета:
Хочу нестись к тебе, лететь, Как волны по равнине водной, Поцеловать гранит холодный, Поцеловать — и умереть! <1862 (?)>С Рейном Рыжего свел все тот же Леонтьев. Это было в апрельской Москве 1997-го. Леонтьев позвонил Рейну: к вам, Евгений Борисович, хотят зайти молодые поэты с Урала. Мастер сказал («проорал»): пусть заходят. Это были Рыжий и Дозморов. Рейн встретил их в прихожей своей квартиры на улице Куусинена: ребята, у меня важное дело («работаю с автором»), поговорим потом как-нибудь. Принял их рукописи и надписал одну свою книжку, принесенную Дозморовым, — «Сапожок» — на двоих. Забавно, что со стихами Рейна познакомил Дозморова как раз Рыжий, в обмен на Слуцкого и Самойлова, открытых ему Олегом.
Действительно, потом они с Рейном разговаривали — и не раз.
Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь, в белом плаще английском уходит прочь. В чёрную ночь уходит в белом плаще, вообще одинок, одинок вообще. Вообще одинок, как разбитый полк: ваш Петербург больше похож на Нью-Йорк. Вот мы сидим в кафе и глядим в окно: Рыжий Б., Леонтьев А., Дозморов О. Вспомнить пытаемся каждый любимый жест: как матерится, как говорит, как ест. Как одному: «другу», а двум другим он «Сапожок» подписывал: «дорогим». Как говорить о Бродском при нём нельзя. Встал из-за столика: не провожать, друзья. Завтра мне позвоните, к примеру, в час. Грустно и больно: занят, целую вас! («Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь…», 1997)Рейн потом говорил о Рыжем много, с похвалами и горечью, устно и письменно. Однажды он назвал Рыжего «любимый ученик», невольно произведя некоторую рокировку: раньше на этом месте был Бродский.
Стихи о Рыжем у Рейна произошли постфактум, после 7 мая 2001 года — «Памяти Б. Р»:
Голландской ночью бестелесной, за баром открывая бар, у входа в новый, бестелесный, но привлекательный угар, я поглядел — ты был усталым и, быстро выдернув банкнот, решил отгородиться малым от всех наитий и забот, от будущего в светлом мраке, от настоящего в пивной, и слепо огненные знаки ты принимал за южный зной. И, смачивая галстук водкой, поэт трагических забав из полупамяти короткой доказывал, что я не прав. И вот в поспешности немилой, заглядывая в окоем, я плачу над твоей могилой меж полной рифмой и рублем.5 октября 2006 года на вечере памяти Бориса Рыжего в екатеринбургском Храме-на-Крови Рейн сказал:
Поэзия — как бы объяснение того, что, по сути дела, объяснить невозможно. В том и состоит удивительное явление Бориса Рыжего, что он сказал это своими единственными словами, оказался той точкой, тем фокусом, в котором сошлись все влияния, все лучи, все необходимости поэзии, — и сказал удивительно внятно, одновременно грубо и нежно, демократично и аристократично.
Почему — такой зал, почему у стены стоят люди? Значит, это нужно. Поэзия, мне кажется, живет некими приливами и отливами: то она собирает сотни тысяч людей на стадионах, ей аплодируют, то вдруг она куда-то отодвигается — к знатокам, к каким-то снобам, каким-то ювелирам, но она никогда не исчезает. Зачем она нужна? Потому что без нее непонятно, зачем и для чего жить, непонятно время, непонятны и грубые вещи, и философские вопросы. То есть мир расплывается, а потом — опять сужается в формулу. Что это за формула? Это — «двух соловьев поединок», какая-то «льдинка на ладони», как написано в стихах Пастернака.
На моей памяти были шестидесятые годы с ревущими стадионами, потом — очень талантливые, изысканные шутки авангардистов. И тут поэзия обмелела. Стихи Рыжего — надежда на новое воскресение поэзии. Это невероятно важно. Я видел его, может быть, раз десять-двенадцать в жизни. Он был человек образованный, человек глубокой мысли, и одновременно он нес в себе всю надломленность, обреченность, трагичность времени, и за это поплатился. Это и был разрыв времени, вывих века, и это непреходящая, но совершенно естественная трагедия, над которой надо и зарыдать, и задуматься.
Невероятно важная фигура для нашей поэзии…
В сентябрьские дни 2014-го в Сети появилась петиция к властям Екатеринбурга, то бишь к мэру Ройзману и депутатам местной думы:
Улица, на которой вырос Борис, носит имя космонавта Германа Титова, но вокруг, по всему району, улицы носят имена негромкие, простые — Агрономическая, Военная, Умельцев, Далекая, Листопадная. <…>
Уважаемый мэр Екатеринбурга, уважаемые депутаты Екатеринбургской городской думы! Просим вас рассмотреть возможность переименования одной из улиц Вторчермета в честь вашего земляка и нашей общей гордости — поэта Бориса Рыжего.
Александр Леонтьев с некоторым опозданием наткнулся на этот текст, а когда подписался, выяснилось, что он стал ровно тысячным подписантом, закрыв необходимый список, — что и требовалось доказать. Символизм существует.
Вечером, когда нас с Пуриным и Леонтьевым занесло в одну полувеселую компанию, Леонтьев, стоя у обильного стола, дрогнувшим голосом прочел стих Рыжего:
Не покидай меня, когда горит полночная звезда, когда на улице и в доме всё хорошо, как никогда. Ни для чего и низачем, а просто так и между тем оставь меня, когда мне больно, уйди, оставь меня совсем. Пусть опустеют небеса. Пусть станут чёрными леса. Пусть перед сном предельно страшно мне будет закрывать глаза. Пусть ангел смерти, как в кино, то яду подольёт в вино, то жизнь мою перетасует и крести бросит на сукно. А ты останься в стороне — белей черёмухой в окне и, не дотягиваясь, смейся, протягивая руку мне.Компания задумалась и загрустила.
Градостроительный язык Петербурга сложен, но его синтаксис прост, если не прямолинеен. Кушнер в молодости следует заповеданным правилам этой речи:
Как клен и рябина растут у порога, Росли у порога Растрелли и Росси. И мы отличали ампир от барокко, Как вы в этом возрасте ели от сосен. Ну что же, что в ложноклассическом стиле Есть что-то смешное, что в тоге, в тумане Сгустившемся, глядя на автомобили, Стоит в простыне полководец, как в бане? А мы принимаем условность, как данность. Во-первых, привычка. И нам объяснили В младенчестве эту веселую странность, Когда нас за ручку сюда приводили. И эти могучие медные складки, Прилипшие к телу, простите, к мундиру, В таком безупречном ложатся порядке, Что в детстве внушают доверие к миру, Стремление к славе. С каких бы мы точек Ни стали смотреть — все равно загляденье. Особенно если кружится листочек И осень, как знамя, стоит в отдаленье. («Как клен и рябина растут у порога…», 1970-е)Иное дело — Бродский. Его город мятется, сумбурно меняется, отказывается от статики:
…а Петербург средины века, адмиралтейскому кусту послав привет, с Дзержинской съехал почти к Литейному мосту… («Петербургский роман», 1961)Фактически это сам Бродский съехал в 1955-м почти к Литейному мосту, в пышно-каменный дом Мурузи, где некогда обитала, среди прочих, чета Мережковских, о чем пятнадцатилетний подросток мог еще и не знать, да и про генерала Рейна, владевшего домом до революции, вряд ли ему было известно. Да и Дзержинский оказался рядышком — «Большой дом» КГБ. До 1972-го они соседствовали по принципу «сосед — друг человека». Именно здесь этому «Рыжему» начали делать карьеру.
В январе 1996 года Бориса Рыжего, как многих, постигло потрясение, вызванное уходом Бродского («На смерть поэта»):
Дивным светом иных светил озарённый, гляжу во мрак. Знаешь, как я тебя любил, заучил твои строки как. …У барыги зелёный том на последние покупал — бедный мальчик, в углу своём сам себе наизусть читал. Так прощай навсегда, старик, говорю, навсегда прощай. Белый ангел к тебе приник, ибо он существует, рай. Мне теперь не семнадцать лет, и ослаб мой ребячий пыл. Так шепчу через сотни лет: «Знаешь, как я тебя любил». Но представить тебя — уволь, в том краю облаков, стекла, где безумная гаснет боль и растут на спине крыла.Вряд ли Петербург ощущался Рыжим как город-призрак — напротив, это был целостный ансамбль, пламенно яркий и скульптурно законченный. Язык Бродского — прежде всего петлистый, многоверстный синтаксис, порожденный противостоянием обольшевиченному городу и расхристанному миру, — новый поэт не мог наследовать по причине окраинного происхождения и той смешанной речи, что настигала его не только во дворе, но лилась отовсюду, в том числе из радиоэфира — известной песенкой, допустим, с ее мещанско-пролетарской спецификой:
Вот эта улица, Вот этот дом, Вот эта барышня, Что я влюблен.И вот эта улица залетает в стихи о Блоке («Над головой облака Петербурга…»).
В самых лучезарных вторчерметовских снах Боря не смог бы увидеть ни этого пышно-каменного дома, ни прямой дороги из дому по улице Пестеля до храма Спаса-на-Крови, ни поворота направо на Моховую, к журналу «Звезда».
Бродский в юности знался с Николаем Рубцовым. Борис наверняка помнил, что вдоль берегового гранита Невы ходил и Рубцов. Казалось бы — другой литлагерь, другая улица, другой конец русского стихотворства. Но Рыжий не отворачивался от других. Сам был частично такой же, откуда-то издалека.
Но связь этих улиц-концов не пресечь. У Бродского в 1962 году — ему двадцать два — появилась вещь замечательная (очевидным образом перекликающаяся с «Лесным царем» Гёте — Жуковского):
Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам, вдоль березовых рощ, отбежавших во тьме, к треугольным домам, вдоль оврагов пустых, по замерзшей траве, по песчаному дну, освещенный луной, и ее замечая одну. Гулкий топот копыт по застывшим холмам — это не с чем сравнить, это ты там, внизу, вдоль оврагов ты вьешь свою нить, там куда-то во тьму от дороги твоей отбегает ручей, где на склоне шуршит твоя быстрая тень по спине кирпичей. Ну и скачет же он по замерзшей траве, растворяясь впотьмах, возникая вдали, освещенный луной, на бескрайних холмах, мимо черных кустов, вдоль оврагов пустых, воздух бьет по лицу, говоря сам с собой, растворяется в черном лесу. Вдоль оврагов пустых, мимо черных кустов, — не отыщется след, даже если ты смел и вокруг твоих ног завивается свет, все равно ты его никогда ни за что не сумеешь догнать. Кто там скачет в холмах… я хочу это знать, я хочу это знать. («Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам…»)Чуть не сразу — то ли в 1963 году, то ли в 1964-м Рубцов откликается:
Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны, Неведомый сын удивительных вольных племен! Как прежде скакали на голос удачи капризный, Я буду скакать по следам миновавших времен… Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность И сам председатель плясал, выбиваясь из сил, И требовал выпить за доблесть в труде и за честность, И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил! И быстро, как ласточка, мчался я в майском костюме, На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке, А мимо неслись в торопливом немолкнущем шуме Весенние воды, и бревна неслись по реке… Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно Во мгле над обрывом безвестные ивы мои! Пустынно мерцает померкшая звездная люстра, И лодка моя на речной догнивает мели. И храм старины, удивительный, белоколонный, Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, — Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны, Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей! О, сельские виды! О, дивное счастье родиться В лугах, словно ангел, под куполом синих небес! Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица, Разбить свои крылья и больше не видеть чудес! Боюсь, что над нами не будет таинственной силы, Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом, Что, все понимая, без грусти пойду до могилы… Отчизна и воля — останься, мое божество! Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды! Останься, как сказка, веселье воскресных ночей! Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы Старинной короной своих восходящих лучей!.. Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье И тайные сны неподвижных больших деревень. Никто меж полей не услышит глухое скаканье, Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень. И только, страдая, израненный бывший десантник Расскажет в бреду удивленной старухе своей, Что ночью промчался какой-то таинственный всадник, Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей… («Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…»)Борис Рыжий не открывал тему окраины. Это уже было до него. Друг Рубцова, Анатолий Передреев, при жизни (1932–1987), надо сказать, большой буян, красавец и горемыка, сказал как спел:
Околица родная, что случилось? Окраина, куда нас занесло? И города из нас не получилось, И навсегда утрачено село. Взрастив свои акации и вишни, Ушла в себя и думаешь сама, Зачем ты понастроила жилища, Которые ни избы, ни дома?! Как будто бы под сенью этих вишен, Под каждым этим низким потолком Ты собиралась только выжить, выжить, А жить потом ты думала, потом. Окраина, ты вечером темнеешь, Томясь большим сиянием огней, А на рассвете так росисто веешь Воспоминаньем свежести полей. И тишиной, и речкой, и лесами, И всем, что было отчею судьбой… Разбуженная ранними гудками, Окутанная дымкой голубой! <1960-е >Во многом окраинные стихи писал и Олег Чухонцев («Я из темной провинции странник»). Кушнер предлагал Рыжему познакомить его с Чухонцевым еще и потому, что тот возглавлял отдел поэзии в «Новом мире». Что-то удерживало Бориса, он считал, что спешить не надо, всему свой час.
Ни малейших признаков традиционного почвенничества у Рыжего не найти днем с огнем. Было другое, то, о чем сказал Лермонтов («Родина», 1841):
Проселочным путем люблю скакать в телеге И, взором медленным пронзая ночи тень, Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, Дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, В степи ночующий обоз И на холме средь желтой нивы Чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, Я вижу полное гумно, Избу, покрытую соломой, С резными ставнями окно; И в праздник, вечером росистым, Смотреть до полночи готов На пляску с топаньем и свистом Под говор пьяных мужичков.То, что гениально повторил Некрасов в малоизвестном шедевре «Дома — лучше!» (1868);
В Европе удобно, но родины ласки Ни с чем несравнимы. Вернувшись домой, В телегу спешу пересесть из коляски И марш на охоту! Денек не дурной, Под солнцем осенним родная картина Отвыкшему глазу нова… О матушка Русь! ты приветствуешь сына Так нежно, что кругом идет голова! Твои мужики на меня выгоняли Зверей из лесов целый день, А ночью возвратный мой путь освещали Пожары твоих деревень.Эти-то мужички-мужики в другом обличии и населяли Вторчермет Бориса Рыжего.
Много ли у Рыжего стихотворений о Петербурге или тех, что с ним связаны так или иначе? В общем-то немало, если считать по годам;
1994:
Трубач и осень
«Уток хлебом кормила с руки…»
«Я скажу тебе тихо так, чтоб не услышали львы…»
Бледный всадник
Над красивой рекой
«Словно уши, плавно качались полы…»
Трубач на площади Было в Петербурге
«Мой ангел, запомни меня на фоне фонтана…»
1995:
«Это — мраморный старый фонтан…» Петербург («…Фонари — чья рука…»)
За чугунной решёткой
«…Дайте руку, неведомый друг…»
«Штукатурка отпала…»
Летний сад Музыкант и ангел
«Уток хлебом кормила с холодной руки…»
Этюдики
Скверик с фонтаном
Вот чёрное
Фотография
Первый снег
1996:
Вдоль канала
Царское Село
Бар «Трибунал»
Петербург («…Распахни лазурную шкатулку…»)
«Над домами, домами, домами…»
Фотография
Чёрная речка
С любовью
Новая Голландия
«Ты скажешь, что это поднялся туман…»
1997
«Над головой облака Петербурга…»
«Молодость, свет над башкою, случайные встречи…»
«„В белом поле был пепельный бал…“»
«…Дым из красных труб…»
«Почти случайно пьесу Вашу…»
«Поэзия должна быть странной…»
«Вот в этом доме Пушкин пил…»
В гостях
Другу-стихотворцу
«Под чёрным небом Петербурга…»
Первый удар
«Над саквояжем в чёрной арке…»
«Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь…»
1998:
«Разломаю сигареты…»
Из биографии гения
Стихи уклониста Б. Рыжего
Петербургским корешам
А. Пурину при вручении бюстика Аполлона и в связи с днём рождения
Сентиментальное послание А. Леонтьеву…
1999:
«На фоне гранёных стаканов…»
Сорок два стихотворения? Возможно. Что-то еще есть наверняка, но затерялось среди массы строк на иные темы. Да и те стихотворения, что перечислены здесь, во многом взаимонабросочны, перетекают одно в другое. Стоит взглянуть в этом свете на такую вещь, как «Музыкант и ангел»:
В старом скверике играет музыкант, бледнолицый, а на шее — чёрный бант. На скамеечке я слушаю его. В старом сквере больше нету никого, только голуби слоняются у ног да парит голубоглазый ангелок. …Ах, чем музыка печальней и страшней, тем крылатый улыбается нежней. 1995, августЭто определенно набросок, этюд, эскиз, невольная заготовка будущего стихотворения «Над саквояжем в чёрной арке…». И музыкант (саксофонист), и черный бант — те же. Только сквер заменен парком да ангелок-голубок не перелетел в другое стихотворение. Питерские стихи Рыжего, ограничься он ими, не дали бы русской поэзии нового, удивительного пополнения. На этом уровне, за исключением двух-трех-четырех вещей, умели писать относительно многие талантливые стихотворцы — легко и даже вдохновенно. Были ведь «ленинградская школа» и ее наследники.
За всем этим должно было последовать другое, абсолютно свое, что исподволь и произошло чуть позже. Был освоен инструментарий, выражающий прямое восхищение красотой бытия. Была найдена та нота, звучание которой гармонизировало контраст двух бургов, Екатерины и Петра, двух картин действительности. Без петербургского пласта не состоялась бы миссия певца окраины. Правда, написанное позже высвечивает и приподнимает ранние опыты.
В общем и целом все это — элегическая акварель, и все эти стихи можно собрать в книгу или как минимум в цикл — жанр, в котором повторы естественны и законны. Только в «Бледном всаднике» автор демонстрирует бурную ритмику, помесь Брюсова с Бродским (кстати, поэтов родственных по силе рацио над словесным потоком), остальное — легкая печаль, тоска по красоте, любви и гармонии. Таково было внутреннее состояние молодого жильца академической гостиницы на улице Миллионной, два-три раза в год наезжающего в город на Неве.
Есть такие стихи у Рыжего — «Дружеское послание А. Кирдянову»:
С брегов стремительной Исети к брегам медлительной Невы я вновь приеду на рассвете, хотя меня не ждёте Вы. Как в Екатеринбурге скучно, а в Петербурге, боже мой, сам Александр Семёныч Кушнер меня зовёт к себе домой. Сам Алексей Арнольдыч Пурин ко мне является с дружком — и сразу номер мой прокурен голландским лучшим табаком. Сам Александр Леонтьев, Шура, с которым с детства я знаком, во имя Феба и Амура меня сведёт в публичный дом. Меня считаете пропойцей вы, Алимкулов Алексей, мне ничего не остаётся, как покориться форме сей. Да, у меня губа не дура испить вина и вообще. Всё прочее — литература. Я вас любил, любовь… Еще: что б вы ни делали, красавцы, как вам б страдать ни довелось, рождённы после нас мерзавцы на вас меня посмотрят сквозь. 1998На мое обращение к Алексею Кирдянову я получил печальный ответ:
Приятно, что Вы ко мне обратились. Действительно, мне поступали предложения насчет воспоминаний о Борисе Рыжем, но эта тема для меня всегда была очень непростой, слишком личной, и я отказывался от любых разговоров на эту тему, но в начале этого года я все же решил что-то написать, скорее для себя, и начал изучать материалы, связанные с Б. Р. в Инете, и, к сожалению, нашел не самые лицеприятные тексты для меня, и поэтому как-то желание исчезло что-то хорошее о нем вспоминать. Но потом, особенно исходя из того, что из-за здоровья мне и самому осталось недолго быть (у меня есть приблизительно один год), то я мог бы ответить на некоторые вопросы. И я даже уже вел предварительные переговоры на эту тему с местными блогерами, они рады были бы опубликовать, но, к сожалению, не располагают ни средствами, ни желанием на определенные изыскания. Причем самому мне писать крайне сложно из-за того, что я занят ускоренным изданием собственных произведений (в первую очередь стихотворных), кому они, правда, нужны, кроме меня? — но тем не менее своя рубашка, как говорится, ближе к телу. Думаю, что я могу наговорить на пленку и затем уже в электронном виде выслать Вам. Но единственно хотелось бы, чтобы вопросы задавал собеседник. Попробую его отыскать здесь. Такой вот расклад, напишите ваше видение, как бы вы хотели организовать эту работу? Что касается текстов, то есть только несколько моих стихотворений, связанных с Борисом, письма его ко мне, одно мое к нему (копия), один машинописный текст его стихотворения, несколько фотографий с ним и сделанных им, а также мои упоминания о нем в письмах к. А. Пурину, в том числе одно крайне эмоциональное, вызванное его дневником. Вот, собственно, и все.
Я не дождался обещанного. Но дело, может быть, не в этом. Важно другое. На Бориса многие обиделись, он вел себя неровно, высказывался неосмотрительно, со многими порвал. Многое обнаружилось в посмертных публикациях. Однако практически все, простив всё, согласились принять участие в этой книге.
Новогиреево. Это район Москвы, где в январе 2001-го на съемной квартире Рыжий и Леонтьев, когда перед отъездом Бориса они выпили шампанского и Борис заказал такси до вокзала, поклялись друг другу наподобие Герцена и Огарева — Рыжий тогда получил премию «Антибукер», но голова у него не кружилась, он трезво сказал Леонтьеву:
— Давай, Саша, кто бы из нас ни умер раньше, не будем писать мемуары друг о друге.
Леонтьев согласился. Переписка их продолжалась, у Леонтьева сохранилось больше сотни писем Бориса. Это часть той памяти, на которую наложен запрет. Но никто не запрещал писать стихи. Александр Леонтьев:
Снег не падал тут в мае — с Победы Сорок пятого, как говорят. Эти летние туфельки, кеды… Невеселый в Свердловске парад. Алый бархат — казеннее нету — И тюльпаны, что втоптаны в грязь. Я-то думал, иначе приеду: Не за гробом с толпой становясь. И мычащее «мы» здесь уместней, Чем на сходках людской чепухи. Так народной становятся песней Безымянные чьи-то стихи. Только красное с черным на фоне Полулета и полузимы. Хоронили поэта в законе Полуволи и полутюрьмы. А снежок этот — весточка, что ли… Рад бы верить, да боль не дает. Утешенье — в самой этой боли: Жить не стоит, а хочется, вот. Даже лучше, что было похоже На парад: тем достойней вытье. Это чистая лирика, Боже. Как слеза. Да почище ее. («Снег не падал тут в мае — с Победы…», 2001)В книге «Венок Борису Рыжему» (Екатеринбург: Издательский дом «Союз писателей», 2008) напечатано двенадцать стихотворений Александра Леонтьева (тринадцатое приписано другому автору). Алексей Пурин представлен двумя вещами (большое стихотворение «На смерть Б. Р.» состоит из десяти восьмистиший). Процитирую целиком вторую часть двухчастного стихотворения, опубликованного недавно (Знамя. 2013. № 4):
Будет слава и слева и справа — то, чего так хотелось, поэт: лава славы, обвал и облава, — торжествуй! Но тебя уже нет. Ты ль, зарытый на Нижнеисетском, соснам, к небу шагающим, брат, этим фишкам фортуны и нецкам всепризнанья загробного рад? Понесут, раздевая, на сцену и споют пропитым голоском… До того ли холодному тлену, что в пылающих безднах иском? …Сложно вычленить верное чувство: обольститель скорее, чем друг, ты любил беззаветно искусство обольщенья из здешних наук. То есть — лирику. Вышло неплохо. Плюс закрытая с грохотом дверь… На бессонной позиции Блока ты командуешь ротой теперь?В этих стихах Пурин подтверждает мысли своего эссе о Рыжем (Звезда. 2001. № 7):
«Музыка» — вообще частое слово в его стихах. Поэт — согласно Рыжему — это тот, кто при помощи «смертных слов» очищает от грязи и возносит к небесам пошловатый мотивчик действительности. Но мотивчик, на который кладутся слова, да и сами слова все равно нужно брать у жизни, какой бы убийственно жалкой она ни казалась… На примере этого странного перерождения символистской идеи о «двоемирии», дважды перевернутой линзами акмеизма и сюрреализма, отчетливо видно, что большой стиль, имеющий свой исток в начале прошлого века, далеко еще не исчерпан в нашей поэзии. Проще говоря, блоковская линия еще отнюдь не завершена, «все банальности „Песен без слов“» (фортепианный цикл Ф. Мендельсона, упомянутый Георгием Ивановым в стихотворении «Я люблю безнадежный покой…». — И. Ф.) далеко еще не пересказаны русскими поэтами.
…Плохой репродуктор фабричный, висящий на красной трубе, играет мотив неприличный, как будто бы сам по себе… Крути свою дрянь, дядя Паша, но, лопни моя голова, на страшную музыку вашу прекрасные лягут слова. («Еще не погаснет жемчужин…», 1997)…Он совсем не таков, каким может показаться неискушенному или невнимательному читателю. Многие сегодняшние поклонники его таланта не способны расслышать высокие регистры его голоса, различить тонкие модуляции этой поэзии — они довольствуются ее поверхностным слоем, звучаньем «блатной музыки» или «есенинской ноты»… Не припоминаю, кстати, чтобы Рыжий говорил что-либо о Есенине (а, по-моему, лишь о стихах он и говорил — о чем же еще?) — разве что высказывал справедливую мысль: все лучшее в Есенине — от Блока, а раз так — вернемся к первоисточнику… Разумеется, «жизнестроительство» было ему не чуждо, а хулиганский жаргон и приблатненный лирический герой — не просто модный «прикид»; что-то такое, конечно, наличествовало в составе его крови, в «свалке памяти», в психике, расщепленной выморочным советским отрочеством. Только экзистенциальная бездна, раскрывающаяся за лучшими стихотворениями Рыжего, — иного качества и размаха, иного масштаба: не та, что сквозит в тоскливой зэковской песенке, а та, что разверста для нас Ломоносовым.
…Не гляди на меня виновато, я сейчас докурю и усну — полусгнившую изгородь ада по-мальчишески перемахну.В письме ко мне от 2 сентября 2014-го Алексей Пурин замечает вдобавок к вышесказанному: «Кстати, недавно перечитывая молодого Евтушенко, увидел там много параллелей с Б. Р.».
Вернувшись из Питера домой, в Москву, я получил письмо от Александра Кушнера — ответ на мое письмо к нему накануне визита в его город:
Здравствуйте, Илья. Отвечаю на Ваше письмо не сразу, потому что только вчера вернулся в город (уезжал на две недели). Буду рад, если о Боре Рыжем выйдет Ваша книга в ЖЗЛ. Я любил стихи Бори, и вообще он был мне очень дорог.
Высылаю Вам нашу переписку с моим комментарием к этим письмам. Кажется, она была где-то опубликована, не помню, где (в книге Бориса Рыжего «Оправдание жизни» — Екатеринбург: «У-Фактория», 2004. — И. Ф.). Если Вы ее не читали, может быть, она вам пригодится.
Я ответил:
Спасибо, А. С., был я на днях в Питере, который оказался намного прекрасней, чем 15 лет назад, когда там происходило что-то губернаторско-пушкинское во главе с несчастной Беллой Ахмадулиной в большой белой шляпе, царствие ей небесное.
Вам звонил, но знал, что Вас нет. Повидал Леонтьева да Пурина, да и мельком Гордина. Люди хорошие — в том смысле, что не пустое место насчет моего героя. Ваш подарок — письма Бори — бесценен, наверно. Надо посмотреть, чтоб не переболтать — набирая объем текста за счет писем… У меня нет гиперболических эпитетов относительно БР. Но какой-то исторический узел тут есть, что-то произошло в этом явлении, ей-богу, да и слова он умел ставить так, что это было стихом.
Краткое пояснение «губернаторско-пушкинского». Я тоже участвовал в Международном конгрессе поэзии 1999-го, посвященном 200-летию Пушкина. Это было суперофициальное, гиперпомпезное мероприятие. Питерская власть в лице губернатора — крупного мужчины с лицом молотобойца — демонстрировала добротный костюм и пластику а-ля Мариинка, прикладываясь к ручке измученной от перебора публичности Беллы Ахмадулиной. Каждый день она меняла наряды. Но шляпа оставалась одной и той же — очень большой. Или все ее шляпы были столь масштабны. Казалось, торжество адресовано именно ей, а все остальное — включая Пушкина — сбоку припека. На высокой сцене, установленной на площади Искусств, губернатор рассыпался в любезностях перед царицей бала, а в толпе незаметно и молча стоял Кушнер — первый поэт города.
Писем Рыжего Кушнеру девять плюс два письма поэту Елене Невзглядовой, жене Кушнера. Прочтем это:
Дорогой Александр Семёнович!
Высылаю вам «знаменскую» (журнал «Знамя». 2001. № 6. — И. Ф.) вёрстку. Что скажете? Честно говоря, что касается меня, я слегка огорчён — мне казалось, что стихи эти иные, нежели те, что я писал прежде… Оказывается, ничего подобного. Да и на строфы в «Знамени» почему-то не делят. И выстроил бы я подборку иначе. Я бы «рубашку в клеточку» поставил первым.
У меня неприятности в семье сродни Сашиным (А. Леонтьев. — И. Ф.), только инициатива развода идёт с другой стороны. Вот уже месяц пытаюсь всё наладить, но тщетно. Тщетно — бегаю, как мальчишка, унижаюсь, взываю хотя бы к разуму. Но это я так, к слову. В остальном, если есть это остальное, всё хорошо, даже пишу и много читаю.
Простите мне эту минорную интонацию, ничего с собой не могу поделать. Всё как-то рухнуло разом: переписка с Сашей Леонтьевым, сладко-больное ожидание признания, молодость, наконец; — всё, я уже смеюсь.
Ваши стихи в «Литературке» великолепны. Много бы я отдал, чтоб написать что-то подобное. Но звучит у меня в голове вот уже больше месяца стихотворение «Дослушайте…» (вариация Кушнера на тему Маяковского «Послушайте!». — И. Ф.). Правда, я живу с ним это время.
В середине или конце мая, если будут деньги, обязательно приеду в Ваш город. По Вам с Еленой Всеволодовной очень скучаю. По городу тоже.
Александр Семёнович, всего Вам самого наилучшего, Елене Всеволодовне — низкий поклон.
С глубоким уважением, Ваш Борис Рыжий. Апрель 2001.
Ответ Кушнера по электронной почте 24 апреля 2001 года:
Дорогой Боря! Ваша подборка в «Знамени» очень хорошая. Вот главная особенность Ваших стихов — они живые. Это редкое качество, и, может быть, единственное, делающее стихи стихами.
Ведь так часто приходится читать стихи, в которых есть всё: ум, аллюзии, всё модное слововерчение и т. д., а душа к ним не лежит, — они мертвые. В таких случаях я испытываю нечто вроде того, что у Толстого чувствовал художник Михайлов, глядя на живопись Вронского: нельзя возражать, если человек напротив тебя на скамье целует восковую куклу, как живую возлюбленную, — но противно. Особенно мне понравились «Рубашка в клеточку» и «Зеленый змий». Но и другие тоже, в частности «На смерть Р. Т.», «Отмотай-ка жизнь мою назад», «Завидуешь мне…», «В Свердловске живущий», «Если в прошлое, лучше трамваем» — в этом стих-нии не забудьте исправить «на зубах этих дядям» (надо: «на зубах этим дядям»). Во всех стихах есть что-то новое, по сравнению с прежними: они повзрослели, если так можно сказать о стихах; в них больше печали (не заемной, общепоэтической, а своей). Е. В. присоединяется к моему мнению и шлет Вам самый нежный привет.
Вы меня огорчили своей невеселой новостью. Что делать? Я бы с радостью поручился за Вас, но понимаю, что такое поручительство смешно и не нужно. Только, пожалуйста, не сорвитесь, не запейте! Это главное, это было бы с Вашей стороны предательством самого себя. Обнимаю. Ваш А. К.
Комментарий Александра Кушнера:
Последний раз Борис позвонил мне за несколько дней до гибели. Он вообще звонил гораздо чаще, чем писал (например, в 1998 и 99 году наше общение в основном состояло из телефонных разговоров). В последнем телефонном разговоре я успел сказать ему, что почти уверен в том, что он получит премию «Северная Пальмира». Так и случилось, но он об этом уже не узнал.
Борис как поэт рос быстро и замечательно менялся, прежняя манера и тематика, принесшая ему успех, казалась ему уже недостаточной; естественность и непринужденность его поэтической речи сочеталась с интеллектуализмом, который был ему свойственен в высшей степени, но в стихах оставался пока в тени. Было в нем и его стихах что-то от Блока, попавшего в силу обстоятельств и времени в провинциальную, постсоветскую, бедную — и все-таки «музыкальную» среду. В разговорах со мной он не раз возвращался к мысли о необходимости поменять «пластинку», сменить или совсем убрать «лирического героя», «приблатненный» антураж и «уголовные мотивы», построить лирику на других основаниях.
Надо было бы написать несколько страниц воспоминаний о Борисе — одном из самых талантливых поэтов молодого поколения и необычайно привлекательном человеке. Когда я думаю, на кого он был похож, на память приходит толстовский Долохов: редкое сочетание той же храбрости и нежности, порывистости и мягкости, холода и сентиментальности. Было в нем долоховское бретерство, избравшее своей жертвой в данном, поэтическом, случае не другого человека, а самого себя. <…>
Свою первую подборку в настоящем центральном журнале — в «Звезде» — Борис увидел, жадно листая девятый номер за 1997 год. До того, в январе он приезжал в Питер на научную конференцию, на которой не появился, зато общался с кем хотел, встречался с Леонтьевым, был на открытии художественной выставки поэта Владимира Уфлянда, пообщался с Кушнером, который читал ему наизусть его, Бориса, стихи о Царском Селе, гуляя с ним по Таврическому саду. В апреле — Москва, Пушкинский студенческий фестиваль поэзии, проведенный в угнетающей роскоши, оплаченной непонятно кем: 150 тысяч рублей за номер в гостинице, 15 тысяч за 20 талонов на питание. Кузин записал в дневнике: «Борис на талоны пригласил в столовую Государственной академии нефти и газа пятерых бомжей. Бомжи посуду не убрали».
Похоже, 1997-й стал годом обретения уверенного мастерства, непустопорожней плодовитости. Собственно, эта книга и началась со стихов того года — о Евтушенко, о саксофонисте в черной арке, и в течение нашего повествования возникают то стихи о Блоке и Есенине, то обращение к Дозморову и Леонтьеву. Много чего было сделано в 1997-м. И вариация на тему Д. Самойлова («Сороковые, роковые…») — «Вдруг вспомнятся восьмидесятые…» (наряду с «Восьмидесятые, усатые…» 1998 года), и один из самых первых и удачных выходов на вторчерметовскую тему:
Зависло солнце над заводами, и стали чёрными берёзы. …Я жил тут, пользуясь свободами на смерть, на осень и на слёзы. Спецухи, тюрьмы, общежития, хрущёвки красные, бараки, сплошные случаи, события, убийства, хулиганства, драки. Пройдут по рёбрам арматурою и, выйдя из реанимаций, до самой смерти ходят хмурые и водку пьют в тени акаций. Какие люди, боже праведный, сидят на корточках в подъезде — нет ничего на свете правильней их пониманья дружбы, чести. И горько в сквере облетающем услышать вдруг скороговорку: «Серёгу-жилу со товарищи убили в Туле, на разборке…»Среди стихотворений 1997-го найдем «Пока я спал, повсюду выпал снег…», «Я вышел из кино, а снег уже лежит…», «Офицеру лейб-гвардии Преображенского полка» («Ни в пьянстве, ни в любви…»), «Элегия» («…Нам взяли ноль восьмую алкаши…»), «1985» («В два часа открывались винные магазины…»), «Ночь. Каптёрка. Домино…», «Водой из реки, что разбита на сто ручьёв, в горах…», «Оставь мне небо тёмно-синее…», «Жалея мальчика, который в парке…», «Отделали что надо, аж губа…», «Матерщинное стихотворение», «Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь…», «Так гранит покрывается наледью…», много чего.
У Бориса было обыкновение по-разному датировать стихи, запутывать временной след, однако в общем и целом он придерживался хронологической правды, и этот перечень соответствует действительности: что ни название, то шаг вперед, пусть небольшой. Ему двадцать три, у него всё впереди. Дозморов ему подарил на день рождения стих:
Боря, двадцать три года это так много, что смотри, скоро будешь как Лермонтов, а там, словно Александр Пушкин, а потом вовсе будешь стар. Что тебе сказать? Не волнуйся. Пей в меру. Завязать вовремя успей.В стихах 1997-го может затеряться вещь, которую надо отметить:
Живи, как Решетов в Перми, цени уральские морозы, что останавливают слёзы, или сегодня же умри. Давай, стрельнись, как пьяный мент — из бронзы, мрамора и воска на чёрной площади Свердловска тебе поставят монумент. Но выпив красного вина так, только чтобы не качаться, я думаю: зачем стреляться? Мне не поставят ни хрена. Есть у меня ещё дружки. Есть у меня ещё любови. Благодарю за жизнь, а кроме того — спасибо за стишки.Алексей Решетов. О нем речь. Славный был поэт, жил тихо, рано ушел (1937–2002). Борис услышал не только его «стишки», он внял этому модусу вивенди, этике вот такой — непоказной — жизни. Но сам-то думал о монументе.
Между тем, однако, Решетову не так давно как раз поставили памятник в Березниках Пермской области, в том сквере, где он сиживал с бутылочкой пива.
Рыжий как в воду глядел, примеривая эту ситуацию на себя:
Когда в подъездах закрывают двери и светофоры смотрят в небеса, я перед сном гуляю в этом сквере, с завидной регулярностью, по мере возможности, по полтора часа. Семь лет подряд хожу в одном и том же пальто, почти не ведая стыда, — не просто подвернувшийся прохожий писатель, не прозаик, а хороший поэт, и это важно, господа. В одних и тех же брюках и ботинках, один и тот же выдыхая дым. Как портаки на западных пластинках, я изучил все корни на тропинках. Сквер будет назван именем моим. Пускай тогда, когда затылком стукну по днищу гроба, в подземелье рухну, заплаканные свердловчане пусть нарядят механическую куклу в моё шмотьё, придав движеньям грусть. И пусть себе по скверу шкандыбает, пусть курит «Приму» или «Беломор». Но раз в полгода куклу убирают, и с Лузиным Серёгой запивает толковый опустившийся актёр. Такие удивительные мысли ко мне приходят с некоторых пор. А право, было б шороху в отчизне, когда б подобны почести — при жизни… Хотя, возможно, это перебор. («Когда в подъездах закрывают двери…», 1999)Алексей Решетов думал о другом величии:
В эту ночь я стакан за стаканом, о тебе, моя радость, скорбя, пью за то, чтобы стать великаном, чтоб один только шаг — до тебя, чтобы ты на плечо мне взбежала и, полна ослепительных дум, у соленого глаза лежала и волос моих слушала шум. («В эту ночь я стакан за стаканом…», <1960-е>)В 1997-м Борис окончил вуз (проучился шесть лет: со второго курса уходил в академический отпуск), поступил в аспирантуру и вовремя окончил ее — в 2000-м, трудоустроился младшим научным сотрудником в лабораторию региональной геофизики в институте Б. П. Рыжего. Собственно, он уже был мнс в пору аспирантуры.
Ирина, на пару лет отстав от него в учебе (неприятности со здоровьем, декретный отпуск), в том же 2000-м сама поступила в аспирантуру — при университете, параллельно тоже став младшим научным.
Она хороша собой, Ирина. Мы с Андреем Крамаренко гостили у нее, долго разговаривали.
Легка, стройна, среднего роста, ни косметики, ни краски на русых волосах, лицо простое, тонкое, правильное, серо-голубые глаза умны и много видели. Мебели в ее комнате — кроме шкафа-купе — нет, на полу лежит нечто портативное типа спальника.
Артем, устроившись в некую коммерческую фирму, был в отъезде. В его комнате — широкая тахта и приличных размеров теледисплей.
Вообще-то она хотела поступать в театральный институт — ей нравилась оперетта; либо на журналистику в университет; голос у нее был небольшой, но чистый, и критические заметки поутру для себя пописывала, переводя их в школьные сочинения. Самая ранняя мечта была — стать детским хирургом: поболталась в детстве по больницам, но в десятом — одиннадцатом классах она поработала на подхвате в лечебнице — в травматологическом и неврологическом отделениях, насмотрелась на стариков, к которым никто не подходит, и вообще обнаружила там страшный бардак.
Но Борис потянул ее за собой в Горный институт, сказав, что в Екатеринбурге первый случай СПИДа произошел как раз в театральном институте, и на вступительных экзаменах они оба завалили математику, пришлось пересдавать.
Она успела побыть комсомолкой, он наотрез отказался вступать в ВЛКСМ. Тогда всё вокруг сыпалось, и даже таких вещей, как стенгазета, в школе уже не было. Между прочим, впервые они пересеклись — на пионерской почве. Они еще учились в разных классах и не знались. В классе четвертом она была членом совета дружины, в этом качестве явилась на общее собрание, и Миша Никонов, председатель совета отряда, стал распределять обязанности членов отряда, спрашивая, кто чего хочет. Борис сказал:
— Я буду поливать цветы.
На подоконниках не было ни единого цветка.
Ирина запомнила этот прикол и яркую фамилию шутника. Смешной, хитрый мальчишка, похож на шустрого беспризорника из фильма по Виктору Гюго «Без семьи». Шрама на лице она тогда не заметила.
Запомнила — и забыла.
Наступила пора постперестроечного перетряхивания школьного образования, и те, кто окончил восьмой класс, внезапно оказались в десятом, миновав девятый. Так Ирина и Борис стали одноклассниками. Она забыла про «цветовода», но заговорила его фамилия, а сам он сидел в первом ряду, привалившись спиной к стене, и не отрывал от нее взгляда. Это ее возмущало. Он вообще вел себя нехорошо.
Не было у них романа. Напротив, сплошные контры. Ее возмущало, как он вел себя с однокашниками. Несчастного Андрюшку Ждахина заставил нарисовать на портфеле-дипломате магнитофон, поставить себе на плечо и плясать таким макаром под мотивчик, исполняемый хором балбесов. Ей казалось, что он ее ненавидит. Тем более что ненависть и презрение махрово процветали в школе. Директриса Алифа заставляла девчонок, слегка подкрашенных (губы, ресницы), отмываться в туалете хозяйственным мылом, утираясь вафельным полотенцем.
Никакой искры между ними не пробежало. Она знать не знала, что он там испытывает, рассматривая ее, сидящую на второй парте в среднем ряду, со своей первой парты. Кстати, сидел он на первой парте только на уроках Виталия Витальевича. В остальное время — на Камчатке. На восторженном сочинении Бориса о Маяковском учитель написал: «Сомнительно». На ее скептическом сочинении на ту же тему: «Лихо!!!!» Много восклицательных знаков.
Но был школьный вечер, один из многих вечеров. На этих вечерах он с ней обязательно танцевал один танец. На сей раз танцуют, спорят. Она говорит:
— Если ты любишь Маяковского…
Он оборвал ее:
— Я люблю тебя, Ира.
Таким образом, дело решил Маяковский.
Она была ошарашена:
— Зачем ты…
Она рассказала девчонкам, утверждая: ему нельзя верить, он признается всем направо и налево. Несчастного Ждахина гоняет к девчонкам с письмами, в которых заверяет в своей пылкой любви — от имени Ждахина, а тот, дурачок, ничего не знает.
После этого танцевального признания он вел себя как ни в чем не бывало неделю-другую. Она недоумевала. Но тут поехали на турбазу — четыре девчонки и какое-то количество парней. Была зима, может быть, 23 февраля, веселились, дурачились. Пацаны пили водку, девочки — вино. За Ириной ухаживал Эдик, предлагал «ходить», она сказала «нет», он в отчаянии побежал куда-то в ночь, Борис пожурил ее: людей, дескать, надо жалеть, и в процессе сострадания к Эдику обронил:
— Я тебя люблю, но молчу.
И стал рассказывать о том, как его дед женился на его бабке оттого, что она ноги потеряла, когда ее током ударило. Ирина подумала: он сумасшедший.
— Уходи, я спать хочу.
Через день-два, когда Ирина с девчонками хотела слинять в кино с урока информатики, он догнал ее в гардеробе, стал что-то бурно-невнятное говорить, и она видит: его трясет.
Первый раз они встретились на трамвайном кольце, на остановке «Вторчермет». Она опоздала на 40 минут, она всегда опаздывала.
Она не считала, что они «ходят». Она вообще думала так, что встречаться с ровесниками — ниже ее достоинства. Не тот статус. Так думали о себе все ее подружки.
Плутали по дворам, в транспорте с ним не ездила — чтобы кто-нибудь не увидел, не дай бог. Заглядывали в кино, но он почему-то кино не любил. На Вторчермете был кинотеатр «Южный», на Московской горке — «Мир». Фильмы той поры — «Маленькая Вера», «Меня зовут Арлекино» и прочие — вызывали отвращение.
Сыграть в невидимок не удалось. Тайное стало явным.
— Вы знали о том, что он пишет стихи?
— Знала, но смутно. Только когда уже поступили в Горный, он сказал: я стану, возможно, гениальным поэтом.
— Это правда, что вы не знали его стихов?
— Ну конечно!.. Каждое утро приходил с новыми стихами и зачитывал их мне в качестве побудки.
В студенческое время у них были крошечные стипендии, хотя Ирина получала повышенную. Кормили родители — его и ее родители.
По образованию они оба стали инженерами-геофизиками с разными специализациями: у него — ядерная геофизика, она ушла в геоинформатику. На их должностях зарплаты были мизерными, система грантов лишь изредка залатывала прорехи.
Ирина на первых порах их союза ходила с ним на поэтические тусовки, в тот же «Горный родник», где после Лобанцева стал главным Юрий Конецкий. Вскоре «поэтическая шушера» (с ней-то он и пил) Ирине надоела, это было взаимно, уральские парнасцы считали ее «пэтэушницей». Он постоянно подрабатывал там и сям: на вахте в институте, сторожем на автостоянке, кем придется и где получится. Это было страшно важно для него, он хотел быть ответственным мужиком. Она трудилась в трех местах и брала работу на дом: занималась оцифровкой компьютерных карт.
По-настоящему точно все сказано здесь, в этих стихах:
Не забухал, а первый раз напился и загулял под «Скорпионс» к её щеке склонился, поцеловал. Чего я ждал? Пощёчины с размаху да по виску, и на её плечо, как бы на плаху, поклал башку. Но понял вдруг, трезвея, цепенея: жизнь вообще и в частности, она меня умнее. А что ещё? А то ещё, что, вопреки злословью, она проста. И если, пьян, с последнею любовью к щеке уста прижал и всё, и взял рукою руку, — она поймёт. И, предвкушая вечную разлуку, не оттолкнёт. («Не забухал, а первый раз напился…», 1998)Отец вел себя двойственно — тянул в геофизику, подталкивая в поэзию. Выезжая в Москву, Борис Петрович закупал целую партию книг, заказанных сыном. В 1996-м, будучи в Пекине, разыскивал книгу китайской поэзии на китайском языке — Борис попросил: хотел увидеть, как все это выглядит в иероглифической графике.
Отец находил в нем геофизическую жилку, надеясь на его научную карьеру. Борис Петрович дорожил профессией, и когда в семидесятых еще годах его намеревались послать на Кубу с целью налаживания там геофизических дел, он прекратил оформление командировки, саркастически пошутив, что уедет, а геофизику на Урале разгонят. Что все этого только и ждут. Помимо прочего, всегда была некая конкуренция между геофизиками и геологами.
Но сам Борис не видел себя на этом поприще. Ему ничего не стоило сделать что-нибудь ученое — обработать необходимый материал, составить таблицу и проч. Компьютером владел прекрасно (на «антибукеровские» деньги купил компьютер и вышел в Сеть), аспирантуры и помощи отца хватало на имитацию научной карьеры. Было написано 18 работ по строению земной коры и сейсмичности Урала и России. Одна из работ подписана двумя именами — отцом и сыном Рыжими.
Кстати говоря, в интервью «Уральскому рабочему» после получения «Антибукеровской» премии Борис сообщил о том, что свой приз в денежном выражении он потратил на охоту на кабанов в компании Дозморова…
Но пребывание при науке его тяготило, было лишним, явно посторонним. Вставал вопрос: как и на что жить?
Молодость мне много обещала, было мне когда-то двадцать лет. Это было самое начало, я был глуп, и это не секрет. Это, — мне хотелось быть поэтом, но уже не очень, потому, что не заработаешь на этом и цветов не купишь никому. Вот и стал я горным инженером, получил с отличием диплом. Не ходить мне по осенним скверам, виршей не записывать в альбом. В голубом от дыма ресторане слушать голубого скрипача, денежки отсчитывать в кармане, развернув огромные плеча. Так не вышло из меня поэта и уже не выйдет никогда. Господа, что скажете на это? Молча пьют и плачут господа. Пьют и плачут, девок обнимают, снова пьют и всё-таки молчат, головой тонически качают, матом силлабически кричат. («Молодость мне много обещала…», 1997)Он готов был перенять принцип Ходасевича: «Поэт должен быть литератором». Это подтверждает и С. Гандлевский (предисловие к книге Б. Рыжего «На холодном ветру», 2001):
Стихи Бориса Рыжего имеют прямое отношение к замечательной предельно исповедальной поэтической традиции, образцовый представитель которой, конечно же, Есенин. Хотя язык с трудом поворачивается называть это душераздирающее и самоистребительное занятие заурядным словом «традиция». Кажется, каждый слог такой поэзии сопротивляется литературе и хочет оставаться, прежде всего, жизнью. И, тем не менее, Борис Рыжий считал себя и был литератором, причем искушенным. В последнее свидание мы, в числе прочего, говорили о небезопасности лично для автора подобного рода деятельности. Я, хотя я и старше Бориса Рыжего на 20 с гаком лет, глаз ему не открывал. Он знал, с чем имеет дело.
Его охотно приняли в Союз российских писателей («демократический»); параллельно существовал Союз писателей России («патриотический»), от которого он ездил на столичные состязания; большой разницы между конкурирующими организациями Борис не видел, да ее, кажется, и не было в Екатеринбурге.
Потихоньку началась писательская жизнь. В 1998-м был выезд в Пермь совместно с Дозморовым. Стремительно возобновилось фестивальное (Москва, 1994) знакомство с местным бардом Григорием Данским, вместе выступали во всех смыслах, потом были всяческое общение, обмен стихами, небольшая размолвка, и появилось:
Ты полагаешь, Гриня, ты мой друг единственный, — мечты! Леонтьев, Дозморов и Лузин — вот, Гриня, все мои кенты. («Вы, Нина, думаете, Вы…», 1999)В итоге же от пермского эпизода осталось лирико-саркастическое стихотворение Рыжего «Поездка» (или «Путешествие», 1998):
Изрядная река вплыла в окно вагона. Щекою прислонясь к вагонному окну, я думал, как ко мне фортуна благосклонна: и заплачу за всех, и некий дар верну. Приехали. Поддав, сонеты прочитали, сплошную похабель оставив на потом. На пароходе в ночь отчалить полагали, но пригласили нас в какой-то важный дом. Там были девочки: Маруся, Роза, Рая. Им тридцать с гаком, все филологи оне. И чёрная река от края и до края на фоне голубом в распахнутом окне. Читали наизусть Виталия Кальпиди. И Дозморов Олег мне говорил: «Борис, тут водка и икра, Кальпиди так Кальпиди. Увы, порочный вкус. Смотри, не матерись». Да я не матерюсь. Белеют пароходы на фоне голубом в распахнутом окне. Олег, я ошалел от водки и свободы, и истина твоя уже открылась мне. За тридцать, ну и что. Кальпиди так Кальпиди. Отменно жить: икра и водка. Только нет, не дай тебе Господь загнуться в сей квартире, где чтут подобный слог и всем за тридцать лет. Под утро я проснусь и сквозь рваньё тумана, тоску и тошноту увижу за окном: изрядная река, её названье — Кама. Белеет пароход на фоне голубом.Дозморов свидетельствует:
Сейчас я это читаю как очень грустное и пророческое стихотворение. А тогда, когда Боря прочитал мне его на кухне у родителей после нашего возвращения из поездки в Пермь с чтением стихов, я смеялся, потому что Борис поменял нас местами. Это Борис остался в обществе пермских почитателей поэта Кальпиди, а я сбежал, но не потому, что водки было мало, а икры совсем не было, только картошка с луком (почитатели Кальпиди жили небогато), а как раз из-за литературных разногласий. А Боря остался, потому что там было весело, а на Кальпиди ему было наплевать. И я ему потом выговаривал. В стихотворении всё наоборот.
В том же духе прочувствовано посвящение Рыжему Григория Данского:
Если, брат, я умру в Провинции… Это лучше, брат, чем в Освенциме. Обещать не могу, но в принципе, если к этому будет тенденция — не в больнице, тогда в милиции есть кому довести до кондиции. Не милиция, так интеллигенция… А весной здесь почти Венеция. («Венецианская песенка», 1999)Кейс Верхейл сообщает (письмо мне от 30 ноября 2014 года):
Я помню, что отец, Борис Петрович, рассказывал мне не раз о такой фразе, произнесенной с негодованием его сыном по поводу социального зла в России девяностых годов: «Жутко видеть человека с лицом Иисуса Христа, роющегося в мусорном баке в поисках еды».
Денег членство в писательской организации не давало, не считая некоторых возможностей относительно поездок и других эпизодических подачек. Постоянно нависало над головой то, о чем он сказал еще в 1994-м:
О, великий, могучий, Помоги прокормить мне жену и ребёнка. («Вот зима наступила…»)Надо было искать нечто другое — Борис пошел трудиться в журнал «Урал», главным редактором которого к той поре стал Николай Коляда, человек театра по преимуществу. Его порекомендовал Коляде Олег Дозморов. Разговор при приеме на работу был такой: будешь моим замом по поэзии, будешь делать что хочешь, полный карт-бланш. Это оказалось театральным жестом. Довольно скоро выяснилось, что режиссерско-диктаторские навыки редактора преобладают над его же демократическим вольнолюбием, а вкусы поэта не совпадают с пристрастиями редактора-актера. Драматургия субординации стара как мир.
Поначалу в «Урале» было интересно. Там Рыжий, не без участия Дозморова придумав рубрику «Антология шедевров поэзии Урала», завел и рубрику «Граф Хвостов» и успешно отлавливал авторов для нее, уморительных графоманов. Параллельно при журнале жил и работал клуб «Лебядкинъ». По слову Елены Тиновской:
…это чисто шарага — молодежь, графоманы, слесари-водопроводчики. Я как раз относилась к этой категории и там получила первые уроки. Борис туда просто приходил, а вел все это Олег Дозморов, ему немного за это платили.
Поэт принес для публикации в журнале стихи Владимира Уфлянда, серьезного питерского поэта, которому гарантировал полнокровную, некастрированную публикацию. Что уж там не устроило Коляду — неформальная лексика, имя автора или заносчивость Рыжего, — теперь не имеет значения: Коляда отшвырнул рукопись Уфлянда. Борис отреагировал по-своему: сперва расстроился до слез, напился, а потом плюнул и ушел. Впрочем, в письме приятелю — М. Окуню (27 июня 1999 года) он между делом пробрасывает: «Что нового? Из „Урала“ уволили за пьянку… (и к лучшему!)».
Эта информация соответствует стилю поведения, который он избрал к той поре: в духе звездного мальчика, вхожего в любые двери, и на то были некоторые основания. Уже и на берегах Невы, в редакции журнала «Звезда», 3 июля 1998 года у него (плюс Леонтьев и еще кто-то) состоялся вечер.
Николай Коляда ощущал их отношения как дружеские:
Последний раз он пришел в редакцию месяц назад (в середине апреля 2001 года. — И. Ф.), «веселый», сидел у меня в кабинете, кричал, ругался, обзывал журнал <«Урал»> всякими последними словами, всех поэтов наших посылал подальше. Потом вдруг полез целоваться, закричал: «Коляда, я тебя люблю, ты гений!» Через минуту вопил: «Ты такое же говно и бездарь, как и все!», требовал гнать из журнала и не печатать того-то и того-то. Я смеялся и опять говорил ему (я сто раз ему это говорил): «Ну что ты за человек, Боря, а?! Ты все, блядь, хочешь шашкой порубать!» А он отвечал: «Графоманов рубить надо, не надо чикаться с ними! Им прямо говорить, кто они! Вот я и рублю!» Ну и так далее, так или примерно так он говорил в тот день. Он говорил: «Поэзия — это высокая частота, а ваша драматургия — очень низкая, вот так». <…>
Мы говорили о смерти <Романа> Тягунова (см. ниже. — И. Ф.) по телефону с Борисом — долго. И мне, и ему было невесело, тягостный разговор получился. А потом Боря вдруг говорит (когда я ему сказал, что в журнале пойдет некролог и последняя подборка стихов Романа): «Ну хорошо, я помру, дак напишите тоже что-нибудь там», и начал дико хохотать. Я заразился его дурным весельем и тоже начал ржать, как сумасшедший, сказал: «Ну, напишем, чего там, Боря, как скажешь». Смеялись, потому что и ему, и мне стало вдруг понятно — все суета перед Вечностью, когда — Дело сделано, все бессмысленно, глупо, пошло. Человека-то нет уже, пиши, не пиши, все — бред, бред, бред теперь уже (Независимая газета: Кулиса. 2001. № 8. 18 мая).
Этому веришь.
Вынуть пьяненькую старушку из сугроба и проводить ее до дому, задрать на улице курсантов танкового училища — всё одно: искренно и на вынос. Это — видят другие, со стороны, и никуда не денешься, ты такой, тебя видят, тебе поставят монумент.
В любом случае — членом труппы Николая Коляды он не стал. Оставалось прежнее — свободное плавание, свои хлеба и прочие дары независимости. Проще говоря — безденежье. Борис невесело пошутил в форме катрена «Из биографии гения» (1998):
…У барона мало денег — нищета его удел. Ждёт тебя, прекрасный Дельвиг, Департамент горных дел.Издатель Г. Ф. Комаров, выпустив книжку Рыжего «И всё такое…» (разговор о ней впереди), предлагал выйти новой книгой. Борис звонил ему, просил гонорар — хотя бы 300–400 зеленых. Безрезультатно. Он начал сотрудничать в «Книжном клубе», еженедельном приложении к газете «Уральский рабочий», редактором приложения была Ольга Славникова. Он мог писать о чем угодно как вольный эссеист. Его рубрика называлась «Актуальная поэзия с Борисом Рыжим». Некоторых участников уральского литпроцесса смутила его заметка о вечере поэзии в Доме кино, куда сам он не пошел. Укорениться в редакциях не получалось. Сговорился один раз в две недели писать для «Книжного обозрения» и сайта «Кронус». Дело не пошло.
В таких случаях он говорил:
— Поздняк метаться.
Стыдно было сидеть на шее отца, стыдно было быть отцом ребенка, вклад в воспитание которого на первых порах младенчества Артема исчерпывался прогулками по Зеленой Роще. Это замечательный парк, с детскими и спортивными площадками, с тихими и чистыми аллеями и шелестом иных воспоминаний: там был некогда монастырь. Женский Ново-Тихвинский монастырь. А потом пустырь, а потом парк. В дневные часы по тем аллеям двигались со своими чадами молодые женщины. Молодой отец выглядел белой вороной. Знакомое амплуа.
По ночам в Зеленой Роще шалили-озорничали. Тоже знакомо.
Нет никакого сомнения, Борис был человеком домашним, и его домом был двухкомнатный уголок на улице Куйбышева, которым он бесконечно дорожил. Привязанность к родителям, вообще — к семье Рыжих со всеми ее ответвлениями, укрепляла самостояние, каким бы зыбким оно ни было. Сыновей сестры Лены — Олежку и Сережку — он держал в братьях. Олежку, который был младше на двенадцать лет, так и называл «мой брат-близнец». Когда в феврале 2002 года Олега насмерть сбил автомобиль на челябинской улице, потрясенная Елена обнаружила пророчество в стихах Бориса (1995, февраль):
Урал — мне страшно, жутко на Урале. На проводах — унылые вороны, как ноты, не по ним ли там играли марш — во дворе напротив — похоронный? Так тихо шли, и маялись, и жили. О, горе — и помочь не можешь горю. Февраль, на небе звёзды, как чужие, придёт весна — и я уеду к морю. Пусть волосы мои растреплет ветер той верною — единственной — рукою. Пивные волны, кареглазый вечер. Не уходи — родной — побудь со мною, не отпускай — дружок — держи за плечи — в глухой Урал к безумству и злословью. О, боже, ты не дал мне жизни вечной, дай сердце — описать её с любовью.Сыну он читал всякие стихи, но больше рассказывал сказки. По крайней мере сказками казались Артему стихи самого отца, потому что там все подробно и правдиво.
Вот эти стихи, например:
Ордена и аксельбанты в красном бархате лежат, и бухие музыканты в трубы мятые трубят. В трубы мятые трубили, отставного хоронили адмирала на заре, все рыдали во дворе. И на похороны эти любовался сам не свой местный даун, дурень Петя, восхищённый и немой. Он поднёс ладонь к виску. Он кривил улыбкой губы. Он смотрел на эти трубы, слушал эту музыку. А когда он умер тоже, не играло ни хрена, тишина, помилуй, Боже, плохо, если тишина. Кабы был постарше я, забашлял бы девкам в морге, прикупил бы в Военторге я военного шмотья. Заплатил бы, попросил бы, занял бы, уговорил бы, с музоном бы решил бы, Петю, бля, похоронил. («Ордена и аксельбанты…», 1999)Так или иначе, оставалось время для досугов, хорошо описанных Еленой Тиновской в плане достоверной предметности:
И, помогая грузчикам-таджикам с утра грузить мешки с моим товаром в тяжёлую железную тележку, чтобы со склада вывезти на рынок, остановился дух перевести… Зубами он открыл бутылку пива и сразу половину выпил залпом и вдруг сказал: — А Нобелевских премий нам не видать как собственных ушей. Тут знаешь что… У них своя ментальность, они живут другой какой-то жизнью, и что за дело умным европейцам до наших дел, а нам до их забот? Когда я оказался в Роттердаме с Учителем — а он сильней, чем Бродский — …Мой друг хотел мне что-то рассказать, но тут таджики повезли тележку, и вдруг она попала колесом в какую-то неровность тротуара и встала, словно вкопанная в землю. Таджики стали рваться и пыхтеть. Он пробурчал: — У чурок неполадки! Сейчас они, в натуре, надорвутся!!! Держи бутылку, помогу парням — …Недаром он когда-то был спортсменом и чемпионом города по боксу — тележка постепенно подалась, продвинулась сначала юзом, боком, потом уж прямо… Я пошла вослед, в одной руке табличка «ДЖИНСЫ-БРЮКИ», в другой бутылка пива и пакет. Я бормотала: — Бунин, Солженицын, Иосиф Бродский, Пастернак, а ты так молод…
Глянул на меня сердито: — Иное время и другой расклад!
И вот полгода я живу в Европе. Приятнейшие люди — европейцы. Уж я их начинаю понимать, они меня, как могут, понимают, но, к сожаленью, я — всего лишь я… Вот если б он! Он самовольно умер. Важней всего, о чём он говорил, важней, чем нищий заповедник детства — стремительный полёт вперёд и вверх!!! Он бросил нас, и Нобелевских премий нам не видать как собственных ушей… лет сто. А он бы лет через пятнадцать мог получить, да, видно, не судьба.
Елена Тиновская теперь живет в Германии. У нее там не так давно журналистка Алла Роско взяла интервью:
А. Р.: Лена, так вы были знакомы с Борисом Рыжим?
Е. Т.: Да.
А. Р.: В творчестве Бориса Рыжего мы также наблюдаем склонность к «блатной» тематике и влияние фольклора. Это случайность или нет?
Е. Т.: Нет, это не случайность. Мы росли в очень похожей социальной среде. Родители наши были ученые, а жили мы в районах далеко не для избранных. Это были рабочие районы с большим количеством алкоголиков и уголовников. С окружением своих родителей мы почти не встречались, зато в наших комнатах стояли книжные шкафы наших родителей, наполненные литературой, которая и стала первой прочитанной нами. А потом на улице мы попадали в определенную среду, которая соответственно и оказывала на нас влияние.
А. Р.: А в чем коренное отличие между творчеством вашим и Бориса Рыжего?
Е. Т.: Борис Рыжий был моложе меня на 10 лет, но при этом намного образованней в литературном плане. Поэтому он обычно брал какую-то классическую тему, которая была хорошо известна любому классическому автору, и делал что-то вроде пародии, которая связывала классику с той реальностью, которая нас окружала. Как пример я приведу отрывок из его стихотворения и параллель со стихотворением «Мцыри» Лермонтова.
И здесь я жил давным-давно, Ходил в кино, Пинал говно И пьяный выходил в окно… (Б. Рыжий) Мне тайный голос говорил, Что некогда и я там жил… (М. Лермонтов)Я так писать не умела. Для меня это была не литературная игра, я просто писала о своих чувствах. А когда у меня очень редко появлялся интерес к литературной игре, то я брала темы, например, из народных песен:
Виновата ли я, виновата, Что давала себя целовать, С проходной от завода «Минвата» После смены домой провожать…Борис был академиком, а я была голосом из народа.
А. Р.: Стремились ли вы ему подражать?
Е. Т.: Нет, мы были просто похожи. У нас были одинаковые интересы, поэтому мы очень быстро сдружились. (FOCUS.de. (Ганновер), 12.08.2014).
Что их так разметало — по Лондонам и Ганноверам? Какой-то вулкан взорвался на Урале, далеко разбросав камни, уже потухшие или еще горящие. Видимо, долго спал.
Опять уместен Лермонтов, причем ранний, шестнадцатилетний:
На жизнь надеяться страшась, Живу, как камень меж камней, Излить страдания скупясь: Пускай сгниют в груди моей. Рассказ моих сердечных мук Не возмутит ушей людских. Ужель при сшибке камней звук Проникнет в середину их? («Отрывок», 1830)ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Здесь уже не раз вскользь говорилось о премии «Антибукер», и мне положено дать волю личным воспоминаниям. Самопиар? Не думаю. Прошло много времени, я не распространялся на сей счет.
Евгений Евтушенко в очерке о Рыжем «Беззащитно бескожий» (антология «Поэт в России — больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии»[11]) назвал эту премию маргинальной. Это не так. Я знал «Антибукер» изнутри, поскольку пребывал почти весь срок существования премии (пять из шести лет) в поэтическом жюри. Эпатажное «Анти» было придумано элегантно-экстравагантным Виталием Третьяковым, главным редактором «Независимой газеты», как вызов премии «Букер»[12], уже несколько лет гремевшей в литературном пространстве, постепенно теряя авторитет. «Букер», премировавший только авторов романа, стоил 12 тысяч долларов — «Антибукер» прибавил к этой сумме один доллар и распространился на пять номинаций, включая нон-фикшн, критику, драматургию и поэзию. 12 001 доллар получал каждый из пяти победителей.
То была эпоха тотальной игры, автопародии, непрерывного перформанса во всех сферах, когда под шатровой церковью Вознесения в Коломенском фланировали персоны в париках и камзолах галантного века, а ряженые официанты ресторана «Серебряный век» походили на великих князей.
Субсидировал «Антибукер» Б. А. Березовский, хозяин «Независимой газеты». Он тогда был большой меценат — богатая и высокопарная премия «Триумф» тоже была его продуктом.
Поэтическая номинация называлась «Незнакомка», и это как нельзя лучше подошло Рыжему. Лауреатами «Незнакомки» последовательно становились — Сергей Гандлевский, Тимур Кибиров, Максим Амелин, Борис Рыжий, Бахыт Кенжеев. Да, «Незнакомка» появилась не сразу — поначалу, в 1995 году, «Антибукер» работал только лишь с романистами, и первым лауреатом стал Алексей Варламов.
Прибегну к помощи Википедии:
…Кроме того, премия <«Антибукер»> была оперативна, потому что присуждалась за произведения текущего года.
В состав жюри входили известные литераторы, издатели, артисты: Андрей Василевский, главный редактор журнала «Новый мир»; Наталья Иванова, заместитель главного редактора журнала «Знамя»; Андрей Волос, писатель, лауреат премии Антибукер-98; Виктор Топоров, литературный критик и переводчик (Санкт-Петербург); Евгений Рейн, поэт; Наталья Трауберг, переводчик; Александр Гельман, драматург; Ирина Купченко, народная артистка РСФСР; Олег Табаков, народный артист СССР, и др.
Лауреатами премии в разные годы были: Евгений Гришковец за наброски к пьесам «Зима» и «Записки русского путешественника» в номинации «Три сестры» (драматургия) (1999); Александр Иванченко за памфлет «Купание красного коня» в номинации «Четвертая проза» (мемуары, эссеистика) (1999); Борис Акунин за роман «Коронация, или Последний из романов» в номинации «Братья Карамазовы» (проза) (2000); Бахыт Кенжеев за книгу стихов «Снящаяся под утро» в номинации «Незнакомка» (поэзия) (2000); Олег Давыдов за статью «Демон Солженицына» в номинации «Луч Света» (литературная критика) (1998) и др.
Википедия сообщает о том, что премия за стихи в 1999-м не присуждалась, оговаривая факт поощрительного приза Борису Рыжему. Это не совсем так, потому что жюри все-таки присудило этот выигрыш Борису — за дебют. Да, ему выдали 2 тысячи долларов. Не 12 001. Но такой расклад образовался в результате спора внутри жюри.
Дело было так.
В море публикаций 1999 года я обнаружил подборку Бориса Рыжего «From Sverdlovsk with love» («Знамя», № 4). Это были восхитительные стихи. Пришел новый поэт.
Приобретут всеевропейский лоск слова трансазиатского поэта, я позабуду сказочный Свердловск и школьный двор в районе Вторчермета. Но где бы мне ни выпало остыть, в Париже знойном, в Лондоне промозглом, мой жалкий прах советую зарыть на безымянном кладбище свердловском. Не в плане не лишённой красоты, но вычурной и артистичной позы, а потому что там мои кенты, их профили из мрамора и розы. На купоросных голубых снегах, закончившие ШРМ на тройки, они споткнулись с медью в черепах как первые солдаты перестройки. Пусть Вторчермет гудит своей трубой. Пластполимер пускай свистит протяжно. А женщина, что не была со мной, альбом откроет и закурит важно. Она откроет голубой альбом, где лица наши будущим согреты, где живы мы, в альбоме голубом, земная шваль: бандиты и поэты.Да, это риторика, слёзная героика, отчетливая рефлексия на советскую хрестоматию — разительная разница и неприкрытая связь с такими, например, стихами Николая Майорова, двадцатитрехлетним павшего на фронте в феврале 1942 года:
Мы были высоки, русоволосы. Вы в книгах прочитаете, как миф, О людях, что ушли не долюбив, Не докурив последней папиросы. («Мы», 1940)Скажу сразу. Никакой я не первооткрыватель Рыжего. Наверняка первей был Дмитрий Сухарев, сказавший уральцу, уроженцу Копейска Андрею Крамаренко:
— На Урале появился гениальный поэт.
— Нет тут гения.
— Есть!
Москве — и тем самым всей стране — Бориса Рыжего предъявила Ольга Ермолаева, долгие годы отвечающая в «Знамени» за поэзию. Ее молодые стихи в свое время поддержал Леонид Мартынов, она знает цену подобной поддержке. Ту подборку, о которой речь, напечатала она, перед этим отбив телеграмму автору: будет публикация. Все шло головокружительно быстро — он прислал стихи в журнал в декабре 1998-го, а в апреле увидел себя на его страницах. Так не бывает. Сам Борис сказал о том, что подборка «около года лежала в другом журнале», и Алексей Пурин подтвердил в нашем с ним недавнем разговоре: да, те стихи ждали своего часа у нас в «Звезде». Повторю: Ольга Ермолаева, журнал «Знамя». Она увидела в Борисе Рыжем поэта вертикального взлета, подобного вертикальному взлету самолета, без разбега. Началось беспрерывное телефонное общение. Его интересовало, правильно ли он пишет. Он звонил и звонил. Борис Борисыч, вы не разоритесь? Называла она его именно так. Существует их парный фотоснимок той поры, на котором поэт зафиксирован во всей красе лирического автогероя — со свежими боевыми отметинами на лице. Правда, Леонтьев лукаво улыбнулся на сей счет, махнув рукой: это не то, чем кажется. Вроде знаменитого шрама.
О. Е. Рыжий посвятил позже эту вещь:
В Свердловске живущий, но русскоязычный поэт, четвёртый день пьющий, сидит и глядит на рассвет. Промышленной зоны красивый и первый певец сидит на газоне, традиции новой отец. Он курит неспешно, он не говорит ничего (прижались к коленям его печально и нежно козлёнок с барашком), и слёз его очи полны. Венок из ромашек, спортивные, в общем, штаны, кроссовки и майка — короче, одет без затей, чтоб было не жалко отдать эти вещи в музей. Следит за погрузкой песка на раздолбанный ЗИЛ — приёмный, но любящий сын поэзии русской. («В Свердловске живущий…», 2000)Еще позже — ее посвящение ему:
Б. Р. Барин, под самым солнцем, под облаком журавли в чудовищном токе воздуха: как нить, как рваная сеть… Рифейский гений с зашитым ртом в приисковой прибрёл пыли, манкируя бездной пространства — где Сетунь, а где Исеть? Учебный они нарезают, прощальный за кругом круг: о, как далеко под крылами я в дымке земной плыву. Я так же, как Вы, любила в инее виадук, горящую на огородах картофельную ботву, лиственные порталы, рушащиеся вдруг, в башне водонапорной робкий счастливый свет. Я так же, как Вы, испытываю оторопь и испуг, не понимая, сколько мне детских конкретно лет. Вашей то грубой, то нежной музыкой чищу слух и от чифиря постмодерна отдраиваю бокал: это не рюмка; у бабок моих, у забайкальских старух, так звался сосуд при ручке — немерено чаю вмещал… Пленительные мерзавцы отдали б за глаз-ватерпас всех баб, и все причиндалы, всё это х… — моё; не знают, как, милый барин, тоскует по Вам/по Вас целующая деревья, Вам преданная ОЕ. …Упавший со звёзд ребёнок всегда тянет руки в ночь; а шрам на щеке — не с разборки, — от саночек в детстве след. Составила Вашу книгу: ошеломительны мощь, стремительность восхожденья, исторгнутый горем свет. 1 октября 2005Загадочное «барин» истолковать несложно: имеется в виду врожденный аристократизм адресата. Ольга Ермолаева составила книгу Бориса Рыжего «Типа песня» (М.: Эксмо, 2006). Стены ее кабинета в «Знамени» — сплошная фотогалерея нашего героя, на внешней стороне двери — его лицо с афиши вечера в Центральном доме работников искусств.
Дмитрий Сухарев в уже цитированном предисловии к книге Рыжего «В кварталах дальних и печальных…» пишет: «Поэт Илья Фаликов описывает свой случай так: едва прочитал — и тут же выдвинул Рыжего на премию, и ее ему тут же дали, несмотря на обилие номинантов».
И это не совсем так. «Тут же» не было. Лонг-лист формировался медленно, не говоря о шорт-листе. В моем дневнике зафиксирован невидимый миру сюжет, не лишенный драматизма. Речь об «Антибукере-99».
Предварительный набросок (мой) шорт-листа по номинации «Незнакомка» (поэзия):
Михаил Айзенберг. Переговорный строй. «Знамя», № 2
Иван Волков. Ранняя лирика. М., 1999 (издательство не указано); Хлорофилл. «Знамя», № 8
Ирина Ермакова. Весь этот джаз. «Арион», № 2
Бахыт Кенжеев. Это он, не я. «Арион», № 1; Господний оклик. «Знамя», № 5
Виктор Коллегорский. Вон корабль в волнах, смотри. «Новый мир», № 8
Семен Липкин. Второй Новоприходский. «Новый мир», № 8
Игорь Меламед. И коридор больничный длиннее жизни… «Литературная газета», № 46 (5766)
Денис Новиков. Самопал. «Знамя», № 2; Предлог. «Новый мир», № 5; Ток-шоу. «Литературная газета», № 40 (5760); Самопал. СПб.: Пушкинский фонд, MCMXCIX.
Борис Рыжий. From Sverdlovsk with love. «Знамя», № 4
Владимир Салимон. Бегущие от грозы. М.: Золотой век, 1999
Ольга Сульчинская. Свиток. «Новый мир», № 6
Алексей Тиматков. Соляной столб. Рукопись.
ШОРТ после общего отбора: Воденников, Волков, Кенжеев, Кублановский, Меламед, Новиков, Рыжий, Соснора, Сульчинская, Тиматков.
Состав жюри того года: Максим Амелин, Павел Белицкий, Евгений Рейн, Виктория Шохина, Илья Фаликов. Предварительный набросок был оговорен по телефону, потом мы собрались и решили то, что решили. Дебаты кончились дебютом. Мы сидели в узком пенале редакционной комнаты, густо дымя (мы с Рейном). Амелин и Белицкий продвигали Ольгу Сульчинскую, их поддержала Шохина (по телефону), но в один счастливый момент Паша Белицкий, поэт и сотрудник «Независимой газеты», перешел на нашу с Рейном сторону. Это совпало с появлением в нашем дыму Виталия Третьякова — он пришел на шум голосов. Шеф сказал: ну, раз так, то дадим поощрительную — и назвал цену. Я подсказал: за дебют. Рейн небрежно-скромно под конец признался:
— У Рыжего есть стихи обо мне.
Без ложной скромности признаться должен и я: кандидатуру Амелина годом раньше, в 1998-м, тоже выдвинул я, и в жюри опять-таки был спор, но Амелин выиграл.
Максим Амелин:
Ты в землю врастаешь, — я мимо иду, веселую песенку на ходу себе под нос напевая про то, как — теряя златые листы — мне кажешься неотразимою ты, ни мертвая, ни живая. Ты помощи просишь, страдания дочь, — мне нечем тебе, бедняжка, помочь: твои предсмертные муки искусству возвышенному сродни, хоть невпечатлимы ни в красках они, ни в камне, ни в слове, ни в звуке. Сойдешь на нет, истаешь вот-вот, — благой не приносящие плод пускай не расклеятся почки, поскольку ты — смоковница та, которую проклял еще до Христа Овидий в раздвоенной строчке.Изощренная ритмика Амелина звучит особо, но все равно не выводит его из клуба общих с Рыжим интересов, именно тогда распространенных в пространстве нового русского стихотворства. Борис написал в мае 1996-го «К Овидию»:
Овидий, я как ты, но чуточку сложней судьба моя. Твоя и горше и страшней. Волнения твои мне с детских лет знакомы. Мой горловой Урал едва ль похож на Томы, но местность такова, что чувства таковы: я в Риме не бывал и город свой, увы, не видел. Только смерть покажет мне дорогу. Я мальчиком больным шептал на ухо богу: «Не знаю где, и как, и кем покинут я, кто плачет обо мне, волнуясь и скорбя…» А нынче что скажу? И звери привыкают. Жаль только, ласточки до нас не долетают.Латинского звона здесь нет, а вот гармонически-итальянистым Константином Батюшковым, с поздним призвуком Георгия Иванова, — веет. Это надо отметить — общий у Рыжего с Амелиным интерес ко второму ряду русской классики. На Дениса Давыдова или Николая Огарева Рыжего у Амелина найдутся свои любимцы:
Александрийскою стопой неторопливой особенно теперь не разбежишься, нет, за Сумароковым с победною оливой и славы с лаврами Хераскову вослед.Таким образом, Амелин вошел — в соответствии с Положением премии — в жюри-99. Между Амелиным и Рыжим чуть позже полыхнул конфликт — Рыжий вывел соперника в карикатурном виде на страницах своего «Роттердамского дневника» (2000), но это ведь поэты, они так живут, и надменная улыбка украшает их уста при встрече и без встречи[13].
Несколько позже — в «Новом мире» № 10 за 2006 год — Е. Вежлян напишет в статье «Портрет поколения на фоне поэзии»:
Речь идет о проекте «Тридцатилетние», в котором было, по сути, два круга. Один, внешний, — это поэты, вошедшие в антологию «10/30. Стихи тридцатилетних» (М., 2002): Максим Амелин, Глеб Шульпяков, Инга Кузнецова, Санджар Янышев, Дмитрий Тонконогов, Борис Рыжий, Андрей Поляков, Александр Леонтьев, кроме популярных, но эстетически отчужденных от большинства участников антологии Михаила Гронаса и Дмитрия Воденникова… <…> Другой, внутренний, — это так называемая группа «тридцатилетних» (Амелин, Кузнецова, Шульпяков, Тонконогов, Янышев), заявившая три года назад о самороспуске (интуиция не подвела поэтов — это событие почти совпало с изменением литературной ситуации). Много говорили о неоднородности состава антологии, как и о ее репрезентативности.
…Требования, предъявленные к поэзии в конце 90-х — начале 2000-х, на наш взгляд, неявным образом исходили из этой позднеимперской установки, предполагающей примат и единство «вкуса» и прочно укоренившейся в наивном читательском сознании. Тексты же «тридцатилетних» были вполне в ее русле. Видимость этого соответствия они, разумеется, создавали по-разному. Потому что по-разному «работал» эффект, который можно обозначить как эффект «узнавания»: отчетливо ощущаемая в творчестве этих авторов отсылка к элементам «общезначимого прошлого», наличествующим в «позднем» стиле.
Такое узнавание обеспечивалось в текстах тридцатилетних прежде всего свойственным их авторам отчетливым позиционированием лирического героя, сопоставимого с каким-либо архетипическим вариантом. Так, лирический имидж Рыжего совпал с массовым образом «нашего поэта», «поэта-хулигана», живущего «на разрыв аорты», который находит берущие за душу слова для «самого простого», но «важного». Для предыдущих поколений этот образ был воплощен в Есенине и Высоцком. Недаром о Рыжем пишут как о «последнем советском поэте», отчасти имея в виду именно описанную выше интуицию. Амелин, напротив, выбрал облик «ученого поэта», «одописца», постоянно пеняющего на собственную рассудочность и тяжеловесность стиха, но нет-нет да норовящего подмигнуть читателю мелькнувшим вдруг среди одического пафоса жаргонным «не в курсе» («я знаю великую тайну твою, / которой не в курсе сама ты») или отмежеваться от себя-«Амелина» («Подписанное именем моим / не мной сочинено, я — не / максим / амелин…»).
Да, можно и так истолковать этот — уже давний — поединок. Но вряд ли дело только в стилистических разногласиях. Дело пахнет соперничеством как таковым. Нашла коса на камень. Начал Амелин. Обиженный ответ — за Рыжим. По правилам премии диплом победителя должен был вручить предшествующий лауреат, то есть Амелин. Он отказался, это сделал Рейн. Борис произнес речь:
Владислав Ходасевич как-то заметил, что поэт должен слушать музыку времени, нравится она ему или нет. Это и есть ангельское пение, только в разные времена ангелы поют разными голосами. Это пение суть оправдание человеческой жизни, какой бы ни была эта жизнь с точки зрения судей, которые, как сказал великий философ Лев Шестов, для поэта всегда выполняют роль подсудимых. Поэт стоит не на стороне справедливости, а на стороне жалости — не сострадания, но высокого сожаления, объяснить которое, выразить можно только стихотворением. Именно поэтому, именно потому, что поэт несправедлив, нелогичен в своих привязанностях, верен музыке, слову (слово, кстати сказать, которое обыватель вряд ли считает достойным своих ушей, может быть действительно бранным — именно поэтому поэт «всюду неуместен, как ребенок»). Взрослые судьи не знают, что делать с этим ребенком, — гнать его за Урал или, наоборот, привозить с Урала? В деловой беседе с моим издателем Геннадием Комаровым, между прочим, я похвастался, что попал в короткий список «Антибукера», на что мой собеседник, выдержав паузу, изрек: лучше попасть в короткий список «Антибукера», чем на рудники Колымы. Я с ним полностью согласился. Я благодарю замечательного поэта и зав. отделом поэзии журнала «Знамя» Ольгу Ермолаеву, которая опубликовала мои стихи (к слову, эта подборка пролежала около года в одном уважаемом питерском журнале). Я искренне благодарен жюри премии «Антибукер» за то, что меня так или иначе прочли и оценили, в том числе и бесконечно уважаемые мною люди. Я благодарен «Антибукеру» вообще за финансовую и моральную поддержку, чего мне порою так не хватает. Спасибо! (Независимая газета. 2000. 25 января).
На следующий год «Антибукер» достался Бахыту Кенжееву, и это не вызвало радости у Бориса. Он оказался зажат с двух сторон полноценными лауреатами. Чему радоваться? Он злился на обоих. Так жили поэты.
Значительней другое: недавнюю петицию о присвоении имени Бориса Рыжего улице на Вторчермете — см. выше — одним из первых подписал Максим Амелин.
Еще до получения премии, в декабре 1999-го, у Рыжего взяла интервью С. Абакумова для екатеринбургской «Областной газеты»:
— Как вы узнали радостную весть?
— Я узнал о присуждении премии, как и остальное население, дома, по телевизору. И воспринял совершенно спокойно, потому что знал, сильная подборка напечатана в журнале «Знамя»; и я много на нее ставил. Удивительно другое — в списке финалистов были такие известные фамилии, как Соснора, Денис Новиков, Кенжеев, Меламед… это все люди старше меня, я их уважаю. А они оказались без награды. Если бы от меня зависело это, я бы безусловно дал премию Сосноре.
По телеканалу «Культура» меня чуть-чуть полили грязью, наверное, потому что никто не получил премии из Питера: там обо мне сказали «некий человек, сорока лет, скрывающийся под псевдонимом Борис Рыжий и пишущий стихи о новых русских и бандитах». Когда я это услышал, то был изрядно удивлен, у меня нет стихов о бандитах.
— Был, наверное, шквал поздравительных звонков?
— Меня поздравил поэт Евгений Рейн, драматург Николай Коляда из Екатеринбурга и критик Кирилл Кобрин из Нижнего Новгорода. Больше — никто.
— Премия — это деньги, и на что их можно потратить?
— Сумма около две тысячи долларов, я компьютер куплю. Потрачусь на своих домашних, на сына, на родителей; может, съезжу куда. В сущности, это не такая уж большая сумма. Я больше рассчитываю на деньги за подборку стихов в журнале «Знамя», на заработанные деньги — это две тысячи рублей. А эти — «валятся с неба». Цветов вам куплю!
— Какое у вас было детство? Откуда вы родом?
— Обычное детство, советское. Пионером я отходил в красном галстуке до конца, нас уже хотели принимать в комсомол, но что-то поменялось вокруг. <…> Жил я на Вторчермете, учился в обычной школе. Школа была совершенно ужасная, там резали друг друга, выигрывали в карты какие-то бешеные суммы и проч.
Учился я очень плохо, и сочинения по литературе за меня писала сестра, вот это я точно помню. Едва-едва окончил школу, а пошел в Горный институт, никуда больше не мог поступить. Учась в институте, приложил руку к организации литературного объединения. Оно и сейчас существует. Чтобы не идти в армию, после института поступил в аспирантуру.
— Кто-то еще есть по фамилии Рыжий?
— Отец у меня Рыжий, и сын тоже Рыжий, вот придется ему помучиться с этой фамилией! Первый раз над моей фамилией смеялись в 1-м классе, когда учитель читал список: — Рыжий! — хохот, все на голову встали. Когда я поступал в аспирантуру, взрослые мужики — их набралось с целый зал — тоже захохотали. Я подумал в тот миг, что аспиранты и первоклашки одинаковы, ничем не отличаются в этом плане.
— Может, вам псевдоним выбрать?
— Думал над этим. Если б я взял псевдоним «Иванов», все бы стали говорить: «Ага, понятно, почему он взял псевдоним ИВАНОВ, у него фамилия-то РЫЖИЙ!» Смеху было бы еще больше. Я думаю, что российские читатели должны привыкнуть к этому имени, и лет через пятьдесят оно уже не будет вызывать смеха.
Замечу, раньше я считал себя известным поэтом. Известным в узком кругу, то есть меня знали те, кому нужно было знать: поэты Кушнер, Рейн, Евтушенко, Гандлевский, еще кое-кто. И вдруг оказывается, что я никому не известен. Журналисты меня не знают, начинают разбирать, кто такой, откуда. Вот и в «Независимой газете» прошлись по мне насчет «кликухи» (камешек в мой огород, см. ниже. — И. Ф.).
— Какие у вас отношения с уральской периодикой?
— Мои стихи в городе воспринимаются странно довольно-таки. До обидного мало делают мне предложений. <…>
— Это ведь сенсация в масштабах нашего города получить столь престижную премию?
— Я-то не считаю это сенсацией. Поймите, я никогда не оценивал себя в масштабах города Екатеринбург. Я хотел писать лучше, чем Пастернак, я хотел писать лучше, чем Бродский. Я считал себя человеком мира с раннего детства. Не очень меня интересовало, что происходит именно здесь, пока не стал работать в журнале. <…>
У меня не было комплекса на церемонии вручения премии в Москве, что я с Урала и меня облагодетельствовали. Мне прислали перед этим письмо из оргкомитета с поздравлением по поводу премии и Нового года, с обращением на «ты»: «Надеемся, что обращение на „ты“ тебя не покоробит?» Я им написал ответ с акцентом на «Вы». Может быть кому-то там очень хочется видеть во мне человека из деревни? Если б я не получил эту премию, то получил бы другую, может не московскую, а питерскую, случайности нет.
— А когда стих уже написан, не возникает желания перечеркать все, переделать?..
— Есть два вида литературы — «горизонтальная» и «вертикальная». Горизонтальная — это западная. Они пишут много, просто текст — полотно. В нем есть хорошие места, есть плохие. А есть вертикальная литература — это наша, русская; мы пишем, потом что-то вымарываем, что-то оставляем. Поэтом, «писакой» быть очень просто, а мастером стать очень сложно.
Он принадлежал к типу молодых людей, убежденных в том, что его ждали. Что удача равна его приходу. Что литература — шкала справедливости, устанавливаемой тотчас. Что житейские передряги остаются за бортом ее белоснежного лайнера. Получилось иначе. «Рылом в грязь».
Вручение премии происходило в шикарном столичном ресторане «Серебряный век», шикарном тем более что это — грандиозные бывшие бани. Белокаменные стены и овальные своды были многоцветно расписаны наядами и прочей обнаженкой квазиантичного образца. Вакханки били в тимпаны, камены парились.
Это называлось литературный обед. Собиралось ослепительное множество гостей, включая очень важных: чету Горбачевых в частности. Это при Михаиле Сергеевиче и Раисе Максимовне великая хулиганка Мария Розанова закончила свой тост дифирамбическим восклицанием:
— Заебукер!
Без скандалеза не обошлось. Позволю себе процитировать себя — очерк «Философия скандала» (Литературная газета. 1998. 28 января. № 3–4). Воспроизвожу сейчас этот текст с тем, чтобы читатель услышал интонацию тех времен, тех литературных нравов.
12 000 американских долларов равны 15 суткам.
Вот написал — и думаю: какой знак препинания тут ставить? Точку? Вопросительный? Ставлю и оставляю точку. Все равно с арифметикой нелады.
Рассказываю для родившихся после 65-го года. Был в том году — а может, раньше? — выпущен правительственный указ об административном наказании за мелкое хулиганство. Административное наказание — это, вообще-то говоря, тюрьма. По крайней мере у моего знакомого была она, родимая. Его мелкое хулиганство заключалось в кабацкой драке, а 15 суток днем насыщались трудами в детсадике на переброске лопатой уголька с земли в кочегарку. В детсадик и назад, в тюрьму, его сопровождал конвоир.
До сих пор он гордится. Вот, вот, вот. Гордится.
Кстати, когда его за это дело хотели выгнать из вуза, общефакультетское собрание дружно отстояло героя дня. Ну, выбил швейцару зубы — ну и выбил, чего тут? Имеет право. Получил премию «Комсомолки» за цикл стихов.
Но, глядя пристально в суровыя очи совести, неужели не ясно, что ежели не досталось подлинного, большого скандала, то и все остальное неявно и сомнительно? Что-то ведь когда-то называлось — гражданский поступок?
В этом смысле мне совершенно внятен поступок Галковского — его отказ от Антибукеровской премии[14]. Как в прошлом году — Гандлевского.
Жажда большого шага, как представляется, пронизала то, что они пишут. Но русскому писателю мало собственных текстов. Галковскому же мало быть и писателем. Он самоаттестуется писателем и философом.
Философ, на мой малопросвещенный взгляд, — это человек, чурающийся эффектов. А человек, работающий на внеинтеллектуальный публичный фейерверк, представляет другую профессию. А. Тимофеевский в «Русском телеграфе», № 5, в связи с антиантибукеровским фейерверком припомнил Ж. П. Сартра. Так вот, Сартр в качестве отказника от премии был, во-первых, первым. Пастернак не в счет: это был не отказ, это было другое. Во-вторых, то была Нобелевка.
Есть разница? Или ее нет? Как насчет масштабов? Или наши писатели и философы уже выстраивают очередь за отказом? И как же это так — быть не первым?
Боже, какое счастье, когда приходит нормальный поэт на эту самую литературно-обеденную церемонию, берет свою награду, улыбается жене и топает домой. Вам что — вот это вредит?
Я вслух прочел близкому человеку письмо Галковского в «Независимую газету». Женское сердце рыдало. Ей жалко автора письма. И мне жалко. Это же очевидное нездоровье. Душа автора болит. Она и должна болеть. Но где кончается болезнь и начинается расчет? Где та грань? Эффект-то один — бьющая в глаза философия скандала. Не навязанная извне (случай Пастернака), но идущая из самых воспаленных глубин больной души, мучительно мечущейся по грудной клетке.
Обиженный человек апеллирует к чему-то им воображенному, абсолютно не по адресу, навсегда перепутав времена и персонажей. Ну как, например, можно было пристегнуть к антибукеровской среде Юнну Мориц? С какого бока? Она-то ведь и тут впереди — взяла самоотвод. Который, как это ни печально, обеспечен точностью выбора и достоинством тона. Опять-таки разница в масштабах. (Ю. Мориц отказалась от участия в конкурсе, увидев свое имя в шорт-листе. — И. Ф., 2014)
Ты, Моцарт, недостоин сам себя? Увы. Вот этого-то и нет — артистизма, свыше внушенного жеста, музыкальности поступка. Есть искалеченная судьба, надрыв, голошение, поведенческая литературщина и расчет. В интервью «Общей газете» № 4, на которое он пошел «довольно охотно», Галковский сказал: «…сейчас меня заботит только последовательность». Это поистине последовательно: обложив шестидесятников, задушевно откровенничать с сугубо шестидесятническим органом. И не надо тут искать абсурд или литературу абсурда. Это — последовательность. Я тут у вас вчера посуду перебил, так теперь подавайте опохмелку. <…> Грош цена всему этому, 15 суток, а не кара небес.
Итак, 20 декабря 1999 года мы вынесли свое решение, а 22-го «Независимая газета» вышла с материалами, посвященными «Антибукеру».
ВЧЕРА, 21 декабря, стали известны имена лауреатов независимой литературной премии Антибукер. По традиции объявление результатов приурочено ко дню рождения «Независимой газеты» (на сей раз — в девятую годовщину со дня рождения). По традиции же объявление имен лауреатов и пресс-конференция членов Антибукеровского жюри проходили в Парадном зале Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.
Пресс-конференцию открыл главный редактор «НГ», он же — председатель всех пяти жюри (без права голоса). Пятилетний юбилей премии, по словам Третьякова, будет отмечен 21 января будущего года если и не празднеством, то непременными торжествами. Он также подтвердил, что Антибукер по-прежнему находится на полном денежном довольствии газеты. В этом году, правда, поступали предложения «разделить финансовое бремя», но в обоих случаях условием было присоединение к названию «второго слова». По недолгом размышлении Третьяков был вынужден отказаться от этих предложений, решив, что пока выходит «НГ», следует «сохранить в чистоте название Антибукер».
…Член жюри премии «Луч света» Алла Латынина подтвердила в своем выступлении неизменную нелюбовь к самому названию Антибукер, однако же заметила, что в последние годы именно Антибукер зарекомендовал себя как самая демократическая премия России: сюда «может прийти любой человек с рукописью, например пьесы, или иным сочинением, которые не могут получить премию в более неповоротливых условиях Букера».
…От поэтического жюри слово взял Илья Фаликов. Он поведал собравшимся, что единодушия в жюри не было. Но решение было принято такое: премию «Незнакомка» в этом году не присуждать, а выдать неполномасштабную поощрительную премию с формулировкой «За дебют» екатеринбургскому поэту Борису Рыжему.
Илья Фаликов вспомнил о «высоких традициях», важных для прежних лауреатов «Незнакомки»: если для Максима Амелина, к примеру, важен опыт Хвостова, то для Рыжего таким авторитетом является Денис Давыдов.
Далее идет мой материал, в будущей книге «Прозапростихи» (М.: Новый ключ, 2000) напечатанный под заголовком «…with love».
БОРИС РЫЖИЙ озаглавил свою подборку в «Знамени» № 4 при помощи латиницы: From Sverdlovsk with love. Думаю, это произошло не оттого, что он в свое время «за чтением зренье садил / да коверкал язык иностранным». Дело в последнем слове. Love, господа. Он нас любит. Можно ли все это сказать по-русски? Можно. Однако это несколько не в жанре. Не в том жанре. Кроме того, мы имеем дело с поэтом, который представляет поколение после Бродского («Ниоткуда с любовью…»). Он не из ниоткуда. У него есть место, которое по-русски им обозначено как «сказочный Свердловск». Таким образом, Sverdlovsk — место достаточно условное, принадлежащее географии сугубо поэтической.
Тем не менее там, в том месте, люди живут совершенно реально — жестоко и кровопролитно. И мы, которых поэт любит, не должны слишком обольщаться на свой счет: при ближайшем рассмотрении этот Рыжий (псевдоним?) больше, чем нас, любит тех, о ком он пишет. По существу, он приходит к нам с любовью к ним. Это те его кенты, которые теперь лежат на безымянном кладбище: «Они споткнулись с медью в черепах / как первые солдаты перестройки». Уголовная романтика чуть не ногой открыла дверь стиха, Робин Гуд запел, и его песня оказалась поминальным плачем. Мы слышим голос тех, кто грабит нас и убивает друг друга. Информация идет из первых рук. Отрабатывается пословица из Даля: «Рыжий да красный, человек опасный». Про себя говорится: «Земная шваль — бандиты и поэты». Их музы-подружки тоже гибнут. «Эля, ты стала облаком / или ты им не стала?»
Лихому человеку с Урала 25 лет, и он окончил Горную академию по специальности «ядерная геофизика и геоэкология». Так что — маска? Неправдашний молодой волк? Попробуйте не поверить, когда вам говорят с неподдельным пафосом: «Чем оправдывается все это? / Тем, что завтра на смертный бой / выйдем трезвые до рассвета, / не вернется никто домой». Sverdlovsk пахнет если не Сталинградом, то Афганом или Чечней. Почти Багрицкий: «Нас водила молодость…».
Впрочем, Рыжий предпочитает других учителей: «Денис Давыдов. Батюшков смешной. / Некрасов желчный. Вяземский усталый». Заострив внимание на первом имени в этом ряду, вполне поймем следующую информацию: «И назло моим учителям / очень разухабистую песню / сочиню». Или — еще конкретнее: «Пойду в общагу ПТУ, / гусар, повеса из повес». На память приходит Ярослав Смеляков: «Раз вы Пушкина учитель, — / значит, вы учитель мой».
Кстати говоря, старшие современные поэты — в качестве учителей — отчетливо слышны у Рыжего, в частности Высоцкий, ранний Шкляревский.
На дне его лихих, скоростных, буйных стихов — интонация глубоко правдивой печали. В ее чистоте — его недемонстративный суд над собой. «Судья, вы забыли о смерти, / что смотрит вам через плечо», — напоминает он некоему оппоненту.
«Трансазиатский поэт», он адекватно самоопределяется: «Я мало-мало стал поэтом, / конечно, злым, конечно, бедным». Он все знает про себя, хотя: «Я сам не знаю то, что знает память». Его формулировки безошибочны. Придумав героя, он объясняется так: «Я придумал его, потому / что поэту не в кайф без героя».
Это дебют. Дебют по сути, а не по арифметике выступлений. Поэт говорит: я пришел.
Борис Рыжий — полнозвучное и убедительное сообщение о тех, кого мы еще не знаем. Авторский образ, им созданный, оправдан необходимостью в этом знании. Его дебютное мастерство покоряет. Стремительность, яркость и точность его стиха в результате дают надежду на то, что в реальной географии — в большой стране Россия — существует немало реальных градов и весей, еще не убивших своих поэтов. Территория стиха не убывает — постоянно расширяется. Между прочим, Борис Рыжий, помимо прочего, пишет еще и очерки о названиях и пространствах России (ошибка: очерков не было. — И. Ф., 2014).
Sverdlovsk — условность. Рыжий — возможно, кликуха. Борис Рыжий — поэт, и он настоящий.
Это был, очевидно, первый во всероссийской печати отклик на его возникновение.
Вскоре у Бориса вышла книжка «И всё такое…». К ее выходу мы с ним успели познакомиться, встретиться и поговорить — очно и по телефону. Его приход ко мне домой датирован надписью на этой книжке: «Илье Фаликову — с глубочайшим уважением. Б. Рыжий. 11. 2000». Он был русоволос и казался высоким.
В один из бурных дней Международного конгресса поэтов в Питере, в перерыве большого поэтического вечера, к Борису подошел Геннадий Комаров, издатель серии «Пушкинский фонд». Это был второй подарок судьбы на июньских берегах Невы тех дней: первым было знакомство с Сергеем Гандлевским.
Комаров пригласил Бориса издаться книжкой в его поэтической серии «Автограф». О большем и мечтать нельзя было, тем более что незадолго до того Борис уже кому-то из екатеринбургских собратьев розыгрышно привирал о таком варианте. Приглашение Комарова привело его в состояние растерянности. Он вдруг ощутил, что стихов — настоящих и больших — у него мало. Есть, конечно, но — мало. Наступили мучения отбора. Это всегда пересмотр всей своей жизни, а не только качества стихов.
Книжка «И всё такое…» вышла весной 2000 года и получилась тоненькой: 56 страничек.
Была ли она равна ему? Трудно сказать. Он мог быть по достоинству оценен только теми, кто уже услышал и принял его. Но бесспорно одно — там не было ничего лишнего.
Вошел ли этой книгой в русскую поэзию новый большой поэт? Пожалуй, да. Но оставались вопросы. Он это чувствовал.
На книгу Рыжего «И всё такое…» отозвалась Евгения Изварина стихотворением, полным тяжелых предчувствий:
валяй вправляй эпохам раз над прахом лежит земля само собою пухом но чтоб ни сесть ни встать живи с размахом а после ляг прочтут единым духом переведут пойми что не воюют где сны свинцовой пылью тяжелеют да пусть хоть в бога душу размалюют смешно надеяться что пожалеютБорис давал повод к опасениям близких беспрерывно — в быту, в стихе. Еще до выхода книги думая о ее названии, он рассматривал и такое: «Арестант». За него боялись. Чего угодно можно было ожидать от автора таких вещей:
Когда менты мне репу расшибут, лишив меня и разума и чести за хмель, за матерок, за то, что тут ЗДЕСЬ САТЬ НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ. Тогда, наверно, вырвется вовне, потянется по сумрачным кварталам былое или снившееся мне — затейливым и тихим карнавалом. Наташа. Саша. Лёша. Алексей. Пьеро, сложивший лодочкой ладони. Шарманщик в окруженьи голубей. Русалки. Гномы. Ангелы и кони. Училки. Подхалимы. Подлецы. Два прапорщика из военкомата. Киношные смешные мертвецы, исчадье пластилинового ада. Денис Давыдов. Батюшков смешной. Некрасов желчный. Вяземский усталый. Весталка, что склонялась надо мной, и фея, что мой дом оберегала. И проч., и проч., и проч., и проч., и проч. Я сам не знаю то, что знает память. Идите к чёрту, удаляйтесь в ночь. От силы две строфы могу добавить. Три женщины. Три школьницы. Одна с косичками, другая в платье строгом, закрашена у третьей седина. За всех троих отвечу перед Богом. Мы умерли. Озвучит сей предмет музыкою, что мной была любима, за три рубля запроданный кларнет безвестного Синявина Вадима. («Когда менты мне репу расшибут…», 1998)Книжкой своей он и обескуражен, и обрадован одновременно, однако ждет похвал, прессы, разговоров о себе (рецензию В. Шубинского в журнале «Новая русская книга» не принимает, отзыв М. Окуня в журнале «Питерbook плюс» высоко ценит), раздаривает книжку широким жестом и с великодушно-звездными надписями типа: «Ирине Трубецкой с бесконечной нежностью от Бориса. Б. Рыжий 15.5.2000». На этом экземпляре дает — не без рисовки, но безусловно искренно — автокомментарий к некоторым стихотворениям (надписи на страницах с началом стихов):
«Над саквояжем в чёрном парке…» — Сочинено с глубокого похмелья…
«Что махновцы, вошли красиво…» — Сочинено ради славы
«В безответственные семнадцать…» — Написано под влиянием Б. А. Слуцкого
«Две сотни счётчик намотает…» — Блок А. А.
«Приобретут всеевропейский лоск…» — Ради славы!
«Когда менты мне репу расшибут…» — Полное говно!
«Не забухал, а первый раз напился…» — На троечку!
И так далее. Но кое-что ему нравилось все-таки.
«Включили новое кино…» — Лучшее вообще!
Александр Блок о некоторых своих стихах задним числом отзывался брезгливо: декадентщина. Он ясно сознавал губительность яда, пропитавшего эстетику (не говоря о другом) его времени. Вокзальная шлюха, по вдохновенному недоразумению ставшая Незнакомкой, завоевала массы. Ее товарки по работе на Невском проспекте представлялись Незнакомками. «Сочинено с глубокого похмелья». Кто бы мог подумать, что убийственная роскошь распада исподволь пронижет русского мальчика из уральской глубинки, завершив тот век, который она начала? Откуда мог знать Борис Петрович Рыжий, нараспев читая сыну латинскую медь Брюсова, что в сердце ребенка втекает струя страшной отравы? Мы недооцениваем могущества символизма.
Программа ранней гибели заложена с самого начала. Не долгожитель Пастернак, но Есенин и Маяковский, не пережившие своей молодости, — ориентиры начинающего.
Мне только девятнадцать, а уже Я точно знаю, где и как погибну — Сначала все покинут, а потом Продам все книги. Дальше будет холод, Который я не вынесу. («Приветствие», 1993, октябрь)Это было возвратным эхом пандемии поэтического суицида, разразившейся в начале XX века. В. Гофман (1884–1911), В. Князев (1891–1913), А. Лозина-Лозинский (1886–1916), Н. Львова (1891–1913), Муни (С. Киссин, 1885–1916) и многие, слишком многие другие. Декаданс — не пустой звук.
Так или иначе, 1999 год стал поворотным. Борис пишет «Качели», вещь концептуальную, хотя, заметим попутно, о концептуалистах (Пригов, Рубинштейн, Кибиров) он не говорит ничего хорошего. Всё условно: и некий концептуализм, и объединение этих трех несхожих имен под одним флагом — игры досужей литкритики. В чем концепт Рыжего? В понимании жизни как взлета и падения. Качели становились строчками его разных стихотворений: «Те же старухи и те же качели…» (1994), «Где качели с каруселями, мотодромы с автодромами…» (1998), «уснул, качаясь на качели, вокруг какие-то кусты…» (1999) — его «Качели» были им подготовлены, проговорены, прожиты и вылиты на одном дыхании. Можно сказать, к «Антибукеру» он был теоретически готов.
Был двор, а во дворе качели позвякивали и скрипели. С качелей прыгали в листву, что дворники собрать успели. Качающиеся гурьбой взлетали сами над собой. Я помню запах листьев прелых и запах неба голубой. Последняя неделя лета. На нас глядят Алёна, Света. Все прыгнули, а я не смог, что очень плохо для поэта. О, как досадно было, но всё в памяти освещено каким-то жалостливым светом. Живи, другого не дано! 1999Тотчас узнаётся Федор Сологуб, о котором Рыжий сам без утайки говорил в том смысле, что это его любимый поэт на ту пору. Да, «Чертовы качели» Сологуба:
В тени косматой ели, Над шумною рекой Качает черт качели Мохнатою рукой. Качает и смеется, Вперед, назад, Вперед, назад. Доска скрипит и гнется, О сук тяжелый трется Натянутый канат. Снует с протяжным скрипом Шатучая доска, И черт хохочет с хрипом, Хватаясь за бока. Держусь, томлюсь, качаюсь, Вперед, назад, Вперед, назад, Хватаюсь и мотаюсь, И отвести стараюсь От черта томный взгляд. Над верхом темной ели Хохочет голубой: «Попался на качели, Качайся, черт с тобой». В тени косматой ели Визжат, кружась гурьбой: «Попался на качели, Качайся, черт с тобой». Я знаю, черт не бросит Стремительной доски, Пока меня не скосит Грозящий взмах руки, Пока не перетрется, Крутяся, конопля, Пока не подвернется Ко мне моя земля. Взлечу я выше ели, И лбом о землю трах. Качай же, черт, качели, Все выше, выше… ах! 14 июня 1907 годаУзнаётся — безусловно. Но разница говорения, оригинальность голосоведения столь же безусловны. Рыжий убеждает себя жить, другого не дано, потому что его преследует мысль о том, что есть и другое.
В Москве и Питере никто толком не знал о послеантибукеровских метаниях Бориса. Это знал Олег Дозморов:
Это ко мне ты (обращение к Борису. — И. Ф.) прибежал накануне кандидатского по философии, чтобы прочитать наизусть новое стихотворение Гандлевского. Я решил, это твое, не заметил у тебя в руке вырванного из «Знамени» листка. Вот почему по твоему лицу пробежала тень, когда я, преодолевая зависть, промямлил: «Гениально, Боря. Когда написал?» Изумительно, шум в голове и сейчас от того частушечного размера, с перебивом ритма в третьей строке каждого четверостишия. А это, из «Сказки о царе Салтане»? Ты заметил? Нет, на пушкинские строки тебе указала Ирина, читавшая обычно Артему сказки на ночь. Помните, я рассказывал эту историю, Сергей Маркович, вам было приятно, как коту, которого почесали за ухом. Это мне ты читал свое стихотворение, которое Никулина (Майя Никулина — екатеринбургский поэт. — И.Ф.) выбросила из «уральской» подборки, со слезами, на мосту через Москва-реку с видом на Дом на набережной. Тебя никто не понимает на Урале, а в Питере, чтобы напечататься в «Звезде», приходится унижаться перед литературными генералами, и вот ты льешь пьяные слезы посреди столицы, которая скоро, скоро, потерпи немного, будет к тебе благосклонна. Это меня ты представлял как первого поэта Екатеринбурга и добавлял всегда, выдержав паузу: после меня, да я не спорю, сам же благородно пропустил тебя вперед в том стихотворении, в «Звезде». Это я тебя вытаскивал из окровавленной ванны, когда ты полоснул по венам безопасной бритвой, и успокаивал, пока ехала психбригада. Это я тебя отмазывал от милиции в поезде, на вокзале, в Питере на Невском. Я привез тебя из Питера и передал, драгоценного, с бланшем под глазом, чуть живого, с рук на руки родителям, и Борис Петрович совал мне полтинник на такси. Я поеду на трамвае, тут останавливается двадцать третий номер, спасибо, Борис Петрович. Через неделю ты позвонил из Голландии никакой и заплетающимся голосом сообщил, что русских поэтов на Западе любят, Олег, мы пробьемся, позвони только родителям и скажи, что со мной все в порядке. «Пьяный?» — сразу догадалась Маргарита Михайловна, и, прости, Боря, я не мог соврать. Это было уже после «Антибукера», после которого ты страшно изменился. Морально ты не был готов не то что к премии, к простой публикации, я читал переписку с Кушнером. В одном интервью, которые посыпались на тебя, премиального, по приезде из Москвы, ты сказал, что, дескать, сейчас борешься с похмельем. Приходить в себя пришлось все последние полтора года после «Антибукера». Премия и вообще известность тебе, конечно, невероятно шли, в мутном омуте славы ты чувствовал себя как рыба в воде, но и звездной болезнью ты заболел серьезно, чего там. Хотел и любил командовать. Поэзия — это армия, эту милитаристскую теорию Слуцкого мы знали как отче наш. Проступили отцовские замашки — холодность в общении с проштрафившимися литераторами-подчиненными, повисающие паузы в разговоре, который ты не считал нужным поддерживать, и прочее в том же духе. Чтобы была настоящая слава, говорил ты, нужно человек тридцать идиотов, которые будут ходить по салонам и орать твои стихи. Да вот закавыка — в Екатеринбурге не набрать столько, очень уж тонок культурный слой, очень уж беден. Значит, надо ехать в Москву, ничего не поделаешь.
Пожалуй, был прав А. Машевский в отзыве на «И всё такое…» (Последний советский поэт // Новый мир. 2000. № 12):
В понимании Рыжего дело не только в конечном страдании и смерти. Его обыденный, примитивный герой уравнен с любым умником своей потенциальной предназначенностью к чему-то высшему, подлинному, что всегда, хотя бы в зачатке, есть в каждой судьбе, но трагически не может осуществиться. В душе самого убогого и пошлого человека как бы живет некая музыка (и именно музыка становится ведущим мотивом книги Бориса). Она заглушена бытовым скотством, нищетой личности, виноватой в собственном ничтожестве, обстоятельствами подлой социальной реальности. Но она есть. Точно так же, как в нашей чудовищной и кровавой советской действительности в потенции присутствовал порыв к справедливости и всеобщему счастью.
Главной темой книги Рыжего становится тоска вечной нереализованности человека, страны, идеи. Нереализованности того, что было призвано к реализации, и вот не случилось, не состоялось. Острота и подлинность ощущения поэтом этой катастрофы как катастрофы личной, поколенческой, национальной завораживает:
Так не вышло из меня поэта и уже не выйдет никогда. Господа, что скажете на это? Молча пьют и плачут господа. Пьют и плачут, девок обнимают, снова пьют и всё-таки молчат, головой тонически качают, матом силлабически кричат.Но именно тут-то и обнаруживается прорыв, катарсис размыкания невозможности бытия собственной жертвой. Гибель всего дорогого, сама смерть отождествляется с нравственной победой и преодолением. Первое стихотворение сборника Бориса Рыжего заканчивается строками, которыми и хочется подвести итог не только его яркому творческому пути, но и в некотором смысле нашей недавней истории:
Спи, ни о чём не беспокойся, есть только музыка одна.Я бы сделал тут акцент на мысли о жертве. Потому что не в «последней советскости» дело, а в категориях глубоко религиозных — жертве и искуплении.
Надиктуй мне стихи о любви, хоть немного душой покриви, моё сердце холодное, злое неожиданной строчкой взорви. Расскажи мне простые слова, чтобы кругом пошла голова. В мокром парке башками седыми, улыбаясь, качает братва. Удивляются: сколь тебе лет? Ты, братишка, в натуре поэт. Это всё приключилось с тобою, и цены твоей повести нет. Улыбаюсь, уделав стакан за удачу, и прячу в карман, пожимаю рабочие руки, уплываю, качаясь в туман. Расставляю все точки над «ё». Мне в аду полыхать за враньё, но в раю уготовано место вам — за веру в призванье моё. («Надиктуй мне стихи о любви…», 1999)Дозморов верно комментирует:
Попробуем и здесь расставить точки над «ё». Поэт признается в неспособности самостоятельно написать стихи о любви и просит кого-то (надо полагать, бога) надиктовать ему их. Братва признает в нем истинного поэта, он отправляется гореть в аду за вранье, спасая тем самым братву, которая «за веру» попадет в рай. Буквально так: поэт страдает за народ.
В журнале «Арион» (2001. № 4) я напечатал статью «Повседневность», где сведены четыре поэта — Лев Лосев, Бахыт Кенжеев, Вера Павлова и Борис Рыжий.
…Поколенческая арифметика, как и вообще все числовые действия применительно к поэзии — штука условная и совершенно ненадежная в качестве какой-то точки отсчета (это не выпад против подсчетов А. Белого или М. Гаспарова: там другое). Тем не менее, пробежав по книжкам Лосева, Кенжеева и Павловой, могу сейчас напомнить забытый стих Луговского: «три поколенья культуры и три поколенья тоски». Современная поэзия протекает в параметрах трех поколений. Но явилось четвертое. Учитывая некоторую сакральность этого числа после мандельштамовской нумерации своей прозы, прибегну к попытке термина: четвертое поколение.
У Бориса Рыжего, в его мире, фигурально говоря, Есенин наконец-то ответил взаимностью Мандельштаму: антиподы сошлись. Естественная функция внуков-правнуков. Но Есенин (как, впрочем, и Мандельштам) Рыжего больше мифоповеденческий, нежели стиховой. По стиху, по складу речи («говор свердловский») Рыжий идет за Есениным лишь в романсе («Море»), и то это романс городской или блатной, а не есенинский. Автогерой Рыжего не от сохи и не от станка, его случай — заводской двор, Вторчермет и женская общага для интимных визитов. Здесь больше Смелякова, чем Есенина. Но, «придумав» своего героя, Рыжий действует в атмосфере не «Бродячей собаки», а «Стойла Пегаса», которое Есенин закрыл как тему. Рыжий ее опять открыл.
Само по себе это не хорошо и не плохо. Он многое в самом себе называет актерством, и это нормально. Заводской двор его начальной поры у него стыкуется с абсолютно закрытой от двора жизнью: дом, в котором происходят разговоры с отцом, после которых он идет читать «какого-нибудь Кафку» и шпарить стихи «под Бродского», у которых находится как минимум одна поклонница. Персонаж внутренне дробится, но «к буйству и пьянству / твёрдой рукою себя приучает». Это похоже на трезвый выбор, но кажется стихийной неизбежностью, потому что Рыжий органичен.
Книжка Рыжего («И всё такое…») небольшая, и по ней нетрудно пройти в поисках его поэтической ономастики. Действительно, кого он счел необходимым упомянуть в стихах? Слуцкий, Штейнберг, Денис Давыдов, Батюшков, Некрасов, Вяземский, Ариосто, Дант, Оден, Мандельштам, Кафка, Бродский… Плюс друзья поэты, не говоря о школьных и уличных кентах. Перечень имен достаточно репрезентативен. С их помощью он нацелен «писать с натуры», и у него — получается, поскольку ему дано врожденное чувство формы. Это чувство сочетается с природным даром лаконизма. Каждое стихотворение вовремя начато и вовремя закончено, порой — оборвано. Рыжему проще проглотить слова, чем нагородить лишнего.
Включили новое кино, и началась иная пьянка, но всё равно, но всё равно то там, то здесь звучит «таганка». Что Ариосто или Дант! Я человек того покроя — я твой навеки арестант и всё такое, всё такое.Такая песня о Родине. Он ее не называет, обращаясь к ней. Датировано 96-м годом: автору двадцать с небольшим. Но, вообще говоря, это редкий, если не единственный пример намека, или той недоговоренности, которая похожа на намек, у Рыжего: в целом это на редкость отчетливый мир. В нынешнем разливе лжесуггестивности Рыжий покоряет почти лобовой прямотой: я — такой, жизнь моя — такая, песня моя рождена вот тут и ее слушатели — вот эти люди. Он не стесняется хтонического патриотизма, извлекая из него свою поэтическую выгоду: Свердловск и вообще Урал в этих стихах озарены двуединым светом любви-ненависти. К заводскому двору подключены то лесопилка, то приисковый поселок, в пейзаж попадают лесовоз, трактор, драга и почему-то паровоз… «Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей / и обеими руками обнимал моих друзей…» Если допустить, что «Уфалей» — рассчитанный экзотизм, то вот это «обеими руками» — поэзия в чистом виде, без тени подделки: совершенное сочетание речевого жеста с движением души. Последующие пиитизмы («Можно лечь на синий воздух…» и т. д.) остраняются без натуги, «говор свердловский» не воспроизводится, а производится на глазах: «„Приму“ ехала курила вся свердловская шпана».
У него нет промахов в эпитетах. «Прожекторы ночного дискоклуба / гуляли по зеленым облакам», «Круглоголовые китайцы / тащили мимо барахло» etc. Это эпитеты не в плане мандельштамовской экспрессивности с установкой на неожиданность («крупнозернистого покоя и добра») — обычные прилагательные, отвечающие натуре, с которой все это пишется. Забавно звучащее «в Париже знойном» — тоже правда, потому что Париж — он такой для «трансазиатского поэта». Между прочим, сам словарь Рыжего, при всем обилии уличной фени, в основе своей, как ни парадоксально, целомудрен. Барков не его учитель.
Обыкновенное дело для поэта — готовность к гибели. А все же она пугает. Потому что у Рыжего ею пронизаны все стихи. Он изначально заряжен на мгновенность, вспышечность, метеоритность судьбы. Ибо он ворвался в тот образ мира, где образ поэта состоит из отваги и бесшабашности. «Я читал ей о жизни поэта, / чётко к смерти поэта клоня». Хулиганский имморализм подпитан потерей детских ценностей, почерпнутых во многом из старого советского кино и вообще той жизни и того искусства, где мы побеждаем фашистов и Гагарин махнул рукой. Остались «сиротство, жалость, тоска».
Эта установка на мгновенность может опасно оправдаться в сугубо поэтическом плане: мало ли ярких дарований сгорело за одну секунду? Во многом Рыжий хорош тем, что присуще молодости, которая проходит. Но ему может пригодиться в дальнейшем то же самое, что сейчас его разносит: живая боль, ненависть к себе и даже жажда любви к себе. Важен и вектор самого движения: не урезание — для вящей оригинальности — стиховой площади литучебы, но та самая попытка сплава антиподов в единой любви к ним. Не исключено, что это общий вектор четвертого поколения. Мне кажется, частный интерес Рыжего к таким фигурам нынешнего беспамятства, как Слуцкий и Луговской, может дать свой результат.
Я далек от мысли отнести Рыжего к есенинской епархии. Все сложнее, как и давние взаимоотношения Есенина с Мандельштамом. Интересней другое. В «Записных книжках» Ахматовой читаем (запись от 18 февраля 66-го года): «Вчера по радио слышу стихи с музыкой. Очень архаично, славянизмы, высокий строй.
Кто это? Державин? Батюшков? Нет, через минуту выясняется, что это просто Есенин. Это меня немного смутило. К Есенину я всегда относилась довольно прохладно. В чем же дело? — Неужели то, что мы сейчас слышим и читаем, настолько хуже, что Есенин кажется высоким поэтом? А то, что мы слышим и читаем, сделано часто щегольски, всегда умело, но с неизбежным привкусом какого-то маргаринно-сахаринного сюсюка. Это неизбежная часть программы».
В этом соль и в этом дело, в конце концов.
Ахматова судит о Есенине без учета музыки Свиридова (скорей всего это была его поэма «Памяти Сергея Есенина»), здесь другая гамма эмоций — от удивления до сердитости. Но больше всего поражает в семидесятипятилетнем человеке ген самообновления.
Весь мой этот разговор прошел на фоне Ахматовой не случайно. Нет спора, первоимпульс и главный хранитель ахматовского мифа — она сама. Но речь несколько о другом. О личности. Эта личность явила бесподобный образец выживаемости поэта в экстремальных условиях без потери поэтической сущности. Та четверка поэтов, на которых мы тут бегло посмотрели, идет той же дорогой. Не след в след, но путь един.
Неизбежное дополнение
Я жил за границей, когда стряслась беда с Борисом Рыжим. Ко мне прилетела жена. Мы с Натальей сидели вдвоем в мансарде за скромно-праздничным столом, когда она сказала: «Приготовься к очень плохому. Я должна тебе это сказать. Повесился Борис Рыжий».
Борис звонил мне накануне моего отлета, когда мы с Рейном, заглянувшим ко мне, ушли гулять по Москве. Он повис в воздухе в момент моего взлета на Дюссельдорф. Нет конца моей вине, я в чем-то виноват, не знаю в чем… <…> Что-то меня связывало с ним помимо стихов. Может быть, родство натур, мною различаемое, ему неизвестное по разнице в возрасте. Может быть, провинциальное происхождение. В любом случае — в его стихах и над стихами дул свежий ветер с востока в сторону столицы, в сторону большой судьбы, ветер, воющий по ночам среди мрачно-серых кварталов огромного промышленно-бандитского города. Его появление на вручении премии вызвало переполох. Внешне он оказался эдаким хулиганизированным Блоком со шрамом на скуле. В ресторан «Серебряный век» он явился уже на взводе, музыкантам струнного квартета, играющим что-то классическое, бросил: «Сбацайте Моцарта!», шарахался без привязи под аляповато расписанными сводами бывшей бани, долго сидел за моим столиком, за столиком Рейна, успел задрать Максима Амелина, еще кого-то, на прощанье влепил в уста страстный поцелуй моей жене, что совершенно потрясло молодых ребят из «Независимой газеты», и, отдав ей свой наградной букет роз, исчез в ночи. Накануне получения награды он провел ночь у Гандлевского, никакого эпатажа, по-видимому, не явил, если судить по тому, что Гандлевский позже очень тепло отметил его очередную публикацию в «Знамени». Он стал звонить мне из Екатеринбурга. Это были звонки по поводу и без повода. Поводом были, скажем, мои какие-то публикации. Для него было откровением то, что нынче стало попросту хорошо забытым старым. Я говорю о некоторых свойствах стиха и именах позавчерашней эпохи — Слуцкий, Луговской. Его звонки можно было бы счесть лестью и расчетом, но в трубке звучал живой, взволнованный голос юноши, ищущего старших. Ему недоставало живых, материализованных учителей, он честно говорил о полном незнании той эпохи, в которой задержался я. Потом он приехал в Москву, зашел ко мне, принес эквадорскую розу без шипов Наташе, и эта роза у нас осталась по сей день. К той поре уже вышла его книжка в «Пушкинском фонде», он надписал ее нам. Книжка получилась тоненькая, он был не уверен в ней и затем, уехав, звонил в жажде нашего впечатления о ней. Во время гостевания у меня он был трезв, говорил, что совсем завязал, но вчерашним по крайней мере пивком от него попахивало. Я надписал ему свою книжку «Прозапростихи», наутро он, еще будучи в Москве, позвонил: прочел за ночь. Между прочим, сетуя на свое екатеринбургское одиночество, он пылко и щедро хвалил своих нескольких тамошних друзей-поэтов, и, потом прочитав некоторых из них, я убедился в его правоте: там есть хорошие ребята. Как-то, в одном из телефонных разговоров, он просил совета относительно издания предлагаемой ему «Пушкинским фондом» новой книжки: надо ли издаваться? Бери, пока дают. Таков был мой совет. Я обращался к нему на «вы», дистанции не сокращал, а мог бы: что-то вроде сыновства он сам предлагал мне. О его книжке я отозвался по телефону скуповато-сдержанно, о чем тогда же пожалел, и произнес нечто маловразумительное насчет моего отклика на нее. В самом конце апреля я сдал в «Арион» статью о четырех современных поэтах, в том числе о нем. В начале мая, в один день, мы оба взлетели. Я — в Германию, он — туда, откуда нет возврата. Его последний звонок мог быть просьбой о совете, стал неразделенным прощаньем. Знаю, чему быть, того не миновать. Если в тебе заложена эта программа, она будет осуществлена. Знаю. И чем я виноват, чем виноват?[15] Чем-то. Как всегда, говоря об ушедшем, больше говоришь о себе, чем о нем, прости меня, Боря.
Хочу подчеркнуть, что постскриптум «Неизбежное дополнение» написан и напечатан тогда же — как незапланированный финал статьи «Повседневность».
Вернувшись из Европ, я сидел на Чистопрудном бульваре. Был чистый понедельник, начало Великого поста. На пруду еще стоял серый потресканный лед, в ресторане «Белый лебедь» позвякивала посуда в унисон ползущему трамваю. Набормотались стихи.
Понедельник. Чистые пруды. Надо бы заканчивать труды из числа молитвенных. Не стоит требовать питья, просить еды у звезды — не кормит и не поит. В трещинах небесный потолок. Гаснет — дым пространство заволок — голос твой, а фактор отголоска неправдоподобен и далек, как звонок из города Свердловска. Воздух глух, на сердце много ран, сердце — дар весны, его украли, и кричит на пруд по вечерам Белый лебедь — то ли ресторан, то ли зона где-то на Урале. Обзвонит трамвайное кольцо спящих сов. На красное крыльцо выйдет колокольная столица. У неё землистое лицо. Звон стоит, и спящему не спится. Странничек с дремучей бородой на скамейке дрыхнет день-деньской. Он вчера вернулся из Парижей. Спит, не дрогнув. Злой и молодой. Это ты звонишь мне, Боря Рыжий?…В 2002 году 29 ноября я записал в дневнике:
Кейс Верхейл, человек из Амстердама, — славист, романист, ему 62, ровесник Бродского, с которым подружился, когда в 67-м стажировался тут в МГУ в аспирантуре, писал диссертацию по Ахматовой, заезжал в Питер. На Рыжего его вывел Кирилл Кобрин. В 2000-м зачем-то, сам не знает зачем, отправился в Екатеринбург, где познакомился с Борисом, и тот произвел на него впечатление, равное впечатлению от Бродского. Разило поэтом. Потом у них завязалась переписка. Сейчас готовит его книгу там у себя. По-русски говорит хорошо, все понимает, внешне — достаточно стройный джентльмен, седенький, типичный профессор-европеец. У меня натоплено, он снял шарфик из-под рубашки, положил рядом с собой на тахте, раскраснелся, отвалился на подушку, которую принесла Наталья. Любит говорить сам, но и слушает охотно. Интересовался антибукеровским сюжетом и тем, как теперь воспринимает Москва Бориса. В Екатеринбурге хотят издать книгу, но вдова возражает: издатели — те люди, которые гнобили его при жизни. Отец смотрит по-другому. Именно отец занимается архивом, собрал все до строчки, систематизировал, подготовил книгу.
Позже — «Знамя» № 1 за 2005 год, эссе «Остается любовью» — Верхейл пропишет подробности приближения к Борису Рыжему:
На первый взгляд я познакомился с Борисом Рыжим совершенно случайно. Осенью 2000 года, собираясь в очередной раз в Петербург, мы с моим голландским другом решили совершить в России дополнительную поездку в незнакомый и, по представлениям иностранца, более или менее экзотический город. Почему наш выбор пал именно на Екатеринбург, трудно сказать. Скорее всего, сыграли роль исторические ассоциации: в частности, гибель Николая II и его семьи, о которой я читал в детстве в биографии царя, переведенной с немецкого. К тому же сыграли роль, несомненно, красота старого и только что возвращенного названия этого города, который мы знали из уроков географии как Свердловск, сознание того, что еще совсем недавно он был для нас закрыт, а также романтические представления о горном ландшафте Урала. Несмотря на то что большинство наших питерских и московских друзей отговаривали нас ехать в такую, по их выражению, неинтересную глубинку и предлагали кто Самару, кто Ярославль, мы решили последовать своей интуиции.
Перед самой поездкой один мой знакомый русский писатель дал мне номер телефона — как потом оказалось, неправильный — молодого екатеринбургского поэта, с которым, по его мнению, мне стоило познакомиться. Участие Бориса Рыжего в фестивале Poetry International прошло мимо меня, но его фигура была мне уже более или менее известна по публикации его стихов, которую я встретил в «Знамени» и которая, как я вспомнил, на меня произвела на редкость сильное впечатление оригинальностью тематики и свежестью языка.
В Екатеринбурге я звонил раз пять по полученному неправильному номеру. Никто не отвечал, и я, правда, не слишком жалел об этом. Зачем навязывать себя талантливому молодому человеку, которому, вероятно, нет дела до иностранного туриста? И зачем мне тратить свое время на уральского парня, который почему-то представлялся мне не то местным ксенофобом в толстых интеллигентских очках, не то молодым <Григорием> Распутиным?
По настоянию своего спутника я в предпоследний день отыскал через редакцию журнала «Урал» правильный номер Бориса Рыжего. Оказалось, что он, по его словам, уже предупрежденный нашим общим знакомым, с нетерпением ждет меня, и 21 сентября, накануне моего отъезда, мы встретились в редакции «Урала». Маленькая компания, состоявшая из двоих голландцев и двоих екатеринбургских поэтов, Бориса Рыжего и Олега Дозморова, вскоре переместилась из редакции в квартиру Бориных родителей.
О своих впечатлениях за те пять или шесть часов, что я провел рядом с ним, расскажу самое, с моей точки зрения, поразительное и существенное. Встреча была как будто повторением старой сцены, неожиданным новым вариантом одной, казалось бы, уникальной и ключевой в моей жизни встречи, которая произошла тоже в России, но более тридцати лет назад. Разница была только в том, что, когда я познакомился с Иосифом Бродским и первый раз с ним говорил в его ленинградском родительском доме, нам обоим было по двадцать семь. А теперь поэту, с которым я так же мгновенно, с первой же минуты, подружился и который смотрел на меня глазами Иосифа, было двадцать шесть, то есть примерно столько же, как нам тогда в Ленинграде. А на этот раз мне было шестьдесят. Что я хочу этим сказать? За свою достаточно продолжительную жизнь я был знаком с довольно многими поэтами, и хорошими и посредственными, и в России и на Западе. Но только в компании двух из них я инстинктивно чувствовал, слышал, видел своими глазами тот особенный заряд энергии, ту искру или, если хотите, то присутствие божественного начала, с которым со времен древности связан специфический смысл слова «поэт». Я говорю не о манере держаться. В отличие от иных их собратьев, ни Бродский, ни Рыжий не изображали собой поэтов нарочно. Даже, пожалуй, наоборот. Упомянутые мной встречи проходили во вполне нормальной, так сказать, атмосфере, весело и без тени претенциозной возвышенности. По-видимому, дело здесь в чем-то, для чего существует определенное слово, присутствие «поэта», хотя определить, в чем состоит это что-то, почти невозможно. Просто узнаешь, когда с этим сталкиваешься. Или, вернее, в двух случаях я это узнал.
Что касается своего понимания поэзии Рыжего, ограничусь высказыванием некоторых мыслей об одной ее грани. Фигура субъекта-героя наряду с тематикой постсоветской провинциальной тоски и бандитизма — это, конечно, первое, что бросается в глаза. Но мне хочется обратить внимание на другое. Стихи Бориса Рыжего с самого первого знакомства с ними поражали меня небывалой музыкальностью. Небывалой на слух иностранца — ведь именно пренебрежение музыкальной стороной поэзии характерно для большей части современной поэзии на Западе. Но, если не ошибаюсь, тонкая мелодичность стихов Бориса Рыжего редка, едва ли не уникальна также и в рамках теперешней русской поэзии. Рыжий мне представляется продолжателем той линии в русской поэзии, которая стояла под знаком так называемой мелодики стиха и которая во второй половине XX века исчезала, с одной стороны, за интеллектуальностью, а с другой стороны — за звучностью более грубого типа. Линия, о которой я говорю, — это, среди прочих, линия Лермонтова, Фета, Блока, позднего Мандельштама.
Говоря о мелодичности как существенном признаке поэзии Бориса Рыжего, я имею в виду не только ее физическое звучание. Мелодика в его случае — это в не меньшей мере внутренний принцип, так что помимо мелодики в буквальном смысле можно говорить и о мелодике стиля, мелодике мыслей и мелодике чувств.
Быстрая, короткая жизнь, а произошло много, и все было неоднозначно, при всей целеустремленности этого человека. Борис Рыжий не явил собой чего-то глобального, не стал при жизни медийной фигурой, по слову Пастернака (которого любил в четырнадцатилетнем возрасте, а потом резко разлюбил):
Позорно, ничего не знача, Быть притчей на устах у всех.Он — значил. И знал об этом. Пожизненная маета, сомнения в себе, разборки с собой, со своей средой, со всем миром наконец. Последние полтора-два года стали пределом. Он понял, что отмерил этап судьбы, но принял этап за всю судьбу. Он осознал, что ходит по кругу, из которого надо вырваться. На это его не хватило.
Можно ли быть только поэтом? Можно, наверное. Однако только-поэт попадает в жесточайший переплет. Когда ты занят только стихом, реальный мир не принимает тебя в расчет. У реальности свои заботы, страсти и планы. Твоя действительность другая, вторая, а ты думаешь, что она первая.
Кирилл Кобрин в свое время, будучи во главе альманаха «Urbi», одним из первых в Питере — вместе с Пуриным — заметил и оценил Рыжего, напечатал его в альманахе и собственное впечатление о нем перенес чуть не на всю литобщественность в известных «Письмах в Кейптаун о русской поэзии» (Октябрь. 2001. № 8):
Столичной литературной публике очень понравился этот «новый Есенин». Рыжему дали поощрительный вариант одной из литературных премий за (действительно удачную) стихотворную подборку в «Знамени». О нем переговариваются в Интернете. Одного боюсь. Помнишь, Петя (адресат Кобрина. — И. Ф.), фотографию прилизанного пейзанина в смазных сапогах, в косоворотке, с гармошкой в руках? Подпись «Сергей Есенин в салоне Мережковских. 1915 год»? Был бы я знаком с Рыжим, сказал бы ему: «Избегай, Боря, смазных сапог! Опасайся косоворотки! Не дай Бог, Мережковские прибьют тальянку к твоим рукам!»
Стихи — опасная штука для русского человека, Петя. Борис Рыжий не смог отмахнуться от назойливой есенинщины…
Ничего подобного. Ни «нового Есенина», ни ажиотажа, ни даже сочувственного внимания явление Рыжего в Москве на первых порах не вызвало. Ровно наоборот — литтусовка не приняла парня не из нашего города. Его приняли за бухого бузотера-выскочку из глухой дыры. Молодые конкуренты негодовали, мастера осторожно присматривались. Считаные единицы больше почуяли, чем осознали: пришел. А некоторые уже понимали, с кем имеют дело. В их числе поэтическая чета — Михаил Поздняев и Вера Павлова, с которыми он познакомился на питерском конгрессе. Он бывал у них дома, обогрет и привечен.
Я мог бы назвать, да не буду, достойные имена, составившие комплот отрицания и неприятия. Это они потом, задним числом, под напором посмертного успеха Бориса Рыжего открыли глаза на свершившийся социолитературный факт. Присоединиться к плакальщикам и дифирамбистам оказалось легко и просто.
Более точен Кобрин в общей характеристике Рыжего:
Рыжий — поэт именно легкий, попытавшийся сплавить традиционную напевность (которую он и принял за «одну только музыку», хотя это была даже не кузминская «музычка», — помнишь, Петя, «у нас не музыка, а только музычка, но в ней есть свой яд»?) с юношеской романтикой уркаганских пролетарских пригородов. Он попытался спеть свой родной Екатеринбург чуть ли не по-фетовски. Хронологически последние поэты, которые вошли в состав его крови, — советские романтики от Багрицкого до Луговского и Слуцкого. И Рейн, конечно. Ему надо было родиться совсем в другую эпоху, в четырнадцать лет зачитываться Брюсовым и выписывать единственный экземпляр «Весов» в своем губернском центре, в семнадцатом — ходить по улицам города с большим красным бантом, повоевать с белыми где-нибудь в Средней Азии, пожить в двадцать первом в «Диске», ходить к Гумилёву в студию, нюхать нэповский кокаин с Вагановым. Дальше не знаю. Впрочем:
Боже мой, не бросай мою душу во зле, — я как Слуцкий на фронт, я как Штейнберг на нары…Он будто и сны видел того самого юноши — из двадцатых, и сны эти прорывались иногда на бумагу:
Что махновцы, вошли красиво в незатейливый город N. По трактирам хлебали пиво да актёрок несли со сцен. Чем оправдывалось всё это? Тем оправдывалось, что есть за душой полтора сонета, сумасшедшинка, искра, спесь. Обыватели, эпигоны, марш в унылые конуры! Пластилиновые погоны, револьверы из фанеры. ………………………… Вы — стоящие на балконе жизни — умники, дураки. Мы — восхода на алом фоне исчезающие полки.Две последние строчки я так себе и представляю — как последний кадр «Неуловимых мстителей». Черные силуэты всадников на алом фоне огромного солнца.
Повторю за Кобриным: «Дальше не знаю. Впрочем…» Впрочем: Рыжий родился — когда надо. Его лирика совершенно соответствует времени своего звучания. Его ревромантизм мог появиться только в это время, и никакие другие эпохи с их красным бантом или нэповским кокаином не порождали поэтов, не имеющих никаких надежд на триумф неуловимых мстителей.
Это отражение отражения, верность эстетике предшественников, а не истории как таковой. В кинозале сидит зритель, который знает, что кино есть кино и что у кина есть свои законы.
Любовь к предшественникам можно выразить напрямую:
Афанасия оставил, Аполлона прочитал — то «Флоренции», но лучше я «Венгерке» подражал. Басаната, басаната… Но пора за каждый звук расплатиться, так-то, друг, и — горька твоя расплата. («Петербургским друзьям», 1998)Афанасий — разумеется, Фет, Аполлон — забубенный Григорьев.
Можно воспроизвести похожими средствами. Вот Давид Самойлов («Пестель, Поэт и Анна», 1965):
В соседний двор вползла каруца цугом, Залаял пес. На воздухе упругом Качались ветки, полные листвой. Стоял апрель. И жизнь была желанна. Он вновь услышал — распевает Анна. И задохнулся: «Анна! Боже мой!»Рыжий («Анна», 1997):
А Анна говорила, говорила, что, разбирая папины архивы, так плакала, чуть было не сошла с ума, и я невольно прослезился — хотя с иным намереньем явился, поцеловал и удалился вон.А можно — усвоить и переварить до неузнаваемости.
Вот Ходасевич («Дачное», 1923):
Уродики, уродища, уроды Весь день озерные мутили воды. …………………………………… На мокрый мир нисходит угомон… Лишь кое-где, топча сырой газон, Блудливые невесты с женихами Слипаются, накрытые зонтами, А к ним под юбки лазит с фонарем Полуслепой, широкоротый гном.Что из этого вырастает у Рыжего? Вот что («Осенние сумерки злые…»,1998):
С изящной стремительной тенью шагает по улице гном, красивое стихотворенье бормочет уродливым ртом. Бормочет, бормочет, бормочет, бормочет и тает как сон. И с жизнью смириться не хочет, и смерти не ведает он.И концов не сыскать.
Существует список «лучших русских поэтов», в двухтысячном году сделанный его рукой, со знаком плюс (+) или без оного:
+ Рейн
+ Гандлевский
+ Гандельсман
+ Денис Новиков
Иван Жданов
+ Кушнер
Пурин
Пригов
Кибиров
+ Ерёменко
+ Уфлянд
+ Лосев
+ Ерёмин
Елена Шварц
+ Кублановский
+ Чухонцев
Парщиков
+Леонтьев
Нестройный столбец, странноватый для Бориса. Похоже на воспроизведение какого-то разговора: словно с кем-то поговорил и резюмировал, сведя воедино свое и чье-то суждения. Кое-кто кажется здесь случайным, мотивированным лишь настроением и желанием вырваться из круга.
Юрий Казарин, первый биограф Рыжего, полагает, что Борис перечислил эти имена в размышлении, кого печатать у себя в журнале «Урал». Похоже на то. Ну, скажем, у Пригова он взял словцо «милицанер», но ведь не больше того. Или всё проще. Зафиксировано тогдашнее статус-кво, плавающее мнение литобщественности. Тогда почему здесь нет, например, Веры Павловой, которую он высоко ценил и навещал в Москве? Ей дали в том году премию его любимого Аполлона Григорьева, не фунт изюма.
Но он все равно бился в кругу. Вкусы его бродили.
Мне могут не поверить, но это правда — находясь уже на середине пути, то есть написав половину этой книги, я внезапно наткнулся на свое имя в эссеистике Рыжего (Книжный клуб. 2000. № 4):
Десятый номер «Нового мира» (за 1999 год. — И. Ф.) открывается циклом новых стихов замечательного, стоящего всегда как бы в стороне от всех, поэта Ильи Фаликова. Каждое из стихотворений подборки требует по меньшей мере разговора, а стихотворение «Памяти Луговского» — особенно, хотя бы уже из-за своего названия. Обратите внимание, кого сегодня принято поминать. Принято поминать Бродского, Мандельштама, Ходасевича. Поэтессы поминают Цветаеву, реже — Ахматову. Те, кто относят себя ни к поэтам, ни к поэтессам, т. е. среднее звено, усиленно поминают Кузмина и, непонятно почему, Иннокентия Анненского — вместо, например, Апухтина. <…>
Вот последняя строфа названного стихотворения:
Честный язык, намоловший немало вранья, шаг по брусчатке, впечатанный в камень сырой, горькое горе. Сколок погибшего слова под сердцем храня, около рынка по воздуху шарю рукой в северном море.Это об авторе «Середины века». «Сколок погибшего слова…» Лучше, полагаю, никто уже не скажет.
Что же касается меня, мне у Луговского нравится стихотворение «Озеры»:
Вынув пистолеты, мы входим в дом. Зайчики играют на серебряной посуде. За тяжелоногим дубовым столом Час тому назад сидели люди. <…> В зеркале застыл ещё туманный след, Жизнь чужая медлит, замирая слабо… Где она оборвана — мне дела нет, — Дом предназначен для нашего штаба.Я изумился не самому отзыву, а тому, что он зафиксирован на письме: Борис тогда позвонил мне, был взволнован, голос его трепетал, и наверное поэтому я не понял, что означали его слова о том, что он на сей предмет где-то там что-то накалякал. Потом я нашел в его стихах словосочетание «северное море». Обнаружилось у Рыжего и нечто большее, чем память об «Озерах» Луговского.
Прежде чем на тракторе разбиться, застрелиться, утонуть в реке, приходил лесник опохмелиться, приносил мне вишни в кулаке. С рюмкой спирта мама выходила, менее красива, чем во сне. Снова уходила, вишню мыла и на блюдце приносила мне. Патронташ повесив в коридоре, привозил отец издалека с камышами синие озёра, белые в озёрах облака. Потому что все меня любили, дерева молчали до утра. «Девочке медведя подарили», — перед сном читала мне сестра. Мальчику полнеба подарили, сумрак елей, золото берёз. На заре гагару подстрелили. И лесник три вишенки принёс. Было много утреннего света, с крыши в руки падала вода, это было осенью, а лето я не вспоминаю никогда. («Прежде чем на тракторе разбиться…», 1999)Я спросил Ольгу Рыжую: это было? Нет. Не читала. Это Борис Петрович читал Луговского — «Девочке медведя подарили…» — внучке Асе. Но детство-то было, и в нем был Луговской. Есть у Бориса и «На мотив Луговского» (на мотив «Лозовой» или того же «Медведя»), Думаю, за этим именем стоит вся поэтическая эпоха 1920–1930-х годов, вошедшая в кровь его стиха. Еще в 1996-м он напишет «Осень в парке» с эпиграфом из Я. С. (Ярослав Смеляков): «Я не понимаю, что это такое…»
Ангелы шмонались по пустым аллеям парка. Мы топтались тупо у пруда. Молоды мы были. А теперь стареем. И подумать только, это навсегда. Был бы я умнее, что ли, выше ростом, умудрённей горьким опытом мудак, я сказал бы что-то вроде: «Постум, Постум…», как сказал однажды Квинт Гораций Флакк. Но совсем не страшно. Только очень грустно. Друг мой, дай мне руку. Загляни в глаза, ты увидишь, в мире холодно и пусто. Мы умрём с тобою через три часа. В парке, где мы бродим. Умирают розы. Жалко, что бессмертья не раскрыт секрет. И дождинки капают, как чужие слёзы. Я из роз увядших соберу букет…Действительно — на мотив Смелякова (это классика — смеляковское стихотворение «Любка»).
Освоение предшествующих стилистик шло в открытую. Тот же Слуцкий (с долей Мандельштама) отчетливо слышен в щекотливой теме:
Бог положительно выдаст, верней — продаст. Свинья безусловно съест. Остальное — сказки. Врубившийся в это стареющий педераст сочиняет любовную лирику для отмазки. Фигурируют женщины в лирике той. Откровенные сцены автор строго нормирует. Фигурирует так называемый всемирный запой. Совесть, честь фигурируют. Но Бог не дурак, он по-своему весельчак: кому в глаз кистенём, кому сапогом меж лопаток, кому арматурой по репе. А этому так: обпулять его проволочками из рогаток! («Бог положительно выдаст, верней — продаст…», 1998)Нет, названные им имена, которых «сегодня принято поминать», отнюдь не враждебны ему, но он оскорблен забвением других и находит необходимым в начале XXI столетия бросить вызов рутинному стереотипу текущего момента, включая «среднее звено», некоторые представители коего благосклонно отнеслись к нему самому. Он хотел вырваться из круга, сменить вехи. Веет загнанностью в угол. Тут и я пригодился.
Он подтверждает свои настроения той поры здесь:
Д.К. Завидуешь мне, зависть — это дурно, а между тем есть чему позавидовать, мальчик, на самом деле — я пил, я беседовал запросто с героем его поэм в выдуманном им городе, в придуманном им отеле. Ай, стареющий мальчик, мне, эпигону, мне выпало такое счастье, отпетому хулигану, любящему «Пушторг» и «Лошади в океане», — ангел с отбитым крылом под синим дождём в окне. Ведь я заслужил это, не правда ли, сделал шаг, отравил себя музыкой, улицами, алкоголем, небом и северным морем. «Вы» говори, дурак, тому, кто зачислен к мёртвым, а из живых уволен. («Завидуешь мне, зависть — это дурно, а между тем…», 2000–2001)Посвящение Д. К. отсылает к эпизоду еще 1994 года, когда Борис на молодом сборище «Поэтическая вечеринка» сцепился с Дмитрием Кузьминым, московским гостем Екатеринбурга. Названные вещи — «Пушторг» Ильи Сельвинского и «Лошади в океане» Бориса Слуцкого — исчерпывающе определяют суть несогласий с продвинутым литературтрегером.
Подобных оппонентов у него было навалом. Причины не имели значения, поводы тоже. На критика Вячеслава Курицына он однажды набросился с кулаками: ты зачем опять приехал, бля.
У Рыжего — ни в его эссеистике, ни в устных беседах, вспоминаемых друзьями, — не нашлось имени Игоря Шкляревского. А родство с молодым Шкляревским на удивление очевидно:
Мороз! На улицах темно. Себя почувствуешь подростком, Ударишь в конское дерьмо — Звенит и катится по доскам! И вдруг команда: — Становись! — Военкомат открыл ворота. Из всех щелей протяжный свист, И на вокзал — за ротой рота! А баба плачет и кричит: И слава богу, не сопьются, И твой болван и мой бандит Домой с профессией вернутся. А у «болвана» стынет кость. Шурует пар у виадука. И чувства разные насквозь — Маруся! Матушка! Разлука! <1960-е >У слова «темно» есть рифма и почище. Даже отсыл к Мандельштаму — «Россия. Лета. Лорелея» — у Шкляревского («Маруся! Матушка! Разлука!») схож с тем, что делал потом сам Борис. В любом случае, даже если Рыжий не читал Шкляревского, налицо факт существования в русской поэзии явных предпосылок к возникновению феномена Рыжего. В сущности, он уже был. Надо было только появиться и назваться.
Ни одной ссылки на Шкляревского, но в стихах-то есть: смотрел кино, пинал говно и т. д. Им, поэтическим новобранцам 1990-х, отчего-то было стыдно ссылаться на советских предшественников второй половины XX века, из «эпохи застоя». Куда ни шло — те, из 1920–1930-х. А вот эти, включая даже Высоцкого, не в жилу. Так, под сурдинку.
Этот стих Шкляревского вполне мог написать Рыжий:
Земные взоры Пушкина и Блока Устремлены с надеждой в небеса, А Лермонтова черные глаза С небес на землю смотрят одиноко. <1970-е >До Рыжего — можно сказать, накануне Рыжего — шумней всех новых поэтов на Урале был Роман Тягунов. У него не было книг, и вообще он был неясно кто, по собственному слову:
Я — татарин. Мать моя казашка, Сын мой не походит на меня.Этнически он был действительно, кажется, татарин, но это — метафора. Типа мальчик-еврей. В его скуластом лице проглядывал потомок Кучума (в юности, впрочем, довольно смазливый), и сам язык его стихов носил след первоусвоения русской поэзии со спотыканьями и взлетами, помесью бормотанья и велеречивости, гуннского налета на европейскую цивилизацию:
В библиотеке имени меня Несовершенство прогибает доски. Кариатиды города Свердловска Свободным членом делают наброски На злобу дня: по улицам Свердловска Гомер ведет троянского коня В библиотеку имени меня. В библиотеку имени меня Записывают только сумасшедших. Они горды своим несовершенством: Читая снизу вверх и против шерсти, Жгут мои книги, греясь у огня Библиотеки имени меня. Библиотека имени тебя Стоит внутри моей библиотеки. Здесь выступают правильные греки: Круги, квадраты, алефы, омеги Внутри себя вычерчивают греки И за руку ведут своих ребят В библиотеку имени тебя… Внутри коня горят библиотеки.Это звучало как нонсенс: «Жгут мои книги». Какие книги? Их не было. Но весь молодой Екатеринбург знал эти стихи и ходил в библиотеку, которой не было, как не было и самого Тягунова: он постоянно исчезал, неизвестно где жил (при том у него был дом, и подруга вроде жены была у него), неведомо чем жил, на что ел и пил, слугой каких господ был и каких господ водил за нос.
Именно он, сам не имея определенных социально-опознавательных знаков, занимался имиджмейкерством людей, торопящихся во власть и в бизнес.
Делал он это изумительно ловко. Вот был человек по фамилии Страхов, он дрался за губернаторство, Тягунов предложил ему предвыборный слоган: «Голосуй не за страх, а за совесть», Страхов опасливо отказался, Тягунов переправил свой продукт сопернику Страхова — сообразительному Росселю, и тот с удовольствием воспользовался впечатляющей фразой.
Он мистифицировал всех, с кем общался. Нередко — по инерции, без корысти, из любви к искусству. Однажды в ночи Тягунов принес приятелю, незадачливому поэту Z, десять фраков, якобы похищенных в проезжем театре, и якобы загнал их чуть позже бритоголовой братве бизнес-клуба «Глобус», обожающей решпект. Точно так же он припер ночью тому же Z несколько автомобильных шин, тоже якобы ворованных, и якобы пустил их в оборот по дешевке и по-быстрому на известной ему «точке». Было и ночное появление с большой партией якобы стыренной анаши, это уже окончательно пахло уголовщиной, но Роман справился: якобы спустил ее по демпинговой цене где-то в подворотне. По ходу этих дел он еще и увлекся возлюбленной Z.
В этих эпизодах неизвестно, действительно ли были фраки и шины ворованные, продал ли он фраки братве, была ли в пакетах анаша. Все было якобы. Тягунов любил пустить пыль в глаза, выглядеть «крутым». Проверить было невозможно. Много позже он носил на лацкане орден «за Анголу», хотя ни к какой Анголе отношения не имел. Борис это зафиксировал:
Бритвочкой на зеркальце гашиш отрезая, что-то говоришь, весь под ноль стриженный, что времени в обрез, надо жить, и не снимает стресс алкоголь. Ходит всеми комнатами боль, и не помогает алкоголь. Навсегда в памяти моей твои черты искажаются, но это ты, понял, да. Да, и где бы ни был ты теперь, уходя, ты за собою дверь не закрыл. Я гляжу в проём: как сумрак бел… Я ли тебя, что ли, не жалел, не любил. Чьи-то ледяные голоса. В зеркальце блестят твои глаза с синевой. Орден за Анголу на груди, ты ушёл, бери и выходи за тобой.Борис говорил в интервью «Областной газете» в декабре 1999 года: «Роман Тягунов — замечательный поэт, и „перед ним я ползаю на брюхе“, как Бродский, который говорил, что „ползает на брюхе“ перед Державиным. Я очень люблю Романа Тягунова».
Бывало, на вечерах поэзии Борис читал стихи Тягунова вместо своих или вместе со своими. Так было 10 сентября 1999 года на презентации альманаха «Дорогой огород», куда Борис не хотел идти, но пришел-таки: сам Роман отсутствовал, блуждая в неведомом пространстве.
Таков был Тягунов, так он относился к жизни и смерти, так возник проект «Мрамор». Свидетельствует Дозморов (Премия «Мрамор» // Знамя. 2006. № 2):
Премию «Мрамор» придумал Роман. Несколько его друзей-наркоманов работали в фирме, занимавшейся изготовлением надгробий из разных долговечных природных материалов, в том числе, если у заказчика или у родственников «клиента» был бюджет, из благородного белого мрамора. Образцы малых архитектурных форм, уже готовые заказы с выгравированными именами и датами, а также те, что были в работе, живописно лежали и стояли там и сям во дворе фирмы, терпеливо и молча ожидая владельцев. Территория фирмы в самом центре города выглядела как репетиция небольшого, но богатого сельского кладбища, что Василия Андреевича <Жуковского> навело бы на определенные мысли, а может быть, и элегические позывы, если бы он побывал в Екатеринбурге не с будущим Александром Вторым Освободителем, а году так в 2000, когда разворачивались описываемые события, но даже думать об этом, конечно, безумие. Рому же этот вид навел на мысль о литературной премии в области поэзии.
Премировать победителя конкурса на лучшее стихотворение о вечности предполагалось прижизненным мраморным памятником в виде раскрытой книги с его, победителя, произведением, высеченным в камне. Имя премии было дано по названию генерального спонсора — ООО «Мрамор», памятники архитектурных форм. Но это, так сказать, только надводная часть проекта.
Подводной частью замысла было зарабатывание денег, и она-то и стала причиной закрытия премии и всего остального, хотя после пары объявлений в газетах нас завалили рукописями вожделеющие славы графоманы. Дима (Д. Рябоконь. — И. Ф.) подозревал Рому в перехватывании и присвоении средств, выделяемых владельцем «Мрамора» на раскрутку премии и оплату работы жюри. Мы с Борисом, хотя все было ясно как день, Диминых сомнений не рассеивали, а напротив, всячески подогревали. Пару раз очень смешно и жестоко Диму разыграли. Но заигрывания с лысой так просто не проходят, факт.
Рома брал у «мраморщиков» деньги под премию, базару ноль. И, как выяснилось потом, после ужасной развязки, немалые. Осенью они стали требовать от Романа рекламной отдачи от премии в виде телеинтервью и статей в прессе, либо возврата вложенных средств. Одно интервью нам удалось организовать, потом дело застопорилось. Рома испугался не на шутку (фирма была с криминальным душком) и попытался повесить дела с владельцами «Мрамора» на меня. Звонит неприятный тип Антон, коммерческий директор фирмы, и, затягивая по-наркомански слова, сообщает, что Рома завтра уезжает в Тюмень работать в предвыборном штабе кандидата в губернаторы, и он, Антон, ждет от меня медиаплан на месяц. Про Тюмень Рома сочинил, чтобы сбежать от кредиторов, я это знал. Предупрежденный Димой, отвечаю, что давно, как и Рыжий, вышел из жюри премии и ничего делать не буду, поиграли и хватит, ищите Тягунова и справляйтесь у него. Про выход из жюри, кстати, — истинная правда. Через пять минут звонит Роман и обещает приехать с ржавой бритвой. Набираю тебя (обращение к Рыжему. — И. Ф.), смеясь, рассказываю историю, а по спине мурашки. Ты, как назло, нетрезвый в тот момент, отнесся ко всему серьезно, звонишь Роману, забиваешь с ним стрелку у Дворца спорта, это ровно посередине пути от тебя до него, и бежишь бить морду. Выглядел ты, наверное, угрожающе. Рома, по твоим словам, убежал в темноту как заяц, еще завидев тебя издали, и мы больше его никогда не видели. Через полтора месяца, рано утром 30 декабря 2000 года, Рому Тягунова нашли выброшенным (или выбросившимся) с пятого этажа дома по улице Челюскинцев, где был какой-то притон.
Вот и весь мрамор. В стихах у Тягунова сказано:
В смоле и северном пуху Валяя ваньку, феньку, дыню — Я предан русскому стиху, Огню и дыму. На азиатский мой разрез Слетелись вороны, вороны, А ванька слушает да ест В лучах авроры. ………………………… Гори, столыпинский вагон! На север летчиков вербуют. Сначала дым, потом огонь Меня обуют.На похороны Тягунова Борис не пошел, плакал и писал стихи. «На смерть Р. Т.»:
Вышел месяц из тумана — и на много лет над могилою Романа синий-синий свет. Свет печальный, синий-синий, лёгкий, неземной, над Свердловском, над Россией, даже надо мной. Я свернул к тебе от скуки, было по пути, с папироской, руки в брюки, говорю: прости. Там, на ангельском допросе всякий виноват, за фитюли-папиросы не сдавай ребят. А не то, Роман, под звуки золотой трубы за спины закрутят руки ангелы, жлобы. В лица наши до рассвета наведут огни, отвезут туда, где это делают они. Так и мы уйдём с экрана, — не молчи в ответ. Над могилою Романа только синий свет.Не только. Есть еще и стихи. Они входят в состав синего света. Олег Дозморов:
Что-то не снятся ни Рома, ни Боря. Я виноват перед вами, не спорю. Думал, что умный, а вышел — дурак. Круглый отличник, я удалён с поля двоечниками, впустившими мрак стихослагательства в кровь, пацанами, что поднимали стихами цунами, что понимали другу друга не раз, гнали волну, натолкнулись на камень низеньких гор, тектонических масс.Дивий Камень.
В Екатеринбурге славился открытый дом, хозяин которого — Евгений Касимов — был поэт, редко печатавшийся. Борис опубликовал его стихотворение «Шарм-эль-Шейх» в «Урале».
Касимов подрабатывал на радио, и в прямом эфире студии «Город» Борис в порядке беседы с Касимовым прочел двадцать стихотворений.
Под крышей касимовского дома перебывали все лучшие и нелучшие литераторы Урала, а также гости города, исходно уральцы, — Александр Еременко, Вячеслав Курицын, Виталий Кальпиди. Поток приходящих туда был неиссякаем и безостановочен. Безоблачно там не было, поскольку люди были разными и не всё любили одинаково. Бориса не выделяли, он был одним из.
Что он думал о себе, оставалось его личным делом. Там все много думали о себе. Кальпиди созидал некую «Уральскую школу», Курицын проводил в городе чтения имени себя, Еременко (собратья называли его «Ерёма») уже завоевал Москву, став избранником своего поколения — семидесятников.
Урал нельзя чисто географически счесть серединой или центром страны, но мистика Камня, Каменного пояса, существует несомненно. Ощущение порубежной доминанты не было только лишь декларацией. В этом смысле Урал 1990-х был символом стихотворства вне столиц. Были ведь и другие «школы»: Ташкентская, Владивостокская и проч. Местный колорит и некоторые особенности мышления, связанного с экзотизмом, не отменяли главного: в наших столицах и в наших губерниях была единая поэзия, трудно рождающаяся в новые времена. Имен было много, многие исчезли без следа.
Борис не уклонился от духа землячества — при всех сложностях отношений в позиции независимости и самоутверждения. На некоем фестивале бросив фразу «Ерёма — отстой, это прошлый век», стихи пишет такие («Чтение в детстве — романс»):
Окраина стройки советской, фабричные красные трубы. Играли в душе моей детской Ерёменко медные трубы. Ерёменко медные трубы в душе моей детской звучали. Навеки влюблённые, в клубе мы с Ирою К. танцевали. Мы с Ирою К. танцевали, целуясь то в щёки, то в губы. А душу мою разрывали Ерёменко медные трубы. И был я так молод, когда — то надменно, то нежно, то грубо, то жалобно, то виновато… Ерёменко медные трубы!Когда огонь, вода и медные трубы уже оказались навсегда позади, ему ответил Еременко («Борису Рыжему — на тот свет»):
Скажу тебе, здесь нечего ловить. Одна вода — и не осталось рыжих. Лишь этот ямб, простим его, когда летит к тебе, не ведая стыда. Как там у вас? ………………………… Не слышу, Рыжий… Подойду поближе.Ольга Ермолаева и Ольга Славникова говорят о Лермонтове применительно к Рыжему. Были стихи-предпосылки (1997):
Ну вот, я засыпаю наконец, уткнувшись в бок отцу, ещё отец читает: «выхожу я на дорогу». Совсем один? Мне пять неполных лет. Я просыпаюсь, папы рядом нет, и тихо так, и тлеет понемногу в окне звезда, деревья за окном, как стражники, мой охраняют дом. И некого бояться мне, но всё же совсем один. Как бедный тот поэт. Как мой отец. Мне пять неполных лет. И все мы друг на друга так похожи. («Одиночество», 1997)Ахматова однажды сказала собеседнику — Станиславу Лесневскому: «Маяковский до революции был Лермонтов, а после нее — плакат». Лермонтов в России больше, чем Лермонтов. Точной формулировки у меня на сей счет нет. Подлинное перво-открытие Лермонтова не за Белинским — здесь потрудились поэты конца XIX — начала XX века, прежде всего символисты, распахнув перед очами России безмерные выси этой поэзии. Это делали в стихах и прозе[16]: Анненский (статья «Об эстетическом отношении Лермонтова к природе»), Мережковский (статья «М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества»), Вяч. Иванов (статья «Лермонтов»), Брюсов (статья «М. Ю. Лермонтов»), Блок (статья «Педант о поэте»), Белый (статья «Апокалипсис в русской поэзии») и вечно спорящий с ними Розанов (статья «Вечно печальная душа»), не говоря о Кузмине (стихотворение «Лермонтову») и Волошине (статья «Врубель»). Акмеисты унаследовали эту страсть — Гумилёв (статья «Жизнь стиха»), Ахматова (стихотворение «Здесь Пушкина изгнанье началось…»), Мандельштам (стихотворение «Грифельная ода»). Даже Маяковский не устоял (стихотворение «Тамара и Демон»):
Налей гусару, Тамарочка!Пастернак, посвятив книгу «Сестра моя — жизнь» памяти Лермонтова, стоял на вершине проделанной до него работы.
Мощная вспышка дарования и незавершенность пути ровно в том же возрасте, одна прижизненная книжка, а также рождение через — опять-таки ровно — 160 лет. При жизни Лермонтова было напечатано 42 стихотворения, ровно столько же названий — в книжке Рыжего «И всё такое…». Соблазн сравнения велик. Сравнения хромают.
Не сравнивай — живущий несравним. ………………………………… Лермонтов — мучитель наш. (Мандельштам)В этом «мучитель» безусловно заложен и учитель. Первое отличие Рыжего от Лермонтова — отсутствие любовной трагедии, попранной любви. Стих Рыжего «Ты меня никогда не любила» — почти единственный намек на кошмар отвергнутого женщиной поэта. За намеком, может быть, и стоит некое признание, но больше это похоже на реплику в крупном разговоре двух любящих. Может быть, накануне разрыва. Это совсем не то, что сказал шестнадцатилетний Лермонтов в своем «Нищем»:
У врат обители святой Стоял просящий подаянья Бедняк иссохший, чуть живой От глада, жажды и страданья. Куска лишь хлеба он просил, И взор являл живую муку, И кто-то камень положил В его протянутую руку. Так я молил твоей любви С слезами горькими, с тоскою; Так чувства лучшие мои Обмануты навек тобою!У Рыжего схожее внутреннее событие проще и легче:
Когда мы с Лорой шли по скверу и целовались на ходу, явилось мне виденье это, а через три-четыре дня — гусара, мальчика, поэта — ты, Лора, бросила меня.Второе отличие — в этих стихах Лермонтова:
Ужасная судьба отца и сына Жить розно и в разлуке умереть…О неразрывности отца и сына Рыжих говорить уже излишне. Но Борис чувствовал богооставленность, не потеряв отца. У Лермонтова совершенно по-другому:
И в небесах я вижу Бога.Рыжий обожал слово ангел. На самом деле на месте ангела у него — облако:
Эля, ты стала облаком Или ты им не стала?У Лермонтова по небу полуночи летел ангел, и сомневаться в этом не приходится ни на минуту. Те ангелы, что у Рыжего пьют чай на кухне, — из другой оперы. Его ангелы — по преимуществу сказочные малыши с крылышками, воздушные девочки, персонажи питерского декора и даже жлобы. Ангел смерти — «как в кино». К небесному воинству не имеют никакого отношения. В начале — середине девяностых годов это было поветрием. От ангелов в стихах не было отбоя. А кто сказал, что Борис Рыжий не был дитятей своей поэтической эпохи?
Третье отличие состоит в том, что Борис был не слишком осведомлен в чужих литературах, в частности — в современной ему зарубежной поэзии. С ним не было того, о чем писал Борис Эйхенбаум в работе «Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки» (1924):
Характерная для послепушкинской эпохи тяга к чужим литературам достигает у Лермонтова особенной силы: кроме Байрона мы имеем в его творчестве следы близкого знакомства с Т. Муром, В. Скоттом, Гюго, Ламартином, Шатобрианом, А. де Виньи, Мюссе, Барбье, Шиллером, Гейне, Мицкевичем и т. д. Уже одно это количество связей свидетельствует о том, что перед нами — факт не простого «влияния», а общего тяготения к чужим литературам в поисках за поддержкой, за помощью. Этот факт исторически необходим, как необходимо было русским символистам искать опоры в поэзии Бодлера, Верлена, Малларме, Новалиса, Э. По и т. д., хотя самое направление это было достаточно подготовлено русской поэзией и развивалось на основе своих собственных традиций (Вл. Соловьев, Тютчев, Фет, Полонский и т. д.). Мы видели, как старательно читает Лермонтов русских поэтов в 1829 г. и как пользуется ими в своих поэмах. Ощущение бедности явилось, очевидно, в связи с сознанием исчерпанности. Время кризиса, ломки традиций еще не пришло — нужно было, по крайней мере, расширить свой литературный кругозор, увидеть чужое, чтобы осознать свое. Так Лермонтов и делает.
Но это, увы, общая печаль нескольких поколений. Переводная поэзия, даже в лучшем случае, больше говорит о переводчике, чем об оригинале.
Дело, разумеется, не в подсчете отличий, а в самой структуре творчества. Борис Рыжий не писал, например, поэм (в том числе эротических), исторических баллад, альбомных мадригалов, беллетристической прозы, драм, древнерусских стилизаций в духе «Песни о купце Калашникове», непохожих на переводы переводов etc.
Борис был жив, а Ольга Славникова пишет статью «Призрак Лермонтова» — «Октябрь» № 7 за 2000 год — не о Борисе Рыжем исключительно — о многих других, пишет без подобострастия к авторитетам и пренебрежения остальными, но вот что получается у нее по ходу и в конце разговора:
…Печорин и Грушницкий представляют собой два в разной степени неполных отпечатка личности автора. Грушницкий — это Печорин минус поэзия; не случайно эти двое сталкиваются на узкой дорожке, потому что если у поэта отнять его дарование, это будет не просто ущербная личность, а противоположность и враг самому себе.
У Грушницкого искусственная даль фальшива, тогда как у Печорина она условна; задача поэзии — так организовать небывшее, чтобы отодвинуть реальность туда, где она уже представляет собой изображение, и потом пропустить через призму. «Вот здесь я жил давным-давно — смотрел кино, пинал говно и пьяный выходил в окно», — пишет Борис Рыжий, и далее: «Молодость мне много обещала, было мне когда-то двадцать лет…» Неопределенность, неколичественность этих «давным-давно» и «когда-то» — едва ли не единственный для молодого автора способ раздвинуть свой континуум; за счет такого искусственного расширения парадоксальным образом расширяется и собственный авторский опыт. Удача или неудача произведения зависит здесь уже не столько от профессиональных умений писателя, сколько от «температуры плавления» взятого в работу вещества. Конечно, в колбе, где идет реакция, бывает много дыма, вспышек и прочей пиротехники (избыточность моих сравнений искусственного «нечто» — с колбой, призмой, со сновидением — напоминает притчу о слоне и трех слепых, что свидетельствует, быть может, о реальном присутствии там четвертого измерения); однако энергия либо есть, либо ее нет. Проблема молодого писателя в том, что, имея талант и больше ничего, он плохо эту энергию контролирует: так, почти каждое стихотворение Бориса Рыжего есть несчастный случай на производстве. <…> Лермонтов не договорился до того, чтобы сделать Печорина стихотворцем; поэзия, а не Персия могла бы стать для героя пространством его путешествия. Так, имея дело с целым миром, молодой писатель выходит с рогаткой против Голиафа; дело не в том, что средства его негодны, а в том, что они заведомо недостаточны. Однако именно этот контраст позволяет иному молодому быть «не хуже» писателя зрелого и мастеровитого. Забавно, что у Рыжего есть стихотворение «Почти элегия» как раз с таким криминально-рогаточным сюжетом, где поэт признается: «Под бережным прикрытием листвы я следствию не находил причины…» Беспричинность — еще одна характеристика неконтролируемого творческого выстрела. Предупреждая упреки, скажу, что я стасовала вместе Лермонтова и Рыжего не потому, что готова скрытно и за счет ресурса классики досрочно произвести Бориса в гении (хотя в глубине души надеюсь на хорошую для него перспективу). Речь идет о технических возможностях для молодого писателя сразу, без никаких причин, делать литературу. Стихи Бориса Рыжего всего лишь подтверждают, что такая возможность со времен Михаила Лермонтова не утрачена. <…>
Может быть, Лермонтов, пребывая там, где нас пока что нет, знает тайну бесконечного писательского роста по прямой, но, как всякий призрак, вызванный для дачи показаний, предпочитает изъясняться загадками. Что до меня, то я — в дополнение к Букеру, Антибукеру и Аполлону Григорьеву — ввела бы еще одну литературную премию. Писатель-фантаст Олег Дивов в одном из своих романов придумал награду: Медаль За Наглость. Вот ее я бы и давала тем молодым писателям, которые хорошо умеют стрелять из рогатки.
А теперь я полностью привожу стихотворение Бориса Рыжего, где звучит та самая нота, что нужна мне для завершения разговора (стихотворение цитируется в первоначальной графике Б. Рыжего. — И. Ф.):
У памяти, на самой кромке и на единственной ноге стоит в ворованной дублёнке Василий Кончев — Гончев, «Ге»! Он потерял протез по пьянке, а с ним ботинок дорогой. Пьёт пиво из литровой банки, как будто в пиве есть покой. А я протягиваю руку: уже хорош, давай сюда! Я верю, мы живём по кругу, не умираем никогда. И остаётся, остаётся мне ждать, дыханье затая: вот он допьёт и улыбнётся. И повторится жизнь моя.Волей-неволей, без тени пафоса, славниковский Рыжий обретает тот самый статус, о котором вроде бы и нет речи. Однако. Не сравнивай — живущий несравним.
Имеет ли отношение Борис Рыжий к Лермонтову — такому, например, каким написал его Вячеслав Иванов?
Как ни приглушено и ни сглажено присутствие сверхъестественного в поэзии Лермонтова (за исключением, конечно, мифа о Демоне), все же всякий, кто отдается ее чарам, чувствует, что мир ее таинственно оживлен, что звучат в нем голоса и гармония как смутное эхо только что замолкнувшей музыки: как если бы приближение любопытного слушателя спугнуло стаю крылатых прислужников Ариэля, проворную компанию невидимых помощников ткача таинственных сновидений, которые лишь частично могут воплотиться в человеческой речи. Точно песнь поэта сопровождает и поддерживает хор дружных духов, с которыми певец живет в тайном и нерушимом союзе.
Только английская поэзия производит иногда такое впечатление; в ее воздушных отзвуках чуткий слушатель до сих пор узнает старое наследие анимизма и магии кельтов. Как могли эти мотивы снова прозвучать в мелодиях русского поэта нашего времени? И все же, когда он, утомленный превратностями и разочарованиями человеческой жизни, мечтает навеки забыться благодатным сном, неясно убаюкиваемый неустанным приливом жизненных сил под сказочным дубом, вечно зеленым, любовно шумящим, — не вызывает ли он магически в нашем воображении космическое древо друидов?
Род Лермонтовых, шотландского происхождения, поселился в России в семнадцатом веке, но никогда не забывал о своей славе в Средние века, когда после междоусобных распрей между Малькольмом и Макбетом в XI в. он стал богатым и могущественным. Молодой поэт мечтал обернуться вороном, чтобы посетить развалины замков на туманных горах и забвенные могилы заморских предков. Один из них, Томас Лермонт или Лирмонт — Learmont — владелец замка Эрсельдоун, близ города и монастыря Мэльроз на южной границе Шотландии, снискал в XIII веке большую славу как стихотворец и провидец. Вальтер Скотт прославил его в поэме «Томас Рифмач», Thomas the Rhymer. Согласно легенде, он был еще мальчиком посвящен феями в искусство магии: он собирал народ вокруг векового дерева и, сидя под ним, читал свои баллады и предсказывал будущее; так, предрек он внезапную смерть шотландского короля Альфреда III; когда его жизнь подошла к концу, он удалился, следуя двум белым оленям, посланным, чтобы принять его в царстве фей, и навсегда исчез с ними в лесах. Владимир Соловьев думал, что русский поэт и его далекий предок имели тот же поэтический дар и ту же двойную таинственную жизнь. Действительно: и нашего поэта феи учили и с ним дружили сильфы.
Ночевала тучка золотая На груди утеса-великана; Утром в путь она умчалась рано, По лазури весело играя…Поэт грустит, отождествляя себя с угрюмым камнем, на мгновение обрадованным и снова возвращенным к прежней скорби. Потерял ли и он надежду найти успокоение и искупление в мимолетных ласках утешительницы-музы? Тяжелой тучей покрывали романтические призраки недоступные утесы лермонтовского одиночества; облака летели, опоясанные зарницами и молниями, а оно — одиночество это — было непоколебимо, замкнуто в своем, чуждом этому миру царстве и казалось несоизмеримым ни с каким способом выражения. «Мерный стих и ледяное слово» не были способны дать выход сверхчеловеческому напряжению духа в освобождающее и очищающее творческое действие. Его искусство отказывалось точно выразить внутренний опыт и не обещало никакого очищения, катарсиса. Эстетическая ценность такого искусства, хоть и исполненного магической силы, очевидно, может оспариваться. Как оценивать форму, которая себя отрицает и рассеивается как тучка?
Нет, Борис Рыжий не Лермонтов, он другой.
С одной стороны — такой:
Нагой, но в кепке восьмигранной, переступая через нас, со знаком качества на члене, идёт купаться дядя Стас. У водоёма скинул кепку, махнул седеющей рукой: айда купаться, недотёпы, и — оп о сваю головой.
Он был водителем «камаза». Жена, обмякшая от слёз. И вот: хоронят дядю Стаса под вой сигналов, скрип колёс.
Такие случаи бывали, что мы в натуре, сопляки, стояли и охуевали, чесали лысые башки. Такие вещи нас касались, такие песни про тюрьму на двух аккордах обрывались, что не расскажешь никому.
А если и кому расскажешь, так не поверят ни за что, и, выйдя в полночь, стопку вмажешь в чужом пальте, в чужом пальто. И, очарованный луною, окурок выплюнешь на снег и прочь отчалишь.
Будь собою, чужой, ненужный человек.
С другой стороны — такой:
Хожу по прошлому, брожу, как археолог. Наклейку, марку нахожу, стекла осколок. …Тебя нетронутой, живой, вполне реальной, весь полон музыкою той вполне печальной. И пролетают облака, и скоро вечер, и тянется моя рука твоей навстречу. Но растворяются во мгле дворы и зданья.
И ты бледнеешь в темноте — моё созданье, то, кем я жил и кем я жив в эпохе дальней.
И всё печальнее мотив, и всё печальней.
Обе эти вещи (плюс еще одна) соединены под общим названием «Маленькие трагедии» (1999), что само по себе отсылает — к Пушкину. В некоторой мере — вызов солнцу русской поэзии. Однако именно так пролегал его тернистый маршрут, в последнее время особенно: от дяди Стаса — к мотиву, который все печальней.
И Лузин, и Кузин говорят, что история про дядю Стаса — выдумка. Было только озерцо-болотце Муха, где купались вторчерметовские пацаны. Кажется, там были сваи. На озерцо показала Ирина, когда нас вез по Вторчермету на своей машине Роман Родыгин, сын композитора Евгения Родыгина, написавшего такие шлягеры пятидесятых — шестидесятых годов, как «Уральская рябинушка» или «Если вы не бывали в Свердловске»: эти песни запела вся страна, и Хрущев от щедрот царских в мгновение ока дал их автору квартиру в центре воспетого им города. Родыгин-отец жив, ему вот-вот стукнет девяносто, и он еще концертирует. Не то что нынешнее племя. Роман по ходу наших передвижений рассказал, что отец его отца отнюдь не исконно-посконного происхождения, а как раз из «бывших». Удивительное рядом.
У каждой эпохи — своя музыка. И свои награды за нее.
Дмитрию Рябоконю Рыжий посвятил романсовую балладу «Море», посвятил целиком, не в эпиграфе, а в самом содержании. Он написал другого. Другого, но родного.
В кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты, где выглядят смешно и жалко сирень и прочие цветы, есть дом шестнадцатиэтажный, у дома тополь или клён стоит, ненужный и усталый, в пустое небо устремлён, стоит под тополем скамейка, и, лбом уткнувшийся в ладонь, на ней уснул и видит море писатель Дима Рябоконь. Он развязал и выпил водки, он на хер из дому ушёл, он захотел уехать к морю, но до вокзала не дошёл. Он захотел уехать к морю, оно — страдания предел. Проматерился, проревелся и на скамейке захрапел. Но море сине-голубое, оно само к нему пришло и, утреннее и родное, заулыбалося светло. И Дима тоже улыбался. И, хоть недвижимый лежал, худой, и лысый, и беззубый, он прямо к морю побежал. Бежит и видит человека на золотом на берегу. А это я никак до моря доехать тоже не могу — уснул, качаясь на качели, вокруг какие-то кусты. В кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты. 1999Автору надоел четырехстопный ямб, он нередко изображает стихи в строку и часто делает это не только при ямбе.
Рябоконь теперь вспоминает:
Ты говорил мне тревожно: «Держись. Береги себя», А затем добавлял: «Это я говорю для себя».Познакомились они в апреле 1992 года в редакции журнала «Урал». Пошли, несколько поэтов, в пивнушку у «Трактора» — так в городе называют конструктивистский Главпочтамт, который сверху, говорят, похож на трактор. Посидели — и всё. Больше практически не виделись. Роман Тягунов на их горизонте появился позже — в 2000-м, когда шла эпопея «Мрамора». Кстати, в том проекте, помимо четырех поэтов — Тягунова, Дозморова, Рябоконя и Рыжего, — было задействовано несколько ваятелей. В частности, скульптор Константин Крюнберг, автор городского памятника маршалу Жукову, известного в народе как «Пьяный маршал»: ноги коня летят в разные стороны, и сам всадник, похоже, под градусом. Люди помнили, как Жуков, сосланный Сталиным в Свердловск командовать Уральским военным округом, принимал парады на коне и как-то раз упал с коня.
Премия «Мрамор» провалилась, как ее ни пиарили. Рябоконю и без того хватало пиара. В то время он был героем скандальной хроники, отслеживался каждый его шаг. Особенно усердствовала местная газета «Вечерние ведомости». Но литературная жизнь глохла, уже в 1992-м ничего никому не надо было.
По Рябоконю, Борис от «Антибукера» обалдел, конечно. Ходили байки о его драках, в нем, говорят, прорезались надменность, снисходительность к другим, холодность. Но в лицо коллегам он лаврами не тыкал, тем более что литобщественность декларировала радость: прославил родной край. Ну а что касается стихотворения «Море», так Борис сочинил все это. Ничего такого не было. Правда, Рябоконь, учась на историка в университете, много рассказывал Борису о херсонесской археологической экспедиции, в которой работал несколько сезонов.
Рябоконь находит в стихах Рыжего следы внимательного чтения своих стихов. Вот, например:
Рубашка светлая, крахмальная и брюки темные в полоску.Это Рябоконь, а у Рыжего:
Рубашка в клеточку, в полоску брючки…Есть у Рябоконя вещица «Свояк»:
Тиран семьи и психопат, Валера, На опохмелку просит четвертак. Валера, забухав, не знает меры, Валера, муж сестры моей, свояк. Валера, это бывший мастер спорта, В бассейне плавал он быстрее всех, А нынче погибает в море спирта, И вызывает невеселый смех. Вчера, нажравшись, он жену с ребенком На улицу отправил босиком, И не было управы на подонка, Который размахался топором. Из дома тащит всё, и пропивает, И потерял уже последний стыд, Лечиться и работать не желает, И за сестру душа моя болит.Рябоконь комментирует в письме ко мне: «Это мое стихотворение — было самое любимое у Бориса. См. стихотворение Б. Р. „Гриша-Поросёнок выходит во двор…“ (2000)».
Посмотрим:
Отцы пустынники и жены непорочны… А. П. Гриша-Поросёнок выходит во двор, в правой руке топор. «Всех попишу, — начинает он тихо, потом орёт: — Падлы!» Развязно со всех сторон обступает его народ. Забирают топор, говорят «ну вот!», бьют коленом в живот. Потом лежачего бьют. И женщина хрипло кричит из окна: они же его убьют. А во дворе весна. Белые яблони. Облака синие. Ну, пока, молодость, говорю, прощай. Тусклой звездой освещай мой путь. Всё, и помнить не обещай, сниться не позабудь. Не печалься и не грусти. Если в чём виноват, прости. Пусть вечно будет твоё лицо освещено весной. Плевать, если знаешь, что было со мной, что будет со мной.Да, связь этих стихотворений несомненна. Заметьте разницу исполнений. Рябоконь говорит в духе наива, Рыжий демонстрирует абсолютное владение стихом. Похоже, это самая литературная, сугубо стиховая дружба Бориса — повторим: Рябоконь при встрече в Екатеринбурге сказал мне, что они вообще — за всю жизнь — виделись два-три раза. Много говорили по телефону и — никогда не выпивали. Бывает? Редко. Но ведь бывает.
Вопреки этому обстоятельству Рябоконь ответил на «Море» соответствующим образом:
МОРЕ (P. S.) Б. Рыжему Повсюду скользкие русалки Смеются, пляшут и поют, И дно, похожее на свалку, Где корабли нашли приют. Меня влекли просторы моря, Меня манил глубинный гул… Сбылась мечта, поскольку вскоре Я в море водки утонул. 03.03.00ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
Американский славист, родом из Одессы, Омри Ронен (1937–2012) в книге «Заглавия» (СПб.: ООО «Журнал „Звезда“», 2013), в очерке «Семидесятые» признавался:
Я люблю Слуцкого. Из книжек прошлого, а не позапрошлого века у меня в изголовье два поэта (Мандельштам и Слуцкий. — И. Ф.), их сочетание неожиданно, но я раскрываю их, отходя ко сну и все еще пробуждаясь поутру заново каждый день, потому что «Жизнь успела не все погасить недоимки» (Набоков. — И.Ф.), и меня утешает не злоба, а доброта дня.
Говоря о Слуцком, верном друге интеллигенции, этой «малой нации», важно и у него заметить некоторый перелом в 1970-е годы: XIX век и XX, русское и советское размежевываются все более драматически… <…> Пример исторической серьезности Слуцкого действительно не нашел продолжателей. Люмпен-интеллигентность (не как повествовательный прием, каковым она была в поэме «Москва — Петушки», а как отношение к миру), своеобразная «приблатненность», одинаково далекая от «хулиганства» Есенина и от революционного насильничества Маяковского, процвела в поэзии Высоцкого, Бродского и Лимонова. Пользуясь жестокой остро́той Тютчева о русской истории, можно назвать этот тон сочетанием панихиды и уголовщины.
Блестящему толкователю Мандельштама это не нравится. Но между названными поэтами, отнесенными Роненом к семидесятым, есть разница. Не будем о Бродском, два слова — о других.
Высоцкий честно ностальгировал по услышанной в детстве речи и не без восхищения пародировал ее, по-актерски рассчитывая эффект на хотя бы самый близкий круг милых собутыльников и смешливых собеседниц; Лимонов (подросток Савенко) всерьез говорил на этом языке, в общем-то работая напоказ, потому как из харьковских глубин стремился к известной литературной норме.
Борис Рыжий свободно владел им, ибо мыслил — натурально думал — на языке двора, улицы, поколения, когда писал о своих: дружках, подружках, соседях и ежедневных прохожих, намозоливших глаза, но никуда не уходящих. Тому порукой — синтаксическая свобода. Ничего не накручено. Слова стоят так, как им положено стоять в данном случае.
На этом языке говорят-думают тьмы и тьмы, без преувеличения. Сколько их в промзонах хотя бы?..
Почти прав Дмитрий Быков (очерк «Рыжий» из книги «Блуд труда», 2002):
Между тем реальность вот какова: Борис Рыжий был единственным современным русским поэтом, который составлял серьезную конкуренцию последним столпам отечественной словесности — Слуцкому, Самойлову, Кушнеру. О современниках не говорю — здесь у него, собственно говоря, соперников не было. Самовлюбленный, как всякий поэт, он был еще несколько испорчен ранним и дружным признанием, но с самого начала вел себя на редкость профессионально и кружить себе голову особо не давал. Он знал, с кем дружить и как себя подавать, знал, как и где печататься, — и в этом нет ничего зазорного, ибо в наши времена поэт обязан быть не только фабрикой по производству текстов, но еще и PR-отделом этой самой фабрики. Рыжий чрезвычайно точно ориентировался в литературной ситуации и прекрасно продолжал в жизни ту игру, которую с предельной серьезностью вел в литературе. Феноменально образованный, наделенный врожденной грамотностью, прочитавший всю мировую поэзию последних двух веков, профессорский сын, житель большого города — он отлично усвоил приблатненные манеры, обожал затевать потасовки, рассказывал страшные истории о своих шрамах и любил как бы нехотя, впроброс, упомянуть особо эффектные детали собственной биографии («год назад подшился», «жена — петеушница»). Насколько все это соответствует действительности, разбираться бессмысленно. Не в этом дело. Был выбран такой имидж, вполне соответствовавший желанию книжного мальчика вжиться в реальность, проникнуть в гущу, набрать крутизны. Книжность мальчика была очевидной и нескрываемой — именно потому, что Рыжий с самого начала публиковал исключительно культурные стихи. Это был юноша не столько с екатеринбургских, сколько с Гандлевских окраин («Повисло солнце над заводами, и стали черными березы. Я жил здесь, пользуясь свободами на страх, на совесть и на слезы»). И на этом-то контрапункте, на противопоставлении и соположении музыкального, культурного стиха и предельно грубых реалий возник феномен поэзии Рыжего — то напряжение, которого столь разительно не хватает большинству его сверстников. Он ставил себе большую задачу — любой ценой это напряжение создать и зафиксировать, то есть натянуть струну; мальчикам и девочкам, культурно пишущим о культуре или приблатненно о блатоте, ничего подобного сроду не удавалось. Вот почему Рыжий, собственно, стоял в своем поколении один…
Всё почти так. Почему почти? Потому, что Рыжему не надо было поддаваться «желанию книжного мальчика вжиться в реальность, проникнуть в гущу, набрать крутизны». Он произрос и обретался в той самой гуще, это не кратковременный выход космонавта в открытый космос, но постоянное пребывание в том безмерном и страшном пространстве.
Целиком можно согласиться с Быковым, когда он говорит:
Когда деградирует система, деградирует и уродливое ее отражение — блатота, где давно нет никакого закона и прав тот, кто жив, тот, кто максимально омерзителен. Отсюда интерес Рыжего именно к старым ворам, которыми он обильно населяет район своего детства. Эти благородные, почти рыцарственные престарелые мастодонты, ветераны сучьих войн, неизменно выступают у него как защитники и наставники. Он и Слуцкого, боюсь, воспринимал сходным образом…
Ольга Славникова (Из Свердловска с любовью // Новый мир. 2000. № 11) справедливо утверждает:
На самом деле все не так «просто». Для меня, например, очевидно, что Рыжий слишком талантлив, чтобы режим пользователя, режим послушного следования раз найденному амплуа был для него органичен. Мне Борис Рыжий интересен тем, что он в своих стихах отрабатывает два связанных между собой мифологических пласта: блатную субкультуру и «Свердловск» — не столько реальный город (хотя бы потому, что на месте «Свердловска» уже «Екатеринбург»), сколько индустриальные задворки цивилизации, где мировая культура — это «кино», привозной мерцающий призрак прокуренных кинозальчиков; здесь самые крутые зрители и самые нежные отношения — всегда в последнем ряду.
Много было всего, музыки было много, а в кинокассах билеты были почти всегда. В красном трамвае хулиган с недотрогой ехали в никуда. Музыки стало мало и пассажиров, ибо трамвай — в депо. Вот мы и вышли в осень из кинозала и зашагали по длинной аллее жизни. Оно про лето было кино, про счастье, не про беду. В последнем ряду — пиво и сигареты. Я никогда не сяду в первом ряду.Замечу, опять вспомнив предшественника — Маяковского: поэт снялся в фильме «Барышня и хулиган» (1918). На этом факте сыграл и В. Шубинский в отзыве на «И всё такое…».
Признаться, частое появление имени Маяковского в моем тексте меня и самого озадачивает. Роль Маяковского в стихах и судьбе Рыжего внезапно оказалась ясней и значительней сейчас — при перечитывании всего Рыжего. И вовсе не потому, что я намерен увести Рыжего от Есенина.
Та же Славникова утверждает, что для Рыжего чуть ли не больше всех значил Павел Васильев. По стиху — сходство с натяжкой. Васильев движется неторопливо, Рыжий летуч. Близки к Рыжему разве что его великолепные «Стихи в честь Натальи» (1934, май):
Я люблю телесный твой избыток, От бровей широких и сердитых До ступни, до ноготков люблю, За ночь обескрылевшие плечи. Взор, и рассудительные речи, И походку важную твою. А улыбка — ведь какая малость! — Но хочу, чтоб вечно улыбалась — До чего тогда ты хороша! До чего доступна, недотрога, Губ углы приподняты немного: Вот где помещается душа. Прогуляться ль выйдешь, дорогая, Все в тебе ценя и прославляя, Смотрит долго умный наш народ, Называет «прелестью» и «павой» И шумит вослед за величавой: «По стране красавица идет». Так идет, что ветви зеленеют, Так идет, что соловьи чумеют, Так идет, что облака стоят. Так идет, пшеничная от света, Больше всех любовью разогрета, В солнце вся от макушки до пят. Так идет, земли едва касаясь, И дают дорогу, расступаясь, Шлюхи из фокстротных табунов, У которых кудлы пахнут псиной, Бедра крыты кожею гусиной, На ногах мозоли от обнов. Лето пьет в глазах ее из брашен, Нам пока Вертинский ваш не страшен — Чертова рогулька, волчья сыть. Мы еще Некрасова знавали, Мы еще «Калинушку» певали, Мы еще не начинали жить.Это стихи не трансазиатского, а просто русского поэта.
У Рыжего нет густого сибирско-казачье-азиатского экзотизма и главное — суперменства богатырского склада. В быту — были попытки этого рода, может быть. Ведь Рыжий — не кабацкий забияка, не антинэпмановский скандалист есенинского толка. Он дрался кулаками за порогом кабака — на улице и в литературном кругу по преимуществу. Это извод литературщины, незамысловатая аргументация человека, доказывающего уважаемым коллегам, что он не такой, как они.
Алкоголь на данном спектакле неизбежен. Борис не держал алкогольного удара, резко меняясь от капли спиртного. Ирина говорит: другой человек, небо и земля. Когда трезв — спокойный, ласковый, домовитый, а пропустит за воротник — лихорадочная беготня по (полу)знакомым, поиски приключений, жалобы на все на свете, на жену в том числе, лишь бы налили…
Время от времени Борис завязывал. Бывало — на полгода, на восемь месяцев. В семье полагают: чаще не пил, чем пил. Так, летом — осенью 1998-го он не пил более трех месяцев, заодно амбулаторно лечил лицевой нерв: последствия детской травмы. Была у него и другая хвороба — отслоение сетчатки левого глаза. Этим глазом он не видел. Борис полагал, что это подарок от бокса, ибо нелады с глазом начались, когда он еще боксировал. Боль возникала чаще всего от мороза.
У Бориса была родовая травма. Родился очень крупный, почти пять килограммов. При первом кормлении, в первый день его жизни, он не оторвался, а на следующий день отказался от груди, сосать грудь — физически тяжелый труд. Случилось нарушение мозгового кровоснабжения. Постепенно дело пошло на поправку. Говорить начал очень рано, ходить стал рано. Врачи советовали Маргарите Михайловне отдать его в детсад — для общения. Не отдала. Кормила его грудью до года и семи месяцев.
Снег за окном торжественный и гладкий, пушистый, тихий. Поужинав, на лестничной площадке курили психи. Столпи и на корточках сидели без разговора. Там, за окном, росли большие ели — деревья бора. План бегства из больницы при пожаре и всё такое. …Но мы уже летим в стеклянном шаре. Прощай, земное! Всем всё равно куда, а мне — подавно, куда угодно. Наследственность плюс родовая травма — душа свободна. Так плавно, так спокойно по орбите плывёт больница. Любимые, вы только посмотрите на наши лица! 1997Свобода души, как видим, обусловлена как раз тем, что наиболее тяжело: наследственностью, родовой травмой. Преодоление материала.
Но есть и такое свидетельство: «Весной двухтысячного года я скормил Рыжему шесть или семь пакетов одного порошка. Ну, в общем, это ЛСД». (А. Верников).
Комментарий Ольги Рыжей (письмо мне от 6 декабря 2014 года): «Хочется убить Верникова, ну да ладно — пусть живет, дурашка…». Саше Верникову — посвящено стихотворение «Романс» (1999), где сказано: «Ширяться дурью, пить вино…» Эдакая тематическая верность.
Это не было системой. Рыжий не был наркоманом. У него сказано: «Киношные смешные мертвецы, исчадье пластилинового ада» — «пластилин» на сленге означает гашиш, но сказано впроброс, без упора на сугубую причастность к этому страшному уродству, и вообще — речь про кино. Предельность его самоподачи неизбежно поставила бы точки над «ё». Тут невозможны умолчанья. Нет, он не пошел по тягуновскому пути («Бритвочкой на зеркальце гашиш отрезая, что-то говоришь…»), остался в тех поведенческих параметрах, где «боль заглушает алкоголь». На свой лад — тоже традиция.
Все это происходило с человеком, абсолютно знающим цену вещей:
Да это ты! Небритый и худой. Тут, в зеркале, с порезанной губой. Издёрганный, но всё-таки прекрасный, надменный и весёлый Б.Б.Р., безвкусицей что счёл бы, например, порезать вены бритвой безопасной. («Матерщинное стихотворение», 1997)Совершенно ясно, что лирика соответствует прежде всего сама себе, миф поэта нередко стоит над реалиями, читатель считается прежде всего с тем, что написано, а не с тем, что было на самом деле. Нарколог А. П. Сидоров отмечен в его прозе («Роттердамский дневник») и получил посвящение одного из стихотворений («Синий свет в коридоре больничном…»). Есть и стихи «В наркологической больнице…», «В сырой наркологической тюрьме…». Это могло быть и развитием автомифа, не более того, но стихи есть стихи, от них не отвернуться.
В наркологической больнице с решёткой чёрной на окне к стеклу прильнули наши лица, в окне Россия, как во сне. Тюремной песенкой отпета, последним уркой прощена в предсмертный час, за то что, это, своим любимым не верна. Россия — то, что за пределом тюрьмы, больницы, ЛТП. Лежит Россия снегом белым и не тоскует по тебе. Рук не ломает и не плачет с полуночи и до утра. Всё это ничего не значит. Отбой, ребята, спать пора! 1999Россия. Он знал ее в лицо и по книгам. В свое время изучил многотомник Ключевского, включая прилагавшиеся к нему карты.
У Константина Случевского он ценил многие вещи, могу предположить — прежде всего «Я видел свое погребенье…». Сквозная метафора этой книги требует вспомнить другую вещь Случевского:
Что, камни не живут? Не может быть! Смотри, Как дружно все они краснеют в час зари, Как сохраняют в ночь то мягкое тепло, Которое с утра от солнца в них сошло! Какой ужасный гул идет от мостовых! Как крепки камни все в призваниях своих, — Когда они реку вдоль берега ведут, Когда покойников, накрывши, стерегут, И как гримасничают долгие века, Когда ваятеля искусная рука Увековечит нам под лоском красоты Чьи-либо гнусные, проклятые черты! («Что, камни не живут? Не может быть! Смотри…», <1884>)Ольга Рыжая — жена поэта Валерия Сосновского. Она теперь носит фамилию мужа. Их дом забавно располагается: на улице Ленина, 69, — так называемый Городок Чекистов, но именно их дом фактически стоит на Первомайской (угол Луначарского). Это подобно сюрреалистическому танцу. Танцующий дом. Заблудившийся дом, ищущий собственный адрес.
Стихи Сосновского совсем не «рыжие», он другой: его основная привязанность — бардистика, и в стихи заведомо заложена возможность исполнительства под гитару:
Апельсиновая долька На блюдечке синем, Безалаберная полька Маэстро Россини, Капли мартовской капели, Лесное эхо, Рассыпающее трели Звонкого смеха, Распускающая почки Веточка вербы, Платья, кофточки, носочки, Слезинки, нервы, Незатейливые прятки, Лукавые глазки, Ангелочки-ангелятки, Страшные сказки, На заре, когда жар-птица Рождается в небе, Сладко спится; что вам снится, Бесценная леди?Интересная ритмика. Посвящено Ольге.
Пока дом танцевал, мы говорили с Ольгой. Память ее погружена в детство Бориса:
Лет в десять, вернувшись из пионерлагеря, Боря сказал: там была девочка похожая на тебя. О самом пионерлагере, где были дети элиты, отозвался: ужас.
Девочки начали звонить ему рано. Он отвечал отрешенно: что? кино? какое кино?
Еще в первом классе он получил письмо такого содержания: Боря, я тебя люблю, давай вместе жить. Это было реминисценцией октябрятских правил: «Вместе жить, весело дружить». О девчонках он высказывался скорей отрицательно.
Ирина была первой девочкой, которую он привел домой. Дружки обиделись: нас на бабу променял. Поругался со многими, в том числе с Лузиным. С которым был не разлей вода. Вместе бузили. К родителям пришел однажды школьный физрук, пожаловался на то, что школьные шалопаи в его доме залепили замок пластилином.
К нему приходили кучей одноклассники, в жмурки играли, музыку слушали. У него там был магнитофон, проигрыватель. Другие родители такие компании и на порог не пускали. Но как-то он вышел из комнаты и заплакал: идиоты!
В мае девяносто первого мы переехали на Московскую горку. Боря с Ириной поступали в Горный. Отец нанял репетиторов по математике для обоих. Они готовились, когда папа лежал в кардиоцентре после инфаркта. Борис провожал Ирину в Елизавет, а оттуда шел пешком через весь город. По вечерам было прохладно, он отдавал свой свитер Ирине. Когда его в один из таких вечеров избили и ограбили, он пришел домой босиком. Распухшее лицо, кровоподтеки. Обошелся без врачей.
Он шутил без улыбки. Как и папа. Например, папа в детстве, когда мы неумеренно поглощали ириски, всерьез нам сообщил, что Америка закупает советские ириски, чтобы детям зубы выдирать.
Я помогала ему с первого класса. В каком-то там классе он никак не мог понять, что такое икс или игрек. А в десятом строчила ему сочинения. Про того же Есенина написала большой опус, на три тетрадных листа, а он его ужал в два раза при переписке, я сильно обиделась и выразила протест, а он говорит: я мог бы написать в сто раз лучше, чем ты. Учитель спросил: кто пишет? Сестра. Она филолог? А я закончила Горный. Потом выучилась на психолога.
Лень-матушка. Утром вставал с трудом, особенно после смерти бабушки. Ему было не охота заниматься, а мама поддавливала на меня. Даже уже в институте мама наседала на меня: начерти ты ему. Я говорила: не буду. Вообще-то я его отговаривала от Горного. Но он обожал папу. У него была клюшка с надписью «Урал». Он говорил: люблю эту клюшку, потому что папа работает в Уралгеологии.
Но он был очень аккуратен. Комнатки у нас были маленькие, своя комната у Бори появилась после смерти бабушки. В комнате чистота и образцовый порядок. К технике относился очень хорошо и сам умел делать какие-то вещи. Помню, я хотела калькулятор выбросить, а он его починил. Году в восемьдесят восьмом сам сделал устройство цветомузыки. Лузин говорит, что он умел играть на гитаре, но я этого не видела.
У них в классе была история с зоологом. Седьмой класс. Взяли там на работу алкаша из зоопарка, где он был директором и однажды экзотических животных погубил, не распаковав прибывшие в зоопарк контейнеры. Он сначала всем понравился. На уроке, показывая скелет человека, поломал его и пообещал: пойдем на кладбище, найдем новый скелет. А потом являлся в школу под мухой, матерился на уроках, вызывал к доске девушек — заставлял рассказывать про оплодотворение птиц. Вызвал Бориса к грязной доске: стирай, Рыжий, с доски. Боря взял тряпку — и фуганул ее в лицо зоологу. Но когда этого урода стали выгонять с работы и директорша уговаривала Бориса: напиши, что он тебе руки выламывал, Борис отказался.
Не ходил на физкультуру, отказывался дежурить в столовой, мыть посуду, убирать со столов: не буду, плохо пахнет. Он был и против уроков ритмики, потому что там высоких девочек ставили с низенькими мальчиками — издевательство.
Директорша выбрасывала его портфель — ты здесь не учишься. Это когда его собирались перевести в другую школу. Он объявил голодовку — просто не ел. Думаю, помимо прочего — не хотел расставаться с Ириной. Железобетонный парень. Но когда во дворе утопили щенят — плакал, принес уцелевшего щенка домой, а щенок умер. В восемьдесят четвертом у нас кот Кузя умирал, Боря сидел рядом.
На озере Иткуль была турбаза. Хорошая, красивая — острова, смешанный лес, много берез. Боря сказал: научусь плавать — и за день сделал это. Мы с ним однажды целый день вдвоем на лодке проплавали, нас потеряли.
В Челябинске у нас на Свободе замок открывался чем угодно — заготовкой, копейкой. Я иногда у соседей копейку одалживала в случае потери ключей. А какое-то время квартира совсем не запиралась, замок вообще сломался.
В большом многограннике эркера, слегка расхрабрившись при помощи бокала красного вина и под игру на гитаре Андрея Крамаренко, Ольга прочитала свое:
Возвращается все. И детство однажды вернется ко мне Ослепительным бликом на беленой больничной стене, Светлячковым огнем близлежащего морга в окне, Жутковато что светит во тьме, но все-таки светит во тьме… Пионерские горны, поутру разбудите меня Терпким сговором трав, высочайшим согласием птиц, На хрустальном рассвете, в преддверье арбузного дня На пружинистой койке средь детских радостных лиц. Ключевою водой напоите меня, облака, Умоляю, умойте меня, облака, водой ключевой… Мне о небе писать не хотелось — мне рано пока, Не о нем повествует сейчас мой лиричный герой. В это время в Челябинске мягкий асфальт раскален, Вздохи бабушки, «Агниурала», раскидистый клен. И тоска по лесам и полям, небесам, облакам, сеновалам. В душной двушке, прокуренной беломорканалом… Но вот это и есть моя жизнь в милом доме родном И начало начал. Божемой! Все еще впереди. Оглянусь я назад и Тебя попрошу об одном — Воспитателя руки подальше от нас отведи…Стихи-документ[17]. Как-то это не очень похоже на счастливое детство. Вот и Высоцкий рядом: «Возвращаются все…»
Сестра Елена не принимает такой памяти о детстве. Ей больше помнятся выезды в летний Крым вчетвером — девочек с родителями — и вообще человеческое тепло той поры. Она комментирует стихотворение сестры так: «Странно. Детство вспоминаю как счастливое — полное любви папы, мамы, бабушек и дедушки. Лучшие подруги — из детства!»
Алексей Кузин появился как из-под земли, волшебным образом. Ольга просто позвонила ему, на всякий случай. Он оказался поблизости от дома Сосновских как по заказу. Расположение звезд, не иначе.
Однако была середина дня, без звезд, но с солнцем. Мы летели в сторону Нижнеисетского кладбища. В кузинской машине остро пахло бензином. Россельбан радовал глаз отличным покрытием и яркой лесной зеленью с обеих сторон.
Могилу нашли не сразу. Кладбище огромное. Выехали на нужную аллею, асфальтную, похожую на обыкновенную неширокую дорогу. Вот она — рослая сосна, на которой достаточно высоко помещен дощатый квадрат с надписью: «Борис Рыжий». Последний адрес Бориса — его имя.
Надо идти по тропе немного вниз. Борис и баба Дуся лежат рядом. Светло-серые плиты гранита, памятники с фотографиями и датами. Чисто и пусто. Наши свежие цветы вместо чьих-то прежних. Ольга на скамейке, взгляд неподвижный, быстрая слеза.
Подымешь голову — в синем колодце неба над соснами серебристой птицей летит самолет, оставляя белый инверсионный след, по которому катится отстающий от самолета искусственный гром, похожий на гнев небес. Это ненадолго.
Как сказал Яков Полонский:
Ни единой тучки На лазурном небе! Ни единой мысли О насущном хлебе!Однако природа — вещь аварийная. Над могилами опущенным шлагбаумом низко навис тонкий, но прочный ствол поломанного тополя с клоками сухой листвы, перечеркивая вид на небо. Кузин сбегал к машине за ножовкой, сталь и древесина вступили в пронзительный спор, кузинский локоть мелькал, сталь победила, небо открылось. Отпиленный кусок дерева Кузин с Сосновским отнесли от могил.
Я не слышал шума сосен. Или его не было. Был слышен Тютчев:
Молчи, прошу, не смей меня будить. О, в этот век преступный и постыдный Не жить, не чувствовать — удел завидный… Отрадно спать, отрадней камнем быть.К могиле Бориса Петровича надо идти вверх по той же тропе, к адресной сосне, и, перейдя через дорогу, увидишь на всхолмье железную ограду и памятник со знакомым именем. Лицо отца на фотографии исполнено печальной озадаченности. Он умер в июне 2004 года. Последний — шестой — инфаркт. А в сущности, — с горя. За год до смерти он окрестился.
Кузин перемахнул через ограду, навел на граните порядок, убрав с могилы кучу налетевшей листвы, еще не засохшей. Деятельный человек Кузин.
Надо ли говорить в таких случаях? Вряд ли. 10 мая 2001 года, в день похорон Бориса, выпал снег, было холодно и многолюдно, говорились слова, люди не понимали, что происходит.
Мы и сейчас не понимаем. Садимся в машину молча, проезжаем кладбищенский храм священномученика Аркадия, пахнет бензином, летим по Челябинскому тракту. Слева синеют Уктусские горы, предгорье Урала. На все про все ушли два-три часа и мгновенная жизнь отпрыска этих синих гор.
А если выйдет вовсе и не так? Кручу-верчу стихотвореньем. Боюсь, что вот накаркаю — дурак. Но следую за вдохновеньем. У ко́ней наших вырастут крыла. И воспарят они над бездной. Вот наша жизнь, которая была невероятной и чудесной. Свердловск, набитый ласковым ворьём и туповатыми ментами. Гнилая Пермь. Исетский водоём. Нижнеисетское с цветами.На рубеже веков С. И. Чупринин готовил книгу «Новая Россия: мир литературы. Энциклопедический словарь-справочник». Среди его помощников была Наталья Смирнова, писательница из Екатеринбурга, доцент филфака Уральского госуниверситета. Персоналию Рыжего делала она. Они встретились неизбежно. Это произошло 9 марта 2000 года. Их отношения не ограничились писательством. Она была старше, по-человечески опытней и — восхищена им.
Много живых. Да, вокруг этой гибели много живых. Процитирую лишь часть того, что уже стало достоянием читающей публики (Интернет: Библиотека журнала «Новый мир»). Из очерка Натальи Смирновой «Борис Рыжий»:
Понятно, что Борин Вторчик условный, а попросту — народная жизнь. Кто-то отвернется, а кто-то дрогнет. Рыжий упрекал: «Ты же это видела, знаешь, почему не пишешь?» А как? Убьешься на них смотреть, не то что переводить их в тексты. Еще думала — они ТАК не изводятся, как он из-за них. Они крученые и битые. И не могут формулировать. Просто пьют, а это проще. Невероятно тяжелая тема, не побоюсь этого слова, народ. Пудовая просто. Рыжему по плечу, потому что он герой, да и люди эти были абсолютно его. Он легко их воспроизводил, мог переливаться их оттенками, точно в нем никаких стихов нет. Мимесис такой.
Однажды мы разыграли мою подругу. Пришли в гости, я сказала — Ир, это мой двоюродный брат из Качканара. На буровых работает повахтенно. Спросила его предварительно: «Ты про буровые что-нибудь знаешь?» Он возмутился: «Все знаю». Сели, и он про эти буровые минут двадцать заливал очень убедительно. Хозяйка заскучала и подала глянцевый журнал: «Вот возьми, мальчик. Посмотри на голых девочек». Боря засмеялся: «Да видел я голых девочек!» — «Где это?» — спросила она и тоже засмеялась.
Я начала отматывать: Ир, мы пошутили. Это известный поэт.
Она вдруг сорвалась со стула, постучала в дверь закрытой комнаты и крикнула: «Коленька, спаси меня, тут пришел поэт и хочет читать стихи». Он и вправду хотел, но как она догадалась? Дверь никто не открыл, хозяйка вернулась и прочла назидание — не надо писать стихов, их теперь никто не читает. Стихи выпьют из тебя кровь. Береги себя, парень, в общем.
Пришли мы туда в радужном настроении, а уходили в задумчивости. Я расстроилась, Рыжий — не очень. Похоже, ничего нового она ему не сказала. На улице подытожил: «Вот девка зараза». А хозяйка, прощаясь, тихо пригрозила: «У меня тоже есть брат-шахтер. Как приедет — мы сразу к тебе».
…Он всегда отчетливо знал, что делал. Отношения строил продуманно и так, что никто точно не знал, как он к тебе относится. Выражался иронично, с прихватами «синемаечных» мужиков, а если говорил всерьез, мог тут же отмотать назад. Все оставалось недосказанным, с открытыми финалами, без точек. Суггестия такая. Меня сразил Дозморов, когда после гибели спросил, как Рыжий к нему относился. Что о нем мне говорил.
Боря всех морочил, потом удивлялся, что ему не верят, и принимался пылко убеждать. Сам мог изучать человека до бесконечности. Я слушала про Коляду несколько месяцев подряд. Коляда — человек сложно организованный, вдобавок актер, и умеет быть совершенно разным. Один раз — само вероломство, другой — сама сердечность. Но на самом деле Боре надо было знать о человеке всего две вещи: сильней он или слабей как автор и «сдаст» он или нет. В Екатеринбурге он считал себя поэтом номер один, а что касается «сдаст», то тут каждому предстояли испытания и проверки. Он непременно хотел спровоцировать на поступок, после которого все станет ясно. Выдерживать это было тяжело. И в любом случае к себе оставались вопросы. Моей самой жесткой проверкой было заявление: «Все, остаюсь у тебя жить. Еду за вещами». Правильный ответ: езжай. Пока он ехал до дома, я прокрутила в голове бог весть что: от самого лучшего до самого скверного за исключением того, что произошло. Он отзвонил быстро: «Наташ, извини, я не приеду — у отца инфаркт». Я так и не знаю, был ли этот инфаркт. Или он все выдумал.
Он «замысливал побег». Хотел вырваться, уехать. Говорил, что ему предлагают работу в «Независимой газете», возмущался: «Разве можно здесь жить?» Искал пути, способы, людей, места. Но мне в это не верилось. Его жизнь была такой замкнутой и определенной, в ней так непоколебимо были расставлены люди, распределены роли. И собственное амплуа стало кожей, все поменять было нереально. Уйти совсем мог, а вот поменять — нет. Все, что его мучило, уводил в стихи, а это значило все отчеканить. Поэтому даже самых «печальных строк» стереть не мог. Терпел до конца, сколько мог. Терпел, потому что никогда не держал себя за объект. Решил, что сам выбрал это время для стихов, этот город, дом, женщину, значит, так тому и быть. И пересмотру не подлежит.
Однажды поехали к поэту Жене Касимову, они были раньше незнакомы. Сидим на кухне, март или апрель, солнце из окна, подоконник в цветах. Кошка мурлычет, «скромная и красивая, как девушка» (так Касимов представил). Хозяин доволен визитом, они публикации «Урала» обговаривают. Из комнаты вышел заспанный Женин сын, лет восемнадцати. Хозяин ему:
— Антон, познакомься, это Борис Рыжий.
— Тот самый Рыжий?
Антон втиснулся между столом и холодильником и стал смотреть на Борьку, как на любимую девушку. Заливал обожанием.
Они еще немного побеседовали, потом хозяин прочувствованно:
— Если, Боря, кого бог поцеловал в макушку, так это тебя.
Рыжий смутился, потом быстро так: «Ну вот. А она не верит, что я поэт».
…Он не пошел на похороны Романа Тягунова. Родители уговорили. И потом был поэтический вечер — тоже не пошел. Не любил объединяться с местными поэтами, да и понятно, о чем все будут говорить после такой смерти. Им ведь запросто придет в голову вопрос, кто следующий. Меня позвали, я сходила, потом что-то пересказала. Один из поэтов на вечере заявил, что деньги на книгу стихов ему дала взрослая дочь. Борька аж подпрыгнул: «Он так сказал? Как он мог! Это же позор!»
Я не понимала, в чем тут позор. Боря возмущался: чего тут непонятного? Позвонила Дозморову, он иногда объяснял «систему координат» там, где она у них была общей.
— Конечно, позор, — согласился Олег. — Поэт — профессия мужская. Побираться нельзя.
Но однажды, устав путаться и сверяться с Дозморовым, я спросила Рыжего: «Как ты думаешь, я вообще правильно тебя понимаю?» Он думал секунды три: «Да».
Похоже, стихотворение «Не покидай меня, когда…» (2000) она относит к себе:
Урки, работяги, совок больше не интересны. Хватит, Боря, повторяешься. Ищи другое. Он ненавидел советчиков, изводился, соглашался с ними. Отчаивался, что мало пишет. Возражал себе, что Гандлевский пишет восемь стихотворений в год, зато каких. Читал «Не покидай меня, когда…». Заглядывал в лицо — это ведь уже по-другому? Не так, как раньше? Потом упрекал: «Ах да. Ты же стихами мало интересуешься».
Надо признать, очерк Натальи Смирновой — качественная проза. Борис написан живо и пристально. Наверное, он был прав, сказав: «Да».
О весеннем Нижнем Новгороде двухтысячного года стихов у него не осталось или не появилось вовсе. Он тогда был целиком настроен на Роттердамский фестиваль, думал круглосуточно о близком выезде в Голландию.
Я тебе привезу из Голландии Lego, мы возьмём и построим из Lego дворец. Можно годы вернуть, возвратить человека и любовь, да чего там, ещё не конец. Я ушёл навсегда, но вернусь однозначно — мы поедем с тобой к золотым берегам. Или снимем на лето обычную дачу, там посмотрим, прикинем по нашим деньгам. Станем жить и лениться до самого снега. Ну, а если не выйдет у нас ничего — я пришлю тебе, сын, из Голландии Lego, ты возьмёшь и построишь дворец из него. («Я тебе привезу из Голландии Lego…», 2000–2001)Напомню, на фестиваль Poetry International его рекомендовал Саша Леонтьев, годом раньше представлявший Россию в Роттердаме: таковы правила той эстафеты. Борис зажегся. В спешном порядке пробовал освежить некоторое знание English’а, но и прежние штудии не дали желанного результата. Пара строф Уистена Хью Одена, запомненных, когда он пробовал его переводить, не спасала положения. Память у него была специфической, сугубо стиховой, наполненной морем стихов чужих, верней — родных, русских стихов от Батюшкова до… А кстати, знал ли он, что батюшковская «Тень друга» написана в удивительном 1814 году, ознаменованном русским покорением Парижа и рождением Лермонтова? Мог знать. Но языка международного общения — не знал. Слабо знал. На свой лад — свойство только-поэта.
В качестве антилирического отступления приведу суровое свидетельство прекрасного переводчика с итальянского Евгения Солоновича — уже применительно к самому Борису Рыжему как объекту переводческой халтуры («И „Натюрморт“ отринул перевод. Горестные заметки о том, что ждет итальянцев, знакомящихся с новой русской поэзией по книге „La nuovissima poesia russa“, a cura di Mauro Martini (Torino: Einaudi, 2005)» // Вопросы литературы. 2007. № 3):
…создается впечатление, что переводчица (Валерия Ферраро. — И. Ф.) начинает переводить стихотворение, предварительно не прочитав его. О чем, как не о таком пренебрежении, говорит, например, перевод стихотворения Бориса Рыжего «Эмалированное судно…», где допущенная в первой же строке ошибка влечет за собой новую ошибку, в результате чего все стихотворение приобретает смысл, искажающий картину, нарисованную автором? Это стихотворение безусловно лучшего из поэтов, представленных в книге, и, возможно, лучшее в ней следует привести полностью, чтобы яснее было, на чем споткнулась переводчица и к каким последствиям это привело.
Эмалированное судно, окошко, тумбочка, кровать, — жить тяжело и неуютно, зато уютно умирать. Лежу и думаю: едва ли вот этой белой простынёй того вчера не укрывали, кто нынче вышел в мир иной. И тихо капает из крана. И жизнь, растрёпана, как блядь, выходит как бы из тумана и видит: тумбочка, кровать… И я пытаюсь приподняться, хочу в глаза ей поглядеть. Взглянуть в глаза — и разрыдаться и никогда не умереть.«Эмалированный корабль» («Nave smaltata») вместо «эмалированного подкладного судна» на странице 9 оказал переводчице медвежью услугу, и вот уже в следующей строке она переводит «окошко» как «oblт» («иллюминатор»), перенося действие из больничной палаты на корабль, бороздящий то ли морские, то ли речные просторы. Кстати, сочетание союза «то» с частицей «ли», если верить Словарю русского языка под редакцией А. Евгеньева, употребляется «при перечислении фактов или явлений, при неопределенности, неясности того, какой из них является действительным и какой — мнимым»; поэтому строке Б. Рыжего «то ли счастье свое полюби, то ли горе…» не повезло быть переведенной на странице 13 как «то люби свое счастье, то свое горе».
Признаться, я давно не держал в руках переводной книги, независимо от того, с какого на какой язык она переведена — с итальянского на русский или с русского на итальянский, — где на одну страницу приходилось бы по несколько ошибок. Любому иностранцу, интересующемуся русской поэзией, должно быть известно, что когда русскому поэту звонят из некоего клуба с предложением читать стихи, ему предлагают выступить с чтением именно стихов, а не одного стихотворения, как это выглядит в переводе «Матерщинного стихотворения» Бориса Рыжего. На той же странице несколькими строками ниже тоскливая мысль поэта по поводу этого приглашения: «хуё-моё, угу, литература» — подверглась при переводе нравственной цензуре по причине, скорее всего, отсутствия профессиональной привычки обращаться за помощью к носителям языка, которые объяснили бы переводчице значение таинственного зверя по имени «хуё-моё», оправдывающего, между прочим, вкупе с «твою мать», заглавие стихотворения (в буквальном обратном переводе с итальянского строка Рыжего превратилась в бесцветное «литература — это мое дело»). И все на той же злополучной странице 19 в переводе трех заключительных стихов: «надменный и веселый Б. Б. Р., / безвкусицей что счёл бы, например, / порезать вены бритвой безопасной» переводчица умудрилась сделать две серьезные ошибки: во-первых, не заметила инверсии и потому не поняла, что перед нею не вопросительное «что», а соответствие слову «который», и, во-вторых, превратила «безопасную бритву» в «бритву безобидную» («rasoio innocuo»). Вторую ошибку я отношу к разряду непростительных: женщина не обязана знать, чем бреются мужчины, но женщине-переводчику достаточно открыть любой словарь, чтобы узнать о существовании «rasoio di sicurezza» — безопасной бритвы.
В Роттердаме дама, ведущая выступление Бориса, спросила у него: какова ваша жизненная цель?
— Я хочу быть лучшим русским поэтом.
На этом выступлении он прочел 14 стихотворений за 10 минут 36 секунд. Зачем так скоро? Его не понимали.
Из «Роттердамского дневника»:
Отбарабанил положенное количество стихотворений, аплодировали. Пьяный, я хорошо читаю. Кроме своих, прочитал «У статуи Родена мы пили спирт-сырец — художник, два чекиста и я, полумертвец…» (Луговской. — И. Ф.). Проканало, никто ничего не понял, даже Рейн. Пошел в бар, взял пива и сел за столик.
Кейс Верхейл (Любовь остается: Вступительное слово к русско-голландскому сборнику Бориса Рыжего «Облака над городом Е» // Знамя. 2005. № 1):
Для начинающего поэта из русской глубинки участие в Роттердамском фестивале, ассоциирующемся с такими блестящими именами, как Иосиф Бродский, Александр Кушнер и Евгений Рейн, было феноменально почетным. Борис обрадовался возможности познакомиться с Западной Европой, но из-за стечения обстоятельств его июньское путешествие в Голландию обернулось разочарованием. Кроме своего родного языка он мог сказать всего несколько слов на плохом английском. Переводчику, представлявшему его на фестивале, поэзия Рыжего была явно чужда. От стресса из-за возникшего барьера он беспредельно много пил и впал в состояние депрессивной вялости, так что выступление его получилось крайне неудачным. После турне по роттердамским ночным кабакам у него на улице украли деньги, документы и фотоаппарат. Единственным положительным результатом этой поездки в Голландию стал написанный им вскоре рассказ, который его наследники опубликовали в «Знамени» весной 2003 года под названием «Роттердамский дневник». Впечатления от фестиваля перемежаются в этой прозе, самой пространной в наследии Рыжего, с горькими мыслями о собственной семейной жизни, с милыми сердцу воспоминаниями и с бурной сатирой на писательский мирок Екатеринбурга. <…>
Судить о душевном состоянии Бориса в месяцы перед его поездкой мы можем хотя бы отчасти по короткому электронному письму с датой 13 апреля 2000 года, которое я обнаружил в архиве Poetry International. В ответ на просьбу организаторов фестиваля выбрать одно свое стихотворение для прочтения на специальном вечере под названием «Оракул», где участникам предстояло изложить свои «предсказания, мысли, мечты, советы или намерения» насчет наступающего нового тысячелетия, Борис Рыжий посылает «Не покидай меня, когда» с посвящением «И. К.». А в сопроводительном письме он по-английски объясняет этот выбор так: «Посылаю Вам стихотворение о любви и смерти — чего же другого можно ждать от будущего».
«Роттердамский дневник» первоначально назывался «…не может быть и речи о памятнике в полный рост…» при почти параллельной публикации в четвертых номерах голландского журнала «The Flag» и «Знамени» за 2003 год.
Он издавна хотел написать аналог джойсовского «Портрета художника в юности»: о себе в своем городе. Получилось нечто пряное по фактуре и внешне размытое по композиции. Больше по законам стиха, нежели по правилам прозы. Проза Гандлевского (повесть «Трепанация черепа») и Набоков со стихами и прозой, пропитавший прозу Гандлевского, всегда привлекали Рыжего, и это сказалось на «Дневнике». Туманец импресьона покрывает довольно отчетливую — двухслойную — конструкцию: основная линия (пребывание на фестивале) сопровождается боковым нырянием в память, связанную с Екатеринбургом, точнее — со Свердловском: он так чаще всего называет свой город. Ну а там — детство, отец, семья, сестра Оля, жена Ирина, сын Артем, студенческая практика в Кытлыме, забубенные дружки: в основном целая повесть о Диме Рябоконе, каковой опять, как и в стихотворении «Море», отделен от самого себя полетом авторской фантазии. Это такая уловка Рыжего: называть персонажа своим именем, говоря о нем вещи, не имеющие к нему отношения, — таков у него и некий Саша Верников, со всеми чертами реального литератора А. Верникова, нарочно вывернутого в сторону вымысла. При этом он говорит, что реальность ему дороже вымысла.
Подобным образом он и в стихах играет с самыми близкими именами:
Одной рукой, к примеру, Иру обняв, другою обнимал, к примеру, Олю и взлетал над всею чепухою мира. («Серж эмигрировать мечтал…», 1997)Для убедительности в данном случае сюда привязана блоковская «мировая чепуха».
Это тот прием, которым он говорит прототипам: ребята, я вру, не обижайтесь, так надо. Нынешняя патентованная глупость о поэзии как частном деле им, естественно, не разделялась, но работал он зачастую на тех, кого знал в лицо. Это смахивает на «Петербургские зимы» Георгия Иванова, но у Иванова всё всерьез, а Рыжий явно веселится. Грустно веселится.
Причины грусти очевидны. Самая горькая — разлад в семье. Артем говорит: папа, если ты не уйдешь от нас, я подарю тебе белую лошадку с голубой гривой.
Что касается самого фестиваля, Рыжий не впадает в детали, не делает обобщений, круг его общения, описанный в «Роттердамском дневнике», весьма узок — африканский поэт Карл-Пьер, тайваньская поэтесса Шао Ю, а в основном — Евгений Рейн.
…Саша Леонтьев мне как-то передал слова Рейна о том, что настоящий поэт должен стать немного сумасшедшим. Я и говорю Рейну: а ведь, Евгений Борисович, как ни крути, а настоящий поэт должен научиться быть чуточку сумасшедшим. Борька, да ты и так сумасшедший, — смягчился Рейн, — тебе же сейчас читать, ты не смотри, что они улыбаются, эти люди всё замечают, всё, и не видать тебе больше Европы как своих ушей. Те же слова я слышал от Ольги Юрьевны Ермолаевой на одном помпезном московском мероприятии. Вот вам улыбаются, руку жмут, — сказала Ольга Юрьевна, — а вы не тайте, Борис Борисович, не тайте. И Олег Дозморов как-то отчитывал меня в этом роде: я не понимаю, почему ты так уверен в том, что никто тебе не может сделать подлость? А жена, когда я повадился прогуливаться по ночам, просто руками разводила: с чего ты решил, что тебя не убьют?
В очередной раз нырнув в прошлое, он дает эпизоды пребывания в «ду́рке», то есть в психбольнице:
Да один Петруха чего стоил со своими анекдотами, типа Пушкин с Лермонтом делят шкуру неубитого медведя, а к ним подходит Ломонос и говорит: эта шуба моя. Взял и унес. Смеялся над его анекдотами только я, за что и был Петрухою любим. Кроме того, я давал ему сигареты и закрепил за ним право съедать мой завтрак, обед и ужин — я лежал в палате с цыганом Вано, нам хватало гостинцев с воли. Вано хороший человек, мы созваниваемся с ним до сих пор, встречаемся, выпиваем, за жизнь разговариваем. А Петруха умер, однажды не проснулся, когда все проснулись, и всё. Ему было лет пятьдесят, худой и беззубый. Жаловался нам с Вано, когда его обижали. Старался не плакать, когда ставили уколы. Держался как мог. Натурально под мышкой унес санитар его маленькое татуированное тело. У Александра Кушнера есть такое стихотворение: «Всё нам Байрон, Гёте, мы как дети, знать хотим, что думал Теккерей. Плачет бог, читая на том свете жизнь незамечательных людей…» Далее у Кушнера бог поправляет очки и с состраданьем смотрит на дядю Пашу, который что-то мастерит, приговаривая: «этого-того». Этакий бог-педагог, немец наполовину. А на деле-то что получится? Вот придете, Александр Семёнович, дай вам Бог здоровья, к Нему с поклоном, а по правую Его руку дядя Паша сидит (хотя Вы, наверно, выдумали этого дядю Пашу), а по левую — мой Петруха. Много чего придется пересмотреть, о многом всерьез поразмыслить.
В легкомысленном Роттердаме он обзаводится минутной подругой.
А ю риали грет рашен поэт? — спросила меня моя подруга. Нет, — говорю, — не грет, а так себе, поэт как поэт, самый обычный. Как тебе, — спрашивает, — Голландия? Вери гуд, — говорю, — только скучно здесь. А в России не скучно? — спрашивает она. Это, — говорю, — смотря где, Россия очень большая страна, вери, — говорю, — биг кантри, ю андестенд ми, май датч леди? Проснулся посреди ночи, девушка лежала рядом и была очень красива. От счастия влюбленному не спится. — Подумал я. — Идут часы. Купцу седому снится в червонном небе вычерченный кран, склоняющийся медленно над трюмом, мерещится изгнанникам угрюмым в цвет юности окрашенный туман. Это Набоков. Кто с водкой дружен, тому секс не нужен. Это нарколог Сидоров. Тихо оделся и вышел в ночь.
В той ночи его тут же уносит к себе, в детство:
Когда я был маленьким, отец укладывал меня спать. Он читал мне Лермонтова, Блока и Есенина про жеребёнка. Иногда детские стихи Луговского. Ещё Брюсова про тень каких-то там латаний на эмалевой стене. Чьи стихи я читаю сыну? Лосева: «Всё, что бы от нас не скрывали…» и где «эй, дэвушка, слушай, красивый такой, такой молодой». Гандлевского: «Осенний снег упал в траву…» и про тирольскую шляпенку. «Рынок Андреевский» Рейна. «Концерт для скрипки и гобоя» Слуцкого. Много <Георгия>Иванова и одно, про пароходик, Ходасевича. Державинский «Волшебный фонарь» читаю плохо, с мэканьем и порою пытаюсь пересказать забытое прозой. Сын очень похож на своего прадеда, который умер за десять лет до моего появления на свет. Вряд ли дед читал что-либо отцу перед сном, он был председателем райкома партии где-то в Курганской области и, на случай ночных гостей, спал с пистолетом под подушкой. Теперь пистолет (ТТ) теоретически принадлежит отцу, а фактически мне. И боюсь, и надеюсь, что я последний владелец этого чуда.
Ну, во-первых, такой должности «председатель райкома» не существовало — были секретари, а во-вторых, обнаруживается существование пистолета деда Петра Афанасьевича: на предмет партийной бдительности вообще и возможной самообороны или самоубийства, если за ним придут ночные гости из органов.
Однако лейтмотив «Роттердамского дневника», его постоянная тревожная нота — канун возможного распада семьи.
С букетом обдрипанных роз на автобусной остановке я ждал Ирину. Ирина опаздывала на час-полтора, и мы шли гулять. Путь наш был замысловат — то я вёл её дворами, то предлагал свернуть и пройти аллеей, а иной отрезок пути настоятельно советовал проскочить на такси. Она ничего ровным счётом не понимала и только пожимала детскими плечиками. А знаешь, Ирина, ведь меня тогда могли запросто убить, неужели ты не чувствовала? Так или иначе, мы с тобой вместе десять лет, а ты ни разу не спросила, что с моей физиономией? Ты не прочитала ни одного моего стихотворения… Ты равнодушно проглядела заметку в «Литературной газете», написанную по всем правилам доноса — представь, меня бы могли расстрелять, живи мы с тобой не сейчас. Ты бы плакала, если б меня расстреляли? Жаль, что ты не дочитаешь до этого места, иначе я бы о многом тебя спросил, многое бы тебе поведал… Я очень замерзал, когда ждал тебя зимой в джинсовой ветровке, стесняясь надеть зимнее советское пальто. Прости мне эту слабость, я люблю тебя. Помнишь, какие письма я писал тебе из Кытлыма? Я описывал горы, карликовые сосны и невесёлое северное солнце, голубые ручьи с крупицами платины, огромные поляны, усыпанные синей ягодой, высокое-высокое небо. Всё это и по сей день во мне, только загляни глубже в глаза мои, загляни глубоко-глубоко, и, может быть, удивившись, ты найдёшь в себе силы простить меня.
Так или иначе, эта проза — все равно лирика. Исповедальная тональность преобладает, хотя и с перебоями. По обыкновению в поисках опоры он оглядывается назад:
Человек живёт воспоминаниями детства и мыслями о старости, если, конечно, ему больше нечем жить. Когда я был маленьким, сестра водила меня в Парк культуры и отдыха имени Маяковского. Там было всё: комната смеха, карусели «цепочки», качели разных видов, мороженое и сладкая вата, маленькая железная дорога, автодромы и, наконец, колесо обозрения, даже два, одно побольше, другое поменьше. Там играла уже тогда устаревшая музыка, один и тот же набор пластинок. Дети ходили за руку со взрослыми и улыбались. Можно было пить воду из фонтанчика, она казалась какой-то особенно вкусной. На клумбах росли цветы. Цыганки продавали самодельные конфеты в ярких золотинках, мне, правда, запрещалось есть эти конфеты, зато всегда разрешали покупать у тех же цыганок разноцветные шарики на резинке. Когда мы поднимались на колесе обозрения, Оля, придерживая меня, показывала, в какой стороне находится наш дом. Мы поднимались выше сирени, выше сосен, почти до самого неба. Года два назад я решил сходить в этот парк с сыном, побаиваясь, что он закрыт из-за нерентабельности или ещё почему-нибудь — по всему городу наставлены импортные аттракционы, кому нужен какой-то Парк культуры. Мои опасения были напрасны. Проехав несколько остановок на 10-м трамвае, мы прошли под аркой сталинского ампира, и я, уловив знакомый запах сирени, услышал знакомую музыку. Те же комната смеха, автодромы, качели, колесо обозрения, всё то же, даже статуя поэта, только нет улыбающихся девочек и мальчиков, сердитых мам и подвыпивших пап, нет цыганок, продающих милую сердцу ерунду. В парке было потрясающе пусто, хотя кассы работали, аттракционы функционировали. Я первым делом повёл сына на «чёртово колесо» — подняться до самых облаков. Потом мы были в комнате смеха, катались на автодроме, прогуливались, и меня всё это время не покидало чувство, что вот-вот что-то должно случиться — скорее хорошее, чем дурное. Домой мы шли пешком. Я понял, что Тоша ожидал чего-то другого, и купил ему диск с новыми гонками. Мальчик сказал: я люблю тебя, папа. Я взял его и понёс на руках. Ничего не случилось, а только казалось, что вот-вот, вот сейчас… Когда я стану старым, я приеду в этот парк один, сяду на сырую от весеннего дождя скамейку, буду слушать допотопную хриплую музыку и ждать. Ждать, когда лопнет хрустальный воздух и парк наполнится смеющимися детьми, одним из которых, наверно, буду я. А если так ничего и не произойдёт, старик, сидящий под сиренью в пустом парке отдыха на фоне замершего колеса обозрения, — по крайней мере, это очень красиво.
«Роттердамский дневник» не дописан. Текст оборван на том месте, откуда начал бы говорить философ, а поэт утихает:
Тем не менее Голландия скучна, они, голландцы, добывают электроэнергию посредством ветровых мельниц. Это, конечно, экологично, но, чёрт меня дери, как скучно! Это, — говорит мне мой переводчик, словацкая девушка Ева, — очень экологично! А мне, — говорю, — плевать, Ева, на экологию, у меня других забот полно. Ты, — говорит Ева, — как я думаю, волнуешься сейчас, как и каждый русский, что у вас новый президент? Вот уж, Ева, — говорю, — что меня не волнует, так это. О, — улыбается Ева, думая, что попала в точку, — ты расстроен событиями в Чечне? Нет, — говорю по-английски, — мне просто всё обрыдло. Ева сделала большие глаза и посоветовала мне идти в свой номер, а там лежать и читать Библию до тех пор, пока не полегчает. Библия… Что Библия? — подумал я. Эта безусловно Книга книг помогает поддерживать душевное равновесие тем, кто его уже достиг. От депрессняка, скотского настроения и дикого похмелья Библия не спасает.
Изможденного Бориса, вернувшегося из Роттердама, в Москве встретил Борис Петрович и увез домой. На залечивание ран ушло определенное время.
Послушаем Евгения Рейна в его беседе с Татьяной Бек (Вопросы литературы. 2002. № 5):
— …Я знаю, что ты, лежа в больнице, читал и перечитывал поэта Бориса Рыжего, которого летом 2001 года оплакала вся читающая Россия. Самоубийство. Чем тебе так дороги теперь его стихи?
— Это я вместе с Ильей Фаликовым настоял в жюри «Антибукера» в 2000 (1999. — И. Ф.) году, чтобы Борису Рыжему дали поощрительную премию. К тому времени я читал штук десять его стихотворений… А указал мне на его поэзию Алексей Пурин: прислал мне подборку Рыжего в альманахе «Urbi», который он, Пурин, в Питере издает. Там была подборка Рыжего, которая мне понравилась, а особенно удивило одно стихотворение — о том, что мы сидим в пивной и он знает, что со мной о Бродском говорить нельзя, и я встаю и навсегда исчезаю в белом английском плаще… Никогда в жизни у меня не было белого английского плаща: провиденциальность? Я удивился. Потом я прочел еще десятка два его стихов и понял, что он очень талантлив. Что он своеобразен. Что у него — странное продолжение школы Бориса Корнилова и Павла Васильева, которая на время «замерзла» в русской поэзии… Потом мы вместе оказались на Роттердамском фестивале, и вот тут я понял, что он — «поэт трагической забавы». У него с собой было много денег, и он оказался совсем не тот нищий поэт, который ждет, что ему нальют рюмку. У него были в кармане сотни долларов, он все время заходил в разные бары, которых там, как ты понимаешь, много, и пил крепкие напитки. Джин… Виски… А за кулисами фестиваля в неограниченном количестве давали лучшее пиво «Хайнекен». И он, набравшись джина и виски, приходил в этот самый клуб при фестивале и все лакировал огромным количеством пива. После чего терял ориентацию и подходил к незнакомым людям (английский он знал немножко), типа знаменитого Марка Стрэнда, и, хлопая их по пузу, говорил: «Ай эм русиш поэт. Ху ис ху?» Так себя на Западе не ведут, понимаешь… И я на каком-то этапе стал от него держаться подальше. «Боря, нам надо поговорить без тебя». Он в этом смысле был человек толерантный: я сказал — он отстал. При всем при этом он был мне симпатичен — и мы с ним немало выпили и поболтали.
— Молодцы оба…
— Не перебивай. Я видел, что с ним творится что-то неладное… А потом мы разъехались. А потом ты как раз сообщила мне в Литинституте, что его не стало… А потом уже я прочел все стихи Рыжего и замечательную статью о нем Пурина в «Звезде». В моем нынешнем представлении Борис Рыжий был самый талантливый поэт своего поколения.
— А как бы ты определил его индивидуальность?
— Повторяю: Рыжий был «поэт трагической забавы» (формула Вагинова). Он писал внятные, эмоциональные и как бы «фатальные» стихи, по методу абсолютно реалистические. Он описал свой мир. Думаю, искусственным во всем этом было (не в дурном смысле, а от слова «искусство») то, что он себя изображал типом вроде раннего Лимонова — вроде «подростка Савенко»: дружба с уголовниками… пивные… ночной уголовный город… поножовщина… А сам он был сын академика!
— Нет ли тут чего-то актерского?
— Пожалуй. Сын академика. Вырос в комильфотной советской среде. Ему нужна была маска (может, она вообще нужна — маска?), и я это отнюдь не осуждаю. В стихах он десятки раз написал о смерти.
— «Невысокую изгородь ада / по-мальчишески перемахну…»
— Да. Он был суицидный поэт. Как Маяковский. Как сын Томаса Манна Клаус, который раз двадцать покушался на свою жизнь, пока не отравился.
Роттердамский фестиваль стал вторым после «Антибукера» испытанием, из которого он, может быть, так и не вышел. Спустя приличное время, если у него спрашивали о делах, он отвечал:
— Из Голландии вернулся!
На самом деле он никак не мог вернуться из прошлого, из той поры, что так подробно-любовно прописана в «Роттердамском дневнике» и навсегда осталась в стихах:
Роме Тягунову Я работал на драге в посёлке Кытлым, о чём позже скажу в изумительной прозе, — корешился с ушедшим в народ мафиози, любовался с буфетчицей небом ночным. Там тельняшку такую себе я купил, оборзел, прокурил самокрутками пальцы. А ещё я ходил по субботам на танцы и со всеми на равных стройбатовцев бил. Боже мой, не бросай мою душу во зле, — я как Слуцкий на фронт, я как Штейнберг на нары, я обратно хочу — обгоняя отары, ехать в синее небо на чёрном «козле». Да, наверное, всё это — дым без огня и актёрство: слоняться, дышать перегаром. Но кого ты обманешь! А значит, недаром в приисковом посёлке любили меня. («Я работал на драге в посёлке Кытлым…», 1999)Кытлым, Кытлым. Там был найден скелет, которого не было.
С Высшей инстанцией он обращался запросто, если не фамильярно. Мечта христианства — она мечта.
Что же делать, если обманула Та мечта, как всякая мечта… (Блок «Перед судом», 11 октября 1915 года)Еще, как на заре туманной юности, говорилось так (2000):
Ещё неделя света и покоя, и ты уйдёшь, вся в белом, в голубое, не ты, а ты с закушенной губою, пойдёшь со мною мимо цветов, решёток, в платье строгом, вперёд, где в тоне дерзком и жестоком ты будешь много говорить о многом со мной, я — с Богом.А в «Разговоре с Богом» (2001) уж не найти трепета, одна горечь, безнадега с гранулой сарказма:
— Господи, это я мая второго дня. — Кто эти идиоты? — Это мои друзья. На берегу реки водка и шашлыки, облака и русалки. — Э, не рви на куски. На кусочки не рви, мерзостью назови, ад посули посмертно, но не лишай любви високосной весной, слышь меня, Основной! — Кто эти мудочёсы? — Это — со мной!В эти два последних года он съехал с инерции смерти как темы, он увидел ее воочию. Это как полная луна, вылезшая из-за черных туч. Существует лунатизм гибели. Символисты были правы? Ахматова в детстве-отрочестве была лунатичкой. Прошло.
Сесть на корточки возле двери в коридоре и башку обхватить: выход или не выход уехать на море, на работу забить? Ведь когда-то спасало: над синей волною зеленела луна. И, на голову выше, стояла с тобою, и стройна, и умна. Пограничники с вышки своей направляли, суки, прожектора и чужую любовь, гогоча, освещали. Эта песня стара. Это — «море волнуется — раз», в коридоре самым пасмурным днём то ли счастье своё полюби, то ли горе, и вставай, и пойдём. В магазине прикупим консервов и хлеба и бутылку вина. Не спасёт тебя больше ни звёздное небо, ни морская волна. («Сесть на корточки возле двери в коридоре…», 2000)Да когда он был у моря-то? В 1989-м, после восьмого класса, в Болгарии, с родителями, на Солнечном берегу. Были они там недели две, плавал он не очень хорошо, да и опасно там было — народу много, во взбаламученное море не тянуло. Мало видел, больше воображал. Но запоминал навсегда. Ничего не сказал о том море. Разве что о Балтийском, но Финский залив — часть городского ландшафта. На берегу Финского залива в его самой восточной оконечности, в месте впадения в залив реки Невы, стоит Санкт-Петербург.
Это странно: такой нестарый поэт был поэтом памяти. Масса того, что он писал, возникала оттуда, где было лучше, чем сейчас. Область счастья, а не память. Значит, не память, а нечто другое.
Я сам не знаю то, что знает память. Идите к чёрту, удаляйтесь в ночь.ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
Из уходящего века он выходил с некоторым оптимизмом, или это было видимостью и минутой:
По-моему, в проживаемый нами отрезок времени с поэзией нашей всё обстоит самым наилучшим образом. Эпигоны Иосифа Бродского после смерти своего кумира куда-то и сами запропастились со своими текстами. Правда, посмотрите вокруг, их почти не стало — куда делись, непонятно. (С другой стороны, стали по неведомым причинам появляться эпигоны Ходасевича, но это ребята безобидные в основе своей и ненавязчивые, как и подобает эпигонам Ходасевича.) Кроме того, изящная наша словесность избавилась от чистой воды проходимцев, рифмоплётов, потому как дело это по большому счёту стало безденежным и бесславным. Есть, конечно, жулики, мыслящие глобально и выстраивающие колоссальные литературные пирамиды, но как бы они ни старались, всё во благо опять-таки поэзии — эти господа оттягивают на себя графоманов, которые в былые времена атаковали серьёзные издания. Редакторы в связи с этим стали менее нервозны, и с ними приятно общаться. С критикой, конечно, плоховато, но в России всегда так было, было и хуже.
Что ещё? Исчезла так называемая партийность. Мы научились любить хорошие стихи в любом случае, даже если они сочинены дурным, как нам по тем или иным соображениям кажется, человеком, и перестали замечать какие-нибудь нескладные вирши, которые раньше наизусть знали потому только, что автор их пёр против режима и вообще. Я, воспитанный в семье, где «Евтушенко» было ругательным словом, недавно собственноручно откопал у этого поэта хорошее стихотворение. До Вознесенского пока просто руки не дошли — может, и найду чего интересное. А вот о Высоцком я что-то последнее время совсем и не вспоминаю… Короче говоря, Шопенгауэр был всё-таки прав, говоря о том, что лучшее, что может сделать государство для искусства, так это лишить его всяческого внимания. Тут, конечно, само собой напрашивается вопрос: а на какие, собственно, деньги жить сочинителю? Но ведь поэзия — роскошь, не так ли? А не средство к существованию. Поэт, думается, должен где-то служить, охранять объект какой-нибудь строительный, торговать или, например, заниматься разбоем, почему бы и нет? К последнему, понятно, настойчиво не призываю… Ещё что? Да, проблема читателя, якобы читателя сегодня нет. Неправда, у меня есть вещественные доказательства, которые при необходимости могу показать. Вот буквально вчера получил письмо от чудака из Краснотурьинска, писано в стихах: «Я Рыжего сегодня почитал / и, каждую его запомнив фразу, / мне захотелось двинуть на вокзал, / чтоб с ним в Свердловске водки выпить сразу!» Хорошо, что не приехал, а то я вот уж ПОЧТИ год как подшился. Не пью то есть, любезный мой сосед! А если без дураков, поэзию нашу читают и в России, и за её пределами. Не поголовно все, как это было, когда я пошёл в первый класс, а те, кто может позволить себе эту опять-таки роскошь. Ведь поэзия — роскошь, я настаиваю на этом. Или я не прав? А слава, что слава… Слава — это для теноров, как могла бы сказать Ахматова. Я так думаю. (Независимая газета: Кулиса. 2000. 8 декабря. № 16).
Весна 2001 года была классической весной: «О, март-апрель! Какие слёзы…» (Д. Самойлов). Хотелось думать — на земле все будет хорошо хотя бы этой весной. Бесспорно — после всепланетных дискуссий о сроках наступления нового миллениума — пришло второе тысячелетие, уже второе в истории России. Сестра Лена в апреле звонила ему, он громко смеялся, когда она рассказала ему, что неподалеку от ее редакции пару недель работало бюро ритуальных услуг с соответствующей вывеской, резко сменившись на магазин детских игрушек под названием «Ангел». За день до ухода Рыжий откликнулся на предложение провести осенью в Москве свой поэтический вечер, прислав по электронной почте письмо в оргкомитет Московского фестиваля поэтов.
Все испортила гибель Романа. На мотив Лермонтова:
На светские цепи, На блеск утомительный бала Цветущие степи Украины она променяла —Рыжий, несколько меняя звук, гнет свое:
С какой перемены в каком направленье уйти? Со сцены, со сцены, со сцены, со сцены сойти.С первых писем к сестре Ольге Борис испытывал неутоляемую потребность в эпистолярном жанре. С Ларисой Миллер они никогда не виделись. 12 марта Борис отправил первое письмо Ларисе Миллер. Предыстория их переписки такова:
У Рыжего нет лишних слов. Он не болтлив. Говорит «по делу». Его картинки точны, стихи предметны, «всё можно потрогать, понюхать, услышать, увидеть». Так я писала в эссе «Чаепитие ангелов», в котором цитировала стихи поэта. Вскоре после публикации этого эссе в американском журнале «Вестник» (№ 5, 27.02.2001) редактор журнала Валерий Прайс переслал мне электронное послание Бориса Рыжего…
Борис писал:
Уважаемая Лариса Миллер, благодарю Вас за те слова, которые Вы сказали о моем стихотворении «Я вышел из кино…». Я очень тронут.
<…>
Обнимаю.
Всей душой Ваш Борис Рыжий.
Любопытно это «Обнимаю». Миллер уклонилась от ответных объятий, но тепло разговора нарастает. Что сказано о Борисе Рыжем в «Чаепитии ангелов»? Вот начало той статьи Ларисы Миллер:
«Как я хочу, чтоб строчки эти / Забыли, что они слова, / А стали: небо, крыши, ветер, / Сырых бульваров дерева!» (Владимир Соколов). Желание вполне понятное, но трудно выполнимое. Выскочить из слов — задача столь же непосильная, как и воплотиться в слово. Жизнь — борьба. А жизнь поэта — еще и борьба за слово, со словом и против него. <…>
Я вышел из кино, а снег уже лежит, и бородач стоит с фанерною лопатой, и розовый трамвай по воздуху бежит — четырнадцатый, нет, девятый, двадцать пятый. Однако целый мир переменился вдруг, а я всё тот же я, куда же мне податься, я перенаберу все номера подруг, а там давно живут другие, матерятся. Всему виною снег, засыпавший цветы. До дома добреду, побряцаю ключами, по комнатам пройду — прохладны и пусты. Зайду на кухню, оп, два ангела за чаем.Свершилось! Строчки забыли, что они слова, и стали снегом, бородачом, лопатой, розовым трамваем, бегущим не по бумаге, а по воздуху. Ничего бумажного нет в этих стихах. Всё можно потрогать, понюхать, услышать, увидеть.
Поэт ловил и поймал мир в свои сети. Поймал, чтоб снова отпустить на волю (не случайно «воля» и «улов» близки по звучанию). Но отпустить иным, преображенным — таким, где трамвай летит по воздуху, а на кухне сидят за чаем два ангела. Не попади эта кухня в плен к поэту, не было бы и ангелов. Таков эффект этого странного плена. Странного — потому что не вполне ясно, кто у кого в плену: поэт у мира, мир у поэта или они — друг у друга. Во всяком случае, плененный поэтом мир выходит на свободу еще более пленительным и ярким. Вопрос в том, как ему, то есть миру, удается вырваться из плена. Вернее, как удается поэту выпустить его. А еще конкретней — как сие удалось Борису Рыжему, автору приведенного выше стихотворения.
Заметим, этот трамвай у Рыжего — явно гумилёвского происхождения («Заблудившийся трамвай»), но дело не в этом. Миллер спрашивает в ответном письме: «В какой части света Вы живете?»
На «часть света» он не отвечает, предпочитая открыться по-другому: «Самое интересное, что стихи, о которых Вы говорите, я считал слабыми — Вам, вероятно, они нужны были для наглядности…»
В эпистолах довольно осуждающе называется Бахыт Кенжеев (за многописание в основном), возникает имя Владимира Гандельсмана. Они договариваются на том, что Гандельсман «очень хороший поэт». Борис подсылает ей стихотворение Гандельсмана, о котором она отзывается сдержанно. В это время пришла новая плохая весть.
Получила сообщение о смерти Виктора Кривулина. Печально. Он совсем не старый. Правда, весьма больной человек, насколько мне известно.
Борис разделяет ее печаль, хотя и признается, что кривулинское творчество ему мало знакомо. В общем и целом разговор выходит за рамки диалога людей, говорящих исключительно о себе. Это не исключает обмена своими произведениями, Миллер посылает ему свою заметку о поэзии «Пронеслася стая чувств», которая была опубликована в «Независимой газете» прошлым летом, и указывает на публикацию своего эссе в «Вопросах литературы» (2001. № 1).
Дорогая Лариса, спасибо, заметку из «НГ» я читал, а вот «Вопли» до меня, конечно, не доходят, я читаю только то, что есть в Интернете, в «Журнальном зале». Статья очень интересная. Мне близок Ваш взгляд на происходящее. В одном Вы только, кажется, ошиблись. Новиков (Денис Новиков. — И. Ф.), при всём уважении и любви к его стихам, делает что-то подобное, он сильно зависит от контекста, настолько ровно, насколько циники от лириков, только в данном случае всё наоборот. Не от контекста должен зависеть поэт, а от «музыки времени». Я сейчас вспоминаю слова любимой мной Софии Парнок: мы последнее поколение, понимающее стихописательство как духовный подвиг. Или что-то вроде того. Как бы вернуть это понимание. А что касается «информационного повода», поэзия никогда им не была и не будет. И слава Богу.
Относительно Кривулина. Я знал его так себе и плохо понимаю, почему мне пришло это сообщение. Но больно. Он был человеком, который ставил искусство выше жизни. Подобных ему почти уже не осталось, увы.
Эту мысль он развивает в следующем письме:
У меня такое впечатление, что стихотворчество станет поэзией тогда, когда поэты перестанут врать. Но эта ложь неосознанная, просто слова оторвались от предметов. С другой стороны, опять-таки пресловутый «контекст». Посмотрите последнюю подборку Кушнера в «Звезде», он там ни с того ни с сего описывает полковника (ранее, кажется, был майор), не в полковнике дело, а дело в том, что полковник этот до смеха неправдоподобен. А ведь Кушнер мастер! Так что дело, повторюсь, в языке. Но почему же Набоков или та же Парнок воспринимаются нами как современники? Или мы в нашем сознании производим временной сдвиг? Вот в чём вопрос. Так в чём же дело?
Она вновь хвалит книгу «И всё такое…», перечисляя конкретно те вещи, которые ее зацепили:
Борис, решила назвать те стихи из Вашей книги, которые меня особенно зацепили. Может, Вам это ни к чему, но мне хочется: «Над саквояжем в чёрной арке», «Две сотни счётчик намотает», «На окошке на фоне заката», «Когда менты мне репу расшибут», «В обширном здании вокзала», «Осень», «Мы целовались тут пять лет назад», «Мне не хватает нежности в стихах», «Много было всего», «Почти элегия», «Россия — старое кино», «У памяти на самой кромке» (!), «Я вышел из кино». В Ваших стихах всё наглядно, конкретно, предметно, можно потрогать, стул такой, что хоть садись на него, в домино играют так, что слышно, как костяшки стучат. И вдруг — выход, вернее, выброс в разомкнутое пространство, до того разомкнутое, что дух захватывает. В Вашей поэзии та точность, та степень достоверности, которая редко встречается. Однако любое точное описание (дурацкое слово, но не нахожу другого) — не самоцель, и стрела летит куда-то за стихи, в то пространство, куда всё летит. Причем летит стремительно. И вообще Ваши стихи умеют набирать скорость и отрываться от самих себя. Это очень здорово.
Потом она добавила к этому списку «Отполированный тюрьмою…», «Расклад», «Я на крыше паровоза…». С его стороны последовало интересное признание:
А ведь я, коль речь зашла обо мне, до этой книги написал целую гору «метафизических» стихотворений, в которых слова ровным счётом ничего не значили. И знаете, кто меня спас? Некрасов! «Председатель казённой палаты…» Я вдруг понял, что это вполне реальный председатель, и после этого год не писал. Надо же, думал, настоящий председатель, как он может быть поэзией? Но с годами понимаешь, что если не опишешь своё время, то кто это за тебя сделает. Конечно, можно и соврать для «поэтичности», но это будет унижением опять-таки времени, единственного, что мы имеем, памяти.
А вот заглянем в Некрасова, глянем на эту вещь (№ 7 из первой части цикла «Современники» — «Юбиляры и триумфаторы»):
Председатель Казенной палаты — Представительный тучный старик — И директор. Я слышал дебаты, Но о чем? хорошенько не вник. «Мы вас вызвали… ваши способности…» — «Нет-с! вернее: решительность мер». — «Не вхожу ни в какие подробности, Вы — губерниям прочим пример, Господин председатель Пасьянсов!» — «Гран-Пасьянсов!» — поправил старик. «Был бы рай в министерстве финансов, Если б всюду платил так мужик! Жаль, что люди такие способные Редки! Если бы меры принять По всему государству подобные!..» — «И тогда — не могу отвечать! Доложите министру финансов, Что действительно беден мужик». — «Но — пример ваш, почтенный Пасьянсов?..» — «Гран-Пасьянсов!» — поправил старик… 1875И впрямь — сильно. Да и сам диалог сделан виртуозно. Рыжий не раз прибегал к такой форме малой драматургии.
…Лариса, если Вам не трудно, напишите, ЧТО Вам не понравилось в моей книге, для меня это очень важно. Мне предложили выпустить вторую книжку в «Пушкинском фонде», и хотелось бы, чтоб она была лучше прежней. Я целиком полагаюсь на Ваш вкус.Миллер просит его посмотреть в Интернете ее книгу «Между облаком и ямой». Она думала о новой книге, думала о принципах составления. Он знал эту книгу.
Дорогая Лариса, я читал «Между облаком и ямой». Это замечательная книга, без дураков. И составлена она правильно — каждый раздел как бы небольшая книжка, отрезок жизни со своей болью, радостью, интонацией, короче говоря. Поэтому я думаю, что следующую книгу вполне можно составить подобным образом. Это правильно. Но есть другой вариант. А. Ерёменко выпустил книг пять, где одни и те же стихи каждый раз составлены иначе, нежели прежде. И в каждой его книге открывается что-то новое. Такой подход более рискованный, но и более интересный. Я не имею права Вам что-либо рекомендовать, но всё же м. б. попробовать на этот раз пойти по второму пути? Посмотрите, вдруг да увидите, что получается не менее замечательная, но новая картинка. Ну вот, сам себя опровергаю, и всегда так.
14 апреля он сообщает ей сдержанно, без подробностей: «Дорогая Лариса, я немного болен, лежу в больнице. Забежал домой минут на тридцать»[18].
До 30 апреля, когда переписка оборвалась, он познакомил ее с последними своими стихами: «Я подарил тебе на счастье…», «Свети, слеза моя, свети…», «И посмертное честное слово…», «Рубашка в клеточку, в полоску брючки…», «Свернул трамвай на улицу Титова…», «Вот красный флаг с серпом висит над ЖЭКом…», «Гриша-Поросёнок выходит во двор…».
Особо оговаривается стих про трамвай, который ей особенно понравился, и он соглашается: «Мне тоже нравится „Свернул трамвай на улицу Титова“, такой перепев Набокова…»
Свернул трамвай на улицу Титова, разбрызгивая по небу сирень. И облака — и я с тобою снова — летят над головою, добрый день! День добрый, это наша остановка, знакомый по бессоннице пейзаж. Кондуктор, на руке татуировка не «твой навеки», а «бессменно Ваш». С окурком «Примы» я на первом плане, хотя меня давно в помине нет. Мне восемнадцать лет, в моём кармане отвёртка, зажигалка и кастет. То за руку здороваясь, то просто кивая подвернувшейся шпане, с короткой стрижкой, небольшого роста, как верно вспоминают обо мне, перехожу по лужам переулок: что, Муза, тушь растёрла по щекам? Я для тебя забрал цветы у чурок, и никому тебя я не отдам. Я мир швырну к ногам твоим, ребёнок, и мы с тобой простимся навсегда, красавица, когда крупье-подонок кивнёт амбалам в троечках, когда, весь выигрыш поставивший на слово, я проиграю, и в последний раз свернёт трамвай на улицу Титова, где ты стоишь и слёзы льёшь из глаз.«Перепев Набокова» — указатель на набоковский «Трамвай»:
Вот он летит, огнями ночь пробив, крылатые рассыпав перезвоны, и гром колес, как песнопений взрыв, а стекла — озаренные иконы. И спереди — горящее число и рая обычайное названье. Мгновенное томит очарованье — и нет его, погасло, пронесло. И в пенье ускользающего гула и в углубленье ночи неживой — как бы зарница зыбкой синевой за ним на повороте полыхнула. Он пролетел, и не осмыслить мне, что через час мелькнет зарница эта и стрекотом, и судорогой света по занавеске… там… в твоем окне. 21.1.23.27 апреля — хорошая новость: «Дорогая Лариса, вот я вроде бы и дома». Она отправляет ему свои новые стихи, он восхищен:
Дорогая Лариса, спасибо за стихи, впечатление самое наилучшее, я бы сравнил его со своим впечатлением от «Вербной аллеи» (ошибка Бориса; надо «Вербная неделя». — И.Ф.) Анненского после первого осознанного прочтения этой вещи — за простотой и счастьем острое (не то слово) ощущение боли (тоже не то). Что-то вроде этого. «Сил осталось — ноль…», «Раствориться в пейзаже…», «А день имеет бледный вид…» — прелесть. Два последних стихотворения гениальны, на мой взгляд. Нет, без дураков, гениальны.
С нежностью, Ваш Боря.
А я вот ничего не пишу…
Последняя фраза их переписки принадлежит Ларисе Миллер — 30 апреля 2001 года: «Боря, очень рада Вашей реакции. Спасибо. А то, что Вы сейчас не пишете — это, как говорил Тарковский, „перед стихами“».
Стихов уже не случилось. Ей пришлось публикацию «Чаепития ангелов» на родине — в № 9 «Нового мира» за 2001 год — посвятить «Памяти Бориса Рыжего».
Переписка с Кейсом Верхейлом завязалась под занавес 2000 года. Ее начал — 5 октября — Кейс.
Мой друг! Я внимательно и с энтузиазмом прочел Ваш сборник («И всё такое…». — И. Ф.). Первое впечатление о Вашей поэзии, прочитанной в «Знамени» (подборка «Горный инженер» в № 3 за 2000 год. — И. Ф.), подтвердилось, но открыл я и новые грани. Оригинальность Вашего таланта бросается в глаза (и тем более, в уши), и поэтому казалось бы, что Вам грозит опасность впасть в «манеру». Но такого я пока никак не заметил.
Это было точное наблюдение, на которое Борис отреагировал тотчас:
Я понимаю, что пора пользоваться более нейтральной лексикой, что нельзя паразитировать на однажды найденном герое и интонации, но мне бы хотелось естественно подойти к другому.
Кейс просит Бориса не стремиться к «нейтральности», а относительно новой подборки в «Знамени» («Горнист» в № 9 за 2000-й) говорит:
Несмотря на все прежние впечатления, я опять потрясен. Вы умеете взмахом Ваших стихов переместить читателя и в ад, и в небо. Это очень редкий дар.
Борис признается:
Я столь трепетно отношусь к Вам, Вашему творчеству, тем людям и событиям, другом и участником которых Вы являетесь, что, боюсь, так хочу нравиться Вам, что боюсь показаться фальшивым и надуманным.
За упомянутыми «людьми и событиями» стоял прежде всего Бродский. В письмах идет речь о Гандлевском, Кенжееве, Лосеве, но главное состояло в том, что через Верхейла, скорее всего, Борис реально ощущал символическую передачу эстафеты непосредственно из руки Бродского — ему. Думаю, нечто подобное было и в общении с Рейном.
Кейсу Бродский посвятил стихотворение «Голландия есть плоская страна…». Борис хвалит в превосходных тонах воспоминания Верхейла о Бродском. Страх фальши и надуманности имел почву. Когда — очень скоро — они по предложению Кейса перешли на «ты» и Борис посвятил ему стихотворение «Где обрывается память…», в какую-то минуту Борис, на мой взгляд, слукавил. Верхейл предположил:
К. Кобрин мне послал твои ответы на анкету о Бродском, где ты ставишь его в один ряд с А. А. (Блоком, по-видимому) и Ник. Алексеевичем. Если это Клюев, я очередной раз готов тебя расцеловать, п. что Кл. один из моих самых любимых (И. Б. тоже к нему относился с полным восхищением, мы с ним на эту тему говорили не раз).
Борис восклицает: «Да, конечно, это Клюев! Конечно!» Можно сказать, подпел, из лучших побуждений, и не исключено, что в ту секунду сам себе поверил. Николаем Алексеевичем относительно поэзии в России называют только Некрасова, как Александром Сергеичем — ясно кого. Восклицание о Клюеве на клавиатуре Бориса возникло 12 марта, а 20 марта на той же клавиатуре было отстукано: «И знаете, кто меня спас? Некрасов!» — в письме Ларисе Миллер. Усовестился, видать. Уточнил. Или знал, кому что говорить.
В это время Борис читал роман Верхейла «Вилла Бермонд», где сюжет о русском поэте Тютчеве и его семье переплетается с авторскими воспоминаниями нидерландского военного детства: роман вышел в русском переводе в 2000 году в издательстве журнала «Звезда».
Переписка закончилась на письме Бориса от 28 апреля 2001 года. Накануне они разговаривали по телефону. Содержание разговора отдалось в письме:
Кейс, я думаю, что дело не в поколениях (возвращаясь к Тютчеву), а в отношении человека к поэзии вообще. Для нас с тобой Тютчев (как и Овидий) жив, жив настолько, насколько он был жив на самом деле. Для других он мертвец, а мертвецов в России любят какой-то странной любовью — могут двух живых за одного мертвеца убить.
Оставалось девять дней.
У Омри Ронена в эссе «Молвь» (Из города Энн: Сборник эссе. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2005), написанном к шестидесятилетию гибели Марины Цветаевой, сказано:
Смерть Цветаевой была не самоубийством, а вольной смертью, тем, что немцы называют Freitod. Цветаева ненавидела и презирала страх, а в Советском Союзе она не могла остаться бесстрашной: плоть трепетала, а воля была подорвана невозможностью творчества.
В эссе «Оборвыш» Омри Ронен говорит:
Наконец, приходит время, когда жизнь переваливает за веху генетически определенного ей срока полноценной умственной деятельности, но продолжается оттого, что наши лекаря стали много лучше, чем сто шестьдесят лет назад, когда их пожурил поручик Тенгинского полка. Это возраст осеннего равнодушия…
Возраст осеннего равнодушия не зависит от количества прожитых лет.
Ничего не надо, даже счастья быть любимым, не надо даже тёплого участья, яблони в окне. Ни печали женской, ни печали, горечи, стыда. Рожей — в грязь, и чтоб не поднимали больше никогда. Не веди бухого до кровати. Вот моя строка: без меня отчаливайте, хватит, — небо, облака! Жалуйтесь, читайте и жалейте, греясь у огня, вслух читайте, смейтесь, слёзы лейте. Только без меня. Ничего действительно не надо, что ни назови: ни чужого яблоневого сада, ни чужой любви, что тебя поддерживает нежно, уронить боясь. Лучше страшно, лучше безнадежно, лучше рылом в грязь. («Ничего не надо, даже счастья…», 2000)А слава между тем нарастала. В 2000-м Свердловское телевидение сделало продолжительную передачу о Борисе Рыжем «Магический кристалл», режиссер Элеонора Корнилова. Борис в кругу старых друзей, на улицах, в подъездах. Читка стихов, разговоры, игра в снежки с детворой, модное длинное пальто. Проходы, крупный план, негасимая сигарета в правой руке, самоирония, «свердловский говор», скромный элемент актерства, прирожденный артист. Хорош собой, слегка утомлен, детская шея, ломкий голос, молод, улыбчив, исполнен сил, всё впереди. Читая «В кварталах дальних и печальных…», он произносит по-старому: «дальных» и «клен» через «е», а не «ё». На руинах Дома пионеров посожалел: некуда будет прибить мемориальную доску, надо будет ставить памятник, а это народные деньги, опять народные деньги…
В Москве он становится не то чтобы своим, но знакомым и званым. Его зовут туда, куда он раньше лишь посматривал издалека, пристально и ревниво. Журнал поэзии «Арион» был таким местом. С его главным редактором Алексеем Алехиным Рыжего свел Роттердам, хотя они пересекались и прежде — в Питере на конгрессе, но тогда Рыжий для «Ариона» был никем, да и лихости не являл, поскольку был зашит. Иное дело — Голландия, мировой уровень, толпа звезд и соблазнов. Борис не понравился Алехину беспрерывным перформансом: швырялся гульденами, показательно ухлестывал за некоей китаянкой вдвое старше себя и проч. Тем не менее Алехин пригласил его в журнал со стихами. В Москве Борис вел себя по-другому. Тих, опрятен, пунктуален, охотно идет на предлагаемую правку, ни следа роттердамского разгула.
В Челябинске Маргарита Михайловна говорила мне, что Алехин приезжал на похороны (с опозданием на день) и взял с собой ком кладбищенской глины. Нет, этого не было, она перепутала, но сам факт путаницы — свидетельство того, что Борис нередко произносил имя журнала и его редактора на дому.
«Арион» напечатал Рыжего — в 2001-м (№ 6), это была его последняя, им подготовленная публикация, а в № 2 следующего года Алехин писал о нем в своем журнале, отзываясь на книгу «На холодном ветру»:
Если отбросить частности, суть — привлекательная для одних, раздражающая или настораживающая других (порою и то и то одновременно), — в том, что он вернул поэзии смелость говорить от первого лица и заговорил о вещах самых простых и потому существенных:
Все аттракционы на замке, никого вокруг, только слышен где-то вдалеке репродуктор-друг. Что поёт он, чёрт его поймёт, что и пел всегда: что любовь пройдёт, и жизнь пройдёт, пролетят года.Или так:
…твой белый бант плывёт на синем фоне. И сушится на каждом на балконе то майка, то пальто, то неизвестно что.Или, вдруг, так:
И вроде не было войны… ………………………… И вроде трубы не играли, не обнимались, не рыдали, не раздавали ордена, протезы, звания, медали, а жизнь, что жив, стыда полна?Не скажу, что на фоне чуть ли не целой эпохи искусственного авангарда, маловразумительных «метаметафор», холодноватых «концептов» и отдающих кружком «Умелые руки» «постконцептов» такое именно возвращение из тропосферы на грешную землю было единственным вариантом. Но оно было предопределено или во всяком случае необходимо. И, наверное, не случайно оно пришло из во всех отношениях «срединного» фабрично-городского Свердловска-Екатеринбурга, где, похоже, зарождается целая школа новых поэтов.
Борис Рыжий и среди них был enfant terrible. Но образ — просвечивал, и за его «хуё-моё, угу, литература» отчетливо слышится верленовская строчка в пастернаковском переводе («Все прочее — литература». — И. Ф.). Маска дворового «кента» сидела на артисте, не только знающем толк в стихосложении, но и не пренебрегающем им по-мальчишески блеснуть:
…Пол-облака висит над головами. Гроб вытаскивают — блеск — и восстановлен лоб, что в офисе ему разбили арматурой. Стою, взволнованный пеоном и цезурой!(Пеон тут сомнительный, но не в том дело.)
Жизнь Бориса Рыжего была очень коротка, и в ней сплелось ученичество со зрелостью. В иных строчках проступают следы учителей — и хороших учителей, но говорил он своим голосом.
Твердящих о «невозможности поэтического высказывания» можно понять: говорящий от своего лица, своим голосом — уязвим. Но в этом и состоит суть поэзии.
Тон Алехина несколько покровительственный, «главредакторский», по крайней мере — осторожный в оценке явления, с позиции старшего. Возможно, мастер верлибра и тертый литературный политик сознательно противостоит обвалу посмертных восхвалений Рыжего, надрывных преувеличений и некоторой паники в рядах поэтической братии.
Нет дыма без огня. Прошу ознакомиться с афишей одного литературного мероприятия наших дней.
Программа Третьих литературных чтений «Они ушли. Они остались»:
ТРЕТЬИ ЕЖЕГОДНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ «ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ»
ПАМЯТИ ПОЭТОВ, УШЕДШИХ МОЛОДЫМИ В КОНЦЕ XX — НАЧАЛЕ XXI века Москва, 14, 15, 16 ноября 2014
14 НОЯБРЯ, пятница, Российская государственная библиотека для молодежи (ул. Б. Черкизовская, д. 4, м. «Преображенская площадь»), 18.00:
Ведущие: Борис Кутенков, Елена Семенова
I
Мелодекламация по стихам ушедших поэтов: исполняют актеры Максимилиан Потемкин, Светлана Андрийчук
II
Доклады:
РОМАН БАРЬЯНОВ (1960–1994) и группа «импреокларистов» — рассказывает Алексей Сосна
ЛЕВ ДОЖДЕВ (1970–2007) — рассказывает Алексей Корецкий
ЭДУАРД КИРСАНОВ (1972–2003) — рассказывает Зульфия Алькаева
МАКСИМ МАКСИМЕНКО (1973–2001) — рассказывает Андрей Щербак-Жуков
МИХАИЛ ЛАПТЕВ (1960–1994) — рассказывает Николай Звягинцев
АНДРЕЙ НОВИКОВ (1974–2014) — рассказывает Лилия Газизова
РОМАН ТЯГУНОВ (1962–2000) — рассказывает Мария Скрягина
НИКА ТУРБИНА (1974–2002) — рассказывает Дана Курская
ЕВГЕНИИ ХОРВАТ (1961–1993) — рассказывает Наталия Черных
ЕВГЕНИЙ ШЕШОЛИН (1955–1990) — рассказывает Наталия Черных
15 НОЯБРЯ, суббота, Государственная центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова (ул. Барболина, д. 6, м. «Сокольники»), 15.30: Ведущие: Владимир Коркунов, Клементина Ширшова, Ирина Медведева
I
Мелодекламация по стихам ушедших поэтов: исполняют актеры Максимилиан Потемкин, Светлана Андрийчук
II
Доклады:
АЛЕКСАНДР БАРДОДЫМ (1966–1992) — рассказывает Олег Демидов
МАКС БАТУРИН (1965–1997) — рассказывает Андрей Филимонов
АРТУР ВОЛОШИН (1961–1991) — рассказывает Валерия Мухоедова
МАРИНА ГЕОРГАДЗЕ (1966–2006) — рассказывает Ирина Суглобова
АННА ГОРЕНКО (1972–1999) — рассказывает Клементина Ширшова
ДМИТРИЙ ДОЛМАТОВ (1970–1991) — рассказывает Елизавета Станиславская
АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ (1956–1993) — рассказывает Владимир Коркунов
БОРИС РЫЖИЙ (1974–2001) — рассказывает Ольга Ермолаева
ТАРАС ТРОФИМОВ (1982–2011) — рассказывает Илья Ненко
ЖАННА ТУНДАВИHА (1979–2013) — рассказывает Стас Нестерюк
АНДРЕЙ ТУРКИН (1962–1997) — рассказывает Света Литвак
ДМИТРИЙ ЧЕРНИЧЕНКО (1987–2014) — рассказывает Максим Бессонов
16 НОЯБРЯ, воскресенье, Институт журналистики и литературного творчества (Калашный пер., д. 3, м. «Арбатская»), 15.30:
Ведущие: Борис Кутенков, Ирина Медведева, Елена Семенова
I
Доклады:
АНДРЕЙ АНИПКО (1976–2012) — рассказывает Людмила Иванова
ДМИТРИЙ БАННИКОВ (1969–2003) — рассказывает Игорь Куницын
КИРИЛЛ САВИЦКИЙ (1985–2011) — рассказывает Денис Вафа
КСЕНИЯ БОЛДЫРЕВА (1987–2014) — рассказывает Алексей Караковский
ЮЛИЯ БОНДАЛЕТОВА (1973–2013) — рассказывают Елена Семенова, Борис Кутенков (по материалам друзей)
СВЕТЛАНА ГОРШУНОВА (1974–2001) — рассказывает Александр Емельяненко
КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВ (1968–2008) — рассказывает Андрей Добрынин
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА (1985–2011) — рассказывает Татьяна Мосеева
ВЛАД КЛЁН (1981–2010) — рассказывает Анна Грувер
АНДРЕИ ПАНЦУЛАЯ (1958–1991) — рассказывает Ольга Кольцова
II
18.45 — круглый стол «Поэтическая молодость и ранняя смерть»
Вступительные доклады:
Александр Лаврин: «Поэт и смерть: быт, экзистенция, выбор пути»
Игорь Волгин: «Поэзия и смерть»
Тебе не страшно, читатель?
Его последней строкой была «Я всех очень любил без дураков». Он оставил ее на листе бумаги, лежащем на столе около балкона: написал стоя, уже уходя. Жизнь его кончилась, и всё, что было потом, — уже другая книга.
Последний год Бориса — волна высокой лирики, обращенной к жене. «Я подарил тебе на счастье…», «Элегия» («Благодарю за каждую дождинку…»), «Веди меня аллеями пустыми…», «Вспомним всё, что помним и забыли…», «Помнишь дождь на улице Титова…», «Ты танцевала, нет, ты танцевала…», «Я по снам по твоим не ходил…», «Я по листьям сухим не бродил…», «Не покидай меня, когда…», «Не безысходный — трогательный, словно…», «Осыпаются алые клёны…», «А грустно было и уныло…». В этот ряд вторгаются стихи с другой героиней — Элей («Стань девочкою прежней с белым бантом…», «Рубашка в клеточку, в полоску брючки…»), но, будучи замечательными, не они делают погоду. Скорей всего это зыбкий знак общей потери. В стихах Ирине — абсолютная определенность адреса.
Помнишь дождь на улице Титова, что прошёл немного погодя после слёз и сказанного слова? Ты не помнишь этого дождя! Помнишь, под озябшими кустами мы с тобою простояли час, и трамваи сонными глазами нехотя оглядывали нас? Озирались сонные трамваи, и вода по мордам их текла. Что ещё, Иринушка, не знаю, но, наверно, музыка была. Скрипки ли невидимые пели или что иное, если взять двух влюблённых на пустой аллее, музыка не может не играть. Постою немного на пороге, а потом отчалю навсегда без музы́ки, но по той дороге, по которой мы пришли сюда. И поскольку сердце не забыло взор твой, надо тоже не забыть поблагодарить за всё, что было, потому что не за что простить. («Помнишь дождь на улице Титова…», 2000)Последний день Бориса. Если написать конспективный дневник от его лица, это будет выглядеть так.
6 мая 2001. Пошел ночевать к родителям, потому как Ирина утром уходила раньше, разбудить бы не смогла, а на завтра были намечены неотложные дела. Явочным порядком вечером явились трое — Е. Тиновская, А. Верников, юный Д. Теткин. Который вел разговоры об «ужасе поэтического существования» и, ознакомившись с версткой новых стихов в «Знамени», говорил об их музыкальности. Надоело. Первым часов в восемь ушел Верников. Несколько раз заглядывала мама. Остальные ушли через час. Вышел провожать к лифту. Пошел домой, после десяти звонил Дозморов, поболтали около часа, посмеялись. Вернулся к родителям, долго говорили с отцом о том о сем. В частности, о покупке автомобиля. С матерью — об Артеме.
…У Бориса в марте — апреле была депрессия. Знакомый доктор дал ему новые антидепрессанты, он принимал таблетки почти до мая, кризис вроде бы кончился, но тут существует сложность: именно в это время, по выходе из депрессии, надо особенно следить за собой. Он все время сидел дома, чувствуя: что-то должно случиться, что-то должно случиться. Звал Ирину в Питер, все время думал о петербургской премии «Северная Пальмира», звонил Кушнеру, Верхейлу, его успокаивали: получишь ты эту премию непременно. Он жаловался матери: больше ни о чем не думаю.
С отцом говорили часов до трех, пока тот не принял феназепам. Борис попросил маму: если можешь, посиди со мной. Она посидела рядом с ним, он вроде бы уснул.
В эту ночь, под утро, он ушел. Петлей послужил пояс от спортивного кимоно, прикрепленный к балконной двери. И где он его нашел?..
Москва — Челябинск — Екатеринбург — Санкт — Петербург — Ялта — Москва
2014–2015
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Борис Рыжий в дни Международного конгресса поэтов. Санкт-Петербург. 4–6 июня 1999 г.
Родители поэта, Маргарита Михайловна и Борис Петрович Рыжий, в молодости. Челябинск. 1960-е гг.
Будущий поэт — первые шаги. Челябинск. 1975 г.
С мамой. Челябинск. 1976 г.
С отцом на первомайской демонстрации. Екатеринбург. 1981 г.
Молодожены Ирина Князева и Борис Рыжий. Екатеринбург. 1991 г.
Сын Артем. Середина 1990-х гг.
Дивий Камень. Фото В. Огородникова
Преподаватель Горного института Алексей Кузин и студент Борис Рыжий на геофизической практике в Верхней Сысерти. Июнь 1995 г.
Александр Леонтьев, Алексей Пурин и Борис Рыжий в первые дни знакомства. Санкт-Петербург. 1994 г.
«Да здравствуют Саша и Боря, сии золотые умы…» С Александром Леонтьевым. Санкт-Петербург. 1994 г.
«Я видел бессмертье». Встреча с Евгением Евтушенко (в центре): Валерий Долганов, Борис Рыжий, Юрий Лобанцев. Екатеринбург. Июнь 1997 г.
Поэт Евгения Изварина
Поэт Елена Тиновская
Открытие церемонии вручения премии «Антибукер-1999». Выступает Виталий Третьяков. Слева за столом: Борис Рыжий, Евгений Гришковец, Павел Басинский. Москва, ресторан «Серебряный век». 21 января 2000 г. Фото С. Золотарева
Лауреаты премии «Антибукер-1999»: Марина Тарковская, Борис Рыжий, Евгений Гришковец, Павел Басинский. 21 января 2000 г. Фото С. Золотарева
Антибукеровская речь Бориса Рыжего. 21 января 2000 г. Фото С. Золотарева
С Ольгой Ермолаевой. Москва. 25 января 2000 г.
В гостях у Александра Кушнера: Борис Рыжий, Александр Леонтьев, Евгений Рейн, Игорь Померанцев и хозяин дома. Санкт-Петербург. Июнь 1999 г.
Кейс Верхейл, Олег Дозморов, Борис Рыжий. Екатеринбург. Сентябрь 1999 г.
«Играли в душе моей детской / Еременко медные трубы». Александр Еременко. Москва. Конец 1980-х гг. Из архива М. Сидлина
Сергей Гандлевский в дни памяти Бориса Рыжего в Екатеринбурге.5 октября 2006 г. Фото А. Понизовкина
Поэт Роман Тягунов
Поэт Дмитрий Рябоконь
С Олегом Дозморовым: «Поручик Дозморов, держитесь!» Санкт-Петербург. 1999 г.
Ольга Сосновская, сестра Бориса Рыжего. Екатеринбург. Август 2014 г.
Сестра поэта Елена Золотарева с сыновьями Олегом и Сергеем. Челябинск. 1996 г. Фото И. Золотарева
Дмитрий Сухарев и Андрей Крамаренко в дни памяти поэта. Екатеринбург. 5 октября 2006 г. Фото А. Понизовкина
У дома Бориса Рыжего в дни памяти поэта: О. Сосновская, А. Леонтьев, А. Пурин, В. Сосновский, Р. Родыгин. Екатеринбург. 17 октября 2012 г. Фото А. Крамаренко
Автор книги Илья Фаликов с матерью поэта Маргаритой Михайловной. Челябинск. 16 августа 2014 г. Фото А. Крамаренко
У могилы Бориса Рыжего автор книги и Алексей Кузин. Екатеринбург. 20 августа 2014 г. Фото А. Крамаренко
«Что еще, Иринушка, не знаю, / но, наверно, музыка была…» Ирина Князева. Екатеринбург. Август 2014 г. Фото А. Крамаренко
Открытие памятной доски Борису Рыжему на доме, где родился поэт. Челябинск, ул. Свободы, 149. 8 сентября 2014 г. Фото И. Золотарева
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Б. Б. РЫЖЕГО
1974, 8 сентября — родился в городе Челябинске. Отец — Борис Петрович Рыжий, геофизик (1938–2004). Мать — Маргарита Михайловна Рыжая, врач-эпидемиолог (р. 1936). Сестры — Елена (р. 1961), Ольга (р. 1962).
1980 — переехал в Свердловск с родителями: отца перевели на должность главного инженера Уральской геофизической экспедиции. Семья поселилась в Чкаловском районе города (в народном наименовании Вторчермет) по адресу: ул. Титова, 44, кв. 30.
1981 — пошел в первый класс школы № 160.
1982–1989 — последовательное увлечение авиамоделированием, карате, дзюдо, боксом, лепкой, музыкой группы «Наутилус» (и другими музыкальными рок-коллективами, советскими и зарубежными).
1987, лето — посещение родового гнезда матери — деревни Скрипово на Орловщине.
1988 — чемпион Свердловска по боксу среди мальчиков легкого веса.
1989, лето — поездка с родителями в Болгарию.
Сентябрь — знакомство с Ириной Князевой. Начало стихописания.
1991, май — переезд семьи на Московскую горку в центре Свердловска по адресу: ул. Шейнкмана, 108, кв. 103.
Лето — Борис окончил школу. Первый инфаркт отца.
Осень — поступил в Горный институт (ныне Уральская государственная горно-геологическая академия), отделение геофизики и геоэкологии.
27 декабря — женитьба на И. Князевой. Молодые поселяются у родителей Бориса.
1992 — знакомство с А. Кузиным, поэтом и преподавателем Горного института. Посещение литературного объединения «Горный родник» (руководитель Ю. Лобанцев). Первая публикация в екатеринбургской «Российской газете». Уход в академический отпуск (на год) по болезни. Поездка в Москву на Всероссийский фестиваль студенческой поэзии (второе место).
1993, 13 января — рождение сына Артема.
1993–1996 — посещение литературного объединения им. М. М. Пилипенко при молодежной газете «На смену!» под руководством Н. Мережникова. Авторский вечер на площадке ДК автомобилистов. Первое журнальное выступление (Уральский следопыт. 1993. № 9). Опубликованы восемь стихотворений и интервью Ю. Шинкаренко в «Екатеринбургской газете» (1994), десять других публикаций в течение 1994–1995 годов и подборка в журнале «Урал» (1995).
1994, февраль — участие во Всероссийском совещании молодых поэтов (Москва). Знакомство с А. Леонтьевым и Г. Данским.
Июль — студенческая практика на Сухоложской базе на правом берегу реки Пышма.
26 октября — вселение в квартиру на ул. Куйбышева. Первый приезд в Петербург. Дружба с А. Леонтьевым. Поездки в Питер становятся регулярными. Знакомства — с А. Пуриным, А. Кушнером, А. Кирдяновым, переводчиком Хансом Боландом (Нидерланды). Вступает в многолетнюю переписку с новыми друзьями.
1996 — знакомство и дружба с О. Дозморовым. Начало большой переписки.
1997, 16–17 апреля — Всероссийский студенческий фестиваль поэзии им. Пушкина. Занял первое место. Мероприятие проходило на базе Академии нефти и газа им. И. М. Губкина.
Апрель — знакомство в Москве с Е. Рейном.
Июнь — знакомство в Екатеринбурге с Е. Евтушенко. Окончание института и поступление в аспирантуру Института геофизики Уральского отделения РАН (директор — Б. П. Рыжий). Параллельно — работа младшим научным сотрудником в лаборатории региональной геофизики этого института.
Публикация стихов в журнале «Звезда» (№ 9).
Смерть Ю. Лобанцева.
1998 — публикация в петербургском альманахе «Urbi» (19 стихотворений).
Апрель — поездка в Пермь, выступление в Пермском государственном университете.
Конец 1998-го — начало 1999-го — в Екатеринбурге знакомится и в дальнейшем дружит с Е. Извариной, Р. Тягуновым, Е. Тиновской, Д. Рябоконем.
Ноябрь — устраивается литсотрудником в журнал «Урал». Ведет рубрики «Граф Хвостов» и «Антология шедевров поэзии Урала».
1999 — публикация стихов в журнале «Знамя» (№ 4). Знакомится с О. Ермолаевой.
Июнь — участие в Международном конгрессе поэтов, посвященном двухсотлетнему юбилею А. С. Пушкина, в Петербурге.
Знакомство с С. Гандлевским.
Предложение директора издательства «Пушкинский фонд» (СПб.) Г. Ф. Комарова издать книгу. Сотрудничество в газете «Книжный клуб»: рубрика «Актуальная поэзия с Борисом Рыжим». Публикует заметки о поэзии, отзывы о книгах и т. д.
Конец года — знакомство с А. Верниковым и его женой И. Трубецкой.
20 декабря — решение жюри премии «Антибукер» о поощрительной премии в номинации «Незнакомка» за подборку в «Знамени».
2000, 21 января — вручение премии «Антибукер» в Москве на литературном обеде в ресторане «Серебряный век». Март — знакомство с писательницей Н. Смирновой и поэтом Е. Касимовым.
Увольнение из журнала «Урал».
Май — выход книги «И всё такое…» («Пушкинский фонд»).
Поездка в Нижний Новгород на литературную конференцию «Другая провинция». Посещение Петербурга.
Июнь — поездка в Роттердам на Всемирный фестиваль поэзии — Poetry International. Общение с Е. Рейном. Окончание аспирантуры, продолжение работы в Институте геофизики Уральского отделения РАН младшим научным сотрудником в лаборатории региональной геофизики. Пишет и публикует труды по геофизике.
Сентябрь — знакомство и начало дружбы с К. Верхейлом, голландским славистом и писателем.
Октябрь — вступление в Союз российских писателей.
Конец года — телепередача о Борисе Рыжем «Магический кристалл», режиссер Элеонора Корнилова, СГТРК. Публикация стихотворных подборок в «Знамени» (№ 3,9), «Урале» (№ 11, 13).
Поэтические публикации в «Литературной газете» (№ 8) и «Независимой газете» (№ 16).
Посещение Петербурга.
Работа над прозой — «Роттердамский дневник».
2000–2001 — переписка с А. Кушнером, Л. Миллер, К. Верхейлом.
Подготовка книги «На холодном ветру» для «Пушкинского фонда».
Публикация подборки стихов под общим названием «Горнист» в журнале «Знамя» (№ 9).
2001 — последняя поэтическая публикация, подготовленная Б. Рыжим: журнал «Арион» (№ 6).
7 мая, под утро — самоубийство Бориса Рыжего.
10 мая — похороны на Нижнеисетском кладбище в Екатеринбурге.
ХРОНИКА ПОСМЕРТНОЙ СУДЬБЫ БОРИСА РЫЖЕГО[19]
2001, 6 июня — отец поэта Б. П. Рыжий в Петербурге получает премию «Северная Пальмира», присужденную Борису Рыжему за книгу «И всё такое…» в номинации «Лучшее произведение в жанре поэзии».
Конец лета — выходит книга: Рыжий Б. На холодном ветру. Стихотворения / Сост. Г. Ф. Комаров, автор предисл. С. Гандлевский (СПб.: Пушкинский фонд).
2002 — в журнале «Знамя» (№ 1) опубликованы 45 стихотворений Б. Рыжего (составитель подборки О. Ермолаева; публикация Б. П. Рыжего и И. Князевой).
14 мая — вечер памяти Б. Рыжего под эгидой Библиотеки главы Екатеринбурга и Уральского государственного университета.
29 августа — вечер памяти Б. Рыжего в Храме-на-Крови Екатеринбурга.
21 сентября — первые литературные чтения памяти Б. Рыжего.
Октябрь — вечер памяти Б. Рыжего в салоне «Классики XXI века» в рамках Второго Московского международного фестиваля поэзии. Участники: А. Алехин, И. Фаликов и др.
2001–2011 — публикации стихов в журналах: «Арион» (2001. № 2); «Знамя» (2001. № 6); «Знамя» (2002. № 1); «Звезда» (2001. № 7); «Урал» (2001. № 8); «Знамя» (2002. № 1); «Звезда» (2002. № 5); «Знамя» (2003. № 1); «Урал» (2003. № 6); «Уральская новь» (2003. № 16); «Знамя» (2004. № 1); «Знамя» (2005. № 1); «Дети Ра» (2006. № 5); «Интерпоэзия» (2011. № 3); «Урал» (2011. № 5). Публикации прозы: «The Flag» (Голландия) (2003. № 4); «Знамя» (2003. № 4): «…не может быть и речи о памятнике в полный рост…» («Роттердамский дневник»); переписка — «Урал» (2003. № 6).
2003 — выход книги: Рыжий Б. Стихи. 1993–2001 / Сост. Г. Ф. Комаров (СПб.: Пушкинский фонд); выход книги:
Кузин А. Следы Бориса Рыжего (Екатеринбург: Изд-во Уральского университета).
2004, ноябрь — вечер «30-летие Бориса Рыжего» в Центральном доме журналиста (Москва); участники: О. Дозморов, О. Ермолаева, И. Князева, А. Крамаренко, А. Кушнер, С. Никитин, Е. Рейн, Д. Сухарев, С. Чупринин. Выход книги: Рыжий Б. Оправдание жизни / Послесл. Ю. В. Казарина (Екатеринбург: У-Фактория).
2005, 8 сентября — Всероссийские дни памяти Бориса Рыжего (Екатеринбург).
Вечер памяти Бориса Рыжего. Храм-на-Крови, актовый зал (организовала Ольга Рыжая-Сосновская по инициативе священника Екатеринбургской епархии о. Владимира Зайцева). Ведущий Ю. Казарин. Выступали А. Кузин, Д. Рябоконь, Е. Изварина, барды А. Крамаренко, Г. Данской, литературовед Л. Быков, о. Владимир.
Моноспектакль по стихам Б. Рыжего (режиссер Р. Саитов, актер Д. Кошкин).
Документальный фильм о Борисе Рыжем «Под небом, выпитым до дна», режиссер Марианна Казнина, кинокомпания «Страна».
2006, октябрь — Всероссийские дни памяти Бориса Рыжего (Екатеринбург).
4 октября — конкурс молодых поэтов (финал). Уральский государственный университет (УрГУ), актовый зал.
5 октября — мемориальный вечер. Храм-на-Крови, конференц-зал. Ведущий Д. Сухарев. Выступали С. Гандлевский, Е. Рейн, Е. Изварина, Ю. Казарин, А. Кузин, о. Владимир, литературоведы К. Верхейл, Л. Закс, Л. Быков.
6 октября — круглый стол с участием К. Верхейла. УрГУ, актовый зал.
Авторский вечер Е. Рейна и С. Гандлевского. УрГУ, актовый зал.
7 октября — вечер-концерт Д. Сухарева и А. Крамаренко. Музыкальное училище им. П. И. Чайковского, зал Маклецкого.
2007, 19 декабря — мемориальный вечер в Екатеринбурге. Храм-на-Крови, конференц-зал. Ведущий А. Крамаренко. Выступали Е. Изварина, Ю. Казарин, Ю. Аврех, Е. Касимов, А. Зинатуллин (читал стихи Б. Рыжего), B. Сосновский (читал стихи Р. Тягунова).
20 декабря — авторский вечер Е. Рейна. УрГУ, актовый зал.
21 декабря — круглый стол с участием Е. Рейна, М. Свердлова, О. Лекманова. Областная библиотека им. В. Г. Белинского.
Концерт С. Никитина и А. Крамаренко. Уральский горно-геологический университет (УГГУ), концертный зал.
2008, январь — филологическая конференция, посвященная Б. Рыжему, в Амстердаме. Участники: Л. Быков, К. Верхейл, В. Вестстайн, О. Дозморов и др. По итогам конференции в 2009 году вышел номер журнала «Русская литература».
Центральный дом журналиста (Москва): концерт по стихам и песням на стихи Бориса Рыжего. Участвовали C. Никитин и А. Крамаренко.
Снят документальный фильм нидерландского режиссера Алены ван дер Хорст «Борис Рыжий» («Boris Ryzhy»). Картина была показана на кинофестивалях в Великобритании, Канаде, Аргентине, Польше, России и Нидерландах. Награды: XXI Международный фестиваль документального кино в Амстердаме (2008) — приз «Серебряный волк»; Эдинбургский кинофестиваль (2009) — приз «За лучший документальный фильм»; Российская национальная премия «Лавровая ветвь» (2009) — номинация «Лучший кинофильм». Выход книги: Венок Борису Рыжему / Сост. Л. Быков. (Екатеринбург: Издательский дом «Союз писателей»).
Ноябрь — в Амстердам на кинофестиваль приглашены М. М. Рыжая, И. Князева, Артем Рыжий, О. Рыжая.
2009, 3 декабря — мемориальный вечер в Екатеринбурге. Гуманитарный университет (ГУ). Ведущий Л. Закс. Демонстрация фильма Алены ван дер Хорст «Борис Рыжий». Спектакль студенческого театра по стихам Бориса.
4 декабря — круглый стол. Областная библиотека им. В. Г. Белинского, Екатеринбург.
Вечер «Екатеринбург — город поэтов». ГУ. Выступали М. Никулина, Ю. Казарин, А. Зинатуллин, Е. Касимов, В. Блинов, Е. Изварина, А. Застырец.
5 декабря — авторский вечер Р. Левинзон (Израиль).
10 декабря — Центральный дом работников искусств (Москва) — 35-летие Бориса Рыжего. Участники: М. М. Рыжая, К. Верхейл, О. Ермолаева, А. Крамаренко, С. Никитин, Е. Рейн, Д. Сухарев.
Выход книги Ю. Казарина «Поэт Борис Рыжий» (Екатеринбург: Изд-во Уральского университета).
2010, 25 марта — премьера спектакля «Рыжий» в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко».
Октябрь — вечер в Российской академии наук (РАН) «Два Бориса», посвященный стихам и песням на стихи Бориса Слуцкого и Бориса Рыжего. Участники: Д. Сухарев, А. Крамаренко, Л. Морозова.
2012, март — выход книги: Рыжий Б. В кварталах дальних и печальных… (М.: Искусство — XXI век).
21 марта — премьера книги «В кварталах дальних и печальных…» в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко». Присутствовали мать поэта и его сестры.
17 октября — мемориальный вечер в Екатеринбурге. ГУ. Ведущий Л. Закс. Выступали А. Пурин, А. Леонтьев, Г. Дробиз, В. Дулепов, Ю. Казарин, Е. Касимов, А. Застырец, В. Блинов, А. Вавилов, А. Костарев, Н. Александрова, литературоведы Н. Быстров, Л. Быков.
18 октября — круглый стол в Музее писателей Урала (Екатеринбург).
Авторский вечер А. Пурина и А. Леонтьева.
2013, 8 сентября — кафе «Альма-Матер»: вечер «День рождения Бориса Рыжего». Участники: А. Ивантер, А. Крамаренко, Д. Сухарев, И. Фаликов.
2014, сентябрь — на имя мэра Екатеринбурга Е. Ройзмана и в городскую думу направлена петиция (подписали более тысячи человек) с предложением назвать именем Бориса Рыжего улицу на Вторчермете.
8 сентября — на доме, где родился Борис Рыжий (Челябинск, ул. Свободы, 149), установлена мемориальная доска. В кинотеатре им. А. С. Пушкина прошел концерт, посвященный 40-летию поэта. Участники: Ю. Богатенков, В. Казарцев, А. Крамаренко.
19–20 декабря — Международный поэтический фестиваль «Дни Бориса Рыжего» в Екатеринбурге (при поддержке Ельцин-центра).
19 декабря — научная конференция «Борис Рыжий и современная русская поэзия» в Гуманитарном университете. Выступали: О. Зырянов, Ю. Казарин, Н. Быстров, М. Мейлах, К. Верхейл (по скайпу из посольства РФ в Голландии) и др.
Авторский вечер М. Мейлаха (Страсбург).
20 декабря — Большой литературный вечер памяти Бориса Рыжего в Гуманитарном университете. Участвовали О. Дозморов, Е. Изварина, Ю. Казарин, Е. Касимов, А. Кузин, Д. Рябоконь, а также театральная студия Ирины Лядовой «ГУашь» (Екатеринбург).
Авторский вечер О. Дозморова (Лондон).
Авторский скайп-вечер Б. Херсонского (Одесса).
2015, 18 января — премия «Светлое прошлое» (Челябинск) в номинации «Наследие» присуждена Борису Рыжему. Диплом лауреата на церемонии в Челябинском государственном академическом театре драмы им. Н. Ю. Орлова вручен М. М. Рыжей.
БИБЛИОГРАФИЯ
Книги Б. Б. Рыжего
И всё такое… / Сост. Г. Ф. Комаров. СПб.: Пушкинский фонд, 2000.
На холодном ветру / Сост. Г. Ф. Комаров; авт. предисл. С. Гандлевский. СПб.: Пушкинский фонд, 2001.
Стихи. 1993–2001 / Сост. Г. Ф. Комаров. СПб.: Пушкинский фонд, 2003.
Оправдание жизни: Лирика, проза, критика, интервью, письма / Сост. и авт. эссе «Постижение ужаса красоты» Ю. В. Казарин. Екатеринбург: У-Фактория, 2004.
Типа песня / Сост. О. Ю. Ермолаева. М.: Эксмо, 2006.
В кварталах дальних и печальных…: Избранная лирика. Роттердамский дневник / Сост. T. М. Бондарук, Н. В. Гордеева; авт. вступ. Д. Сухарев. М.: Искусство — XXI век, 2012.
Boris Ryzji: Wolken boven E. Gedichten. Amsterdam: Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, 2004. (Облака над городом E. Стихотворения / С параллел. пер. на гол. яз. Анны Стофель <Anne Stoffel>; предисл. К. Верхейла <Kees Verheul>; на гол. яз.). 2-е изд. 2005.
Boris Ryzji: Rotterdams dagboek. Amsterdam: Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, 2006 (Роттердамский дневник. В пер. и с предисл. Ай Принс <Aai Prins>).
Boris Ryzji: Wolken boven E. Gedichten. Rotterdams dagboek. Amsterdam: Uitgeverij Hoogland &Van Klaveren, 2008 («Облака над городом Е.» и «Роттердамский дневник» в одном томе).
Борис Рижиj У pycиjи ce pacтaje заувек. Изабране песме. Превео са рускоI Светислав Травица. — Београд, 2011. Фонд «Принцеза Оливера».
Boris Ryzji: Aischeid in Rusland. Amsterdam: Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, 2013 (Прощание в России. Стихи. В пер. Анны Стофель <Anne Stoffel>).
Литература о Б. Б. Рыжем[20]
Абрамов А. «Промышленной зоны красивый и первый поэт» // Журнал литературной критики и словесности <Электронный ресурс>. Режим доступа: -21vek.ru/critycs/abramov 2.htm
Агеев А. Голод 29 // Русский журнал <Электронный ресурс>. Режим доступа:
Алехин А. Из книжных лавок (О книгах Глеба Шульпякова, Юрия Кублановского, Владимира Лапина, Бориса Рыжего) <Рецензия на поэтический сборник «На холодном ветру»> / М. Галина, И. Ш. // Арион. 2002. № 2.
Андреев А. «На самой кромке…» Борис Рыжий (1974–2001) // Сибирь. 2011. № 343/4. С. 205–211.
Аришина Н. Не преддверье рая// Дружба народов. 2008. № 6. С. 4–7.
Арсенова Т. А. Борис Рыжий как поэт-хулиган в читательском восприятии // Филологические проекции Большого Урала: Сборник статей. Вып. 3 / Пермский государственный университет. Пермь, 2009.
Арсенова Т. А. Борис Рыжий: образ поэта в читательской и литературно-критической рецепции // Литература Урала: история и современность: Сборник статей. Вып. 4: Локальные тексты и типы региональных нарративов / Институт истории и археологии УрО РАН. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2008. С. 452–467.
Арсенова Т. А. Борис Рыжий: смерть поэта в читательском восприятии // Слово — Текст — Смысл: Сборник статей. Вып. 5 / Уральский государственный университет. Екатеринбург, 2009.
Арьев А. Блок. Иванов. Рыжий. О стихах Бориса Рыжего// Звезда. 2009. № 9.
Басинский П. Ангельский допрос // Российская газета. 2012. № 5738 (65).
Богомолов К. Поезд-призрак в Уфалей. На ранних поездах Бориса Рыжего // Культпросвет. 2015. 30 января. Режим доступа: /
Бондаренко В. Поэзия конца империи // Завтра. 2004. № 5 (93). 19 мая.
Бондаренко В. Поэтическая интонация смерти. О трагической судьбе Бориса Рыжего // Литературная газета. 2003. 16–22 июля. № 29 (5932).
Бондаренко В. Разговор с Еленой Сойни о поэзии / Интервьюер — В. Бондаренко; в гостях — Е. Сойни // Завтра. 2003. 18 марта. № 3 (79).
Быков Д. Портрет четвертый: Рыжий //Трибуна <Электронный ресурс>. Режим доступа: ; Блуд труда. Эссе. СПб.; М.: Лимбус Пресс, 2002 (Серия «Инстанция вкуса»),
Быков Л. П. Борис Рыжий: последний советский поэт? // Советское прошлое и культура настоящего. Монография: В 2 т. / Отв. ред. Н. А. Купина, О. А. Михайлова. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2009. T. 1. С. 167–174 (Труды Уральского МИОНа. Вып. 21).
Быков Л. П. «Лица не пряча, сердца не тая» // От автора: Книга не только о стихах. Екатеринбург: Сократ, 2007. С. 208–213.
Быков Л. П. С жизнью на «ты»: ономастикой Бориса Рыжего // Лицо и стиль: Сборник научных статей, посвященных юбилею проф. В. В. Эйдиновой. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета. 2009. С. 260–268.
В. <В. Шубинский> «Барышня и хулиган»: О книгах Полины Барсковой и Бориса Рыжего // Новая Русская Книга. 2000. № 3 (4).
Васецкий А. Смертельная премия // Еженедельная газета «Труд7». 2009. 16 апреля. № 066. <Электронный ресурс>. Режим доступа: -04-2009/140034_smerteln…
Венок Борису Рыжему / Сост. Л. Быков. Екатеринбург: Изд. дом «Союз писателей», 2005.
Верхейл К. «Русский язык — самый трудный». Интервьюер — В. Чепелев // Урал. 2003. № 2.
Верхейл К. Любовь остается: Вступительное слово к русско-голландскому сборнику Бориса Рыжего «Облака над городом Е» / Пер. И. Михайловой // Знамя. 2005. № 1.
Верхейл К. Радость искусства, или Ударения Бориса Рыжего // Знамя. 2007. № 8.
Вспоминая Бориса Рыжего // Урал. 2011. № 5. С. 131–156.
Высокосов А. Поэт Борис Рыжий // Крещатик. 2007. № 4.
Гандлевский С. Предисловие // Рыжий Б. На холодном ветру. СПб.: Пушкинский фонд, 2001.
Голицын А. Рыжий // Новые времена (в Саратове). 2003. № 7.
Горлова Н. Ужас красоты // Литературная газета. 2005. Вып. 25.
Губайловский В. Поверх барьеров (Взгляд на русскую поэзию 2001 года) // Арион. 2002. № 1.
Гундарин М. Борис Рыжий: домой с небес. Заметки об одной гибели // Знамя. 2003. № 4.
Данской Г. «Предновогоднее» и др. стихотворения // Венок Борису Рыжему / Сост. Л. П. Быков. Екатеринбург: Изд. дом «Союз писателей», 2007. С. 25–28.
Два Рыжих? Спустя 10 лет после гибели поэта о нем вспомнили… // Областная газета. 2011. 28 мая.
Дозморов О. Премия «Мрамор». Non-fiction // Знамя. 2006. № 2.
Дозморов О. Кытлым, Кышлым и Кытлым: история создания нескольких стихотворений Бориса Рыжего. Russian literature LXVII (2000) I. 2000.
Дозморов О. Интервью А. Мельникову// Урал. 2001. № 5.
Дозморов О. Посеверней и победней // Арион. 2002. № 1.
С. 23–30.
Дозморов О. «Аполлон» и др. стихотворения // Венок Борису Рыжему / Сост. Л. П. Быков. Екатеринбург: Изд. дом «Союз писателей», 2007. С. 29–32.
Евтушенко Е. Беззащитно бескожий. Из антологии «Поэт в России — больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии» // Новые известия. 2008. 5 сентября.
Еременко А. Борису Рыжему на тот свет // Венок Борису Рыжему / Сост. Л. П. Быков. Екатеринбург: Изд. дом «Союз писателей», 2007. С. 33.
Ермолаева О. «Барин, под самым солнцем, под облаком журавли…» // Венок Борису Рыжему / Сост. Л. П. Быков. Екатеринбург: Изд. дом «Союз писателей», 2007. С. 34.
Жолковский А. Об инфинитивных «Стихах уклониста Б. Рыжего» // Звезда. 2005. № 12.
Заполянский Г. Борис Рыжий. Оправдание жизни < Рецензия на поэтический сборник> // Знамя. 2005. № 8.
Изварина Е. «Он стал легендой…» // Наука Урала. 2008. № 1–2 (963).
Изварина Е. Версия духовной биографии <Отзыв на книгу Алексея Кузина «Следы Бориса Рыжего: Заметки из дневника»> // Урал. 2004. № 6.
Изварина Е. «Предчувствия его не обманули…» и др. стихотворения // Венок Борису Рыжему / Сост. Л. П. Быков. Екатеринбург: Изд. дом «Союз писателей», 2007. С. 36–41.
Каган В. «Я всех любил. Без дураков»: Борис Рыжий, 8.IX. 1974–7.V. 2001 // Зарубежные задворки. 2011. № 5/1.
Казарин Ю. Народный поэт Борис Рыжий. Необыкновенный и странный // Независимая газета. 2003. 24 апреля.
Казарин Ю. Поэт Борис Рыжий. Постижение ужаса красоты <Послесловие> // Рыжий Б. Б. Оправдание жизни. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. С. 521–814.
Казарин Ю. Поэт Борис Рыжий: монография. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2009.
Качалкина Ю. Спектралисты. Почему поэтического «поколения тридцатилетних» не было и почему оно распалось // Октябрь. 2004. № 9.
Кобрин К. Письма в Кейптаун о русской поэзии. Письмо пятое // Октябрь. 2001. № 8.
Ковалев В. Идентификация лиричности //Литературно-художественный проект «Folio Vergo» <Электронный ресурс> Режим доступа:
Кокотов A. A Sverdlovshire Lad: О книге Бориса Рыжего «И всё такое…» // Октябрь. 2000. № 11.
Колесников Д. Монах поэзии: На смерть екатеринбургского поэта Бориса Рыжего // Сайт Сергея Шаргунова «Всероссийское движение „Ура!“». Культура <Электронный ресурс>. Режим доступа: /
Коляда Н. По есенинскому следу. Стихи русского поэта странным образом хорошеют после его смерти // Независимая газета. Кулиса. 2001. 18 мая. № 10 (69).
Комаров К. Смертью смерть поправ <Рецензия на «Венок Борису Рыжему». Екатеринбург: Изд. дом «Союз писателей», 2007> // Урал. 2009. № 7.
Костюков Л. Борис Рыжий. На холодном ветру <Рецензия на поэтический сборник> // Еженедельный журнал «Итоги» <Электронный ресурс>. Режим доступа: /
Костюков Л. Екатеринбургская нота //Арион. 2003. № 2.
Костюков Л. С собой и без себя (Размышления о лирическом и эпическом началах) // Арион. 2006. № 4.
Кузин А. Следы Бориса Рыжего. Заметки из дневника. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2004.
Кузин А. Шаги Бориса Рыжего // Уральская ойкумена. Екатеринбург, 2003.
Купина Н. Вербальные знаки уральской идентичности в поэзии Бориса Рыжего // Семантика и прагматика слова в художественном и публицистическом дискурсах: Материалы IX Всероссийского научного семинара (25–26 апреля 2008 г.) / Под ред. Н. С. Болотновой. Томск: Изд-во ЦНТИ, 2008. С. 7–18.
Кушнер А. Новые заметки на полях // Знамя. 2007. № 10.
Кучерская М. Постскриптум: мой милый. Русская поэзия тоскует по большому поэту <Обзор новых поэтических сборников> // Российская газета. 2005. 21 января. № 3678.
Леонтьев А. «Вместо сына, брата и отца…» и др. стихотворения // Венок Борису Рыжему / Сост. Л. П. Быков. Екатеринбург: Изд. дом «Союз писателей», 2007. С. 63–76.
Лурье С. Поэт Рыжий, синие облака // Журнал «Чайка». 2003. № 4 (4). — 5 сентября <Электронный ресурс>. Режим доступа:
Лурье С. Поэт Рыжий — синие облака // Русский журнал. 2003. 21 июля.
Ляшева Р. Крылья с трудом волоча // Литературная Россия. 2004. № 1.9 апреля.
Марченко А. Свидетельствует вещий знак // Литературная газета. 2002. 13–19 февраля. № 6 (5866).
Машевский А. Последний советский поэт: О стихах Бориса Рыжего // Новый мир. 2001. № 12.
Миллер Л. Лодочка формы. Беседу вела И. Кузнецова // Вопросы литературы. 2003. № 6.
Миллер Л. Чаепитие ангелов: Памяти Бориса Рыжего // Новый мир. 2001. № 9.
Однажды вечером поручик, математик, литератор… // Литературная Россия. 2011. 24 июня.
Окунь М. К нам приехал Боря Рыжий. Попытка литературных воспоминаний // Проза. Ру <Электронный ресурс>. Режим доступа: -161.html
Онуфриева Н. «Сказочный Свердловск» Бориса Рыжего // Литература Урала: история и современность. Сборник статей. Вып. 4: Локальные тексты и типы региональных нарративов / Институт истории и археологии УрО РАН. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2008. С. 188–195.
Памяти поэта Бориса Рыжего / Программа «Liberty Live»; ведущий — Петр Вайль; в гостях — Сергей Гандлевский // Радио Свобода <Электронный ресурс>. Режим доступа: /
Пурин А. «Под небом, выпитым до дна» // Звезда. 2001. № 1.
Пурин А. Больше черного горя, поэт // Литературно-художественный проект «Folio Vergo» <Электронный ресурс> Режим доступа:
Пурин А. Памяти Бориса Рыжего // Звезда. 2005. № 7.
Радзишевский В. «…Я в мир пришел, чтоб навсегда проститься» <Рецензия на сборник «Стихи. 1993–2001»> // Дружба народов. 2004. № 11.
Расторгуев А. Дальше была жизнь… (О книге Бориса Рыжего и Юрия Казарина «Оправдание жизни») // Сайт поэта Андрея Расторгуева <Электронный ресурс> Режим доступа:
Ратушная Л. Борис Рыжий < Предисловие к подборке стихов> // Уральский следопыт. 2002. № 9. С. 49.
Рейн Е. Вся жизнь и еще «Уан бук». Беседа с Татьяной Бек // Вопросы литературы. 2002. № 5.
С. Т. Памяти Бориса Рыжего // Литературный журнал «Периферия». 2001. № 69. 14 мая <Электронный ресурс> Режим доступа:
Скворцов А. «„Полицейские“ и „воры“»// Вопросы литературы. 2008. № 1.
Славникова О. Из Свердловска с любовью <Обзор поэтических подборок в периодике> // Новый мир. 2000. № 11.
Славникова О. Призрак Лермонтова // Октябрь. 2000. № 7.
Собенников А.. Поэзия Бориса Рыжего: образ лирического героя // Литература Урала: история и современность: Сборник статей. Вып. 3. Екатеринбург: УрО РАН; Изд. дом «Союз писателей», 2008. T. 1. С. 91–99.
Солонович Е. «И „Натюрморт“ отринул перевод» // Вопросы литературы. 2007. № 3.
Сухарев Д. Поэзия Бориса Рыжего // Знамя. 2004. № 12.
Сухарев Д. Поговорим о поэзии. Беседа с Сергеем Трухановым // Иерусалимский журнал. 2006. № 23.
Сухарев Д. Сквозь смех, сквозь слезы: К дню рождения Бориса Рыжего // Персональная страница Д. Сухарева в рамках проекта «Иерусалимская антология» <Электронный ресурс>. Режим доступа:
Сухарев Д. Влажным взором // Предисловие к книге: Б. Рыжий. В кварталах дальних и печальных… Избранная лирика. Роттердамский дневник. М.: Искусство — XXI век, 2012.
Тагильцев А. Борис Рыжий и Осип Мандельштам: к проблеме художественного взаимодействия // Классика и современность: проблемы изучения и обучения: Материалы XIV научно-практической конференции словесников. Екатеринбург, 26–28 февраля 2009 г. / РОПРЯЛ; УрО РАО; ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т», ИФИОС «Словесник». Екатеринбург, 2009. С. 293–295.
Тарабукина Н. «На вас меня посмотрят сквозь» <Предисловие к подборке стихов> // Уральский следопыт. 2005. № 10. С. 8–9.
Фаликов И. …with love // Независимая газета. 1999. 22 декабря. № 239 (2055).
Фаликов И. Прозапростихи. М.: Новый ключ, 2000. С. 290–292.
Фаликов И. Повседневность//Арион. 2001. № 4. С. 48–61.
Фаликов И. Книга лирики. М.: Предлог, 2003. С. 190–191.
Харитонова Е. Мотив снега в поэзии Б. Рыжего: формы репрезентации, фольклорные и литературные истоки // Литература Урала: история и современность: Сборник статей. Вып. 2. Екатеринбург: УрО РАН; Объединенный музей писателей Урала; Изд-во АМБ, 2006. С. 376–382.
Хохлов И. Снежный атеизм и вера птичья. Литeterraтура. Номер XXIV, 2014.
Хлебников О. Поколение, выбравшее петлю // Новая газета. 2002. 22 июля. № 52.
Челябинская область: Энциклопедия / Гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск: Каменный пояс, 2006. Т. 5. П-С. С. 671.
Чепелев В. Шотландский дневник <Отзыв на воспоминания Олега Дозморова «Премия „Мрамор“. Non-fiction»> // Мультимедиа журнал «ZaArt». 2006. 28 июля <Электронный ресурс>. Режим доступа: …
Шайтанов И. Борис Рыжий: последний советский поэт? // Арион. 2005. № 3; Дело вкуса: Книга о современной поэзии. М.: Время, 2007. С. 519–533.
Шарлай M. Борис Рыжий и Олег Дозморов: друзья-поэты, поэты-соперники // Издательская система «Литсовет» <Электронный ресурс>. Режим доступа:
Шарлай М. Важнейшие категории поэтики Бориса Рыжего. Время «Было» // Издательская система «Литсовет» <Электронный ресурс>. Режим доступа:
Шарлай М. Важнейшие категории поэтики Бориса Рыжего. Жизнь, Смерть, Музыка // Издательская система «Литсовет» <Электронный ресурс>. Режим доступа:
Шарлай М. Поэзия Бориса Рыжего: избирательное сродство // Урал. 2004. № 5.
Шарлай М. Художественные особенности поэзии Бориса Рыжего // Чаша круговая. 2005. № 4. С. 183–196.
Kolyadnik. Борис Рыжий / Kolyadnik // Живой журнал Николая Коляды <Электронный ресурс>. Режим доступа:
ФИЛЬМОГРАФИЯ. СПЕКТАКЛЬ
Телепередача «Магический кристалл»: режиссер Элеонора Корнилова. СГТРК, 2000.
«Под небом, выпитым до дна»: режиссер Марианна Казнина. Кинокомпания «Страна», 2005.
«Борис Рыжий / Boris Ryzhy»: режиссер Алена ван дер Хорст (Aliona van der Horst). Zeppers Films (Голландия), 2008.
Спектакль «Рыжий»: руководитель постановки Евгений Каменькович; режиссер Юрий Буторин; композитор Сергей Никитин. Московский театр «Мастерская Петра Фоменко», 2010.
ПЕСНИ НА СТИХИ БОРИСА РЫЖЕГО[21]
Александр Бекназаров
Трубач и осень («Полы шляпы висели, как уши слона…»)
Дмитрий Богданов
Уфалей
Григорий Данской
«Ночь. Каптёрка. Домино…»
Уфалей
Андрей Крамаренко
Татарская цыганочка («Достаю из кармана упаковку дурмана…»)
Уфалей
Маленькая трагедия («Нагой, но в кепке восьмигранной…»)
Хожу по прошлому
Колыбельная («Ангел, лицо озарив, зажёг маленький огонёк…»)
На Арбате Не покидай меня
Ноктюрн («Не вставай, я сам его укрою…»)
Рейн
Скрипач
«Фонари. Чья рука…»
«Отмотай-ка жизнь мою назад…»
Разговоры с Богом («Господи, это я мая второго дня…»)
На смерть P. Т. («Вышел месяц из тумана…»)
Лего («Я тебе привезу из Голландии Lego…»)
«Россия — старое кино…»
Над саквояжем
Тайный агент («Развернувшийся где-то в неком городе N…»)
Алексей Кузин (Уральский)
Играет мальчик на гармошке («Ах, подожди ещё немножко…»)
Валерий Мищук
«На окошке, на фоне заката…»
Сергей Никитин
(Полный список на 30 октября 2014 года):
«В России расстаются навсегда…»
«Над домами, домами, домами…»
«На окошке, на фоне заката…»
Качели
«В наркологической больнице…»
Городок
«Молодость мне много обещала…»
Маленькая трагедия № 2 («Участковый был тихий и пьяный…»)
«Помнишь дождь на улице Титова…»
«Ночь как ночь…»
«Отмотай-ка жизнь мою назад…»
Ода («Ночь. Звезда. Милицанеры…»)
«Так гранит покрывается наледью…»
Уфалей
Я улыбнусь
В те баснословные года
«Когда бутылку подношу к губам…»
В спектакле «Рыжий» Московского театра «Мастерская Петра Фоменко» звучат не только песни С. Никитина, но и одна песня А. Крамаренко, а также песни актеров театра, в частности Н. Орловского.
Рок-группа Де Кифт (De Kift, Голландия)
Две песни на стихи Б. Рыжего
Сергей Труханов
«Урал. Мне страшно. Жутко на Урале…»
«На теплотрассе выросли цветы…»
Примечания
1
Во всех текстах Бориса Рыжего сохранено авторское «ё». — Прим. ред.
(обратно)2
Борис Рыжий — уроженец Челябинска. — Прим. ред.
(обратно)3
Сраной — нехорошей, грязной (сноска-примечание автора письма. — И. Ф.).
(обратно)4
С марта 2010 года в этом театре идет спектакль «Рыжий».
(обратно)5
Труд А. Мельникова «Борис Рыжий. Введение в мифологию», самодельный сборник интервью без выходных данных, но распечатанный в периферийной периодике. Некоторые сведения о детстве Бориса, объективно ценные, использованы в моей книге.
(обратно)6
Это произошло 30 ноября 1909 года. — Прим. ред.
(обратно)7
Андре Шенье казнен на гильотине в 1794 году, во время Великой французской революции. — Прим. ред.
(обратно)8
Пушкин дает здесь сноску: «На роковой телеге везли на казнь с Ан. Шенье и поэта Руше, его друга». Жаль Руше, он остался в тени.
(обратно)9
Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» 14 августа 1946 года с его главными фигурантами — Михаилом Зощенко и Анной Ахматовой. — Прим. ред.
(обратно)10
Дословно: «Очень сильный (крепкий) человек!» По смыслу, скорее всего: «Крутой парень!»
(обратно)11
Антология начала выходить в 2013 году в московском издательстве «Русскій мир» (издание продолжается); очерк «Беззащитно бескожий», предваряющий подборку Б. Рыжего, напечатан в газете «Новые известия» 5 сентября 2008 года.
(обратно)12
«Русский Букер» учрежден в 1992 году по инициативе Британского совета в России как проект, аналогичный британской Букеровской премии; постепенно руководство премией было передано российским литераторам в лице Букеровского комитета.
(обратно)13
Напомним молодому читателю, «мученику ЕГЭ», строки из Александра Блока: «За городом вырос пустынный квартал / На почве болотной и зыбкой. / Там жили поэты, — и каждый встречал / Другого надменной улыбкой…» («Поэты», 1908). — Прим. ред.
(обратно)14
Д. Е. Галковский (р. 1960) был награжден премией за философский роман «Бесконечный тупик» (написанный в стилистике «Опавших листьев» В. Розанова, отчасти «Опытов» Монтеня); посвящен истории русской культуры XIX–XX веков и явлениям, приведшим Российскую империю к катастрофе 1917-го. С конца 1980-х роман ходил по рукам в машинописных копиях, в начале 1990-х отрывки публиковались в журналах «Москва», «Наш современник», «Новый мир» и др., вызвав острую полемику в прессе; в 1997-м роман был издан за свой счет под маркой «Самиздат». В открытом письме «Почему я отказался от „Антибукеровской“ премии» автор объяснился: «…мою книгу отказались печатать около двадцати советских издательств… Образно говоря, к официально изданным в 1997 году книгам „Бесконечный тупик“ имеет не большее отношение, чем листовка „Смерть немецким оккупантам!“ к печатной продукции Третьего рейха… Присуждавшие мне премию… совершенно искренне считают „Бесконечный тупик“ безнравственным, „скандальным“ произведением. Я считаю подобную точку зрения чудовищной. <…>» (Независимая газета. 1998. 14 января). — Прим. ред.
(обратно)15
Арсений Тарковский.
(обратно)16
Ограничусь лишь одним названием каждого автора. На самом деле любой из них говорил о Лермонтове намного больше, а Блок составил, написал предисловие и откомментировал том Лермонтова.
(обратно)17
«Агниурала» — это гастроном «Огни Урала», в детстве это сливалось, как и «божемой» (прим. О. Сосновской).
(обратно)18
По поводу этой информации сестра Бориса Ольга мне пишет: «В апреле 2001 года Боря нигде не лежал. Он закодировался у главного нарколога Екб, мне кажется, чтобы успокоить родителей.
В дурке он не лежал, однажды недолго лежал в токсикологии после того, как выпил упаковку элениума. <…> Боря любил мистифицировать. Так, Гандлевский в своем слове на Борину смерть рассказал „правду“ о его шраме. Письмо Ларисе Миллер о „тридцати минутах“ — подобная мистификация. Боря лежал в токсикологии очень серьезно, дня три, сутки прикованный к батарее, и ни о каких посещениях дома речи быть не могло. В 2001 году он точно нигде не лежал, просто закодировался культурно. Может быть, он хотел усугубить впечатление, чтобы избежать судьбы. В нашей семье это было принято».
(обратно)19
В составлении раздела принимали участие Ольга и Валерий Сосновские.
(обратно)20
В основе раздела работа Т. А. Арсёновой «Публикации, посвященные Борису Рыжему (библиография)». Вконтакте.
(обратно)21
Перечень песен предоставлен Ириной Хвостовой; дается в сокращении. Указаны имена композиторов.
(обратно)
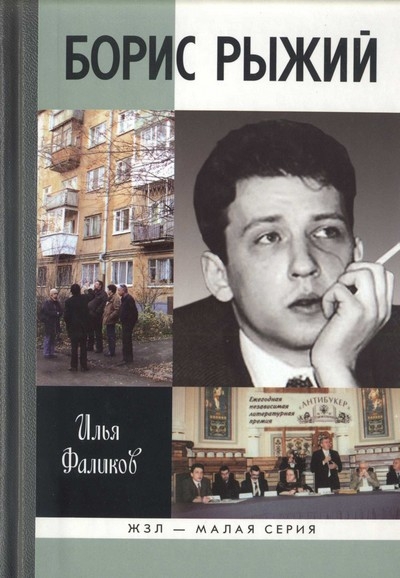
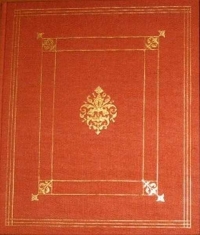


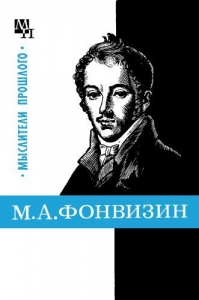
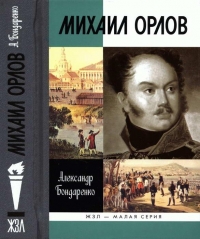
Комментарии к книге «Борис Рыжий. Дивий Камень », Илья Зиновьевич Фаликов
Всего 0 комментариев