Кирсан Илюмжинов «Терновый венец президента» Документальная повесть
Барса за хвост не берут, но, взявши, не отпускают.
Калмыцкая пословицаРаздвоение
Я открываю глаза. Город еще спит, но предутренняя белизна уже залила степь. Вытаскиваю из тайника самодельные монтерские «кошки» и мчусь на улицу, к телеграфному столбу, на который вчера взбирались пацаны, отмечая краской: кто выше.
Прикрутив к ногам «кошки», зажав в зубах кисть, обхватываю руками скользкий столб, лезу все выше и выше. Вот уже нижние отметины. Острия «кошек» с сочным хрустом впиваются в столб. Шаг. Еще шаг. Наконец-то. Вот она, верхняя черта, которую нанес вчера пацан из соседнего дома. Я поднимаюсь еще выше. Теперь верхняя отметина – на уровне моего живота. Так высоко еще никто не забирался! Вот пацаны сегодня удивятся и будут гадать: кто?
Скорее Вытягивая руку вверх, провожу кистью черту. Жирную, сочную. Победа! Я сделал это! Я преодолел свой страх! Я смог! Смог!
Ликование охватывает меня. Бросаю взгляд вниз – по спине пробегает дрожь. Земля далеко-далеко внизу. Что будет, если я… Руки мгновенно потеют, соскальзывают со столба, я опрокидываюсь, и мир переворачивается у меня перед глазами…
Я повисаю головой вниз, зацепившись самодельными «кошками» за столб, и боюсь шевельнуться. Улица безлюдна. Звать на помощь, плакать – стыдно. Пацаны засмеют. Под моей головой твердая сухая земля, над ногами – встающее из-за горизонта солнце. И тогда я делаю первое в жизни открытие: мир перевернут!…
Это ощущение перевернутого мира, в котором мы жили долгие годы, не покидало меня. Видимо, поэтому и врезался в память этот, казалось бы, незначительный эпизод детства.
Я родился 5 апреля 1962 года, за два с половиной года до смещения Хрущева и начала правления Брежнева.
Заканчивалась хрущевская «оттепель», но дух свободы, выпущенный из-за колючей проволоки идеологии, гулял по стране. Однако…
В 1958 году, после тринадцатилетней сталинской ссылки, потеряв половину народа в сибирских снегах, калмыки вернулись на родину. Народ реабилитировали. Однако в старшем поколении сидел страх. Он так и не вытравился до конца.
Нам же повезло: мы родились на свободной земле предков, свободными людьми. И той боли и обиды за сталинский период я не испытывал, да и мало что знал, потому что об этом говорили все реже и реже. Партия, признав ошибки, начала снова закручивать идеологические тиски: хватит о высылке и о лагерях! Народ надо нацеливать на свершение великих идей, на построение коммунизма!
Но как можно было забыть недавнее прошлое, когда в Калмыкии не было семьи, не потерявшей в лютых сибирских просторах брата, жену, отца, мать? Помнили. Молчали, но помнили. Только при нас – несмышленышах – не говорили об этом. Не дай Бог, ляпнет невзначай ребенок где-нибудь на улице, во дворе, в детском саду, и тогда… Молчали. При детях, на работе, на собраниях, на улице. Народ знал правила игры с правительством.
Вот эта раздвоенность бытия, жизни, сознания стала для нашего поколения столь же естественной и органичной, как и потребность дышать, двигаться. Мы родились в этом перевернутом мире и считали его нормальным, так как другого мира не знали и не видели.
Я появился на свет под утро, без четырех минут шесть, в год Тигра по калмыцкому летосчислению и, наверное, поэтому всю жизнь просыпаюсь рано. Год Тигра – суровый год. «…И замутится чистое, сокровенное учение сидящего на Лотосе. Люди духом своим станут величиной с локоть, а скакуны их возможностей – величиной с зайца. Умелые и совестливые из мужчин предадутся пьянству, неумелые и черствые – станут алчны… Серость станет залогом жизненного успеха, умение не выделяться – залогом благополучия. И тогда появится желторотый хранитель Земли – Тигр. И увидят люди душу друг друга, и посветлеет разум у многих…» – так говорится в калмыцком гороскопе. Говорят, это год, когда достигает своего пика противоборство черных и белых сил.
Так это или не так, не знаю, но… мое рождение ознаменовалось первым семейным скандалом. Я был вторым ребенком. До меня был Вячеслав, и после рождения Вячеслава родители мечтали, что у них родится девочка.
В ночь моего рождения отцу приснился сон, будто под утро постучался в окно дядя – Кирсан Илюмжинов, известный в Калмыкии герой гражданской войны. В кожаной тужурке, с маузером на боку. Смотрит пристально на отца и молчит…
– Разве ты жив, Кирсан? – спросил отец. – Тебя же в гражданскую убили.
Покачал Кирсан головой и… пропал.
И в эту же ночь моей бабушке, Сулде Бадминовне, приснился ее отец – Бадма, который погрозил ей пальцем и сказал: «У тебя родится внук. Назови его Бадмой». И бабушка дала слово выполнить отцовский наказ.
А вскоре прибежала тетя, сообщила: родился мальчик, три килограмма восемьсот граммов.
– Кирсан родился, – сказал отец.
– Какой Кирсан? – возразила бабушка. – Это Бадма на свет появился.
Каждый стоял на своем и уступать не хотел. Вот так возникла первая ссора в нашей семье. В калмыцкой семье мужское слово весомее женского, и когда пришло время выписывать метрику, записали меня Кирсаном. Но бабушка не сдавалась, упорно называла меня Бадмой. А так как я почти все время проводил с бабушкой – родители с утра до вечера на работе, – то настоящего имени своего не знал. И до первого класса откликался на имя Бадма.
Я не помню, когда научился ходить. Мне кажется, свои первые шаги я начал с бега. Наверное, я был очень шкодлив, и оставлять меня без присмотра было опасно. Каждое утро бабушка хватала меня за руку и вместе со мной бежала по магазинам – покупать продукты. В то время продукты не лежали на прилавках. Их выкидывали на короткое время, и надо было не зевать, потому что на всех продуктов не хватало. Едва на прилавках появлялись мясо, молоко, масло, люди, утрачивая контроль над собой, бросались туда, хватали, ругались, отталкивали друг друга локтями. Не успеешь достать, добыть, оттолкнуть другого – твоя семья останется голодной. Людей превращали в животных. А успеть надо было везде: купить молоко, мясо, хлеб, рыбу. Я не поспевал за стремительным бабушкиным шагом, семенил, падал, бежал вприпрыжку, сопротивлялся, хныкал. Бабушка почти волоком тащила меня от очереди к очереди. Уже к обеду у меня начинали ныть рука и плечо, и я с ужасом думал, что утром бабушка снова схватит меня за руку и опять мы начнем колесить кругами по городу – от очереди к очереди. Улучив момент, когда бабушка пробивалась к прилавку, я вырывался, расталкивая ноги и животы, выбирался на волю и бежал сломя голову домой, на свою улицу. Я прятался от бабушки, и ей приходилось часами искать меня. В результате она ничего не успевала купить, и вечером мы ужинали без калмыцкого чая, который для калмыка, как известно, первая необходимость.
Долго так продолжаться не могло. На семейном совете решили, что я человек уже вполне взрослый и что меня нужно приобщать к коллективу. После мучительных хождений, просьб, писем и еще черт знает чего меня наконец с великим трудом удалось устроить в детсад.
И вот – первый день в детском саду. Новый коллектив. Строем на прогулку, строем на обед. Строем на горшок, строем мыть руки и строем засыпать.
Я никак не мог понять: почему я должен кушать, когда мне абсолютно не хочется есть? Почему гулять нужно строем? Почему вообще я должен поступать, как все?
С первых же минут во мне проснулось чувство сопротивления. Я не хотел быть как все. Воспитательница сделала мне замечание – раз, два, три. Потом поставила меня в угол.
Я подумал: чего я, как дурак, буду стоять в углу? Развернулся, перелез через ограду и побежал к своим пацанам на родную улицу. До самой ночи мы носились по дворам, играя в войну и казаков-разбойников. Я не знал, что в это время уже подняты на ноги и милиция, и «Скорая помощь», что родители обзвонили больницы, что меня ищут по всему городу.
Пришел домой я поздно вечером, а наутро детский сад отказался принять меня в свое лоно.
– Таких детей нам не надо, – категорично заявила директор детсада.
Я был несказанно этому рад. Строевая жизнь была не по мне. С того самого дня и началось мое разгульное, вольное житье-бытье уличного мальчишки. Буквально за лето я научился курить, драться один на один и не реветь от боли, лазить по пожарным лестницам на крыши, преодолевать страх высоты, научился падать и подниматься, улыбаясь разбитыми в кровь губами. Улица научила меня держать данное однажды слово. Улица не прощала лжи и хитрости, трусости и предательства. Улица научила меня суровым законам справедливости и товарищества. Низкий поклон тебе, улица моего детства.
Первая драка. Пацаны с соседних дворов пришли к нам показать, кто хозяин в этом районе. Этих пацанов называли «приблудными». Они пришли, обнажив перочинные ножи и размахивая палками. И было страшно. Мрачная слава «приблудных» давно докатилась до нас, и дрожь бежала по телу, когда они показались на нашей улице.
Хотелось бежать, скрыться. Двое из наших рванули домой. Их потом презирала вся улица. Они долго носили на себе клеймо предателей. Может быть, и запомнилась эта драка потому, что я впервые тогда столкнулся с трусостью и предательством.
Мы играли в футбол, и «приблудные» на наших глазах распороли ножами футбольный мяч. Этот залатанный мяч был большой драгоценностью в наших глазах. Мы рассвирепели, бросились на пришельцев. Их было много, но мы тогда об этом не думали. Ярость овладела нами. В ход пошли каменья и палки. Мы сопели, орали от боли и страха, молотя друг друга. Мой противник – худой, загорелый, мускулистый – имел большой опыт уличных драк. Ловко уклоняясь от ударов моих слабых кулаков, он поднырнул под меня и влепил мне прямым в глаз.
Белый свет потух в моих глазах, и в наступившей темноте вспыхнули и разлетелись снопы искр: розовых, голубых, зеленых. Потом – удар в пах. Острая боль перехватила дыхание, я повалился. Худой схватил меня за волосы и тыкал носом в твердую, как кирпич, землю. Нос был разбит, и кровь заливала лицо. Я несколько раз пытался подняться, но худой, смеясь, снова сбивал меня- с ног.
– Беги, Кирсан, беги, – слышал я за спиной.
Но я не хотел бежать. Слепящая ярость душила меня. Я поднимался и, плача, вновь и вновь шел на худого. Он снова свалил меня на землю, ожидая, что я останусь лежать. Но я опять поднялся и, размазывая грязь, кровь, слезы по лицу, сжав немощные кулаки, двинулся на худого.
– Лежи, – шипел он сквозь зубы. – Лежачего не бьют. Лежи лучше.
В его голосе был тщательно скрываемый страх, и тогда я понял, что я его победил.
После этой драки я несколько дней отлеживался дома, а потом пошел записываться в секцию бокса. Научился держать удар, приобрел реакцию и, кстати, тогда понял, что сильные кулаки – далеко не самое главное. Главное – не допустить драки. Впоследствии я часто замечал, что большинство конфликтов начинаются из-за пустяка, из-за дутых амбиций с обеих сторон.
Много лет спустя, когда за мной закроется звуконепроницаемая дверь одиночки КГБ и я останусь один на один со своими мыслями, мне почему-то ярко вспомнятся эти уличные эпизоды детства и твердый закон: не предавай и не раболепствуй перед сильными. И это понятие высокой морали, привитое улицей, поможет мне не сломаться, выдержать мощный пресс сыскной системы, переломить страх.
Но это будет потом, много лет спустя. А пока мы тайком подбираем на улице окурки, таскаем у взрослых сигареты, бежим в овраг и там, развалясь на песке, курим, залихватски выпуская изо рта колечки дыма. И гордимся своим геройством, и безумно счастливы оттого, что у нас есть тайна от взрослых, самая настоящая тайна.
Мне шесть лет, я ношусь с утра до вечера по пыльным и горячим от солнца улицам нашего маленького города, я загорел и чумаз, у меня множество неотложных дел: надо найти сокровища знаменитого пирата Флинта, потому что Петька Шунхуров сказал, что Флинт обвел всех вокруг пальца и золото зарыто не на острове, а у нас, в калмыцких степях под Элистой. А Митька Федоров разрабатывает новое секретное оружие на случай, если на нас нападут американские агрессоры, и надо после обеда сбегать к нему в сарай и по-быстрому закончить, а к вечеру испытать в балке бомбу. Митьке нужна моя помощь, и я несу ему три ржавых гвоздя и пять коробков спичек, с которых еще нужно состругать серу, чтобы получить порох.
У меня много неотложных дел, а старший брат, Вячеслав, гонит меня в магазин за макаронами, заставляет мыть полы и протирать пыль в комнатах. Старший брат уже учится в школе, он отличник, и его хвалят на родительских собраниях. Старшему брату некогда, он делает уроки и никак не поймет, что именно сегодня у меня очень важные дела и что без макарон можно было бы и прожить один день, ничего страшного не случится. Но старший брат настаивает, и я, понурив голову, иду в гастроном, зажав в одной руке сетку-авоську, в другой – деньги. И обида на брата переполняет мое сердце…
В обед приходит дед, и мы садимся с ним играть в шахматы. Это наша давняя традиция. Он научил меня играть сначала в шашки, а затем и в шахматы. Он рассказывал мне разные шахматные легенды и истории. В числе их и про два зернышка. Один шахматист, играя с шахом, поставил условие: если шахматист выиграет, то шах должен положить на первую клетку всего лишь два зернышка, на вторую – четыре, на третью – шестнадцать, и так далее. Шах согласился, но – проиграл, и когда начали подсчитывать выигрыш, то оказалось, что во всей стране не хватит запасов зерна, чтобы выполнить обещание.
Эта игра настолько увлекла меня, что я мог часами просиживать за шахматной доской, забывая обо всем на свете. Пылкое детское воображение, буйная фантазия, фильмы и книги про разведчиков – все каким-то странным образом переплеталось у меня с любовью к шахматам. Тридцать две черные и тридцать две белые клетки вбирали в себя всю бесконечность раздвоенного мира. Увлечение шахматами осталось у меня на всю жизнь.
В буддийской легенде говорится: однажды два небожителя спустились на землю и сели играть в шахматы посреди бескрайней степи. К ним подошел молоденький паренек, пасший овец, и стал следить за ходом игры. Когда партия кончилась и боги исчезли, чабан оглянулся. Одежда его истлела, герлыга рассыпалась от времени, а сам он не заметил, как превратился в дряхлого старика. Люди говорят: шахматы придумали боги.
Таинство детства. Реальность перетекает в вымысел, и вымысел становится реальностью. Вот вчера Петька Шунхуров видел: в степи появились гигантские чудовища. Они прилетели из космоса поработить жителей планеты. Мы делаем самопальные гранаты, сбивая серу со спичек. Мы делаем луки и стрелы, смачивая наконечники особым смертельным составом. Мы готовимся дать бой поработителям. И вот ночью я перелезаю через забор нашего двора к Петьке, и мы тайными тропами идем к логову врага. Учащенно бьется сердце, холодок бежит по спине. Верится – и не верится. Но хочется, страстно хочется верить, что чудовища действительно есть, что они – враги, а мы – благородные защитники человечества. Может быть, так вот и закладывается изначально в человеке образ врага, который принимает потом уродливую страшную форму? Все, что не похоже на тебя цветом волос, разрезом глаз, обычаями, – все это враждебно тебе, ненавистно, взывает к уничтожению. Может быть…
Мы подкрадываемся к стройке. Подъемные краны, остов возводимого здания, груды кирпичей – все это приобретает в ночи странные фантастические формы. Петька был прав. Это не подъемный кран, это действительно космический завоеватель с огромным железным клювом.
Мы, затаив дыхание, подбираемся ближе.
– Ура-а-а! – вдруг истошно вопит Петька. Мы выскакиваем из укрытия. Мы поджигаем гранаты и швыряем в пришельца. Заговоренные стрелы летят- в темноту. – Ура-а!
Из сторожевой будки выскакивает сторож. В ночи оглушительно лопаются выстрелы охотничьего ружья.
– Стой! Руки вверх! – Два снопа слепящего света рвут темноту, взлетая к черному небу. В ответ из наших глоток вырывается крик ужаса. Сторож мчится за нами. Не разбирая дороги, мы разлетаемся в разные стороны, спотыкаемся, падаем, сопим.
– А-а-а! – сам по себе, нарастая, рвется из моей груди истошный вопль. Я головой влетаю в какую-то пружинистую металлическую сетку. Она отбрасывает меня назад. Я ору еще сильнее: – А-а!
Вскакиваю и снова мчусь, сам не зная куда. Мне уже не до космических чудовищ. Скорей бы добраться до дома. Но в какой стороне дом, город – не понять. И, только свалившись со всего маха в какую-то канаву, обессиленный, я начинаю приходить в себя. И тогда мне уже страшно за Петьку: может быть, его слопало чудовище?
В те годы я как бы жил двумя жизнями: дневной, где я был обыкновенным пацаном, играющим в прятки или в казаков-разбойников, и ночной, таинственной, когда я ложился спать и из стены выходил черный призрак в маске, садился ко мне на постель, вытаскивал из-под бархатного плаща светящиеся в темноте шахматы, и мы играли с ним до утра, делая немыслимые ставки…
Вскоре на шахматном турнире нашей улицы я неожиданно для себя стал чемпионом. Шестилетний пацан обыграл и тринадцати, и шестнадцатилетних парней (улица у нас была дружная, и старшие не гнали малышей из своей компании).
Уже четыре года правил Брежнев, страна и мир с великим облегчением следили за его миротворческой деятельностью, и недавнее атомное противостояние США и СССР, рожденное Карибским кризисом, стало забываться. В сердцах людей старшего поколения, хорошо помнивших Отечественную войну, нервозность уступила место уверенности в завтрашнем дне, и после долгих лет напряженного ожидания новой войны народ воспринял первые признаки застоя как долгожданное счастье. В магазинах начали появляться колбаса, мясо, хлеб. Люди гонялись за импортными гарнитурами, искали ковры и хрусталь. И то, что СССР закупает хлеб за границей, никого уже не шокировало. Страна продавала по дешевке нефть и гордилась тем, что сбила цены на мировом рынке. Нефтедоллары сыпались на страну золотым дождем.
Каждый день расползались многочисленные анекдоты про партию, правительство, про нашу до жути счастливую жизнь. Народ находил в этих анекдотах отдушину, зло и едко смеялся и над собой, и над нашим перевернутым миром. Смеялся, чтобы не плакать и не сойти с ума.
Но политические ветра проносились мимо нас, детей, над нами. Мы родились в этом раздвоенном мире и другого мира не знали, не ведали. Наверное, мы были счастливы. Летними вечерами, когда на степь опускалась долгожданная прохлада, я вытаскивал во двор раскладушку и ложился спать во дворе. Над самой крышей дома тускло мерцал неровно откованный диск луны. Небо стремительно темнело, затихали звуки нашего провинциального городка, не слышно было ни кур, ни гусей в сарае, и все вокруг – деревья, дома, виноградник – приобретало странные, страшные очертания. И начиналась другая жизнь. Параллельная. И этот мир был реальней, богаче и насыщеннее взрослого. Ведьмы, черти и джинны носились по двору, тянули ко мне костлявые руки, и сладкий ужас стеснял грудь. Любой звук, скрип дверцы, шорох и попискивание летучих мышей, стремительно режущих черноту неба, сверкающие россыпи звезд, звон комаров – все это будило мальчишеское воображение, и мечты уносили меня в таинства других миров. Жалко, что, когда человек взрослеет, он все реже и реже смотрит на небо, в нем пропадает вот это ощущение себя частичкой мирового пространства.
Моя пыльная, неказистая улица детства. Мы росли как сорняки на выжженной солнцем солоноватой земле. Мы бегали драться за сараи и на пески до первой крови с соседскими пацанами, строго следуя неукоснительному правилу: лежачего не бьют. Дрались не по злобе, а от избытка клокочущей в нас энергии, от желания проверить себя на стойкость, на характер, на выдержку. Эти экзамены улицы потом много раз помогали мне собирать себя по частям, подниматься на ноги и идти вперед, собрав всю волю в кулак.
Бурными волнами прокатывались по нашей улице ребячьи увлечения. Мы придумывали пьесы, с утра до ночи самозабвенно репетировали, шили костюмы, сколачивали из ящиков и фанеры декорации. Через неделю всех охватывал карточный азарт, и я до умопомрачения резался с пацанами в дурачка, секу, покер. А потом все загорались кладоискательством. Так летели дни. В те годы я был неуправляем, но вдобавок к этому мои родители с ужасом открыли, что я уже умею курить, играть в карты, материться, драться.
Отец тогда работал инструктором горкома партии в промышленном отделе, а мама – ветеринарным врачом на ветеринарной станции. По элистинским меркам, вполне приличная интеллигентная семья.
Материться меня научили в санатории. Мне было лет пять-шесть, когда меня отправили, после болезни Боткина, на лечение в город с калмыцким названием «Ессентуки»: есин – девять, туг – знамя; когда-то в этом месте собрались девять калмыцких ханов и заключили перемирие.
В санатории я жил в одной палате со взрослыми и, как водится, когда среди взрослых появляется ребенок, вскоре стал любимчиком палаты, а затем и всего этажа. Меня угощали фруктами, конфетами, шоколадом, таскали в кино и тир, а я бегал за сигаретами и спичками для взрослых в ближайший ларек. Вечерами, лежа на койке, жадно ловил сочную нецензурную речь, анекдоты, впитывая как губка все извивы, загибы и коленца мощного русского мата. А память у меня была великолепная.
– А ну, Кирсан, выдай на сон успокоительного, – просили мужики. Я вставал на кровати и, ловя на себе восхищенные взоры зрителей, выдавал в Бога, в душу, в мать минутный монолог. Палата визжала и всхлипывала от восторга. Послушать меня сбегались мужики из соседних палат, меня просили повторить, и взрывы хохота, конфеты, фрукты были мне наградой. Мужики обожали меня, и я гордился этим. Вернувшись домой, я мучительно ждал случая, чтобы продемонстрировать открывшийся во мне талант.
В нашем доме, как, в принципе, и в любой калмыцкой семье Элисты, всегда жило много родственников: кто-то приезжал в командировку, кто-то – на учебу, кто-то – проездом. Поэтому в нашем доме постоянно находилось шесть – восемь человек родни. Но, как назло, наступил тот краткий период, когда никого из гостей не было. Я маялся, не в силах переносить свою жгучую тайну.
И вот наконец наступил сладкий миг триумфа. В один из вечеров собрались в нашем доме гости. Поймав момент, когда разговоры за столом стихли, я вбежал в комнату и заорал:
– Ну че, мужики, кто со мной по бабам? – и загнул в пять или шесть колен. Аж самому понравилось.
Гости побледнели, кто-то из них поперхнулся чаем и минут пять не мог откашляться.
В ту ночь мама долго пила валерьянку, а я, укрывшись с головой одеялом, шмыгал носом. Я лежал на животе, уткнувшись лицом в подушку, и с обидой думал: как же так? В санатории за это на руках носили, а здесь ремнем лупят. Может, не поняли? Может, надо повторить?
В конце августа мне купили портфель, форму и начали готовить к школе. Каждый день я выслушивал нудные наставления: причешись, подстриги ногти, не бегай, громко не говори.
И вот первый урок в первом классе. Мы сидим за партами съежившиеся, напряженные. Все незнакомо, непривычно. Запах свежей краски еще не выветрился из помещения, и Елена Алексеевна, наш классный руководитель, делает перекличку:
– Илюмжинов Кирсан.
Я молчу. На нашей улице никто из пацанов друг друга по фамилии не называл. А имя… чаще всего меня звали Бадмой, я привык, сросся с этим именем: Бадма означает лотос.
– Кирсан Илюмжинов, почему не отзываешься? – Учительница склоняется надо мной.
– Меня Бадмой зовут, – ответил я и засобирался. – Надоело мне тут, лучше я домой пойду.
На следующий день в школу вызвали родителей. Однако к школе я быстро привык, через несколько дней у меня появились в классе друзья и все стало на свои места. Я записался во все школьные кружки, с удовольствием занимался и спортом, и игрой на домбре, и танцами. Меня хватало на все. Домой я приходил только к вечеру. А по ночам брал фонарик и, укрывшись с головой одеялом, чтобы не поймали родители, читал книги, иногда до утра.
В десять лет меня избрали капитаном сборной школы по шахматам. Наша команда стала чемпионом республики и поехала в Тольятти. Это был первый коллектив, который я возглавлял. Ссоры, обиды, несходство мнений – все это проявилось в первые же дни поездки. Я растерялся, не знал, что делать. Вроде бы все свои ребята, никого не хотелось обижать, но у каждого – свои привычки, характер, пристрастия. Я уговаривал, грозил, требовал – ничего не помогало. Скандалы не прекращались. Я готов был уже опустить руки – не знал, что делать. Однажды, когда мне пришлось уговаривать самого непримиримого скандалиста, у меня вырвалось:
– Ну, ты же самый умный человек в группе. Я не ругаться пришел. Я прошу у тебя совета: что делать? Ну, подумай.
Я не льстил, это был действительно умный парень, хотя и неуживчивый. Я честно признался, что жду от него помощи, что ценю его. И это признание превратило его в моего сторонника. И я для себя сделал еще одно открытие: не всегда нужно ругаться. Иногда лучше не заметить ошибку, похвалить человека, оценить его по достоинству, и этот человек станет тебе другом. Вскоре ссоры утихли, и мы стали дружной, крепкой командой. А если вдруг и назревал скандал, звали меня: Кирсан, ну скажи ты ему… Кирсан, разберись…
Подобные поездки давали много. Пока еще неосознанно, но я приобретал навыки работы с коллективом. Научился, поборов свою стеснительность, общаться с незнакомыми людьми, и вскоре в разных городах, республиках, практически после каждой поездки, у меня появилось множество друзей. Я приучился следить за собой, контролировать поступки, в общем, приучился к дисциплине и самостоятельности. В поездках часто не с кем было посоветоваться, особенно в тех случаях, когда требовался немедленный ответ. Приходилось идти на риск, брать ответственность на себя.
Жили мы в гостиницах, самому приходилось стирать носки, рубашки, гладить их, пришивать пуговицы, штопать случайно порванный рукав. Родители одобряли мою тягу к самостоятельности. Мне давали не так уж много денег, но зато я сам решал, какую рубашку себе купить, какие брюки, сандалии. Я бегал по магазинам, приценивался, выстаивал очереди, если выкидывали на прилавок дешевую, но модную вещь. Примерно к десяти – двенадцати годам я свободно разбирался в ценах, имел свое мнение о качестве продукции той или иной фабрики. Знал, что молоко дешевле купить на базаре, а помидоры или картошку – с грузовика, приехавшего в город из района. Это помогало экономить при покупках по десять – двадцать копеек, иногда и по нескольку рублей, и это были уже мои личные деньги. Конечно, родители не отказывали, давали на кино, мороженое, но одно дело – просить, а другое – самостоятельно заработать.
Вскоре в нашей семье появился еще один ребенок. Снова мальчик – Санал. Практически все заботы по уходу за малышом легли на меня. Возражения отвергались начисто, и мне приходилось купать, выводить его на прогулку, кормить, пеленать, постоянно следить за ним. Я прибегал из школы, бросал портфель, мчался на молочную кухню за творогом и молоком для брата, прибирал дом, а потом уже садился за домашние задания. Не успеешь все сделать – вечером не пойдешь гулять. За исполнением обязанностей следили строго, и приходилось успевать. Наверное, тогда и выработались во мне быстрота и четкость. Я твердо знал: сделанную наспех, кое-как работу все равно придется переделывать, поэтому приучил себя все делать один раз, но основательно, до конца.
Чтобы как-то разнообразить свои нудные обязанности, я придумывал самые невероятные, самые фантастические истории.
Вот я мою в доме пол. Пол сделан из досок, которые привезли когда-то из уссурийской тайги. И никто не знает, что много лет назад китайский контрабандист, умирая, начертил на дереве план, где зарыто золото. Сейчас я проведу мокрой тряпкой по доске, и проступит тайный шифр…
Вот я купаю маленького брата и вдруг…
И уже домашние обязанности не кажутся мне скучными. В каждой обыденности кроется таинство. Впоследствии я много раз прибегал к этому приему и давно всем опротивевшую работу делал легко, с удовольствием, четко и быстро. Великий закон любого дела – страстно желать это дело сделать. Будь любопытен, задавай себе вопросы каждую минуту и ищи ответ. Сколько шагов от дома до школы? Сколько мужчин и сколько женщин встретятся по пути? Кто они по профессии? Можно ли по тому, сколько завозят-хлеба в магазин, вычислить, сколько людей проживает в городе? А как определить время по длине своей тени? Сколько вдохов и выдохов надо сделать, пока добежишь до молочной кухни?
Любопытство двигало мной, более того, оно вошло в привычку. Из-за этого мне часто попадало. Вот я ловлю курицу, она бьет крыльями, издает пронзительные, истошные звуки. Я открываю ей клюв: что там у нее внутри так квохчет? Что за устройство такое?
А почему собака не может пить воду глотками? С полной кружкой воды я иду к собаке, открываю пасть, вливаю туда воду. Добродушный пес звереет. Да, дорога в ад вымощена благими намерениями. С разорванными штанами, галопом я мчусь к дому. За мной несется разъяренный пес…
Я любопытен и жаден до событий, а в стране не происходит ни-че-го. По телевизору ежедневно Брежнев целуется с иностранцами. Начальство ворует в открытую, происходят обильные застолья на загородных партийных дачах, народ уходит в многолетний запой. Нравственный градус страны опускается к нулевой отметке. Социализм вступает в высшую стадию идиотизма.
Элиста по ночам приникает ухом к приемникам и сквозь треск глушилок слушает «Голос Америки», «Свободу», Би-би-си. Духовных ориентиров нет. И вдруг… Что-то всколыхнулось в Чехословакии. С песней «Хотят ли русские войны…» советские танки давят граждан Праги. Арестован Дубчек. И отголоском – в Москве на Красной площади бьют в кровь демонстрантов, протестующих против оккупации. Это уже наши – наших. Через четверть века эта кровь прольется еще раз – у Белого дома. Но об этом пока никто не знает. Страна вздрогнула, очнулась на мгновение. Среди молодежи развивается мощное движение хиппи, она дурманит себя наркотиками, уходит в тайгу, создавая коммуны. Интеллигенция впадает в богоискательство или подпольное диссидентство. И наверное, уже родились те ребята, которые лягут под танки в центре Москвы в дни ГКЧП-91.
Детским чутким ухом я улавливаю обрывки разговоров взрослых, вижу и чувствую раздвоенность мыслей и поступков старшего поколения, и множество вопросов возникает в моей голове. Но никто не хочет дать ответа. «Спрашивайте, мальчики, спрашивайте. А вы, люди, ничего не приукрашивайте», – поет Булат Окуджава. Задушенная и задавленная Россия хрипит голосом Высоцкого из каждой коммуналки, из каждого открытого окна: «Затопи ты мне баньку по-белому. Я от белого света отвык…» Что за рок завис над нашей страной? «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа».
Нет ответа. Молчит старшее поколение. Годы ссылки, допросы в НКВД выработали у старших железное правило: не знаю, не видел, не помню.
«Не знаю» – это всего два слова, а «знаю» – это много-много слов». Так говорила моя бабушка. Поколение наших отцов, прошедших ссылку, допросы НКВД, натренировало свою память: не запоминать, чтобы не выдать на допросах. Ни дат, ни событий, ни имен!
И оскудела история народа калмыцкого, и прервалась вечная связь времен, и не восстановить до конца это звено скорби…
Я веду в школе политинформацию, я председатель совета дружины, мне многое хочется понять в этой такой простой и такой сложной жизни. Я спрашиваю, но не получаю ответа. Я чувствую, что за этим молчанием – тайна. Кому верить? Слухам или официальным сообщениям?
Старшее поколение предало нас: не научив плавать, оно бросило нас в раздираемое противоречиями море жизни. Мы барахтаемся, как слепые котята: выплывут только самые сильные. Дайте нам руку, старшие! Но нет руки!
Ну и ладно, плевать. Разберемся. Я жадно набрасываюсь на книги, зарываюсь в них. Философия, история, психология – может быть, там есть ответ? Я увлекаюсь физикой, химией, математикой – в них нет вранья, они логичны, ясны. Я хочу понять мир, хочу понять: что же движет людьми, какие тайные законы, какие пружины?
Все – тайна. Я люблю тайны. Мне интересно. Читаю в учебнике: «…историческая закономерность развития общества…» Если есть закономерность, значит, есть закон. Почему он не действует в Японии, США? Почему только у нас? А что значит «роль личности в истории»? Как совмещаются закономерность развития и культ личности?
Я штудирую серию «Жизнь замечательных людей». Что двигало этими людьми? Что они чувствовали? Чего страстно желали? Почему шли вразрез с общепринятыми нормами? Я сравниваю себя с этими героями: а я бы смог? Сумел бы? Выдержал?
Чем больше читаю, тем больше поражаюсь, как я глуп и необразован. Чем больше пытаюсь разобраться, тем больше вопросов возникает и еще запутаннее кажется жизнь.
Как лучшего пионера и шахматиста меня награждают путевкой в Артек – Всесоюзный пионерский лагерь. Я начинаю лихорадочно готовиться к поездке. Часами сижу над картой республики, изучаю районы, названия поселков, балок, слушаю местное радио, штудирую газеты и вдруг с ужасом обнаруживаю, что практически ничего не знаю ни о республике, ни о калмыках. Я могу подробно рассказать историю Киевской Руси, Древнего Египта, историю величия и падения Древнего Рима, помню даты крестовых походов, знаю биографию Ленина, но про свой народ я не знаю практически ничего. В великой истории СССР не нашлось места калмыкам. В школьной программе республики – ни одного часа по истории калмыцкого народа. Яростная обида и злость как бритва резанули меня. Как же так? Получается, в истории страны мы – ничто, ноль? Ни слова, ни строчки о тувинцах, бурятах, юкагирах… Я остро помню то ощущение – ощущение обманутого, ограбленного, вышвырнутого из отчего дома. Жуткое ощущение национального сиротства и бесприютности. «За что? – стучало в висках. – За что?»
Только из мало кому известных сборников, выпускаемых время от времени Научно-исследовательским институтом языка и литературы, продираясь сквозь стандартное многословье цитат классиков марксизма-ленинизма и решения партийных съездов, можно было по крупицам выудить обрывочные факты, имена, даты, касающиеся калмыков. Да еще – строки Пушкина, Гоголя, Есенина…
Зачем калмыку знать свою историю? Зачем ему знать, откуда он появился, кто его предки и каких великих сынов дал этот народ? Главное, что требовалось знать молодому поколению, – это то, что до революции народы вымирали, а после залпа «Авроры» задыхаются от счастья.
Общаясь в Артеке с представителями других малых народностей, я понял, что и они смутно представляют историю своего народа, нации…
Впоследствии в одном из перестроечных фильмов я увижу сцену: тюремный детский сад. Трехлетнего мальчика заставляют отрекаться от родителей – врагов народа. «Какой хороший, какой сознательный! – восхищается воспитатель-надзиратель. – Дети, берите пример. Давайте его славить!»
И дети-политзаключенные водят вокруг трехлетнего Иуды хоровод.
И подумается мне тогда: вот так было и с целыми народами. Отрекались от своей истории, самобытности, оплевывали, втаптывали в дерьмо деяния своих предков за кандидатские степени, за государственные награды, за то, чтобы лично подвинуться поближе к корыту с социалистической халявой. Так есть ли нам прощение?
И защемит и заноет душа, и я выйду из кинотеатра, охваченный смутной тревогой: страна, народ, не помнящий своего прошлого, обречены. Не затем ли, чтобы избежать этого, в старину каждый ребенок должен был помнить своих предков до седьмого колена? Он с рождения выучивал их имена, он гордился ими. И эта память о величии своего рода была для ребенка моральным кодексом, путеводной звездой в его жизни. Как дворяне России берегли свою родовую честь, так и калмык, помня великий путь предков, не мог осквернить свою родословную трусостью, предательством, подлостью. И только когда утеряна была эта память, разорвана связь поколений, покатились мы, как шарики буддийских четок, по откосу вниз, неведомо куда и зачем. И все стало дозволено.
Кстати, Артек дал мне многое. Готовясь к этой поездке, я с удивлением узнал, что калмыки – единственные буддисты в Европе. Что во всех войнах калмыки стояли на стороне России. Полки калмыцкой конницы наводили ужас на шведов, защищали от набегов южные границы Руси. В войне с Наполеоном князь Тюмень на свои средства вооружил и обмундировал два полка конницы, и они первыми вошли в Париж. И парижане впервые увидели верблюдов, которые тащили за собой пушки. Я узнал, что наша маленькая нация в Великой Отечественной войне успела дать двадцать трех Героев Советского Союза. А если бы калмыков не сослали, то к концу войны это количество наверняка бы удвоилось.
Я прочитал наш героический эпос «Джангар» и словно бы обрел почву, гордость переполняла меня за наш маленький народ. Я ощутил неразрывную связь с этой выжженной землей. Я узнал, что фольклор калмыков по своему богатству занимает второе место в мире, уступая только фольклору Индии. И по-новому взглянул на свою малую родину, на наш одно-, пятиэтажный городок, продуваемый насквозь пыльными бурями и снежными, наполовину с песком, холодными степными ветрами.
И тогда я еще раз ощутил, что в нашей стране не происходило ни-че-го. Впрочем, происходило. В то время среди народа ходила пословица: «Когда в Москве начинают стричь ногти, в Калмыкии отрезают пальцы».
Внедрялись в жизнь «исторические» решения партии. Знаменитые Черные Земли – гордость республики и мясную житницу, где круглый год трава, где испокон веку чабаны пасли скот, – распахали под зерновые. Предупреждали старики: нельзя, беда придет. Не послушали. Гаркнули на них в обкоме партии:
«Вы что, умнее Москвы? А?! Против партии? А? Ваши фамилии?»
Тут уж любой руки вверх поднимет. Назад-то в Сибирь не хочется. Больше никто не возражал.
Тонкий слой чернозема вспороли плугами, и из-под него пошли пески, захватывая и пожирая все новые и новые территории.
Исчезли редкие травы, вслед за этим стал исчезать уникальный животный мир, появились злые ветра, и нарушилось хрупкое равновесие природы.
Как сказано в «Откровении святого Иоанна», «одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя». Грянуло еще одно историческое решение: канал Волга – Чограй надвое рассек вечный путь миграции сайгаков. Десятками тысяч гибли эти древние животные в многокилометровой могиле. Запах смрада и гнили душил степь. И опять в обкоме партии пели: «Это есть наш последний и решительный бой… И, как один, умрем в борьбе за это».
Хорошо пели. Дружно. Попробуй не спеть. Гаркнут – и уползешь с инфарктом, последним и решительным.
Слыша сегодня возмущенные голоса о вандализме молодого поколения, которое рушит памятники старины, ломает скульптуры, поджигает церкви, я думаю: а чего вы ждали? Не ваше ли поколение взорвало храм Христа Спасителя, на строительство которого весь народ собирал по медной копейке? Не вы ли приспосабливали церкви под склады и коровники? А взорванные и срытые уникальные горы Жигули? А загрязненный промышленными отходами Байкал? Да было ли место в СССР, куда бы не ступил кованый сапог социализма? Нет такого места.
Говорят, в древнем Китае существовал закон: император на несколько лет направлял из Пекина своего наместника в провинцию. Через некоторое время наместник отзывался обратно. И если провинция по наместнику не плакала, то его всенародно секли розгами. Я думаю, если бы в России существовал такой закон, то в верхних эшелонах власти были бы сплошные вакансии.
Как и остальные люди моего поколения, я прошел все стадии идеологической обработки, все этапы подцензурной жизни страны. Октябренок, пионер, комсомолец, член КПСС. Член совета дружины, член комитета комсомола, командир городского комсомольского отряда «Вега». Я много лет жил с запудренными мозгами и только постепенно, слой за слоем, начал очищать себя от этой лжи.
Мне хотелось для страны сделать что-то великое, большое. Мне хотелось чувствовать себя нужным своей стране. И может быть, у представителя малочисленного народа это чувство и должно быть развито больше. Но об этом разговор особый.
Как лучший комсомолец, я удостоен чести сфотографироваться у развернутого знамени крейсера «Аврора». Я вылетаю в Москву, оттуда поездом – в Ленинград. Я любопытен, я брожу по этому историческому городу, я разглядываю застывшее великолепие бывшей столицы России.
Город убран, приукрашен, подновлен к 60-летию Октября. По Невскому, у Петропавловки, у Исаакиевского собора ходят дружинники, одетые в солдатские шинели, кожаные куртки времен революции, у некоторых даже на боку деревянные кобуры от маузеров. Матросские черные бушлаты, на головных уборах – красные ленты наискосок. Это напоминает театральное действо, и почему-то учащенно бьется-сердце. Я выхожу на Дворцовую площадь со странным ощущением, что нахожусь в Петрограде 1917 года.
Полдень. С Петропавловской крепости палит пушка, и звук выстрела тает в отсыревшем воздухе. Тусклое северное солнце отражается в золотом шпиле Адмиралтейства. Холодный восторг обжигает меня…
И в тот же день – мраморные широкие лестницы старинного особняка, вычурные ажуры медных, начищенных до блеска решеток. Мы входим в огромный зал. Бархатные сиденья стульев, поразительной красоты лепные потолки, огромные хрустальные люстры, изразцы каминов. Дворец! И я – провинциальный мальчишка с пыльной улицы – вижу все это в реальности. В зале много ребят из разных городов и республик. Они, как и я, удостоены чести сфотографироваться у развернутого знамени «Авроры». Лица раскраснелись. Глаза блестят. Приподнятое настроение. Мы словно бы загипнотизированы. Нам вручают памятные значки и подарки. Перед нами выступают старые большевики и партийные деятели.
– Вы – лучшие из лучших! Вы – наша надежда! Наша опора! Наше поколение должно быть уверено, что могучая социалистическая держава останется в надежных руках, крепких и чистых. Что идеи Ленина, за которые погибли миллионы людей, за которые миллионы прошли тюрьмы, царские казематы, казни и пытки, будут жить в веках. Мы вручаем вам руль страны! Будьте достойны наших надежд!
Атмосфера накаляется. Зал гремит от оваций, мы вскакиваем, мы поем, охваченные единым порывом, и наши голоса гулко звенят в старинном зале. И кажется, что вот сейчас, в эту самую минуту, совершается великое, эпохальное событие. Мы творим историю. Мы – сила! Мы – непобедимы! Мы сметем все, что мешает нам жить, тормозит приближение светлого будущего.
И все сомнения, которые мучили меня до этой поры, все мои тягостные наблюдения рассеялись как туман. Остается только патриотический восторг, слепая, яростная вера в торжество идей Ленина, в верность избранного пути, исторических предначертаний партии.
Мы готовы! Мы клянемся! Мы горим жаждой пройти все испытания, отдать жизнь за первую социалистическую державу. Родина, я с радостью отдаю свою жизнь тебе!
Что скрывать? Все это было: и массовый гипноз, и истеричная жажда самопожертвования. Мы были неискушены в политике. Мы хотели свято верить во что-то большое и чистое, нужное людям. Это был тот возраст, когда безоглядно кидаешься из одной крайности в другую. Возраст предчувствия любви. И я думаю, там, в зале, были не самые худшие ребята нашего поколения.
Я оглядываюсь в прошлое, перебирая в памяти все свои выборные должности, и на первый взгляд кажется: вот она, стартовая позиция, трамплин для партийно-номенклатурной карьеры. Многие пошли по этому накатанному пути: ВКШ, ВПШ, иерархические ступени обкома партии, потом кандидат в члены ЦК, член ЦК КПСС, Политбюро. Одним словом – Власть. Беспредельная, российская, которая не снилась и царям. Но это – не для меня… Я не мог тогда еще объяснить почему: не хватало ума, образования. Но отчетливо чувствовал: все это мне чуждо.
Я переписывался со многими знакомыми, встречался, созванивался и в течение долгих лет наблюдал, как они постепенно угасают. А какие это были ребята! Полные энергии, умницы – цвет нового поколения. Я думаю, многие из них в будущем могли бы руководить страной. Но партийно-номенклатурная система каким-то странным образом очень быстро умела выедать из человека душу и сердце, сдвигать ориентиры, и человек начинал загнивать изнутри. Калмыки говорят: «Лучшее яблоко черви едят». Проглотила их система, как проглотила и искорежила до них несколько поколений страны.
Толстой как-то записал, что Горького испортили книги. Наверное, и я видел мир глазами своих романтических героев. Мне хотелось верить, что грязь, нищенское существование – это временное, через несколько лет всего этого не будет.
В те годы, как я уже говорил, городской комитет комсомола создал отряд «Вега», куда включали по два представителя от каждой школы города. Попал туда и я. Собрали нас поначалу «для галочки», но вскоре мы превратились в единый мускулистый организм. Мы почувствовали, что нужны друг другу. Как-то легко сложилась особая атмосфера доверия. И произошло это, наверное, потому, что никто из нас не стремился к власти, а все хотели сделать что-то хорошее для города, для своих знакомых, которым некуда вечером податься. Ни танцев, ни вечеров, ни дискотек. Разбитые фонари на улицах. От скуки многие из ребят скидывались на бутылку, били друг другу физиономии, пугали прохожих, подворовывали. В городе катастрофически росла преступность среди молодых.
В «Веге» мы выработали свой устав, свои законы. И вскоре вечера, проводимые нами, стали самыми популярными в городе. Мы работали на грани фола, на грани допустимого, нередко перешагивая эту черту. Но в этом-то и был весь смак. Несколько раз наши вечера закрывали, но это лишь принесло нам еще большую славу. На «веговские» мероприятия стекались ребята изо всех школ города.
Вот так постепенно я и начал узнавать все тонкости и нюансы организационной работы. Но самым главным в «Веге» было все же другое. Когда собирался штаб, мы зажигали по традиции свечи и спорили: о стране, о будущем, о нашей действительности – обо всем и откровенно. Наш закон – то, что происходит в штабе, не должно выходить за его стены, – соблюдался свято. И ни разу никто его не нарушил. Наконец-то можно было высказываться обо всем, что думаешь, не скрывая своих мыслей. Обсудить, поспорить и знать, что тебя поймут. Каждый старался обучить другого тому, что умел сам. Шло взаимное обогащение. В народе говорят: «И капля океану подмога». Мы чувствовали себя этими капельками огромного океана и искали ближайший путь к счастью для всех. Как чисты, светлы и наивны мы были, пытаясь воспитать в себе человека будущего! Мы не знали ответов на многие вопросы, заблуждались, терялись в догадках, рубили сплеча, но такой чистоты помыслов и стремленийя больше уже не встречал нигде.
Вот так много лет назад в провинциальном городке, затерянном в бескрайних степях, при свечах школьники вырабатывали кодекс чести, кодекс морали будущего общества. И начинали с себя.
Каждый «веговец» должен был рассказать откровенно о своих недостатках, выслушать, что думают о нем остальные. Каждый должен был стремиться к совершенству, а для начала – научиться играть на музыкальном инструменте, танцевать калмыцкий танец, вальс…
Исповедь по кругу еще больше сблизила нас. Это было счастливое время: без предательств, без лжи, без одиночества.
Потом уже, будучи депутатом Верховного Совета России, я завоевал приз в Южной Корее за лучший танец. Этому танцу я научился в «Веге». Через год в Америке я вызвал восторг американцев, переплясав даже самих хозяев.
А исполнялся ковбойский танец. Этому тоже научили меня в «Веге».
За четыре года существования отряда я внутренне раскрепостился, «Вега» помогла мне побороть врожденную стеснительность. Научился четко и коротко излагать свои мысли перед аудиторией.
В девятом классе я стал чемпионом республики по шахматам, и впервые звездная болезнь коснулась меня. Той ночью я долго не мог уснуть. Мне мерещились международные и всесоюзные турниры, лавровые венки и победы, победы, победы! Почти до утра я плыл в этом сладком тумане и едва не опоздал к первому уроку. Класс встретил меня с восторгом:
– Ура! Качать его! Качать чемпиона! – Портфель отлетел в сторону, меня подхватили десятки рук. – Айн, цвай – взяли!
Пол ушел вниз, я нелепо перебирал в воздухе ногами.
– Иш-шо взяли! – Я взлетел под самый потолок.
И тут вошел учитель. Часть ребят бросилась к своим партам, забыв про меня. Остальные уставились на учителя.
«Конец мне», – подумал я и грохнулся сверху на головы ребят. Обошлось без переломов, но после этого я уже никогда не предавался хвастливым мечтаниям…
Пришла весна последнего учебного года. Растаял снег. Улицы, тротуары Элисты, как всегда, затопила чавкающая клейкая грязь. Буро-коричневая жижа текла по дорогам города, колеса машин взбалтывали, перемешивали ее, выплескивая на тротуары, обливая неосторожных прохожих.
Ранней весной и осенью Элиста обувается в резиновые сапоги, у подъездов домов, учреждений ставятся железные корыта с водой и палками, на концах которых намотаны тряпки – соскребать и смывать налипшую на ноги грязь. Тускло-желтые фонари на вечерних улицах. Темные силуэты прохожих. Луна, присыпавшая стальной пудрой света угрюмо мерцающие лужи. И придавленный низким калмыцким небом сырой воздух, напитанный молодой энергией нарождающейся жизни. Вот такой запомнится мне моя последняя школьная весна в Элисте.
В школе ребята мне дали кличку «Мааста» – хозяин. Так меня называли потому, что после уроков все обычно собирались у нас дома. У меня был проигрыватель с колонками, я собирал пластинки. Каждый день я приводил домой компанию человек в десять – пятнадцать. Слушали пластинки, спорили о джазе, певцах, бренчали на гитарах. Мы даже создали свою рок-группу и по вечерам орали песни. Нам казалось, что получалось здорово. Как тогда принято было говорить – в кайф. Однако вскоре соседи начали жаловаться на нас, и мы перебазировались в УМР – Управление механизированных работ. Родители так привыкли, что в доме у нас всегда ребята, что когда никто не появлялся, с тревогой спрашивали:
– Кирсан, что-нибудь случилось? Поругался с ребятами? Почему никого нет?
Я никогда не ставил цель быть самым авторитетным в классе или подчинить своему влиянию других. Да и попробуй я такое сделать – сразу бы отлупили. Класс у нас был своенравный, абсолютных авторитетов не признавал. Но потому, наверное, что я был инициатором многих вечеров, походов, дискотек, ребята тянулись ко мне. А вот то, что я был отличником, победителем многих олимпиад, мне часто мешало: у меня было постоянно какое-то чувство «вины» перед ребятами. Вместе гуляем, ходим в походы, играем в футбол. Наутро я получаю пятерку, а кто-то из друзей двойку или тройку. Получалось, что я вроде бы где-то схитрил, вывернулся. И когда меня начинали хвалить, я буквально не знал, куда себя деть. Способные, но неуправляемые – таким считался наш класс. Действительно, иногда мы выкидывали коленца, которые приводили учителей в бешенство.
– По-осмо-отрим, что вы запоете на экзаменах, – грозились учителя. – По-осмо-отрим…
По свойственной нам бесшабашности класс не обращал на это внимания.
И вот приближаются экзамены. Даже самые отчаянные поутихли, никому не хотелось конфликтовать с учителями. Оно и ясно: надо получить приличный аттестат зрелости, чтобы попасть в институт. Активность учеников резко возросла. Всем хотелось исправить годовые отметки, готовились к урокам, тянули руки.
Брежневский номенклатурный беспредел прочно утвердился в стране, и многие учителя в открытую тащили «нужных» учеников. К этому привыкли. Нашу школу номер три в городе называли «детским домом» – в этой школе учились дети почти всех министров, секретарей горкома, обкома партии Калмыкии. Отыгрывались же учителя, припомнив давние обиды, на тех, у кого не было за спиной номенклатурной защиты. Это было подло, но класс угрюмо молчал. Казалось, мы ослепли и оглохли.
Потом мне не раз придется наблюдать, как глух и слеп становится человек, боясь рисковать карьерой, деньгами, положением, комфортом. Но уже не будет у меня той детской категоричности, той душевной острой боли при виде подлости. В наше жуткое время мы привыкли к предательству, ко лжи. Через десять лет это станет государственной нормой жизни. Это будет страшно, но это будет…
Я уверенно шел на золотую, медаль. В такой момент лезть в драку с учителями равносильно самоубийству. Гнусная мыслишка все время билась в голове: «Мне что, больше всех надо? Другие-то тоже молчат…» Кивание на других – это чисто наше, российское. Это от воспитания в духе коллективизма: ты – ноль, а коллектив – сила. А потому не высовывайся, будь как все – винтиком, гаечкой. И если подлость на всех одна, то это вроде бы уже и не подлость, можно ее не замечать. Я – как все, у меня своих мозгов нет, у нас мозги стадные, коллективные. Какой с меня спрос? За групповую драку тебе лет пять впаяют, а за групповую подлость – пардон! Нет у нас такого закона! Даже если ты и промолчал – ну и что? Вся страна семьдесят лет молчала – и ничего, не хватила страну кондрашка!
Да, приходили в голову такие подленькие мыслишки. Но однажды взбунтовалось все внутри, вспыхнуло, взорвалось. Да пропади она пропадом, эта золотая медаль! Все! К черту! Хватит!
Я выступил на собрании. Сказал все, что думаю, о подтасовках, о преследованиях, об обкомовских любимчиках, о том, что это подло.
Кажется, я немного переборщил. Начался скандал с истерикой, валерьянкой, педсоветом. Преподаватели старших классов дружно выступили против меня, стеной стали на защиту мундира. Была подключена тяжелая артиллерия: сразу начались какие-то неприятности у отца на работе, придирки начальства к матери…
Одноклассников по одному вызывали в учительскую, обрабатывали, промывали мозги.
«…Это заговор против школы. Илюмжинов плюнул всем в душу. Чудовищное обвинение… Недостойное поведение Кирсана… Моральный облик комсомольца…» – все это произносилось с пафосом, с дрожью в голосе, с благородным гневом. Ребятам намекали на предстоящие экзамены, требовали отстоять честь школы.
Над моей головой сгустились тучи, засверкали молнии, загрохотали громы. Была срочно подготовлена общественность.
«…Клевета… отщепенец… человеконенавистник… очернительство…» – тяжелые, как булыжники, словеса летели в мою голову. Меня громили, топтали, но – странное дело – именно в тот момент я был спокоен. Душа была спокойна. Я смотрел на одного парня, который прямо задыхался от возмущения, и с грустью думал: «Вот и расходятся наши дороги. Во сколько сребреников ты оценил себя?»
После «обличения» в мой адрес этому парню уже ниже четверки не ставили. Через два дня, в разговоре один на один, он сказал, отводя глаза:
– Тебе-то что, Кирсан, ты круглый отличник. А мне выкарабкиваться надо. Цель оправдывает средства. С волками жить – по-волчьи выть.
Где он теперь, этот парень? Может, до сих пор воет по-волчьи?
Надо отдать должное, многие ребята поддержали меня тогда.
Скандал учителя быстро замяли, нажали на нужные кнопки, чтобы слухи о нем не вышли за школьные стены, однако своего я добился: ребят, не имеющих влиятельных родителей, «топить» перестали.
Правда, позже мое выступление мне аукнулось: я получил аттестат с отличием, но золотую медаль мне так и не дали. Руководство школы «не успело» вовремя оформить документы. Я, впрочем, не очень огорчился, ибо ожидал худшего…
Начиналась другая, взрослая жизнь. Каждый день я ловлю на себе настороженные, полные тревоги взгляды родителей: что еще задумал Кирсан? Когда со мной что-нибудь долго не происходило, они начинали волноваться: значит, скоро грянет новая беда.
Несколько раз родители пытались поговорить со мной: в какой институт я решил поступать? Я молчал. Я и сам не знал. Я был на распутье…
Анатомия темноты
Я чувствовал в себе силы конкурировать с абитуриентами любого столичного ВУЗа, но с профессией пока не определился, а поступать только ради того, чтобы поступить, мне не хотелось. Я немного завидовал тем из одноклассников, которые знали, чего хотят, знали, куда поступать. С утра до ночи они штудировали учебники и пособия, писали шпаргалки, бегали на консультации. Всем им было некогда, и наш дом, в котором совсем недавно собирались шумные компании, стал непривычно тихим. Меня раздирали противоречия, я никак не мог решить: чего же я хочу?
Впервые цель расплывалась передо мной, становилась туманной, призрачной, как степное марево. Жизнь словно бы остановилась, и от этого непривычного состояния на душе было муторно и гадко.
Встречая на улице ребят, я ловил удивленные взгляды, в которых был немой вопрос.
Звонили друзья, но разговор не клеился. У меня было ощущение, что жизнь обогнала меня, ушла далеко вперед, а я остался на остановке. Куда идти? Что делать? Я барахтался в вязкой пустоте, не чувствуя под ногами опоры, не видя ни дна, ни верха. Я нервничал. Годами мне не хватало времени, я мчался, действовал, энергия била фонтаном. Я придумывал, организовывал, добивался, отстаивал и вдруг – резкий стопор.
Так прошел почти месяц. Он тянулся и тянулся – однообразный, неизмеримо долгий.
В один из вечеров я вынес раскладушку во двор и, укрывшись одеялом, бездумно глядел в перевернутую пропасть неба, уже расшитую предсвадебным калмыцким узором звезд. Прислушивался к затихающему стуку колес поезда, к отдаленному лаю собак и незаметно уснул.
Проснулся я неожиданно. Было странное ощущение покоя и безмерно глубинной тихой радости. Я смотрел в черную бездонность мягкого ночного неба, и чувство любви, сострадания ко всему живому на этой земле затопило меня.
«Вот так же под этим вечным высоким небом жили до меня миллиарды людей, – думалось мне. – Их тела превратились в прах.
А их страсти, терзания, мечты, любовь и боль – все это нетленно. Мы дышим воздухом, напитанным их страстями и болью. Пьем влагу, в которой растворена печаль и любовь. Мы ходим по земле, которая хранит память великих страстей. И сам я – только безмерно малая пылинка этого бесконечного и живого мира».
Я почти физически ощутил, как там, в густоте неба, перетекает по Млечному Пути Время – из Прошлого в Будущее. И жизнь моя показалась мне ничтожной, суетной и мелкой рядом с этой огромностью.
«Что мои желания, чувства, мысли значат для этого мира? И все наши поражения и победы – все это иллюзии, выдуманные человечеством. Надо жить просто, бесхитростно, несуетно, как живет трава или встает солнце. Жить, растворившись в размеренном потоке Времени. Отречься от своего эгоистического «я» – вот глубинный смысл существования. Вот истина…»
В ту ночь все как-то сразу стало на свои места, и, помню, я ощутил необычайную легкость и душевное очищение. И тогда я уснул крепким сном.
Наверное, в жизни каждого человека бывают вот такие мгновения Божественного Откровения, когда душа и сердце прополаскиваются в родниковой святой воде. И, побывав в этой купели, ты рождаешься заново.
Пролетел август. Ребята стали студентами, разъехались по разным городам. От них приходили письма с непривычными, полными притягательной романтики словами: сессия, лекция, деканат, профессор… Это был другой, незнакомый, красивый мир.
У меня же была своя жизнь, свой путь. Я выбрал его тогда, в ту ночь, и шел по нему все увереннее. Путь без прикрас и романтики, суровый и злой.
Я работал на заводе. У меня не было профессии. Официально я числился слесарем-сборщиком, но приходилось делать все. Я подтаскивал увесистые железные заготовки к станкам, выносил мусор, разгружал машины, пилил, строгал, меня гоняли на самую сволочную и грязную работу. Я не жаловался, не пытался схитрить, сфилонить. Я стискивал зубы. Ловил на себе насмешливые взгляды «старичков». Молча сносил шутки. Это была суровая действительность. Это была жизнь. Без той романтической показухи, которой нас пичкали в школе, кино, книгах.
Здесь на каждом шагу крыли матом, крали, как могли, похмелялись в закутках и на грязном полу занимались любовью. Это был некрасивый, уродливый мир, о котором социалистическая печать старалась умалчивать. Ежедневная нудная, тяжелая работа. Авралы в конце квартала, года…
С непривычки ломило хребет, руки наливались тяжестью, становились непослушными, подламывались ноги, но я старался держаться. В пять утра над моей головой грохотал будильник. Я считал до трех, лежа с закрытыми глазами, вскакивал, делал зарядку, умывался.
Перед работой я успевал сбегать за молоком, купить хлеба, сделать кое-какие записи в тетради или ответить на письма. Мой старший брат Вячеслав уже отслужил в армии, учился в Институте международных отношений, он был умудрен житейским опытом, и в письмах от него между строк прочитывалась сильная тревога за мое будущее. Он был против моего решения идти на завод. Мы были разные с Вячеславом. Он был натурой цельной, все делал основательно, прочно, продуманно. В школе его называли «ходячей энциклопедией», и учителя ставили его мне в пример. Меня же кидало из стороны в сторону, заносило на поворотах, я набивал синяки и шишки, но это меня ничему не учило. Я постоянно ввязывался в разные истории и понятия не имел, как из них выпутаться. То ли это был неосознанный стихийный бунт, который сидит в каждом крепостном социализма, то ли в самом характере заложено идти наперекор, делать не так, как все, – не знаю.
Прошло несколько месяцев. То ночное откровение, которое пришло ко мне августовской ночью, не то чтобы забылось, а как бы потускнело, утратило свою первозданность и вспоминалось все реже и реже…
Я был уже не вчерашним новичком на заводе, и меня перестали гонять на разгрузки и погрузки. Мне было восемнадцать, а в такие годы хочется многого и сразу. Хочется приодеться поприличней, хочется карманных денег, машину, повидать мир, посидеть в кафе с друзьями, шикануть перед девчонкой. Да мало ли чего хочется в восемнадцать, когда в голове мешанина, в карманах ветер, когда не задавлен проблемами, когда вся жизнь – впереди. Мне хотелось заработать много денег. Каждое утро я подмигивал Л. Брежневу, который с плаката указывал рукой вдаль. Внизу на плакате было написано: «Задачи поставлены, цели ясны. За работу, товарищи!» Мы с Брежневым понимали друг друга. А вот товарищи по цеху – не понимали. Как-то перед обедом ко мне подошел парень, постоял, глядя на мою работу, сказал угрюмо:
– Ну чего ты пуп-то рвешь? Умнее всех, что ли? Смотри, мужики башку открутят.
– За что? – не понял я.
– За ште-е!… – передразнил он, выпячивая нижнюю губу. – Ты счас двести процентов дашь, а потом всем расценки снизят или нормы повысят. Допер, гад?
И тогда я допер: работать хорошо – себе в убыток. Социализм. Потом, в курилке, этот парень сказал, вздохнув:
– Гроши всем нужны. Да разве эти суки дадут заработать? – Он ткнул рукой вверх. – Удавятся…
Так я открыл для себя первый закон социализма: работать хорошо – невыгодно. А воровать можно. На воровство смотрели сквозь пальцы. При той нищенской зарплате как бы подразумевалось, что необходимое для прожиточного минимума человек доворует. И воровали: доски, кирпичи, инструменты, бетон – все, за что можно было получить бутылку водки – твердую валюту социализма.
В тот год я познакомился на заводе с одним стариком. Он жил в развалюхе-землянке у родственников и стоял в очереди на квартиру лет пятнадцать – двадцать. Квартира была его религией, мечтой жизни, пределом желаний. Все разговоры начинались и заканчивались словами: «А вот когда я получу квартиру…» Его дряхлая мать умерла, так и не дождавшись жилплощади. Умер от воспаления легких сын. Жена, помыкавшись лет пятнадцать по чужим углам, сбежала. Он остался один и жил в постоянном страхе, что его отправят на пенсию, и тогда – прощай, однокомнатная (на большую он не рассчитывал)! И наконец старику повезло. Вручили ему ордер, и въехал он в освобожденную, обшарпанную, но отдельную, притом свою, квартиру. Наставил замков на дверь – все боялся: а вдруг ошибка, вдруг выселят? Никому не открывал и на стук в дверь не отвечал.
Умер он недели через две. Не выдержало сердце. Родни уже не было, и хоронить было некому. Прямо из морга увезли его куда-то и закопали неизвестно где вместе с бомжами. Да, наверное, он и был всю жизнь бомжем.
Говорят, этот старик в молодости был хорошим шахматистом, но когда я сел с ним играть, то поставил ему детский мат в три хода, и он долго моргал глазами, глядя на доску. Потом поднял голову, и лицо его просветлело.
– А вот когда я получу квартиру… – Ни о чем больше думать он не мог. Это было жутковато.
В тот год двое моих знакомых сгорели от водки, а их друзья на похоронах напились и устроили драку с поножовщиной.
Так текла размеренная, сонная, уродливая жизнь, она засасывала, убаюкивала. Стоило больших усилий сопротивляться этому. Через полгода я почувствовал, что задыхаюсь. Мозг тосковал по ежедневному напряжению. Во мне бурлила и клокотала энергия, требуя выхода. Я накидывался то на одно, то на другое. Я хотел найти себя в этой жизни и не мог. Ни водка, ни сигареты, ни бесцельное ежевечернее шатание по городу не привлекали меня. Я с жадностью проглатывал книги по истории, психологии, философии, делал выписки, по ночам ловил радио Би-би-си на английском языке. В то время нога иностранца еще ни разу не ступала на калмыцкую землю, и живая английская речь не смущала слух жителей Калмыкии. А английский увлек меня, мне хотелось говорить легко и без акцента. В те годы пол страны по ночам приникало ухом к своим «Спидолам», «ВЭФам», ловя на коротких волнах «Голос Америки», «Свободу» Би-би-си, чтобы через треск и писк глушилок узнать, что же происходит в нашей стране…
А в стране ширилось диссидентское движение, поднимали голос правозащитники, распространялся журнал «Хроника текущих событий», издавались книги в «Самиздате» Глухое недовольство народа приобретало свой голос. За анекдоты уже не сажали, и это было явным признаком развала железной непримиримой системы. Высказывались почти открыто, хотя и неофициально. В то же время широко раскинулась сеть доносительства, и многие на этом делали карьеру. Впрочем, сейчас об этом достаточно подробно написано и рассказано. В нашем маленьком провинциальном городе, где о шпионах знали только по книгам и фильмам, гебистам жилось вольно и праздно. Иностранцев сюда не допускали, военных заводов не было, впрочем, как и мощной, развитой промышленности, так что секретных данных, кроме данных о ежегодном падеже скота и увеличении процента побывавших в вытрезвителе коммунистов, не было. Но Комитет госбезопасности был, и, чтобы оправдать свой хлеб, рылись в биографиях, искали родственников за границей, проверяли слухи, принесенные с базара, составляли списки тех, кто слушает заграничное радио, рассказывает анекдоты. Самым перспективным направлением было выискивание родственников тех, кто ушел с немцами или белогвардейцами за границу, на Запад.
Впоследствии я встречусь на Западе с калмыцкой эмиграцией, услышу страшные рассказы, пойму чужие боль и величие души. Это они там, на Западе, еще сидя в фильтрационных зонах после войны с фашизмом, первыми подняли голос против высылки калмыков, собирали подписи, петиции, обращались в ООН, к главам государств, к деятелям церкви. Это они первыми подняли вопрос о возвращении калмыков на родину, забили в колокола, обратились к мировой общественности, и Хрущев вынужден был вернуть калмыков из тринадцатилетней ссылки.
Калмыцкая эмиграция – это особый, великий и трагический пласт истории калмыцкого народа. Народа, сохранившего свои традиции, свое мироощущение и в то же время впитавшего в себя европейскую культуру, европейский взгляд на мир. Самые великие открытия в двадцатом веке, родились на стыке наук: физики и биологии, химии и математики. Это закон века, и он, видимо, применим и к народам, вобравшим в себя два мироощущения, два взгляда, две культуры. И я верю, что Калмыкии в ближайшее время предстоит эпоха Возрождения. И калмыцкая эмиграция – один из краеугольных камней этого будущего здания.
Кто знает, как сложилась бы моя судьба, не пройди я рабочую школу, не окунись в темную, оглупляющую жизнь мальчика на побегушках у поддатого мастера?! В тот год с меня слетели остатки романтики, я многое понял, и внутри меня начал подниматься и созревать протест.
Думаю, идиотизм нашей жизни понимали все. Во всяком случае – большинство. Но страх – великое завоевание социализма – крепко цементировал общество. Кто там шагает не в ногу? Кто там дышит не в такт? Ату его! Как-то один англичанин сказал мне:
– Знаешь, Кирсан, у вас в России пьянство – это скрытая форма диссидентства.
А что? Вполне может быть. Если работать хорошо – это плохо, то нищему народу ничего не остается, как воровать, уходить в алкогольное диссидентство. У нас и воров-то называют ласково: несун. Или гордо: добытчик! А уж если по-крупному хапнул, тут прямо-таки восхищение: умеет жить!
Начальство тоже подворовывало и тоже спивалось в застольях и на многочисленных банкетах. В этом народ и партия были едины. Один партийный работник Калмыкии поучал меня:
– Запомни: выпивка без тоста – это пьянка, а с тостом – это идеологическая работа.
А на идеологическую работу средств не жалели. На культуру не хватало, а на идеологию – хоть сапогом черпай, хоть ложкой хлебай. Может быть, поэтому у нас политиков – половина страны. Особенно когда примут граммов двести. Как только соберутся больше одного, раздавят бутылку, так сразу или о бабах, или о политике. Потому что о чем еще говорить советскому человеку? О жизни – тошно. Осточертела она всем, такая жизнь. О будущем? Так ведь нет будущего: вся жизнь – в страхе: как бы еще хуже не стало. Хотя куда уж, кажется, хуже-то?
Служу Советскому Союзу!
То ли по нашей российской расхлябанности, то ли по какой иной, непонятной в других странах причине, но осенний призыв в армию как-то меня обошел. Мои одногодки месяц как призвались, ходили строем, хором распевая любимую песню советских генералов: «Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди…» – а мне все никак не приносили повестку из военкомата.
Я прождал месяц. Больше ждать не имело смысла. По опыту старших ребят я знал, что уходить в армию надо со своими одногодками: легче служить. А надеяться на то, что про меня военкомат забудет, было бы глупо. Через год-два отыщут документы, и придется ходить в строю с малолетками. Нет, уж лучше со своими. Я пришел в военкомат. Вот, мол, мои одногодки уже «карантин» проходят, а мне повестку так и не прислали.
– А-а-а, – протянул лейтенант, отодвинув на край стола бутылку кефира и половину батона хлеба. – Дезертир явился. Уклониться от службы хочешь?
– Да я сам пришел.
– Я те дам – сам! Ты знаешь, что за уклонение – уголовная статья? Закатаю счас на три года за решетку. – Лейтенанту было скучно. Ему хотелось поговорить, нагнать страху на призывника, чтобы знал, что такое офицер в армии. Я сообразил: спорить бесполезно. Надо молчать.
– Родина тебя воспитывает, Родина тебе хлеб-соль дает, образование – бесплатно, медицина – бесплатно, она тебе как мать! А ты? – Лейтенант уперся в меня немигающим взглядом. – Ну? Что молчишь?
Засиженное мухами окно. Решетки на окнах. Черный телефон на столе. Шкаф, в котором стоит томик речей Л. Брежнева с неразрезанными страницами и Уголовный кодекс.
– Чтоб завтра же остриженный и с вещами ко мне! Ясно?
– Ладно.
– Не «ладно», а «так точно, товарищ лейтенант!». Повторить!
– Так точно, товарищ лейтенант, – звонко чеканю я. Мне смешно. Мне пока весело.
Мне вспоминаются стихи: «Как одену портупею, так тупею, так тупею». Все это пока попахивает деревенским допотопным театром. Но это – пока. Пока смешно. Пока весело.
Так начинается мое знакомство с армией. На работе мне устроили грандиозные проводы, я купил билет на самолет, чтобы не мотаться на перекладных и не сидеть в ожидании, пока меня лейтенант отправит в часть, и досрочно явился с чемоданом и документами в полк.
И вот первая ночь на солдатской койке. Я долго ворочаюсь, не могу уснуть. В казарме храп и запах солдатского тяжелого пота. Я лежу, глядя в потолок, и обрывочные мысли, как вспышки, возникают и тут же пропадают в моей голове.
Позади школа, завод. Начинается третий этап моей жизни – солдатский. Я наслышан про дедовщину, про мордобой, гауптвахты и самоволки, про прыжки с парашютом, про то, как делают брагу в огнетушителях, про полковое начальство и солдатскую изворотливость. Все это предстоит мне пройти за два года службы. Два года. По привычке я пересчитываю дни, получается семьсот тридцать. Семьсот тридцать дней и ночей – это семнадцать тысяч пятьсот двадцать часов.
Ребята, уже отслужившие в армии, учили меня премудростям армейской жизни.
Первое: с самого начала не давай себя унижать. Будут гнуть – не поддавайся, терпи. Сломаешься, будешь ЧМО – человек, морально опущенный. Тогда на тебе будут все ездить.
Второе: с дембелями лучше не связывайся. Постарайся с ними поладить. Дембель в армии – царь и хозяин.
И третье: служить все равно придется, так что лучше сразу втягивайся. Первые дни тяжело, зато потом – нормально.
И главное: солдат спит – служба идет.
Все эти обрывки сведений и еще какая-то чепуха вертятся в голове. Говорят, в первую ночь солдату снится родной дом. Не знаю. Мне он не снился. Мне вообще ничего не снилось – не спалось. По старой привычке я стал размышлять над тем, что хорошего может дать мне армия: дисциплина, закалка, решительность… Что еще? Какие-то знания, если они пригодятся в жизни. Хотя как знать? Жизнь длинная. Бабушка говорила: знания вниз не тянут, не ты их несешь, они тебя несут…
Я засыпаю под утро, когда рассветная белизна ломится в окна казармы и стекла в ожидании первых лучей солнца покрываются ослепительно матовым цветом. Сон на цыпочках крадется ко мне, склоняется надо мной…
– Р-р-рота-а-а, па-адъем! – Истошный вопль над ухом подбрасывает меня на кровати. Я ошалело смотрю вокруг. Перед глазами мелькают босые пятки, руки, стриженые головы, сапоги. Все мельтешит, сопит, топает, гремит. Я наматываю портянку на ногу – на пятке получается ком, и нога не лезет в сапог. Я топаю ногой, тяну носок – тщетно. Пытаюсь стянуть сапог – не снимается. Черт!
– Быстрей! Быстрей! – орет старшина.
Наконец я кое-как справляюсь с портянками, сапогами, обмундированием. С меня катит градом пот – первый. Солдатский.
– А-атбой, – лениво налегая на «а», командует старшина.
«Издевается, подлец», – думаю я. Голос противный, ехидный. Новобранцы скидывают одежду, ныряют в постели. Я тоже ложусь, закрываю глаза. Спать хочется неимоверно. Расслабляюсь.
– Р-р-рота-а-а! – В горле старшины звук «р» катается, как шарик в пустом стакане, звук нарастает, и уже истошно: – Па-адъем!
Я вскакиваю, не глядя по сторонам. Я уже знаю: кто последний – тот будет тренироваться после отбоя.
– А-атбой. – Мы ныряем в постели.
– Р-рр…– Едва старшина набрал в грудь воздуха и выкатил из горла свое первое «р», я уже вскакиваю, ныряю ногами в сапоги. Вся рота с ненавистью глядит на старшину.
– Веселей смотреть, орлы! – кричит старшина, прохаживаясь вдоль казармы. – Соколом! Соколом глядеть!
– Чтоб у тебя чирей в горле выскочил, – раздается голос сзади.
Старшина резко оборачивается:
– Кто сказал?! Кто тут что-то мяукнул, а? Ты? – Он тычет пальцем в меня. Потом в другого: – Или ты?
Рота молчит. Пот катится по лицу, по шее. Пусть поорет, хоть несколько минут отдохнем.
А-атбой.
– Па-адъем!
– А-атбой…
Замотанные, полудохлые, мы выходим из казармы, топаем строем на плац. Предстоит еще строевая подготовка.
– Л-левой! Л-левой! – Голос у старшины злой, мускулистый.
На плацу маршируют выгнанные еще раньше нас роты.
– Не… плачь… девчон-ка… Ты только… жди, – отрывисто выдыхают новобранцы в такт шагам.
– А ну-ка, песню! Запе-вай! – Это уже нам. Мы орем, раздирая рты.
– Не слышу. Громче! Громче!
Уже на «гражданке» я еще долго буду вздрагивать, заслышав эту песню.
– Прой-дут дож-ди. Левой! Левой! – Наши голоса съедаются низким безоблачным небом. Жарко. Воротничок стоит колом. Натирает шею. Ноги ватные.
– Сол-дат вер-нет-ся… – И между нашим вдохом и выдохом в наступившей секундной тишине отчетливо, пружинисто: – Левой! Левой!
Ноги горят. Портянка в сапоге свернулась, трет кожу. В пятках сверлящая боль, словно по ним бьют палкой.
Сколько мы топаем? Час? Два? Десять? Все смешалось. Никаких мыслей. Армия. Первый мой день.
– Бе-егом!
Бух! Бух! Бух! – топают по земле сотни тяжелых сапог, а может, это сердце мое бухает и отдается в висках? Ничего. Ничего. Все претерплю. Все нормально, все в порядке. Все будет о’кей, Кирсан.
И – понеслись дни. Строевая подготовка, оружейная подготовка, спортподготовка, техподготовка, политзанятия. Рота, подъем! Ночные учения, тревоги. Справа – офицерство, слева – дедовщина. Тысячи парней, зажатых в ограниченном пространстве. Все на виду, бок о бок. Симпатии – антипатии. Характер на характер. Железо по железу.
Воинская часть номер девятьсот два пятьсот двадцать три в очередной раз всосала в себя новобранцев и, как скульптор долотом отбивает от куска гранита все ненужное, лишнее, обтесывала нас, доводя и мысли и поступки до автоматизма. При таких нагрузках – физических, психических, – при таком скоплении молодых парней конфликты неизбежны…
Мы стоим зажаты« кроватями. В руках – намотанные на кисть тяжелые армейские ремни. Нас четверо. Остальные первогодки молча прячут глаза. У «дедов» кто-то стащил новую гимнастерку, отобранную ими у нас же, первогодков, «сынков».
Идет разборка. «Деды» бьют всех подряд до тех пор, пока кто-нибудь не признается. Офицерство смылось. Так принято. «Деды» должны воспитывать «сынков». Тугая, как натянутая струна, тишина. Нас четверо, которые не хотят молча сносить побои. Четверо, которые отважились постоять за себя, защитить свою честь и достоинство. Четверо, которые не признали негласного закона армии. Четверо из сотни. Это много. Это – бунт. И «деды» пришли нас учить. «Деды» – сила. Они не спеша приближаются к нам, поигрывая ремнями и мускулами. Мы стоим. Мы знаем, что не справимся с «дедами», их слишком много, и они сплочены. И все же…
– Кирсан, а ну, отойди. – Один из «дедов» хочет меня «отмазать». Мы с ним встречались на соревнованиях по шахматам в Пятигорске. Ему не хочется меня бить, но братство «дедов» – выше, сильнее его чувств. – Отойди, Кирсан.
– Нет.
– Отойди, хуже будет.
Кровь приливает к руке. Рука тяжелеет, тело сжато, как пружина, до предела. Еще секунда и…
Вдруг кто-то гасит свет. И тут же – свист ремней, крики, стоны, мат, грохот перевернутых кроватей, сопение и удары – хлесткие, крепкие. Глухие звуки, шум падающих тел…
Свет вспыхивает. Первогодки разбегаются. У многих разбиты губы, носы. Вздутые скулы. Пробитые головы. У «дедов» вид не лучше. Они уходят.
– Хана вам пришла. Заказывайте гробы, – говорит один напоследок. Я встречаюсь взглядом с шахматистом. Один глаз заплыл, рукав гимнастерки порван. Он качает головой – то ли от боли, то ли этим что-то хочет сказать, не понятно.
«Деды» мстят. Наряды вне очереди, «губа», муштра до изнеможения, придирки. К ночи мы приходим в казарму и валимся без сил. Минут через сорок над ухом сиреной крик:
– Р-рота, па-адъем!
Мы вскакиваем. Ночная тревога. Марш-бросок под холодным, нудным осенним дождем.
– Все. Я их счас перестреляю, гадов, – тяжело дыша, скрипит зубами бегущий рядом солдат. – Один хрен угробят.
Я знаю – может. Это не пустая угроза. Мы все на пределе. Наверное, каждому из нас приходила эта мысль. Неимоверно хочется спать. Одежда намокла, отяжелела. На сапоги наворачиваются комья грязи. Сапоги скользят по мокрой земле, мы падаем, чертыхаемся, материмся, но бежим, бежим уже автоматически, бессознательно, как бы уже за пределом своих возможностей.
Я иду договариваться с «дедами». Надо прекращать эту междоусобицу. Иначе кончится плохо. Кто-нибудь не выдержит, сорвется, нажмет на спуск. Вызываю своего шахматиста.
– Послушай, – говорю я. – Хватит. Ребята на пределе. Кончайте нас дрючить. Не перегибайте палку. Вы сами были первогодками. Хватит, понимаешь, хватит. Ребята могут начать стрелять.
Шахматист молчит. Взвешивает мои слова.
– Ладно, – кивает он. – Поговорю. Вообще-то действительно перегнули палку.
Он улыбается, протягивает руку:
– На, держи пять. Вообще-то ребята у вас – ништяк. Мы были послабее.
Шахматист сдержал слово. «Деды» оставили нас в покое. Да и мы постепенно втянулись в службу.
Через полгода я был уже замкомвзвода и смеялся над своими впечатлениями от первых дней в армии. Во всей этой, казалось бы, бессмысленной муштре, отупляющих политзанятиях, во всей распланированной до секунды солдатской жизни была своя железная, четкая, хорошо продуманная логика. Какими методами она вдалбливалась – вопрос отдельный. Была своя логика и в дедовщине, хотя я и не принимал ее, делал все сам: стирал, гладил подворотнички, подшивал, чистил сапоги.
После отбоя раздавался в казарме голос новобранца:
– Товарищи «деды»! До дембеля осталось девяносто шесть дней!
– Ура-а! – заполнял казарму радостный выдох. Потом все стихало, и я шел проверять планы занятий у сержантов. После этого писал свои планы, на которые уходило часа два. Солдаты уже спали глубоким сном, а мы – младшие командиры – собирались в каптерке, жарили картошку. Шел легкий, ничего не значащий треп про «гражданку», про жизнь. Я успевал погладить форму, почистить ее, подшить воротничок, надраить сапоги. Следить за своей одеждой вошло в привычку еще со школы, с поездок на соревнования.
Часа в два-три ночи я ложился спать, а уже в пять тридцать меня будил дежурный. Пятнадцать минут на сборы. Без пятнадцати шесть приходил дежурный офицер, в шесть – подъем роты.
Я люблю поспать, поваляться по утрам в постели, но еще в школе начал бороться с этой пагубной привычкой. Каждое утро я заставлял себя подниматься к намеченному часу, делать зарядку. Я проштудировал массу литературы: аутотренинг, система йогов, многое другое, чтобы научить организм за три-четыре часа восстанавливать силы. Но одно дело просыпаться вовремя на «гражданке», когда твое тело не изнывает от физической усталости, и другое – в армии. Первые дни я ходил с заспанными глазами, мысли медленно и лениво ворочались в голове, движения были вялыми, тело – неотдохнувшим. Но постепенно все вошло в свою колею.
Сержантская должность, честно говоря, самая сволочная должность в армии. Сержант – это еще не офицер, но уже и не солдат. Он прослойка, амортизатор между офицером и солдатом. Спрос с него, как с офицера, а спит, ест он вместе с солдатами.
Двадцать четыре часа ты на виду у солдат, сотни глаз настороженно следят за тобой, оценивают: с кем ты, чью сторону примешь в извечном противостоянии подчиненного и командира? Будешь держаться офицерского состава – потеряешь уважение солдат, своих же ребят, с которыми тянешь лямку службы. Примешь сторону солдат – попадешь под пресс офицерства. Именно на этой должности, как ни на какой другой, требуются и тонкий психологический расчет, и дипломатия, и изворотливая игра ума.
Я наблюдал, как многие из сержантов сразу попадали впросак, отдаляясь от солдат или, наоборот, выступая против офицеров. Из этого ничего хорошего не выходило. Таких солдаты считали предателями, лизоблюдами, таких брали в крутой оборот командиры. Я подумал: ну есть же какой-то выход! Не может быть, чтобы его не было, просто его надо найти. Кстати сказать, здесь мне помог мой «веговский» опыт, школьный, шахматный. Опыт разрешения конфликтов между ребятами. И конечно, наблюдения.
Постоянные физические нагрузки, недосып уже не ломали тело, я привык к ним, и мозг требовал новой пищи для тренинга. По своей склонности к анализу вечером я перебирал в памяти каждый прожитый день, отмечая промахи, ошибки, удачи, подмечал, как поступают другие сержанты в аналогичной ситуации, реакцию командиров, солдат. Армейская психология резко отличается от гражданской. Подавляется индивидуальность, все на виду. С одной стороны, можешь не думать, за тебя думают командиры. С другой – солдатская смекалка, которая часто помогает обойти подводные камни солдатской жизни. Я записывал типичные случаи трений между солдатами – сержантом – офицером. Анализировал, систематизировал, размышлял над тем, как должен вести себя сержант в той или иной ситуации.
Вскоре я выработал определенную систему правил и, уже будучи на должности сержанта, следовал им. Это во многом помогало мне безболезненно балансировать на лезвии ножа – между солдатами и начальством. В принципе, в нашей жизни все сводится к человеческим отношениям, и линия поведения человека – это линия его судьбы, линия успеха. Впоследствии я понял: эти правила применимы не только в армии, но и в бизнесе, в политике, в семейных отношениях – во всем.
Первое правило: наблюдай и учись. Я разбирал свои ошибки, ошибки других солдат, только что ставших сержантами. Ситуации повторялись, они были типичными, поэтому я брал как пример один-два конфликта, анализировал, предлагал выход из ситуации. Размышлял: почему так, а не иначе.
Потом шла запись: определи главное и сосредоточься на нем. И снова – примеры, разбор, анализ, вывод.
Научись говорить «нет» командиру и подчиненному.
Будь решителен в поступках.
Не скупись на похвалу солдату.
Умей брать на себя ответственность.
Работай по плану.
Укрощай гнев.
Научись ощущать время. Ну, и многое другое…
Конечно же, эти правила не во всем совершенны, но они помогли не только мне, но и следующим призывам. Через несколько лет, уже будучи на «гражданке», я заехал в Ростов, зашел в часть, где когда-то служил, и увидел у сержанта свою затрепанную, уже во многих местах подклеенную тетрадку: «Пособие молодым командирам». Она передавалась из рук в руки, из призыва в призыв. Кстати, до «Пособия» у меня было довольно однобокое представление о жизни и положении в армии офицерского состава. Мои наблюдения помогли мне разобраться в мотивах офицерских приказов, понять поведение офицера, его проблемы: семейные, служебные.
Постоянная боевая готовность годами держит офицера в стрессовом состоянии. Ответственность за чужие жизни, нехватка квартир, частые переезды, неустроенность – все это ведет к развалу семьи, подготавливает нервный взрыв. В общем, жизнь не сахар. Да и зарплата, как водится, нищенская. И постоянный страх: уволят из рядов СА и очутишься на улице без гражданской профессии, без жилья, выпадешь из жизни, и никому до тебя не будет дела. Пустота в сорок пять – пятьдесят лет. Пустота…
Мой бывший командир, золотой человек Анатолий Владимирович Лужневский, двадцать лет ждал квартиру, да так и не получил, уволили его в запас, и мне, депутату ВС России, больших трудов стоило восстановить справедливость.
Уже работая в бизнесе, я попытался вернуть хоть малую толику того, что дала мне служба в армии. Ведь именно там я прошел окончательную закалку и шлифовку характера. Помня о нуждах армии, я создал благотворительный фонд социальной защиты военнослужащих «Катюша», подарил своей части компьютеры, телевизоры, ковровые дорожки. Подарил офицерам часы, отремонтировал столовую и свыше десяти миллионов отдал на премии служащим. По тем временам это были большие деньги.
Каждый раз, когда ко мне обращалась армия, я всегда старался выкроить для ее нужд деньги из своего напряженного бюджета. Я понимал: от нищей армии невозможно ожидать боевого духа, надеяться на защиту.
В нашей печати приводили факты: к началу войны с Гитлером в Красной Армии было расстреляно, сослано в лагеря более двух третей высшего командного состава. К сорок первому году весь цвет армии был уничтожен. Результат – десятки миллионов солдат, погибших в Отечественной войне.
Первые в мире парашютные десанты Блюхера, блестящие танковые операции на предвоенных учениях, легендарные личности, блестящие военные таланты – все растоптано, предано, продано. «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…» – пелось в песне-программе, песне-формуле. Разрушили старый, а заодно и нарождающийся новый. И за все заплачено великой кровью наших отцов.
Да, в армии творятся страшные вещи. За два года службы я много увидел, многому ужаснулся. Но армейская жизнь – это не остров в океане. Армейская жизнь – это зеркало нашей «гражданки», только в армии все обнажено, не приукрашено, не припудрено. Жизнь, с которой сорвали одежды, – вот она, голая, смотри. То же воровство, та же коррупция, та же жестокость, что и на «гражданке». Калмыки говорят: «Сильный напрягся – сильнее стал, слабый напрягся – хребет сломал». Сумеешь выстоять там, не согнешься – значит, готов к гражданской жизни, ибо она идет по тем же законам. И в этом смысле армия – великая школа выживания. Я выжил. Я нарастил мускулы, я многому научился в армии и готов был к жизни в социализме…
Белая кость социализма
Цаган ясн – белая кость – так называли в степи представителей калмыцкой знати. Ханов, нойонов поистребили, выжгли огнем представителей духовенства, но слова «цаган ясн» не исчезли из употребления, не забылись в калмыцком народе. Природа не терпит пустоты даже при социализме. Белой костью стали называть партийное начальство, высшую администрацию. И слова «цаган ясн» зажили второй жизнью.
Помню, один неграмотный старик, слушая репортаж о торжественных похоронах государственного деятеля, долго качал головой:
– Торжественные похороны, торжественные похороны… Чего торжествовать-то? Ведь человек все-таки, не зверь какой был. Чего они там, наверху, людоеды, что ли?
После армии я пришел снова на завод – там ничего не изменилось. Я работал слесарем-сборщиком. Ничего не изменилось не только на заводе, но и в городе и в республике, кроме одного – я уже был другим.
В провинциальных городах время течет медленно и неспешно. И я после армии начал задыхаться в городе детства.
В те дни мне в руки попался калмыцкий гороскоп, отпечатанный на машинке. По меркам того времени – вещь почти диссидентская, полузапретная. Гороскопы в те годы не появлялись в печати. Как всякий воспитанный при советском строе человек, которому выпала удача держать в руках полуподпольный трактат, я не выкинул его на помойку, не отнес в КГБ или в партком, а стал внимательно изучать. Ведь уже класса с восьмого советский гражданин начинает понимать: если в официальной печати кого-то ругают, значит, это – хороший человек, а если что-то запрещают, значит, там – правда.
Как я уже говорил, мой год рождения – шестьдесят второй – именовался годом Тигра. «…И наступят те дни, когда душа верующих уменьшится и станет величиной с локоть, сам человек станет пуглив и труслив, как заяц, и потускнеет сияние великого и чистого учения Будды. Люди предадутся пьянству и станут алчны, а никчемные будут править на земле. И тогда появится он, Тигр, желтый и могучий хранитель Земли, владыка восточных стран. От его грозного рыка содрогнется Земля, в страхе разбегутся жалкие никчемные правители, замолкнут лживые речи и просветлеет разум заблудившихся. Рожденные в год Тигра призваны править этим Временем, неся благородство и благодать своему народу…»
Прочитав это, я подумал тогда: наверное, в каком-нибудь далеком Симбирске или в Москве уже родился такой человек. Может быть даже, мой ровесник, который сможет наш перевернутый мир поставить с головы на ноги. Интересно, о чем думает сейчас этот парень, мой ровесник? А может быть, он моложе или старше меня на двенадцать лет, ведь год Тигра по буддийскому календарю повторяется через каждые двенадцать лет. Интересно, с чего начнет он грядущие перемены? Как они будут происходить?
Да, именно в тот год у меня возникло острое предчувствие грядущих перемен. Что-то зрело в воздухе тех лет, накапливалось, становилось все труднее и труднее дышать, как это бывает перед грозой. Страна жаждала воздуха Свободы. Нервами, всем существом своим я почти физически ощущал, что где-то там, на другом конце советской империи, живет, думает, уже действует грядущий реформатор. С каких шагов начнет он свои преобразования: с политических реформ или с экономических? Или одновременно? А что важнее?
Чтобы попытаться предугадать это, я обложился учебниками и пособиями по экономике, политике, искал статистические сборники, внимательно изучал газеты.
Эта игра воображения здорово помогла мне при сдаче вступительных экзаменов в МГИМО – самый престижный, самый недоступный в СССР вуз.
Я никогда не мечтал стать дипломатом. Дипломат, посол – эти слова были из той красивой, недосягаемой, номенклатурно-элитной жизни, о которой я, слесарь-сборщик провинциального завода, имел довольно смутное представление.
О МГИМО ходили по стране упорные слухи как о блатном, семейном институте, где обучаются дети самых верхних эшелонов власти.
И вот то ли в пику окружающим, то ли из желания доказать себе, что я тоже чего-то стою, я подал документы на самое престижное, самое трудное – японское отделение. Процент успеха был практически нулевой, но и терять мне было нечего. И еще очень уж хотелось проверить себя: смогу или нет?
– Ни армия, ни завод ничему тебя не научили, – укоряли родители, когда я заявил о своем решении. – Вечно ты лезешь куда не надо. Спустись на землю.
– Но Слава же поступил, – настаивал я.
– Ну что ты сравниваешь себя со Славой? Тебе до Славы ой-ей-ей как далеко!
Да, это была серьезная моральная поддержка! Ничего не скажешь! Впрочем, родители всегда ко мне относились с некоторой настороженностью. К тому же надо знать нравы маленького провинциального города. Здесь все друг с другом знакомы, слухи распространяются мгновенно, обрастают домыслами, комментариями.
В общем, родители не хотели, чтобы смеялись за моей спиной, тыча пальцем: «Ишь ты, в дипломаты полез! Вообразил из себя, слесарь!» Меня же подобные пересуды никогда не волновали: на чужой роток не накинешь платок! Таков человек. Еще в Евангелии сказано: «Нет пророка в своем отечестве».
Впрочем, и людей тоже можно понять. Один мой знакомый как-то сказал:
– Россия – может быть, единственная страна в мире, где всегда был переизбыток талантов, поэтому они обесценились. Сотни тысяч таких людей сидят сейчас по деревням и районным центрам, сажают картошку, сторожат амбары, глушат себя водкой. Может, у человека талант косметолога или химика, но, чтобы развить его, нужно ехать в центр: в Москву, в крупный город. А там нужна прописка. Кто ее даст? Вот и сидят таланты по окраинам. Они не нужны стране. Стране нужны посредственности. Стандарт. Стандартные дома, стандартная одежда, зарплата, мысли, поведение. Все довольны, все равны. Так легче управлять. В России таланты выживают не благодаря государству, а вопреки. Не поехал бы Ломоносов в столицу – пас бы всю жизнь свиней в деревне.
Он во многом был прав. Живя в маленьком городе, я видел, как множество умных, способных людей глушили свою тоску запоями, как огромная, невостребованная обществом энергия тратилась впустую – на интриги, сплетни, нелепую борьбу, беспричинную яростную злобу…
Когда долго едешь по летней степи и однообразный пейзаж начинает убаюкивать тебя, вдруг где-то впереди или сбоку соткется из прозрачного воздуха, наберет плотность и начнет колдовать и завораживать тебя мираж.
И спутаются реальность и воображение, и не поймешь, где кончается явь и начинается сказка, потому что внезапно стерлись границы и одно перетекает в другое.
Говорят, однажды даосскому философу Чжуан-цзы приснилась бабочка. Проснувшись, философ долго размышлял: бабочка ли ему приснилась или он приснился бабочке?
А что такое реальность? Является ли сон реальностью или наша реальность – это сон? Потом, когда в стране начались крутые перемены, я вспомнил, как задолго до этого я ясно ощутил грядущий приход реформатора.
Настал день отлета в Москву, на экзамены. Я ехал в аэропорт и вдруг из окна увидел чайку, кружащую над степью. Ничего необычного в этом не было. Территория Калмыкии – бывшее дно Каспийского моря, и древний инстинкт заставляет залетать этих морских птиц далеко в степь. Как вестники далекого прошлого, низко летят они над выжженной безжалостным солнцем степью, гортанно и тоскливо кричат и плачут, много лет ища гнездовья своих предков. Но в то утро я словно бы впервые увидел этих чаек, и острая тоска вдруг сжала сердце. Я глубоко вдохнул густой и терпкий настой степных трав, солоноватый раскаленный воздух и нырнул в брюхо самолета.
Начинался еще один этап моей жизни. Что ждет меня впереди? Как встретит закрученная нехваткой времени, заботами, суетой, безжалостная к неудачникам, отравленная своей гордыней Москва?
Самолет вырулил на взлетную полосу, застыл, взревели моторы, нервная дрожь побежала по металлическому корпусу, «ЯК-40» рванул по бетонке.
Я смотрел в иллюминатор. Под крылом самолета лежал мой родной малоэтажный, неказистый, придавленный к земле, свернувшийся комочком, как котенок-сирота, город. И острое чувство жалости и любви заполнило меня, и снова светло и пронзительно затосковала душа, и это чувство не отпускало до самой Москвы…
Поступил я на японское отделение МГИМО неожиданно легко. Но какой-то большой радости от этого не испытал. Наоборот, было ощущение неудовлетворенности и горечи. Все происходило не так, как я себе это представлял.
Я шел по Тверскому бульвару. С тополей летел белый пух, легкий ветерок закручивал его в белые воронки, относил к кромке тротуара. С веселым визгом носились дети, шахматисты на скамейках щелкали шахматными часами, распятое на ветвях деревьев, светило солнце. Обычная будничная московская жизнь, но она шла мимо меня. Не знаю почему, но какая-то смутная обида поселилась в моей душе, словно Москва обманула меня. И только потом я понял, откуда это состояние. Не было со мной моих друзей, и не с кем было поделиться радостью.
За годы армии, работы на заводе я истосковался по учебе и с жадностью накинулся на книги. Главный политический институт страны в основном объединял молодежь, неудержимо рвущуюся сделать карьеру, занять высшую ступеньку на служебной лестнице. Надо отдать должное: поставив цель, студенты упорно шли к ее осуществлению. МГИМО давал возможность официально жить за границей, и это был один из самых коротких путей наверх. Неудивительно, что здесь учились дети, внуки, близкие родственники представителей партийной элиты. Внук Громыко, внук Брежнева, сын Щелокова – белая кость. Учились также дети партийных верхов социалистических государств, союзных республик, секретарей обкомов и крайкомов, генералитета.
И конечно же на каждом курсе сразу же образовывалось ядро «золотой молодежи»; многие бежали к ним на поклон, перед ними заискивали, старались подружиться с отпрыском могучей фамилии, обреченным на успех при распределении. Впрочем, многие из этой «золотой молодежи» были вполне приличными, нормальными ребятами, со своими недостатками (а у кого их нет?), со своими плюсами и минусами. Бежали кланяться, угодить, оказать услугу. А чему удивляться? Раболепие в нашей стране культивировалось с самого рождения. Официально это называлось «предан делу партии и правительства и лично…». Лично – ценилось выше. И не каждого допускали к этому сладкому и сытному – Лично Самому.
На второй или третий день занятий я услышал разговор двух студентов:
– Я записался на семинары Петрова и Сидорова.
– Зачем?
– Ну как же, Петров – секретарь парторганизации, а Сидоров – председатель комиссии по распределению. Уже пару раз на семинаре выступил. Пусть запомнят меня. Примелькаться надо, понимаешь? В память запасть.
– А вот я с внуком Брежнева познакомился.
Первый завистливо присвистнул. Познакомиться с внуком Брежнева или Громыко – это означало выиграть миллион долларов, а может, и больше.
– Познакомишь? – В голосе и зависть, и мольба, и надежда – все вместе.
Да, было и такое. В главном политическом институте страны учились самые перспективные особи социализма. Такие будут исполнять приказы не задумываясь. Рвать на себе рубаху, стучать кулаком по трибуне, требуя смерти всех, неугодных Хозяину. Много раз я слышал о МГИМО как о блатном институте, но, воспитанный в провинциальном городе, к слухам этим относился недоверчиво. И вот – подтверждалось.
«Черт подери, и вот с такими мне придется пять лет жить бок о бок», – подумал я. И, еще не успев очароваться институтом, я начал в нем разочаровываться. Хотя чему было удивляться? Это была нормальная генерация социализма, и даже далеко не худшая. Разве в других институтах таких не было? Одни пили водку и садились в тюрьмы, другие делали карьеру, третьи плыли по течению. Нормальное поколение детей Павликов Морозовых и Нагульновых.
Надо отдать должное, знания в МГИМО давали крепкие. Я не лез с дружбой к детям высокопоставленных, не искал лазейки сделать быструю карьеру, шел в общем среднем потоке.
Лекции, семинары, консультации. Многие исторические события предстали передо мной в новом, неожиданном ракурсе. История тайной дипломатии, политический, экономический анализ стран, углубленное изучение культуры, быта, обычаев, религии. Лингафонные кабинеты, психология поведения, искусство общения, история политических движений и переворотов и многое, многое другое. Все это было для меня, провинциала, открытием. Я удивлялся тонкостям дипломатической игры, поражался хитросплетению интриг, вникал в скрытый для глаз механизм политических шагов. Для меня открывались тайные пружины, управляющие государством и миром.
Сырьевой потенциал страны, промышленный, научный, выгодное географическое расположение, наличие морских портов, железных дорог, автомобильных трасс – все становилось скрытым предметом политической и дипломатической войны, конечная цель которой – мировое господство.
Осознание этого пришло не сразу. По мере накопления знаний менялись и мои взгляды. Со временем я начал все больше и больше убеждаться, что политика – грязное дело. Вся история политики строится на тотальном обмане, хитрости, праве сильного. Хотя были и исключения.
За три столетия до рождения Христа великий индийский царь Ашока одержал военную победу над противником. Однако страшное кровопролитие побудило его в корне изменить свое сознание. С этого времени он отвергает войну и прокладывает дорогу к миру. Сохранились высеченные на камне и металле послания Ашоки к своему народу и грядущим поколениям, где царь говорит о своем раскаянии и отвращении к войне. «Единственной победой, – говорит он, – является победа над самим собой и завоевание людских сердец с помощью закона, долга и благочестия».
Он заключает мир с соседями и с далекими царствами, руководствуясь великим законом Будды – ненасилия, непринуждения, религиозной терпимости. Вся страна покрывается сетью больниц и садов, колодцев и дорог. В третьем веке до нашей эры царь Ашока открывает четыре университета, и студенты из ближних и дальних стран едут в его страну на учебу.
Ашока открывает специальные учебные заведения для женщин. Запрещается жертвоприношение животных. С Ашоки начинается распространение по миру вегетарианства. Особый указ Ашока издает о лечении и заботе о животных как о братьях наших меньших. За тридцать шесть лет правления Ашоки Индия совершила невиданный духовный взлет. Писатель-фантаст Герберт Дж. Уэллс пишет: «Среди тысяч имен монархов, заполняющих страницы истории, их величеств, их светлостей, королевских высочеств и тому подобных имя Ашоки светит почти как одинокая звезда».
Был еще великий Махатма Ганди, который через много веков поднял духовное знамя Ашоки, и его борьба за освобождение Индии против владычества Англии путем отказа от насилия могла бы послужить примером для стран и народов. Его учение могло бы обогатить мир, поднять Человечество на новую ступень развития. Могло бы. Но Человечество не захотело развиваться духовно, оно предпочло материальные блага.
Так что исключения были, но они лишь подтверждают правило: из уроков истории человечество извлекает слишком мало уроков.
В те годы я думал: может быть, учения Будды, Христа, Магомета, великих святых – все это вырванные и разбросанные по миру главы одной Великой книги «Морального закона Человечества»? Может быть, наступит время, когда эти главы будут сведены воедино и мы наконец-то поймем, что Бог един и этот Бог – Моральный закон.
Некоторые ученые утверждают, что человечество пошло не по тому пути развития. Наш путь цивилизации – это тупиковый путь. Произошел резкий дисбаланс технических достижений и духовного развития. Космическо-ядерная эпоха началась не с атомных электростанций, а с испытания на людях атомной бомбы. Планета подошла к роковой черте. Когда мне говорят о прочности мира, о надежности армии, о кристальной честности наших дипломатов, я не очень-то верю. Я видел, как, обкурившись наркотиками, солдаты заступали на вахту, а рядом с ними была пусковая ракетная кнопка. Я видел офицеров, отдающих приказы с крутого похмелья. И эти приказы приводились в исполнение: ведь в армии приказы не обсуждаются. Я видел будущих дипломатов, готовых ради карьеры на все. А тот солдат, мой однополчанин, доведенный дедовщиной до отчаяния? Если он готов был убить обидчика, а потом будь что будет! Что ему-то терять? Какая ему разница: жать на спуск или на ракетную кнопку? Или другой солдат, которого не дождалась невеста. Он мечтал шарахнуть снарядом по городу, где жила изменница. Нет морального закона – и значит, все можно. Все разрешено.
«Кирсан, хочешь быть стукачем?»
В студенческие годы многие в нашем институте выводили теорию успеха, просчитывая будущее, раскладывая пасьянсы карьеры: во сколько лет станут референтами, советниками, послами… Сладкое обаяние карьеры, завораживающий блеск могущества власти, принадлежности к высшему кругу империи – белой кости – все это было близко, рядом. Диплом МГИМО, как никакого другого института, давал для этого выгоднейшую стартовую позицию.
На пятом курсе стремление сделать карьеру для многих стало навязчивой идеей. Я относился к этому спокойно. Сделать карьеру – это нормальное желание. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Предложи любому из нас положение, власть, деньги, славу – я думаю, мало кто откажется. Тот, кто будет утверждать обратное, – лицемер или идиот. Все дело в выборе средств!
И здесь снова вступает в силу моральный закон. Или – или. Или: все дозволено и цель оправдывает средства, или: не предавай, не доноси, не раболепствуй.
В те годы уже оформилась и прочно укрепилась в жизни новая популяция молодых, двадцатилетних – умных, образованных, напористых, – которые легко и просто перешагнули, отбросили прочь понятия совести, чести, дружбы и даже кровного родства.
Они готовились прорваться к власти, захватить ключевые посты и лет через десять – пятнадцать безраздельно управлять государством. Тогда их идеи мне казались бредовыми, мальчишескими, да и сами эти новомасонские ложи и тайные общества выглядели детскими играми задержавшихся в своем развитии взрослых людей. Тогда… Где сейчас эти ребята? Прорвались к власти?
Большинство сторонилось таких обществ. Ходили слухи, что они организованы спецотделом КГБ, чтобы выявить пассивных диссидентов. Я тогда еще не знал, что каждый студент МГИМО автоматически попадает в поле зрения спецотдела госбезопасности. И что на каждом курсе два-три студента ежемесячно пишут отчеты для сотрудников с площади Дзержинского. И что даже мое, казалось бы, невинное увлечение хиромантией, графологией, аномальными явлениями станет предметом внимательного изучения госбезопасностью.
Студентам МГИМО были доступны многие журналы и газеты, издававшиеся на Западе. Серия статей об НЛО, о взаимосвязи почерка и характера, об ощущениях людей, побывавших в состоянии клинической смерти, об ясновидении и биоэнергетике увлекла меня, и я с головой ушел в изучение этих загадочных явлений. Вечерами я переводил статьи, заметки – то, что мог отыскать в иностранной печати, утром бежал на занятия в институт.
Это не значит, что я сутки напролет просиживал над книгами и как пай-мальчик тщательно записывал лекции, не опаздывал, не пропускал занятий. Я был нормальным советским студентом, бегал на танцы, мог за один вечер угрохать стипендию в кафе или ресторане, красуясь перед девчонкой, а потом месяц сидеть на хлебе и воде. Во мне бурлила энергия, и по венам, будоража, несся поток молодости. За очень короткое время я приобрел массу друзей, и Москва уже не казалась мне холодной, отторгающей меня столицей. Я вписался в этот противоречивый, сумасшедший, красивый, неожиданный город, вошел в его крутой и четкий ритм. Меня хватало на все: на учебу, на танцы, на театры, на общение с друзьями. Именно там, в МГИМО, стало доступным своими глазами увидеть мир. Ребята разъезжались на практику в разные страны, делились впечатлениями, и никакая многослойная пропаганда уже не могла заглушить вопроса: почему, почему у нас так плохо?
Вот, казалось бы, одна страна, одни корни и религия, один народ: Северная и Южная Корея, Западная и Восточная Германия, Китай и Тайвань, Южный и Северный Вьетнам – и какой резкий перепад в уровне жизни. Где ошибка? В чем просчет системы?
Я сидел над трудами Маркса, Энгельса, Ленина, я читал их не для экзаменов, мне хотелось понять: в чем оказались не правы теоретики коммунизма? В равенстве? Братстве? В уничтожении частной собственности? А может, все дело в том, что человечество еще не готово ни морально, ни экономически к построению коммунизма?
В то время в элитарных кругах студентов было модно с легкой насмешкой и чувством превосходства говорить о рабочем классе, крестьянстве, Ленине, Марксе, коммунизме. Я спорил с теми, кто так говорил. Я возражал: нельзя зачеркивать все огульно. Почитайте труды марксистов – там много поучительного. Многое мы исказили, испохабили. Но мы должны принять их частичную правду.
– Кирсан, – отвечали они. – Ты испорчен пионерско-комсомольским прошлым.
Эта наша вечная российская категоричность – или все хорошо, или все плохо – меня не устраивала.
– Нельзя решать вот так, кавалерийским наскоком. Давайте отделять зерна от плевел, – настаивал я. – Нельзя отрицать факт, что миллионы искренне верят в коммунизм.
– Миллионы болванов. Ницше про таких говорил: масса, толпа, сволочь. Они отупели от этой жизни. Им ничего, кроме колбасы и водки, не нужно. Марксизм – это стадное чувство нищеты. Неудачники, бездельники, тупицы сбиваются в стадо, в банду, потому что каждый в отдельности выжить не может. Ни решительности, ни ума, ни энергии. Умный, решительный, энергичный человек – это всегда одиночка. Их мало, но именно они двигают историю. А коммунизм – это Библия рабов, животного стада.
Я не считал массу стадом. Поработав на заводе, отслужив в армии, я видел и чувствовал в народе глухое недовольство, сопротивление.
Оно выплескивалось в пьянки, драки, мат, отчуждение. Но это только на первый взгляд. Народ в России издавна привык прикидываться дурачком. Это была мера защиты от властей. Вот, мол, я дурачок, что с меня взять?
Я видел многих, особенно молодых, которые искали выхода, жаждали деятельности, и эта часть впоследствии ринулась в кооперативное движение, брала рискованные кредиты, закладывала квартиры, мебель, сутками моталась по нашим ухабистым дорогам, прогорала и поднималась, постигая незнакомую, сложную науку бизнеса. И эту часть народа никак нельзя было отнести к массе, к толпе.
Конспектируя труды Ленина, я понял: идеи извращены, вывернуты наизнанку. Часть трудов того же Ленина, Маркса не опубликована, закрыта в спецхранах. Судьба их и после перестройки неизвестна. Дозированная правда – это и есть политика. Что знаем мы, например, о Ленине? Что узнала Мариэтта Шагинян, допущенная в секретные архивы ЦК, когда готовила книгу о Ленине к 50-летию Советской власти? Что вообще мы знаем о своем государстве? Какую часть из заработанных нами денег мы получаем на руки? Во сколько нам обходится КГБ, ЦК, Совмин? Нужен ли Комитет по ценам? Вопросы вставали один за другим. Ответов я не находил ни в книгах, ни на лекциях, ни в студенческих спорах. Потом, когда меня обвинят в шпионаже, КГБ поставит эти споры мне в вину.
Наступил 1988-й, памятный для меня год. Казалось, ничто не предвещало беды. Помню, в тот год в одном из писем мама высказывала опасение: «Сынок, все вроде бы идет у тебя хорошо, но почему-то беспокоюсь и беспокоюсь. Места себе не нахожу. Будь осторожен, пожалуйста…»
Прочитав эти строки, я усмехнулся. Обычные родительские тревоги. Что может со мной случиться? Учеба идет хорошо, мне пророчат большое будущее. Друзья, молодость, Москва, великолепные перспективы.
Промелькнула брежневская эпоха, Андропова сменил Черненко, но не надолго, наконец Генеральным секретарем партии избрали молодого, энергичного Горбачева. Слово «перестройка» облетело весь мир. СССР стал державой, находящейся в центре пристального внимания. В стране начинались перемены, от которых захватывало дух. Великая держава словно опьянела от свежего воздуха. Впервые за много лет люди начали интересоваться политикой. Они собирались кучками на улицах, площадях, у метро – спорили, доказывали, выдвигали теории. Перед самыми энергичными, предприимчивыми открывались невиданные перспективы, и они устремились в эту брешь, получая сумасшедшие доходы, фантастические проценты.
Для некоторых студентов МГИМО перестройка оказалась ударом ниже пояса. Обесценивались хваленые дипломы элитарных вузов: людей начинали ценить не по диплому, не по родственным связям, а по деловым качествам. Становился практически свободным выезд за границу. Карьерные соображения утратили былое могущество. Сокращались вакансии за рубежом. Да и любой кооперативщик уже получал в десять, в сто раз больше. Это не укладывалось в сознании, вызывало протест. В такой обстановке ожесточилась конкурентная борьба между выпускниками.
В те годы я не ставил перед собой далеко идущих целей: стать послом или членом ЦК, как это делали многие из ребят. Жизнь круто менялась, менялись и ориентиры, и я отчетливо понимал: строить планы в такой обстановке нереально.
– Как ты думаешь, Кирсан, чем все это обернется? Во что выльется? – спрашивали меня. В общежитии, как и везде, шли постоянные споры о перспективах страны, общества.
Я пожимал плечами. Чтобы что-то доказывать, утверждать, нужны были факты. А фактов было слишком мало.
– Ты или слишком наивный, или слишком хитрый. Одно из двух, – сказал однажды сокурсник, подозрительно ощупывая меня взглядом.
Я послал его к черту. Честно говоря, эти споры уже начинали надоедать. Часами перемалывать одно и то же – скучно. Я привык к действию и все эти разговоры считал пустой тратой времени.
Мы сидели в компании. Был мой день рождения. Как водится, все немного выпили. Кто-то подал идею сфотографироваться на память. Мы, дурачась, стали позировать перед объективом.
– Кирсан, ближе к натюрморту. – Передо мной появляется бутылка «Сибирской», коньяк, что-то еще. – Нацепи закусь на вилку, Кирсан.
Мы смеемся. Нам весело.
– Замри! Еще раз! Готово!
В двадцать с лишним лет не очень-то верится в возможную подлость своих друзей, не хочется верить в предательство и обман. Это обрушивается на тебя всегда вдруг, неожиданно, и ты с удивлением думаешь: как же так? Не может быть!
Мы безоружны и неподготовлены. Первый допрос в Комитете госбезопасности ошеломил меня. Я долго не мог поверить, что это всерьез, что это не шутка. Мне казалось, что вот сейчас лейтенант рассмеется, хлопнет по плечу и скажет:
– Ну как, Кирсан, здорово мы тебя разыграли?
Но лейтенант был серьезен. И тогда я вдруг почувствовал, как вся мощная, хорошо отлаженная сыскная система наваливается на меня. Я казался себе маленьким, жалким, беззащитным перед этой громадной, безжалостной и бездушной махиной. И все, что я когда-то говорил, делал, самые невинные факты моей биографии приобретали в руках следователя совершенно противоположное, гибельное для меня значение. И дружба с сыном Бабрака Кармаля, и шахматные партии с послами иностранных государств, и посещение ресторанов, и даже то, что я был членом партбюро института, – все это подавалось как хитроумно разработанный афгано-иранской разведкой план. Меня же самого обвиняли в шпионаже по двадцати восьми пунктам. В те дни я понял: любой из нас беззащитен перед государственной машиной сыска, абсолютно любой.
Один психолог говорил мне: есть два типа обвинений, которые опровергнуть невозможно. Обвинение в том, что ты стукач, и обвинение в том, что ты болен венерической болезнью. Любая попытка оправдаться приносит обратный эффект. Однако эти обвинения выглядят детским лепетом по сравнению с предъявленным мне обвинением в шпионаже.
– Это ты? – Следователь кладет передо мной серию фотографий, снятых в день рождения. – А это?
На фото я сажусь в машину с иностранным номером. А вот еще фотографии. И еще.
– Сколько бутылок водки в день ты выпиваешь?
– Ну рюмку. Ну две. И то по праздникам.
– Сколько человеку нужно выпить водки, чтобы опьянеть?
Я пожимаю плечами. Откуда мне знать? Одному и стакан выше крыши, а другой всю бутылку засадит – и ни в одном глазу.
– Вот здесь, – лейтенант тыкает в фотографию, – бутылка «Сибирской» почти пуста. А емкость ее – почти литр. А пьян ты не был. Свидетели подтверждают.
– Да я, может, из нее вообще не пил. Передо мной поставили, чтобы сфотографироваться.
– И ты, без пяти минут дипломат, согласился запечатлеть себя среди груды водочных бутылок? Будучи трезвым? Ты, член партбюро Института международных отношений! Ин-те-ре-есно. – Лейтенант усмехается. Открывает папку, достает листок бумаги:
«…Илюмжинов выпил почти целую бутылку водки, но не опьянел. Перед этим я заметил, как он, отвернувшись, проглотил какие-то таблетки. Потом он пил коньяк, еще что-то, но был абсолютно трезв. Меня это насторожило. Любой нормальный человек от такой лошадиной дозы давно бы лежал на полу. Наутро был экзамен, и Илюмжинов отвечал четко, ясно, что и подтверждается оценкой «отлично». Все остальные, кто был на вечеринке, сдать экзамен не смогли из-за головной боли или получили «удовлетворительно».
Лейтенант делает паузу, выразительно смотрит на меня. Ждет.
– Какие таблетки? Чушь какая-то.
– Есть такие таблетки. Есть. Их употребляют разведчики, чтобы иметь ясную голову. – Лейтенант кладет другую фотографию. – Это они тебе дали? Зачем? С какой целью?
На снимке я играю в шахматы с сотрудником иностранного посольства.
– Никто мне ничего не давал. Вы что?
– А что общего у студента пятого курса и посла? Только не говори, что – шахматы.
– Так вот же, на фотографии видно.
– Ну да, послам делать нечего, так они со студентами в шахматы играют. Других забот нет. Так?
Я хочу что-то сказать, но лейтенант перебивает:
– Только учти, здесь не дураки сидят. Я тебя насквозь вижу. Мы и не таких раскалываем. Так что хватит в дурочку играть, выкладывай.
– Что?
– Контрабанда, валютные операции, ну и как родину предал. Кому, за сколько, когда. Где прошел спецподготовку…
– Нигде.
– Та-ак. – Лейтенант делает паузу. – Родители были в ссылке?
– Были.
– Не обидно? За родителей…
– Вы куда клоните?
– Отвечай на вопрос!
«Отвечай! Отвечай!» – резкие, словно выстрелы в тишине, окрики я помню до сих пор.
Внутри меня все сжалось, готово к сопротивлению. Во мне закипает медленная ярость, и тогда приходит неожиданно ясность мысли. Я концентрируюсь, собираю в кулак волю, как это бывает всегда в минуту опасности. Мозг начинает работать как компьютер.
Мне дают время подумать, отводят в какую-то комнату без окон, закрывают на ключ.
Под потолком яркая лампа. Стол. Стул. Четыре стены. На столе бумага с карандашом. Щелкает замок. Я один. Погасшая бездонная тишина.
Со всех сторон сразу набегают мысли. Они разные – раздерганные, тревожные, рваные. Кто написал на меня донос? Зачем? За что?
Я приказываю себе успокоиться. Кто написал на меня и зачем – сейчас это не важно. Надо думать о другом, не отвлекаться.
Я сажусь за стол. Ишь ты, и бумагу уже с карандашом загодя приготовили. Психологи! Садись и пиши, никто не отвлечет.
Я прокручиваю в голове разговор с лейтенантом. Запоздало приходят логичные, умные ответы на его вопросы.
Я ловлю себя на мысли, что за эти короткие, но емкие два часа внутри меня вдруг произошла переоценка ценностей. Институт, дипломатическая служба, далекие страны – все эти красивые мечты утратили свою ценность перед лицом надвигающейся на меня катастрофы. И еще: сидя запертым в этой полукамере КГБ, я впервые в жизни вдруг ощутил, какое это счастье – просто идти по городу, видеть потоки машин, сидеть на скамейке, смотреть на небо.
Я немного успокаиваюсь и начинаю ясно понимать весь идиотизм моего положения. Как доказать собственную невиновность? Чем аргументировать? И можно ли что-нибудь доказать, если тебя не хотят слушать? Лейтенант уже заранее все решил, составил мнение, и все эти допросы – просто чистая формальность.
Вот так человек попадает в приводной ремень, машина начинает работать, и человек уже бессилен что-либо сделать, защитить себя. Государственная машина его перемелет, коли попал в мясорубку. Кому-то я очень помешал в институте, и пошел донос в КГБ. Заводится «дело». Оно попадает к лейтенанту, которому очень хочется стать капитаном. И если историю с будущим дипломатом, завербованным иностранной разведкой, подать под определенным ракурсом – звездочка на погон обеспечена. Я для них – просто ступенька для достижения цели. Вот почему лейтенанту невыгодно мне верить.
Бабушка рассказывала, как они в Сибири ходили раз в две недели отмечаться в комендатуру НКВД. При сорокаградусном морозе, пешком за десять – пятнадцать километров. Не отметишься – будешь считаться в бегах. Вот и шли, и везли с собой больных и умирающих на санках – их тоже нужно было отмечать. И мертвых везли – чтобы справку дали, что умер, не сбежал. Так и ходили каждые пятнадцать дней… И волки об этом уже знали, выбегали из тайги и скапливались к этому времени у таежных троп, поджидая добычу. Ни ружья, ни топора, ни даже ножа с собой не возьмешь – врагу народа не положено. Тем более когда идешь в НКВД. Найдут нож – конец: покушение на сотрудника НКВД. Страшно идти, а идти надо. И шли. И стояли часами на морозе перед зданием, ожидая оперуполномоченного, пока он соизволит освободиться. И снова в путь, уже обратный, ночью через тайгу, через волчий коридор.
«Не знаю» – это два слова, а «знаю» – это много-много слов», – часто повторяла бабушка. Это после допросов в НКВД такая формула у калмыков выработалась.
Нет, не время сейчас вспоминать об этом. Надо отсечь тревоги. Я закрываю глаза, отыскиваю в глубинах памяти картины степного простора. Я чувствую – эта закрытая камера давит на меня, разрушает волю. Она напоминает каменный гроб. Надо вспомнить ковыль, жаворонков, тюльпаны. Я сижу с закрытыми глазами и почти физически ощущаю могучую силу степи, густой и терпкий настой трав, рубленый свист сусликов. Я вижу сочащуюся огненным жаром красную толщу солнца. И уже вроде бы не к месту и не ко времени, а вот отыскался, вынырнул из великого множества совсем уж незначительный и неяркий случай, притушив все остальные…
Лет шесть назад заблудились мы с ребятами на машине в степи. Ни дорог, ни тропинок. Кружим. Бензин на ноле. Жара.
И вот вдали, на ломаной линии горизонта, углядел кто-то из нас едва различимые черные точки. Развернули машину, поехали. Оказалось – два чабана встретились в бескрайней степи и сели играть в шахматы. В бесконечном пространстве два маленьких живых существа низко-низко склонились над землей и играют. Шахматная доска величиной с ладонь, фигуры – едва различимы. Два чабана властвовали и распоряжались судьбами этих маленьких фигур в бесконечно сложном мире черно-белых шахматных клеток. Не так ли судьба, склонившись над миром, управляет каждым из нас? И почему-то вспомнилась мне тогда калмыцкая мудрость: «Бесконечность души равна бесконечности космоса…»
Это воспоминание вселяет в меня спокойствие.
«Книга судьбы уже написана. Все, что должно случиться, – случится. Ты не властен уничтожить ситуацию. Тебе дано только право выбора. КГБ, допросы, четыре стены, разъедающий душу нервозный страх в крови – все это пройдет со временем, кончится, забудется. Но сейчас ты должен выдержать, – говорю я себе. – Твоя партия еще не сыграна».
Сейчас, по прошествии пяти лет, вспоминая эту историю, я часто задаю себе вопрос: неужели КГБ действительно поверил, что я афгано-иранский шпион? И не могу дать ответа. Наше сознание настолько глубоко было пропитано шпиономанией, что лейтенант вполне мог поверить.
В детские годы мне казалось, что там, на Западе, все до одного только и думают, как бы пробраться в СССР и взорвать завод, отравить реки и колодцы, пустить под откос поезд. Нас так воспитывали с детства, нас пичкали такой информацией через кино, книги, статьи. В нас воспитывали ненависть к живущим лучше, спокойнее и свободнее нас, будили злобное, звериное чувство зависти. Тот, кто живет лучше меня, – враг или вор. Вот он, извращенный лозунг равенства и братства. Если я дурак, то и все должны быть дураки. Кто умный – тот враг. Я не работаю, не хочу – и ты не работай. Равенство.
Когда-то раздробленную, раздавленную Русь объединила великая религиозная идея, и Русь стала великой державой. Гитлер объединил Германию идеей национальной исключительности, национального эгоизма. Но, как говорят в народе, не кичись силой, всегда найдутся сильнее тебя. Что объединит нас теперь? Зависть? Исключительность? Но это – силы неуправляемые, бешеные. И они погубят того, кто их взрастил и выпустил.
Пять лет назад я не мучил себя этими вопросами. Тогда они для меня и не вставали во весь гигантский рост. Тогда еще только нащупывались нити разрозненных звеньев.
Допросы, допросы, допросы. Лейтенант буквально впился в меня мертвой хваткой. Он требует адреса друзей, знакомых. Запугивает, грозит. Как ему хочется заработать звездочку, как хочется раскрутить громкое «дело»! А вдруг получится? Вдруг Кирсан в запале или в испуге ляпнет что-нибудь такое, из чего можно сварганить крепкое «дело», взять на крючок. Он до изнеможения терзает меня вопросами: что, где, когда, с кем?
Может быть, по молодости или по наивной вере, что правда всегда торжествует, я упирался, не соглашался, возражал. Я не оправдывался, а доказывал, нападал. И чем больше он давил, тем сильнее я сопротивлялся. Наверное, вот эта святая вера в справедливость и спасла меня тогда. Если бы не верил – может быть, и сломался. Именно эта вера стала точкой отсчета моего сопротивления. И пошло: характер на характер. За ним – вся мощь аппарата, но и мне терять-то было нечего, меня загнали в угол. Наверное, еще с детства, с тех уличных драк во мне выработалась способность к сопротивлению насилию. Я не мог уступить лейтенанту. Кажется, лейтенант меня недооценил. Где-то ко второму, третьему допросу я его уже просчитал и предвидел многие вопросы, которые он мне задаст. Тактика его была проста: запугать, чтобы я от страха перестал соображать, и тогда можно будет выдавливать из меня все что угодно. Я буду закладывать друзей, знакомых, клеветать, выкручиваться.
Лейтенант поздно понял, что страха у меня нет. Я пережил его в первую встречу. Мысленно я смирился с самым худшим и успокоился. Я сказал себе: да, у меня расстрельная статья. И может случиться так, что меня расстреляют. Но все мы смертны, и смерть рано или поздно приходит к человеку. Моя судьба уже написана небом, и пусть случится то, что должно случиться.
Я всем сердцем уверовал в это и успокоился. Страх ушел. Я начал бороться. Никаких записей у меня не было, память у меня была великолепная, все запоминал. Поэтому КГБ не нашел ни моих записных книжек с телефонами и адресами, ни дневников – ничего. Зацепиться было не за что. Я не назвал ни одного адреса, ни одного имени: зачем впутывать в это дело друзей?
Через несколько дней лейтенант понял, что его расчет на страх ничего не даст, и изменил тактику. Меня выпустили под расписку о невыезде, предупредив, что вскоре вызовут снова. Так повторялось несколько раз: выпускали, вызывали, держали несколько дней взаперти и снова выпускали. И допрашивали, допрашивали, допрашивали.
После первого же допроса на Лубянке многие институтские друзья резко порвали со мной отношения, шарахнулись, как от чумного.
Я иду по коридору общежития МГИМО. Меня только что выпустили, я дышу сладким воздухом свободы, я готов обнять всех. Я улыбаюсь.
– Привет, Игорь! – кричу я радостно и обжигаюсь о холодный, невидящий взгляд.
– Молодой человек, я вас не знаю.
Передо мной захлопывается дверь. Та самая, где мне всегда были рады, куда меня приглашали, зазывали. И начинается новый этап моей жизни: от-чуж-де-ние.
Кто испытывал подобное, тот знает, как обостряются в этот момент все чувства. Ты улавливаешь любой взгляд, жест за спиной. Неуловимо, нутром догадываешься, как погаснут разговоры, едва ты приблизишься к группе бывших друзей. Ты становишься неприкасаемым. Вокруг тебя – мертвая зона.
Я захожу в столовую, становлюсь в очередь и кожей чувствую на себе взгляды: любопытные, настороженные. Я поворачиваюсь к сидящим за столиками, и разговоры стихают. Все эти жующие, пьющие, глотающие отводят глаза. Я – афгано-иранский шпион. Знакомство со мной чревато серьезными последствиями. На мне каинова печать.
Меня снова вызывают на Лубянку. Неприятный холодок бежит между лопатками. Институтское начальство уже все знает. Мои объяснения в ректорате и в партбюро ничего не дают. Кто же попрет против всесильного КГБ? Меня исключают из партии, из института. Круг знакомых тает на глазах. Я вычеркнут из жизни. Я – отработанный материал.
Так было. Я прошел через это. Но отвернулись не все. Были друзья, были. Не испугались. И низкий поклон им.
Друзья советуют мне исчезнуть из Москвы. С Москвой покончено, с ней меня связывает одна лишь временная прописка – до конца учебного года. Единственная зацепка. Маленькая, едва уловимая, но зацепка. Друзья разводят руками. Они писали письма в разные инстанции, ходатайствовали за меня. Тщетно. Друзья не видят другого выхода.
– Бороться против системы, против КГБ, Министерства иностранных дел, ЦК КПСС?
Ты с ума сошел, Кирсан! – убеждают они меня. – Уезжай, пока не поздно. Иначе раздавят. Как комара, прихлопнут.
В народе говорят: «Если потерял друга – это беда. Если потерял родителей – горе. Но если ты потерял мужество – ты потерял все». Я решил драться до конца. Иного выхода я не видел. И я не уехал.
– Кирсан, ты самоубийца, – сказал мне друг, разводя руками.
И снова – повестки, допросы в КГБ. Удивленные взгляды бывших друзей: как, ты еще на свободе? Тебя не расстреляли?
– Может быть, ты и не шпион, – говорит мне лейтенант. – Но ты попал в нашу машину, а выход из нее один.
– Какой?
– Мы можем тебе помочь, если докажешь преданность стране.
– В Афганистан ехать, что ли?
– Ну зачем же в Афганистан? Можно и здесь помогать. – И лейтенант начинает говорить о коварстве иностранных разведок, о нестойкости молодежи, о долге. Я уже понимаю, к чему он клонит. Лейтенант как-то особенно ловко вворачивает, что от просьб КГБ не принято отказываться. – Кстати, мы считаем преждевременным твое исключение из института, из партии. Вечно они там перегибают палку.
Лейтенант делает паузу. Выразительно смотрит на меня. Ждет.
– Для этого мне что-то нужно подписать, да? – спрашиваю я.
– Заявление. – Лейтенант кладет передо мной бумагу, ручку.
– Заявление, – вслух репетирую я. – Прошу принять меня в стукачи. Так? Да? Я правильно понял?
– Ну что за слова? – Лейтенант морщится. – Ты же дипломат.
– Но не стукач. – Я отодвигаю пальцем бумагу: осторожно, бережно.
Кадык лейтенанта дергается. Молчим.
– А мы бы могли тебе помочь, – наконец нарушает он тишину.
– Да что у вас, стукачей мало, что ли?
Мне становится легко и свободно. Теперь уже все. Я сделал этот шаг. Теперь будь что будет. И все-таки где-то там, внутри, мелко-мелко еще дрожит остаток страха. Противно, мелко дрожит.
– Скоро ты сам к нам придешь. Мне почему-то так кажется, – говорит гебист.
Он не сомневается. Он уверен, что приду…
Яркий свет солнца. Запах гари – сладкий, радостный. Шум машин, города. Кажется, я не слышал этого много лет. Свобода. Свобода от сомнений, переживаний. Я сделал этот шаг. Я выдержал.
Много лет спустя, в Таджикистане, один аксакал скажет мне: «Сынок, ты получил такой удар, который не всякий пятидесятилетний мужчина сможет выдержать. Велик народ, который рожает таких сыновей».
Так было сказано таджикским мудрецом про мой народ: великий народ.
Временная прописка давала мне возможность еще некоторое время жить в Москве официально. Несколько месяцев. Потом надо было уезжать. Я отчетливо сознавал, что вежливая угроза лейтенанта – не пустой звук. Теперь, когда я «под колпаком», меня могут забрать за тунеядство, за нарушение паспортного режима, за то, что неправильно перешел улицу, подослать хулиганов. Да мало ли что! Методов, чтобы проучить непокорного, было достаточно. Оставалось несколько месяцев до истечения срока прописки, и я решил эти дни использовать для дальнейшей борьбы. Успокаиваться было нельзя. Так просто сдаваться, бежать с поля боя я не хотел.
Наивно полагать, что я тогда смог бы добиться справедливости. Меня наверняка раздавили бы, сломали, растерли в порошок – и не таких хоронили заживо. Мне повезло. Перестройка в стране набирала силу. Все громче звучали слова: «гласность», «демократия». Люди заговорили во весь голос. Колесо правосудия со ржавым скрипом медленно начало вращаться не по произволу вышестоящих, а по часовой стрелке Истории. Появилась реальная возможность защищаться.
Восемь месяцев разбирательств, писем, ходатайств, отказов, хождений по инстанциям. Длительная, изнурительная борьба, тяжелая победа. Надежды, разочарования, снова надежды.
Многому меня научили эти месяцы. Блуждая по бесчисленным коридорам власти, я впервые задумался: сколько же лишних, совершенно ненужных должностей у нас в стране. Эти чиновники сидели в креслах, но ничего не решали. Они только готовили мнения, проекты, резолюции. Бегали курьеры, звонили телефоны, подкатывали к подъездам «членовозы», из их глубоких утроб показывались хмурые начальственные лица, придавленные сознанием собственной значимости. Они величественно вносили свои тела в огромные кабинеты, садились в кресла и не решали ничего. Ждали указаний. А в коридорах суетились, дергались, нервничали и потели просители. «Вот потому люди и бегут из этой страны, – думалось мне. – От всего этого мрака. Нет, лучше сдохнуть под забором, чем вот так прогибаться, ползать на брюхе перед ними».
Друзья советовали мне:
– Нажимай на то, что ты представитель малого народа. Покайся немного. Это правила игры. Плевать, время все спишет.
Не спишет. Ничто не исчезает бесследно в этом мире. Калмыки говорят: «Вареное мясо сырым не сделаешь». В чем я должен был каяться? И почему я должен каяться? Я не принимаю эти правила, не играю в эти игры. К черту!
Победить всемогущее чиновничество казалось немыслимым. Глядя на всю эту государственную гигантскую неповоротливую махину, только диву даешься: как при таком положении еще может существовать государство? Оставалось только восхищаться нашей живучестью. Мы жили не благодаря, а вопреки всем запретам, постановлениям, направлениям и историческим решениям государства.
Я становлюсь миллионером
В стране происходила революция. Революция сознания. Рассыпался в прах лагерь социализма, вернулся из горьковской ссылки академик Сахаров, воссоединялись Восточная и Западная Германии. Горбачев стал самым популярным человеком планеты. В стране набирало темпы кооперативное движение. Необъятный, нескончаемый рынок сбыта открывался перед деловым миром.
Обыватель был растерян, оглушен, вырван из семидесятилетней спячки. Непонятные, неведомые доселе слова заполонили газеты, звучали по радио, телевидению: консалтинг, предоплата, посреднические услуги, ипотечный, клиринг… В стране рабочих и крестьян появился новый класс – частных собственников, бизнесменов.
Это были отчаянные, рисковые люди огромной энергии и силы воли, истосковавшиеся по настоящему делу. Они ринулись в брешь, пробитую перестройкой. Строители, врачи, ученые, инженеры, рабочие – кого только не было в этой первой волне российских бизнесменов. Невероятные сделки, сумасшедшие проценты, первые миллионные состояния, почти неизбежные разорения и снова концентрация энергии, воли, новый риск, новые победы.
Все было внове. На ходу постигали азы бизнеса, учились на своих ошибках. Первые переговоры с иностранными партнерами, первые зарубежные контракты, поездки за границу.
К тому времени я был восстановлен в институте, получил диплом и напряженно размышлял: куда идти работать? После всех мытарств с восстановлением, хождением по коридорам власти я еще раз убедился, что старая государственная система прогнила, она не работает, она обречена. Злобы и обиды на бывших друзей, на институт, на госбезопасность я не испытывал. Живя за колючей проволокой социализма, нельзя требовать от его крепостных честности, принципиальности, порядочности. Но и работать на эту систему желания не было. Я чувствовал, что будущее за нарождающимся в стране новым классом. Там – свобода. Там нет ежемесячных партийных и профсоюзных собраний, телефонного права и указаний свыше, не нужно протирать штаны от девяти до шести, там нужно действовать, решать, брать на себя ответственность, идти на риск. Меня неудержимо тянуло туда – в этот мир настоящего дела, в мир действия. Я понял: бизнес – это не выгодные сделки, бизнес – это образ мышления, образ жизни. Это огромный мир со своими законами и правилами, чутко реагирующий на любые изменения в обществе. Мир, который мгновенно. перестраивается, меняется. Мир без границ и национальной принадлежности.
В сентябре 1989 года советско-японская фирма «Лико-радуга» объявила конкурс на замещение вакантной должности управляющего. Обязательным было высшее образование, знание английского и желательно японского языков. Это был шанс, и я решил попробовать.
Нас было двадцать четыре человека, допущенных к экзаменам.
Предварительно я позвонил домой родителям, сказал, что хочу заняться бизнесом, хочу поступить на работу в японскую фирму. Родители были в шоке.
– Ну куда тебя все время несет? Неужели нельзя спокойно работать в МИДе? Через месяц-два все эти кооперативы и иностранные фирмы прикроют, а тебя снова посадят за связь с иностранцами, – говорили родители.
Годы сталинской ссылки сказались на их поколении. Тот сибирский страх не вытравился и спустя десятилетия. Иногда я с ужасом думаю: что бы было с моим поколением, если бы Хрущев не реабилитировал калмыков, не вернул их на родину, если не стерли бы с нации клеймо врагов народа? Какими бы мы были сейчас? Отсекли бы ветвь калмыков от древа жизни и распылили бы ее по другим народам, другим странам и краям и исчезла бы эта нация в медленном костре времени?
Я сдал письменные и устные экзамены на английском и русском языках, прошел собеседование с сотрудниками фирмы и многочисленные тесты. Тест на психологическую совместимость. Тесты на реакцию в критической ситуации, на скрытые возможности, на работоспособность, специальный тест на умственный потенциал и многое другое. За каждый тест выставлялись баллы.
Такая система экзаменов отсекала возможность подтасовки, телефонного права, шпаргалок. Японцы подходили к приему новых сотрудников тщательно, взвешенно, придирчиво.
Помнится, еще лет десять назад наши психологи пытались ввести такие же тесты. На многих предприятиях проводились эксперименты. Их одобряли, о них писали в газетах. Но когда вопрос встал о тестировании руководства, эксперимент быстро свернули и больше уже не пытались возобновлять.
Встреча с господином Саватари – руководителем фирмы «Лико-радуга». Восточная, вежливая, какая-то глубинно-спокойная улыбка. Быстрый взгляд буквально вбирает мое лицо, как бы фотографирует. Саватари жестом приглашает садиться. Я чувствую, что за эти секунды внутри его срабатывает компьютер. Он оценивает меня: вид, манеры, лицо. Они физиономисты, эти японцы. Саватари поздравляет с победой в конкурсе, желает удач. Обычный разговор. Несколько минут. Саватари этого достаточно, чтобы составить свое, личное мнение. Кажется, он удовлетворен тестами и личной встречей. Все. С этой минуты я – управляющий фирмой «Лико-радуга».
Жизнь круто меняется. Я выхожу из кабинета богатым человеком. С этой минуты мои знания, способности оцениваются в пять тысяч долларов в месяц плюс сумма в рублях, плюс процент от каждой совершенной сделки. Я фантастически богат! В мгновение ока фирма решает мои бытовые проблемы. Мне выделяют двухкомнатную квартиру, машину. Никакие житейские проблемы не должны отвлекать сотрудника фирмы от работы – это закон «Лико-радуги».
Шесть лет я изучал японский язык, культуру Страны восходящего солнца, но это была теория. Теперь я работал бок о бок с японцами и жадно впитывал все, чему можно было научиться у этих неимоверно работоспособных, до предела пунктуальных людей.
Восточный мудрец однажды заметил: «Все беспорядки начинаются оттого, что люди не любят друг друга». Психологическая совместимость играла большую роль в работе фирмы. За этим постоянно следили, выделяли средства на коллективный отдых, поощряли дружбу между сотрудниками. Вежливость, доброжелательность, улыбки, поощрения. Создавалась атмосфера постоянно приподнятого, радостного настроения, и время летело неимоверно быстро, незаметно. Фирма для японца – дом. Коллектив – семья. Честь фирмы, как честь рода, – свята. Эти понятия входят в моральный кодекс фирмы, они священны для каждого сотрудника. Для каждого, начиная от Саватари и кончая уборщицей.
Я поражался тому, насколько в фирме все разумно, научно обосновано, просчитано на компьютере. Человек проводит на работе одну треть своей жизни. Вот и выходит, что работа – это дом, а сотрудники – члены одной семьи. Новый член не должен вносить нервозность, психологическое напряжение, это отражается на работе, а значит, и на прибыли. От прибыли каждый сотрудник получает процент. Чем выше прибыль, тем выше его доходы. Все крепко связано, разумно, понятно для каждого. Фирма посылает учиться, фирма гарантирует защиту каждому, кто чтит ее кодекс.
Да, многому можно было научиться, работая вместе с японцами. Только поработав в «Лико-радуге», сравнив, я понял весь ужас нашего советского производства.
Честно говоря, после шести лет учебы в институте я истосковался по работе. Здесь же были и учеба и работа – вместе. Я был счастлив. Все, что было накоплено в жизни – опыт, знания, – оказалось востребовано на этом этапе жизни. Шахматная логика, память, сила воли, дисциплина, способность спать по три-четыре часа, многочисленные друзья, разбросанные по всему Союзу и за рубежом, – все это вдруг сплавилось воедино, стало необходимым в работе.
Фирма «Лико-радуга» была дилером по продаже легковых машин: «ауди», «фольксвагенов»; покупала шкуры крупного рогатого скота; занималась переработкой сельхозпродукции; организовывала выставки-продажи картин, открывала рестораны в Москве и Японии.
Работа, работа, работа. Связи, встречи, переговоры, перелеты, переезды, постоянная нехватка времени, азарт конкурентной борьбы.
Я несусь по жизни, мелькают города, страны, вокзалы, гостиницы, аэропорты. Я собран, решителен и молод. Мне нет еще тридцати. Я подписываю счета, контракты на десятки тысяч, сотни, миллионы долларов. Я вижу, как, скрытые от чужих глаз, огромные капиталы перетекают из страны в страну, принимая облик заводов, зерна, нефти, алмазов. Я молод, мне хочется все успеть, все узнать, все сделать. Я чувствую в себе неудержимую силу.
Семь рабочих дней в неделю, восемнадцать – двадцать часов в сутки. Короткие часы сна в кресле самолета, на сиденье автомобиля. И уже не помнишь – завтракал ли, обедал ли, ел ли вообще за эти сутки. Все в тебе заведено, все в работе, и сам ты как лайнер в полете: остановишься – погибнешь.
Это ощущение, возникшее тогда, в сентябре – октябре восемьдесят девятого, не покидает меня до сих пор: остановишься – погибнешь.
За годы советской власти в нас вдолбили пренебрежительное, лживое отношение к деньгам. Помню, когда я пришел работать на завод, я стеснялся даже поинтересоваться: а сколько же я буду получать? Это считалось неприличным – сразу интересоваться зарплатой. Считалось, что советский человек работает не ради денег, а ради идеи, светлого будущего. Да и денег-то никто из нас не видел. То, что нам платили, – это были не деньги, а горе и слезы. Богатство пугало, богатый человек выглядел белой вороной среди равенства нищеты.
Работая в японской фирме, я ощутил реальную силу денег, перестал бояться цифр с шестью-семью нолями.
Еще в армии я заметил: трудно первые дни, и здесь не надо себя жалеть. Чем больше жалеешь, тем медленнее втягиваешься в ритм работы. Ломать себя, доводить до изнеможения, пока организм не привыкнет к нагрузкам, к новому темпу, и тогда приходит второе дыхание. «Debes, ergo potes» – гласит латинское выражение. «Ты должен, значит, можешь». В человеке заложен огромный запас прочности. Так распорядилась природа, и грех не воспользоваться этим резервом.
Летели дни, недели, месяцы. Я получал все большую и большую самостоятельность. Поначалу руководство фирмы контролировало мою деятельность, подстраховывало меня в крупных операциях, многоступенчатых сделках, консультировало, направляло. Но я быстро набирался опыта, и вскоре мне стали доверять самостоятельно проводить крупные сделки.
Мне повысили оклад. Я получал десять тысяч долларов в месяц плюс проценты с каждого реализованного договора. Стремительно расширялся круг деловых партнеров в СССР и за границей. В основном это были солидные фирмы с крепким капиталом.
«Лико-радуга» шла традиционным путем, опираясь на опыт прошлых лет. Для Запада, где изобилие товаров, где идет мощная борьба за рынки сбыта, за каждого покупателя, законы фирмы были хороши… Фирма традиционно нащупывала торговую нишу и пыталась туда внедриться, заполнить образовавшийся вакуум. «Лико-радуга» не шла на слишком рискованные операции, предпочитая иметь меньший, но гарантированный процент. Я же был сторонником повышенного риска. Я считал, что нужно вкладывать деньги в новые области бизнеса, рассеивать, распылять капиталы по многочисленным мелким фирмам, по разным отраслям. Тотальный дефицит, непредсказуемость российской экономики требовали иного подхода, чем у «Лико-радуги». Так мне казалось, и во многом впоследствии я оказался прав. Я видел, как мы упускаем колоссальные возможности только потому, что фирма считает, что это не ее направление, не ее сфера деятельности… Руководство фирмы получало данные со всего света. Компьютеры фиксировали, систематизировали, отбирали информацию, и она – уже очищенная, отрежиссированная – ложилась на стол руководства. Но одно дело видеть голые факты, и другое – вылетать на место событий, встречаться с людьми, разговаривать, анализировать мимолетные впечатления, случайно оброненные фразы, подмечать детали, акценты. В результате налаживались побочные деловые связи, открывались новые перспективы, на которые японская фирма смотрела осторожно, потому что здесь была высокая степень риска. Но нельзя все рассчитать по компьютеру! Нельзя заложить в машину ощущения, чутье, мельчайшие неуловимые нюансы, фактор времени, впечатления. Между тем все это создавало общую картину, являлось почвой для принятия решения. Под свою ответственность я начал заниматься этими рискованными операциями: банковскими, биржевыми. К тому времени у меня уже были свои, личные сбережения, которыми я мог рисковать, не нарушая правил фирмы.
Чувство не обмануло меня. Первые же краткосрочные вклады принесли большие прибыли. Окрыленный удачей, я начал вкладывать деньги в мощные предприятия – фабрики, заводы-гиганты, пока не понял, что эти монстры слишком неповоротливы, что они не могут мгновенно реагировать на быстро меняющуюся конъюнктуру. Поездки по разным странам, знакомства с деловыми кругами убедили меня, что гиганты могут существовать только при стабильной экономике. На российском же рынке они уступают мобильным мелким фирмам. Недаром мудрые китайцы в шестидесятые годы безболезненно вторглись и застолбили место на американском рынке через мелкие фирмы и стали контролировать более двадцати процентов экономики США, если верить данным наших ученых.
За учебу надо платить. Много раз я стоял на грани разорения. Ну что ж, я знал, на что иду. Риск предполагает возможность потерь. Подставные фирмы, предательства, обман, неплатежи, необязательность, взяточничество – все эти подводные камни российского бизнеса разнесли в пух и прах не одну фирму, не одно акционерное общество. Через все это надо было пройти, чтобы набраться опыта, чутья. В одной старинной эпиграмме на иезуитов говорится: «Мед на языке, молоко на словах, желчь в сердце, обман на деле». С этим пришлось сталкиваться, и не раз. Такое входило в процент риска. Но лучше не начинать, чем останавливаться на полпути.
Мой рабочий день заканчивался в три часа ночи, а чаще всего мне не удавалось появляться дома сутками. Однако, приезжая в свою московскую квартиру, я видел человек двадцать, ожидавших меня. Впрочем, это и неудивительно. Вряд ли найдется калмыцкая семья в Элисте, в которой бы не жили родственники, племянники, родня, приехавшая в гости, в командировку, на сессию. Я привык к этому. Присутствие земляков в моей квартире не шокировало меня. Наоборот, я чувствовал постоянную связь с Калмыкией. Помогал, как мог. Связывал калмыцких бизнесменов с фирмами, консультировал, давал ориентировку цен, находил покупателей на их товар. Коек не хватало. Спали вповалку на полу. Впрочем, никто не обращал внимания на эти неудобства. Да и когда они были, эти удобства, в нашем государстве? Кстати говоря, мотаясь по командировкам, видя все разрастающееся количество мелких предпринимателей, я подумывал о создании сети дешевых гостиниц с дешевыми столовыми, с билетными кассами на поезда и самолеты, с удобными автобусными маршрутами: аэропорт – вокзал – центр – гостиница. Беспроигрышное дело, приносящее стабильный доход. Можно было бы заключить договор с фермерами на поставку продуктов для сети гостиничных столовых, построить при гостиницах склады для оптовиков, холодильники, разработать систему льгот для постоянных клиентов, заключить договора с фирмами, предприятиями, хозяйствами. Сделать при гостиницах охраняемые автостоянки. Можно было бы создать целую гостиничную империю. И я бы, наверное, занялся этим, если бы не отвлекался на другое.
Бизнес – это мощный, огромный, стремительно меняющийся, завораживающий мир. Когда входишь в него, он поглощает тебя полностью, ты живешь в нем каждую секунду, каждое мгновение. В голове вертятся номера телефонов, факсов, цены, сделки, проценты, объемы, даты поставок, и в редкие минуты отдыха с удивлением глядишь на мир, будто видишь его впервые. Оказывается, есть другая жизнь, где люди не спешат, прогуливаются, ходят в кино. Словно вернувшись в город детства, рассматриваешь давно забытое и вспоминаешь: да, была когда-то такая жизнь у тебя, была. Но внутри уже тревожно звенит звонок, хронометр отсчитывает секунды, и предстартовая дрожь пробегает по телу, душа мучительно и неудержимо рвется вперед, и ты снова с головой уходишь в этот мир цифр, банковских счетов, аккредитивов, акций бирж.
Как-то я прочел биографию одного миллиардера. «Это был самый удачливый бизнесмен, – говорит автор. – За всю свою жизнь он всего три раза разорялся дочиста».
В минуты неудач, разочарований мне вспоминалась эта фраза, и я говорил себе: чего же ты хочешь, Кирсан? Если даже обласканный судьбой гений бизнеса разорялся несколько раз вчистую, чего же ты сетуешь на судьбу? Плюнь и забудь. Нельзя смаковать болячки, расчесывать в кровь царапины, жалеть себя. Это удел слабых. Остановишься – погибнешь.
И так же, как в детстве, по рытвинам и ухабам, набивая синяки и шишки, несся я вперед, не оглядываясь на потери. И судьба оберегала меня, и я поверил в судьбу.
Вечная нехватка времени. Но даже когда физические силы давали сбой и слипались глаза от усталости, мозг продолжал работать. Уже во сне прокручивались в голове цифры, память отсеивала лишнее и вытаскивала суть разговора, деловой встречи, сформировывала план следующего дня.
Наутро я вставал со многими готовыми решениями. Но чаще всего надо было решать мгновенно. Иногда от этого зависела судьба фирмы, с которой «Лико-радуга» заключила договор, судьба десятков и сотен людей. Каждый день, каждый час менялась ситуация, и тот, кто не успевал реагировать на обстоятельства, погибал. Шла крупная война нервов, ума, опыта, предвидения, реакции на миг удачи. Не сразу возникает чувство времени накопления информации, грани риска, минуты, когда все соединяется воедино и нужно принимать решение. Это называется интуицией. Чаще всего мы не можем объективно оценить все. Чувства – инструмент более тонкий, чем логика. Это необъяснимо, как необъяснимо в тебе возникает чувство дискомфорта, опасности.
Сами по себе вещи, деньги не стоят ничего. Ценность представляет наше мнение, наша оценка этих вещей. Вот почему почти треть доходов крупные компании вкладывают в рекламу. Требуется выработать в сознании людей чувство необходимости того, что ты производишь, подавить внутреннее сопротивление покупателя, заставить его покупать твою продукцию.
Но где допустимая грань? Морально ли это – вторгаться в сознание человека? Мы живем в агрессивной среде. Политика, газеты, телевидение, искусство – буквально все воздействует на наше «я», ломая его, изменяя, подчиняя. И как отличить здесь добро от зла? Все перемешано, перепутано.
Размышляя над этим, я опять и опять приходил к выводу, что нужен Моральный закон. Единый для всех.
Нельзя остановить прогресс, жизнь. Но необходимо поднять и уравнять мораль с достижениями науки и техники. Не будет соразмерности – мы погибнем.
Каждую минуту на земном шаре заключаются сотни миллионов торговых сделок, миллионы деловых людей принимают решения, и благодаря их энергии, интуиции, усилиям приводится в действие гигантская, сложная машина мировой экономики.
Нет, я не жалел, что ушел в бизнес и не стал дипломатом. Изредка встречаясь со своими однокурсниками, еще раз убеждался: я сделал правильный выбор, я делаю реальное дело.
– Кирсан, нельзя так работать. Ты сжигаешь себя, – говорили они мне. – Это самоубийство.
Ну что ж, как говорится в калмыцкой сказке об Орле и Вороне, лучше тридцать лет питаться кровью, чем триста лет падалью. Длительность жизни определяется не прожитым, а сделанным. В природе все разумно, в ней нет ничего лишнего. Из миллиардов и миллиардов возможностей шанс прийти в этот мир дан тебе, мне, нам. Для чего? Зачем природа вытащила нас из небытия? В чем миссия каждого на земле? Мы все одинаковы, но каждый – неповторим. И у каждого свой долг, свое предназначение. Я верю: есть высший суд и каждый из нас предстанет перед ним в конце своего пути, так что платить по векселям придется каждому из нас.
Это убеждение пришло ко мне еще там, в камере КГБ, как Откровение судьбы, и именно там я ощутил, как емки секунды, насколько неизмеримо огромна энергия информации в минуту, и именно тогда ценность времени стала для меня непреложной истиной.
Без меня народ неполный
Зимой девяностого года я прилетел в Калмыкию. Мне предстояло войти в контакт с правительством республики, договориться об оптовых закупках зерна, шерсти, исследовать рынок сбыта, наметить перспективы будущих деловых отношений фирмы и Республики Калмыкии.
Я был рад этой поездке. Задача была несложная, и, по моим подсчетам, выкраивалось свободное время для встреч с друзьями.
Уже в самолете я вдруг ощутил, как соскучился по дому, по родным. Вспомнилось, как я уезжал на экзамены в институт и белокрылая чайка летела над высохшей землей. Вспомнилось почему-то калмыцкое поверье: степной орел хоть раз в году прилетает на место своего родного гнездовья. Давние, забытые ощущения нахлынули на меня, растревожили душу, я закрыл глаза и так и просидел весь полет, окунувшись в воспоминания. Знал ли я тогда, что судьба готовит мне еще один крутой вираж?
Калмыкия встретила меня пронизывающим ветром. Грязно-серый снег лежал вдоль дороги от аэропорта до города. Черно-рыжие залысины земли темнели из-под укрытой снегом степи.
Я слышал, что в Калмыкии начинается предвыборная борьба за выдвижение в народные депутаты РСФСР, но это никак не должно было отразиться на цели моей поездки. Обычное дело: номенклатура выдвинет из своих рядов кандидатуры, народ послушно проголосует. Чистая формальность. Так было всегда.
В деловых кругах я не очень-то вникал в политические страсти, хотя чувствовал постоянное давление политиков на сферу бизнеса. От их решений, постановлений, направлений зависело многое. Зарубежные партнеры внимательно следили за тем, что творится на политическом Олимпе страны, многие, уже почти готовые контракты срывались именно из-за принятых в Кремле решений. И – наоборот.
Решение о сокращении производства алкогольных напитков вызвало целую бурю в среде бизнесменов. Срочно заключались и проплачивались за границей гигантские контракты на поставку вин, водок, ликеров. Это принесло сумасшедшие дивиденды тем, кто первым оценил ситуацию. Я помню, как лихорадило деловые круги. Отзывались назад деньги, разрывались контракты, свертывалось производство – бизнесмены изымали уже вложенные суммы, безоговорочно оплачивали штрафы, чтобы направить капитал на закупку алкоголя: прибыль от водки покрывала все расходы во много раз.
Мой рабочий день начинался с беглого просмотра газет. Каждое утро у меня на столе лежала отпечатанная информация: как изменилась политическая ситуация в России, за рубежом, какие приняты решения, какие вопросы должны обсуждаться, где случился неурожай, засуха, каковы экономические и политические прогнозы. Анализ этой информации позволял сделать вывод: где, когда, в чем возникнет нехватка либо переизбыток, как сыграть на перепаде цен, какие контракты заключить сейчас, какие потом, где сконцентрировать капитал. Солидные фирмы закладывали в память компьютеров любую информацию об изменении ситуации в регионах, политических течениях, пристрастиях лидеров, ближайшего их окружения, изучали состояние дорог, анализировали потенциал предприятий. Платили большие деньги за конфиденциальные сведения, пытались подкупить депутатов, принимая их жен, родственников, детей к себе на работу. Все эти затраты окупались с лихвой. Бизнесмен, владеющий информацией, на несколько тактических шагов опережал соперников. Он получал возможность стремительно концентрировать огромные средства там, где намечалась наивысшая прибыль. Именно политика тех дней определила время коротких денег. Почти никто не вкладывал финансы в дело, сулящее прибыль через год, два, три. Короткие схемы, короткие, быстрые деньги. Наш неопытный бизнес кидался в такие рискованные предприятия, от которых отшатывались солидные фирмы. Чаще всего прогорали, но те, кто выигрывал, в считанные дни становились крепко на ноги. Да, бизнес и политика – две стороны одной медали. Но для бизнесмена политика – это в первую очередь достоверная информация, снижение степени риска в торговых сделках. Поэтому самые крупные теневые состояния делали не бизнесмены, а чиновники, имеющие доступ к информации, обладающие правом запрещать или разрешать. Судя по количеству лицензий на вывоз сырья за границу, таких чиновников в СССР было немало. В короткий срок российские бизнесмены дезорганизовали всю мировую экономику, выбрасывая на международный рынок по демпинговым ценам нефть, лес, цемент, металлы. Это поставило на грань катастрофы многие западные предприятия. Международные биржи забили тревогу.
Чтобы как-то удержать цены, фирмы, специализирующиеся на сырье, стали, вместо того чтобы продавать его, скупать российское сырье. Бесполезно. Эта мера вызвала новую лавину сырья из России. Самым дефицитным продуктом в России стали товарные вагоны. Морские порты были забиты контейнерами. Бизнесмены с чемоданами денег сновали по станциям, совали взятки направо и налево, чтобы отправить вне очереди составы.
Как я уже говорил, руководство «Лико-радуги» занимало свою нишу в торговом обороте России и не бросалось в такие рисковые предприятия. Однако оно внимательно следило за малейшими изменениями рынка.
Зимним вечером в Элисте, в какой-то покосившейся землянке, под лай окраинных собак, мы собрались для обсуждения объемов заготовок и поставки калмыцкой шерсти для фирмы, в которой я работал. Ребята-бизнесмены только что вернулись из правительственного дома, где тщетно пытались получить подписи под документами. Решение их вопроса затягивалось и затягивалось. Поджимали сроки, срывалась сделка, нависали штрафные санкции. Бизнесмены не могли пробиться к руководству республики вот уже несколько недель. Именно тогда, неожиданно и спонтанно, возникла идея выдвинуть меня депутатом.
– Кирсан, тебя надо в депутаты. Ты хоть понимаешь наши проблемы. Эти белодомовцы, они же загубят нашу республику.
Я рассмеялся. Я – и вдруг в депутаты.
– Чего смеешься? Ты же калмык. Тебе что, республику не жалко?
– Жалко. Ну а что я могу сделать?
– Как что? Будешь депутатом – многое сделаешь. Кругом одни проблемы да дыры. Оглянись вокруг. Мы же народ, избиратели. Разгоним это руководство к чертовой матери, раз управлять не умеют. Ты сейчас говорил, как надо дело делать, вот и сделай для республики. Чего по углам шептаться?
Действительно, мы перед этим обсуждали положение дел в республике и по чисто российской привычке перешли на политику, на руководителей Калмыкии. Я уже год проработал с японцами, поездил по странам, разбирался в экономических законах и видел, что наши госорганы страдают некомпетентностью. Я высказал свое мнение, как надо действовать, чтобы хотя бы затормозился намечавшийся кризис. А кризис должен был навалиться на страну – я уже это чувствовал по многим признакам.
Во-первых, Россия стала Клондайком для всего мира. Все больше людей, которым вскружили голову шальные деньги, уходило в торговлю типа «купи-продай». Работать становилось некому. Торговало полстраны. И без того отсталая социалистическая экономика трещала по швам, не выдерживая конкуренции с западными товарами.
Во-вторых, в стране намечался политический кризис. В Кремле шла борьба амбиций – территориальных, национальных, партийных, коалиционных. Все это должно было привести к глубокому кризису. Для Запада это было очевидным, и солидные фирмы стали осторожничать с инвестициями, требуя все более определенных гарантий.
Предложение стать депутатом показалось мне несерьезным, непродуманным, однако ребята наседали, и, чтобы как-то закончить этот разговор, я дал согласие, будучи уверен, что завтра этот разговор забудется и никто о нем не вспомнит. Однако слова, что я калмык и патриот, что я часть народа, задели меня. Ночью я долго не мог уснуть, думая, какое будущее ждет Калмыкию. Разные приходили мысли.
Думалось о том, что при развале государства в первую очередь погибнут малые народы. Что Калмыкия всегда была выпасным полем России и каждый четвертый костюм, производимый в СССР, был сделан из калмыцкой шерсти. Что газ, нефть, черная икра, осетровые, огромные пространства – все это при умелом использовании могло бы привести республику к экономической независимости, а это привело бы ее к расцвету. И еще думалось мне, что я действительно часть народа и если я останусь в стороне, то это будет не весь народ, ему будет не хватать той самой малой частички, которая есть я.
Утром ко мне пришли ребята.
– Кирсан, мы обсудили этот вопрос, договорились с коллективами: тебя многие знают. Горком комсомола, твой завод поддержали твою кандидатуру. В общем, составляй предвыборную программу.
Вот так это началось. Меня выдвинули кандидатом в депутаты завод «Звезда», республиканская больница, домостроительный комбинат, детская больница – всего десять коллективов. Я попал в 821-й округ – Манычский. Двадцать один кандидат боролся за звание народного депутата по этому округу. Это был самый высокий конкурс по России. Народная певица, министр здравоохранения, мэр столицы республики, секретари обкома партии, настоятель храма.
– Опять тебя куда-то понесло, Кирсан, – сказали со вздохом родители. – Ну куда ты лезешь? Ты посмотри, какие знаменитые, уважаемые люди выдвигаются, что ты против них?
Я давно заметил, что среди людей старшего поколения особо развит гипноз авторитета, установка на восприятие. Впрочем, она свойственна многим. Однажды, еще в институте, я провел эксперимент.
– Самое главное в жизни человека – это погода, – заявил я в одной компании. Компания усмехнулась. Кто-то развел руками, кто-то открыто заявил, что это полная чушь, бред собачий.
На следующий день, уже в другой компании, я сказал ту же фразу, только добавил:
– Как сказал Фрейд, самое главное в жизни – это погода.
Компания задумалась. Через минуту в этих словах нашли гениальный смысл, подвели правдивую, логичную теорию и долго восхищались, как это точно сказано…
Гипноз авторитетов мешает самостоятельно мыслить, связывает действия, не позволяет реально оценивать положение дел.
Началась предвыборная борьба. Город Элиста, Ики-Бурульский, Яшалтинский, Город Овиковский, Приютненский районы, поселки, чабанские точки, фермы, совхозы – более половины республики предстояло объехать за короткий срок, выступить, объяснить свою программу, убедить людей, увлечь за собой.
Старенькая жесткая «Нива», ухабистые дороги, пронизывающий ночной холод, пляшущий свет фар, ночевки в районных неотапливаемых гостиницах, жиденький, тепловатый, почти прозрачный безвкусный чай, ночное шуршание тараканов, короткий сон до четырех утра, подъем.
Мутный, цвета кобыльего молока, скупой холодный рассвет, ржавый скрип рессор старенькой машины, заунывный вой ледяного ветра в щелях кабины, тряска на колдобинах.
Пять часов утра. Первое выступление на ферме перед доярками. Через сорок минут – выступление на ремонтной базе сельхозтехники, потом школа, чабанская точка. Шесть-семь встреч в день, огромные расстояния. Из района в район, из совхоза в совхоз. Вопросы. Бронзовые морщинистые лица мудрых стариков и старух, вдумчивые, спокойные глаза, неспешные величественные слова благословения:
– Белой дороги тебе, сынок…
– Как думаешь, войны не будет?
Великая печаль и великое терпение, суровая жизнь и высокая, отшлифованная многими поколениями предков мудрость скупых слов степняка.
Передо мной разворачивались картины разрухи, запустения, нищеты, в которых прозябал труженик степи. Беседуя с людьми, вникая в их заботы, печали, надежды, я поражался многотерпимости этих людей, составлявших корневую основу нации, республики, государства. Какие библейские лица, какая крепость характера, какие благожелательные, добрые глаза!
Я заново открывал свою республику, свой народ, и чувство гордости и счастья, что я принадлежу к этой нации, что я пусть самая малая, но часть ее, переполняло меня.
Я приезжал домой измотанный, почти охрипший, не в силах ни говорить, ни есть. Едва добирался до кровати и валился спать. Впрочем, и Геннадий Амнинов, и Валера Соломов, сопровождавшие меня во всех поездках и делившие со мной всю тяжесть этой нелегкой предвыборной борьбы, были в таком же состоянии.
Тогда еще у меня не было опыта политической борьбы, мы были молоды и наверняка делали непростительные ошибки. Но народ нам прощал и нашу молодость, и шероховатости программы. Мы страстно желали перемен, и народ пошел за нами.
Перед тем как решиться на борьбу за депутатский мандат, я позвонил своему старшему брату Вячеславу, спрашивал совета. Брат в то время находился в Монголии. Он был против, он объяснил мне расстановку политических фигур в Калмыкии, предсказал сценарий предвыборной кампании и в заключение сказал: «Тебя растопчут».
Славик во многом оказался прав. В местной печати, в средствах массовой информации появились ехидные заметки, а когда борьба за депутатский мандат достигла апогея, газеты брызгали слюной, поливая грязью меня и мою программу. Но странное дело: возможно, это и сыграло определенную роль в моей победе. Так уж сложилось в государстве российском на социалистическом отрезке времени, замешанном на лжи и шельмовании, что у народа выработался определенный рефлекс на печать: если ругают – значит, хороший человек. Так было и с Солженицыным, и с Сахаровым, так было со многими. А вспомним недавнее: противостояние Ельцин – Горбачев, когда в стране стали популярными кооперативные значки «Борис, ты прав».
Как бы то ни было, но народ высказался, и я стал народным депутатом России. К тому времени я уже почувствовал, что в бизнесе я приобрел достаточно опыта и могу работать самостоятельно.
Вскоре я создал корпорацию «Сан». Учредителями выступили газета «Известия», Министерство текстильной промышленности, Мособлавтотранс и еще ряд организаций. Начальный капитал, который нам выделили, был мизерный, но для старта этого вполне хватало. Был великий соблазн сразу заработать большие деньги, ринувшись в рискованные операции. Поставить на карту весь капитал, пойти ва-банк. Однако к тому времени я уже переболел этой детской болезнью начинающего бизнесмена. У меня уже была закалка японской системы бизнеса. Поэтому корпорация «Сан» свои первые шаги делала по проторенной, проверенной дорожке. Те наработки, которые я приобрел в японской фирме, я перенес в корпорацию. Корпорация «Сан» не рекламировала себя, входила в рынок осторожно, действуя наверняка. Кажется, на Востоке этот метод называют «шаг кобры». Великое золотое правило большого бизнеса, которое я усвоил благодаря японцам, – это честность и верность данному обещанию. Никаких сомнительных сделок. Репутация корпорации «Сан» превыше всего.
В тот год, как грибы после дождя, возникало по стране неимоверное количество фальшивых фирм, ТОО, АО, цель которых была хапнуть у государства, банка или народа пожирнее кусок и скрыться. Мы же рассчитывали со временем прорваться на мировой рынок, завоевать там свое место, а для этого нужна была безупречная репутация. Огромных сил стоило нам поставить корпорацию на ноги. Нехватка денег тормозила многие сделки. Банки неохотно кредитовали незнакомую корпорацию, солидные деловые партнеры осторожничали. Одно дело вести дела с известной японской фирмой, другое – с какой-то незнакомой, только что вылупившейся из яйца корпорацией без репутации, рекомендаций, без солидного капитала. Но, наконец, дело пошло. Атмосферу в корпорации мы сохраняли дружественную – сказался опыт работы с японцами, и, наверное, поэтому мы не распались в первые полгода, самые тяжелые. Пережили все тяготы.
Помню, после первой сделки мы купили шампанского, торт и отпраздновали начало своей деятельности у меня в кабинете. Потом последовали вторая, третья сделки – и завертелось… Нам поверили, к нам стали обращаться солидные фирмы, и наша репутация в деловых кругах стала укрепляться.
Мне было двадцать восемь лет, когда я возглавил корпорацию. Практически я был в два раза моложе своих учредителей, и все же они поверили в меня: Николай Михайлович Солодников – директор Мособлавтотранса, Борис Семенович Беляев – министр текстильной промышленности, Валерий Владимирович Рязанский – генеральный директор Измайловского гостиничного комплекса, а также Николай Юрьевич Гиллер – заместитель генерального директора Мособлавтотранса, Валентин Цой – народный депутат, возглавлявший концерн «Экспо», и многие другие…
Конечно, были срывы и ошибки, но кто их не делал в своей жизни? Помню, в то время возник ажиотаж вокруг научных разработок, скупались на корню научные открытия, финансировались исследования, гонялись за новыми технологиями. Не избежали этого и мы. Часть заработанных тяжелым трудом денег я ухнул на научные разработки. Казалось бы, дело верное. На одну из технологий нашелся солидный покупатель на Западе. А НИИ не хватало денег на доработку, что-то там у них немного не ладилось. Я дал денег. Ждал результатов месяц, два, полгода. В общем, так и не дождался. Деньги были потрачены впустую. Мы оказались на грани финансовой катастрофы. Под огромные проценты мы с большим трудом получили кредит от западной фирмы, чтобы выстоять, не разориться. И выстояли. Нам снова начало везти.
Везение – один из компонентов большого бизнеса. Его нельзя просчитать математически, но оно присутствует, и его нельзя сбрасывать со счетов. Пошли солидные контракты с немецкими, японскими, южнокорейскими фирмами. Корпорация расширяла свою деятельность. Наладили с Францией производство мультфильмов, финансировали художественные фильмы, устраивали выставки-продажи картин художников, открывали газеты, организовали биржу «Российская бумага». Разброс был очень большой, и японцы, наверное, не одобрили бы его, но такова уж была особенность тех лет. Одно цеплялось за другое, и дешевле было создать свое, чем перекупать у посредников. Мы начали зарабатывать большие деньги, началось движение капитала. Прибыли вкладывались в новые предприятия, ассоциации, корпорации – десятки и десятки структур в различных регионах. Какие-то фирмы, созданные нами, прогорали, приносили убытки, но большая часть становилась на ноги, начинала приносить доход. Корпорация становилась похожа на непотопляемый авианосец с герметичными автономными отсеками. И пробоины в одном, втором, третьем отсеке уже не влияли на ходовые качества корабля. Однако огромное количество созданных фирм принесло нам новые трудности: стал невозможен процесс отслеживания денег. Невозможно было проследить: сколько заработала та или иная фирма в месяц, квартал, год. Какой процент перечислила, куда пошла прибыль, какие новые рабочие места создала.
В какой-то момент мы почувствовали, что исчезают огромные суммы. Доказать, поймать за руку не было ни средств, ни времени. Дальше так работать было нельзя. Перед нами встал вопрос о реорганизации. Корпорация стала неповоротливой, немобильной. Нужен был новый механизм управления.
Я делал заметки, строил схемы, высчитывал, пока наконец не стало вырисовываться что-то реальное. Я поделился своими соображениями с помощниками, и мы сели за детальную разработку. Убрали лишние звенья, впрямую подчинили все зависящие от нас фирмы, объединили по группам, ввели коэффициент прибыли, дали большую самостоятельность, ну и многое другое. Мы применили несколько довольно оригинальных приемов, помогающих выявить реальное положение дел в подчиненных структурах. Теперь фирмам стало невыгодно утаивать прибыли от головного предприятия. Конечно, были и обговорены штрафные санкции.
Часть дохода шла на социальные нужды сотрудников. Я ввел бесплатные обеды, раз в квартал сотрудник мог бесплатно заказать одежду: костюм, платье, туфли. В конце года лучших работников корпорация награждала автомобилем. Корпорация покупала путевки на отдых за границей, оплачивала лечение, решала жилищные проблемы. Средняя зарплата сотрудника достигала ста тысяч рублей – по тем временам сумма довольно приличная.
Много времени отнимала у меня депутатская деятельность. Заседания в Кремле, дебаты, коалиции, программы, разногласия. Шла большая политическая игра. Кулуарные кремлевские собеседования, прощупывание противников, задаривания, обещания, скрытые угрозы, слухи – шла нормальная борьба, свойственная всем парламентам. Это широко освещалось в газетах, показывалось по телевидению, поэтому не стоит останавливаться на этом подробно.
В Калмыкии накопилось множество проблем, финансовых дыр, и приходилось ходить по министерствам, кабинетам правительства, отстаивая интересы своей республики. Выбивать кредиты, льготы, доказывать, просить, писать письма, ходатайствовать, договариваться, уговаривать, объяснять. Все это требовало терпения, нервов, времени.
Из своих личных средств я помогал нуждающимся, отправлял за свой счет на лечение больных, оплачивал операции за границей, пересылал деньги Аршанскому детскому дому. Это стало уже традицией. Я создал в Москве благотворительный фонд, такой же фонд создал в Калмыкии. И это был не единственный благотворительный фонд, созданный на мои деньги. Я создал благотворительный фонд помощи военнослужащим и их семьям «Катюша», благотворительный фонд помощи семьям заключенных, жертвовал деньги на строительство церквей, помогал пенсионерам – всего и не припомнить.
Мне звонили, писали письма, обращались с просьбами изо всех уголков Советского Союза, и я, чем мог, помогал.
Каждый раз, когда ко мне обращались за помощью, у меня перед глазами вставали обветренные, сожженные солнцем лица степняков, их добрые терпеливые глаза: «Белой дороги тебе, сынок!»
Я вспоминал старуху со слезящимися глазами на далекой степной чабанской точке. Она сидела в глинобитной покосившейся мазанке, перебирала четки. Глаза ее почти не видели. В первый же год войны она потеряла на фронте и мужа и сына, прошла через сибирскую ссылку, и известковая пыль выела ей глаза. Она ощупала мое лицо твердыми, как кость, пальцами:
– Как думаешь, сынок, войны не будет?
– Не будет, эджя. Конечно, не будет, – ответил я.
Она кивнула, помолчала, перебирая четки, попросила:
– Сынок, скажи там большим людям: нельзя, чтобы война была. Не забудешь?
– Скажу.
И она поклонилась, сложив молитвенно руки.
Я дал ей денег, но она не взяла.
– Зачем? У меня все есть. Ты лучше себе купи. Ты молодой, тебе много хочется.
Я попрощался, вышел и потом всю дорогу до райцентра молчал – не мог говорить. Сколько таких встреч было у меня в степи! Сколько изломанных, искореженных судеб прошло передо мной! И какая же немыслимо высокая степень духовности была в этих людях. Не обозлились под плетью судьбы, не выставляли напоказ раны. И даже как будто стеснялись своего духовного величия, чтобы не смутить меня.
Эти вот люди отдали мне свои голоса, доверились мне, и я никогда не забывал этого. Вот этим людям мне хотелось поклониться до земли, что сохранили они самое драгоценное – дух нашего народа. Мне хотелось им помочь, и я помогал, чем мог. Но чтобы осуществить это, нужно было уметь зарабатывать деньги.
Многие ошибаются, думая, что бизнесом может заниматься каждый. Бизнес – это образ мышления, состояние души, талант. Это немыслимое напряжение. Чтобы зарабатывать, надо быть одержимым работой – даром ничего не дается. Я никогда не считал себя бизнесменом. Я постоянно чувствовал свое несовершенство, свои ограниченные возможности, сравнивая себя с другими, рожденными бизнесменами.
Но я – счастливый человек. За тридцать лет я потерял немало друзей, но не всех. Меня забирало КГБ, но я остался на свободе. В девяноста случаях из ста меня предавали, обманывали, используя мою доверчивость, мою веру в людей, но десять процентов, с которыми меня сводила судьба, оказались честными, порядочными людьми. Я дружу с ними и ценю их дружбу. Десять процентов – это очень много. В день я встречаюсь с доброй сотней человек, и если из ста десять становятся моими друзьями, значит, в день я приобретаю по десять друзей. Не счастье ли это?
Письма приходят ежедневно. Их много. Они разные. Деловые, личные. В беге наперегонки со временем, в перелетах, переездах, между деловыми встречами, совещаниями, переговорами, среди цифр, дат надо помнить, держать в уме эти письма-слезы, письма-мольбы, чтобы не забыть вовремя отправить деньги, помочь с больницей, лекарствами.
«Дорогой Кирсан Николаевич. Мне двадцать семь лет, я инвалид с детства: не двигаются руки и ноги. Извините за корявый почерк. Это письмо я пишу, держа карандаш в зубах. Пенсия у меня маленькая. Пока жива была мама, мы кое-как кормились. А теперь мама умерла, и мы остались с бабушкой. Она за мной ухаживает. У нас сломалось радио, а денег на починку нет. Много лет я не выхожу из дому, и радио – единственная радость в жизни. Если можете, пришлите мне хоть какое, хоть старое, но чтобы говорило…»
Читаешь – и в горле встает ком. Ну как не помочь? А сколько таких писем приходит в день! Спасибо тебе, парень, за твое письмо, спасибо, что ты веришь в меня. Спасибо.
Господи, сколько же горя накопилось в нашей стране! Неужто и вправду рок завис над нашей землей? И чья это вина?
Я борюсь с усталостью. Она наваливается на меня медленно, но неотвратимо – тяжелая, неумолимая…
«Боже, – думаю я. – Мне уже почти тридцать, и как мало я успел сделать в жизни добра. Сколько мне еще отпущено небом? Двадцать? Тридцать? Успею ли отдать долги? Расплатиться добром за добро? Успею ли?»
На часах без трех десять. Через три минуты начнется совещание директоров. Опаздываю. Осталось две минуты. Одна. Машина останавливается. Ну, наконец-то. Слава Богу!
Я выскочил из машины и тут же вляпался ногой в снежно-грязное месиво лужи. Сразу ошпарило холодом ногу, и снежная жижа затекла в туфлю. И я вдруг понял: черт побери, ведь уже весна! Оглянулся – на крышах домов наращивались сосульки. Светило солнце, и день был необычно ярок. Весна! В этой сумасшедшей гонке, нервотрепке и постоянном напряжении я и не заметил, что, как пуля, промчалась зима и наступило время капели. Я вдыхаю полной грудью еще морозный, но удивительно пахнущий радостью воздух – и все. Мозг снова переключается на деловую встречу. В голове прокручиваются варианты договора, система взаимных уступок, условия поставок и многое другое, но только что пережитое мгновение вливает в меня ощущение радости и свободы, зреет и твердеет чувство уверенности, что все будет хорошо. Все будет хорошо, Маета, все будет о’кей, Кирсан. Я взбегаю по ступенькам и открываю тяжелую дубовую дверь офиса. Весна!
Совещание затягивается. Я должен окончательно решить: войдем ли мы в состав учредителей или нет? Организаторы сулят заманчивые перспективы. Слишком заманчивые. Это и настораживает. Что-то здесь не так. Но что? Банк – дело перспективное, выгодное. Идет первый блок вопросов: суть проекта, его стоимость, анализ положения дел в банковских сферах, перспективы развития, потенциальные конкуренты, потенциальные вкладчики, система услуг, производственный процесс, реклама.
Вот оно, наконец-то я улавливаю то, что смущает меня: положение дел в банковских сферах. Последнее время многие отделения различных банков начали прогорать. Головные банки тщательно скрывают это, чтобы не подмочить репутацию. Но информация просочилась. В кулуарах Кремля поговаривают о заговоре банкиров. Фальшивые авизо. Взаимные неплатежи, невозврат кредитов. Главная причина банкротств кроется не в нехватке финансов, как думают многие, а в неправильном планировании и вложении средств.
Я проглядываю листок со сведениями об основных учредителях, о мере ответственности каждого, сведения о членах руководящего состава будущего банка, пробегаю финансовый план.
– Сколько жителей в этом районе? – спрашиваю я. – И, если можно, каков процент рабочих, служащих, бизнесменов.
Других учредителей тоже что-то настораживает – это видно по вопросам:
– Сколько банков уже работает в этом районе?
– Какие коммерческие структуры действуют на этой территории?
– Есть ли выходы на властные структуры?
– Во что обойдется ремонт здания?
– Сколько и каких специалистов планируется принять?
– Стоимость оборудования? Можно ли взять напрокат?
– Какие криминальные структуры контролируют, район? Ваша система защиты от рэкета?
– Какова удаленность банка от метро, остановок автобуса, троллейбуса?
– А во что обойдется зарплата сотрудников?
– Расскажите о магистральных направлениях работы банка. На чем собираетесь зарабатывать? Что кредитовать? Какие дивиденды? Когда? Сколько будет стоить банковская лицензия? Официально, неофициально.
Вопросы откровенные, нелицеприятные, но что делать? Учредители должны знать, куда они вкладывают деньги. Если мы примем решение, разработкой деталей займутся наши спецы. Этот разговор – предварительный, прикидочный.
Наконец-то я ловлю утопленную где-то в потоке ощущений колючую мысль, смущающую меня, настораживающую.
Законодательная горячка. Один за другим в Верховном Совете принимаются пакеты документов, законопроектов. Их столько, что исполнительные власти потеряли ориентиры, страна запуталась в них. Но это – мина замедленного действия. Нужна юридическая защита. Как же я это упустил? Это же первое, что нужно было сделать. Кажется, я действительно устал.
Общество бурлило, рушился старый строй, ломались барьеры и запреты. Пока еще далеко до трагедии, но уже ощутимо в воздухе носился микроб распада Великого государства. Уже созрела могучая сила, которая выйдет на площади, расколет надвое Москву, Россию, и в противостоянии этих сил будут явно ощущаться пороховая гарь гражданской войны, которая здесь и там заполыхает по республикам бывшего СССР.
Но это будет потом, а пока эйфория свободы захлестывает страну, открыты границы, ломаются старые неповоротливые законы, и каждому из нас хочется верить, что наконец-то наступил долгожданный перелом и государство повернулось лицом к народу…
Ну что ж, по космическим законам происходит то, что и должно происходить. В калмыцкой степи говорят: свет рождается из тьмы. Рождается новая эпоха, и борьба старого и нового породит жертвы.
Трое суток напряжения. За трое суток два часа сна. Мозг переутомлен. Тело гудит и ноет. Отдых! Нужен отдых! Хотя бы короткий, хотя бы на час.
Белое здание аэропорта Шереметьево-2. Подходы к зданию забиты машинами. Чемоданы, иностранная речь, таможенный контроль, заполнение декларации. По радио объявляют посадку. В Париже, наверное, уже тепло.
Приехать бы туда туристом, без спешки, без суеты, погулять по Елисейским полям, побывать на Монмартре, посидеть за чашкой кофе в знаменитых парижских кафе… Спешка, спешка. Сколько раз я был в Париже – не помню. А что видел? Улицы из окна автомобиля, офисы, дорогу от аэропорта Орли до отеля и обратно. Вот и весь Париж.
Я сажусь в кресло. Трехчасовой перелет. Так. Полчаса, чтобы сосредоточиться, еще раз обдумать все варианты хода переговоров. Подробнее – на сложностях, которые могут возникнуть. Они обязательно возникнут. Сделать поправки на возможные ошибки. Проанализировать: что могло быть упущено?
Меня вызвали неожиданно, срочно. Это не сулит ничего приятного. Факс получен вчера днем. И вот я лечу к своему компаньону. Будущему компаньону. Мы оттянули капитал со всех подразделений, посадили их на голодный паек. Корпорация решила выкупить пакет акций французского предприятия. Эксперты, юристы проработали в деталях этот проект. Он слишком важен для нас. Корпорация выходит на международный рынок. И вдруг – этот вызов. Значит, возникли осложнения. Серьезные осложнения.
Итак, час на анализ ситуации, затем два часа, чтобы поспать. Расслабиться, дать передышку организму. Проснуться за полчаса до приземления, и еще один экспресс-анализ: вдруг что-то упущено…
Сквозь сон доносится голос стюардессы: «Леди и джентльмены, мы пролетаем над Копенгагеном». Копенгаген. Значит, в запасе еще больше часа. Еще семьдесят пять минут я могу не открывать глаза. Успею.
Я снова погружаюсь в плотный, убаюкивающий туман забытья. Плечи расслаблены, теперь ноги, позвоночник, руки наливаются тяжестью, веки тяжелеют. Все. Я ни о чем не думаю. Я абсолютно спокоен. Тело отдыхает Мозг успокаивается. Глубокий сон…
В этот приезд у меня наконец-то появляется несколько свободных часов. Деловая встреча перенесена на вечер. Весна. Я иду по столице Франции. Тонкий аромат.духов смешивается с запахом талого снега, прогорклыми автомобильными выхлопами. Я прохожу по мосту мимо целующейся совсем юной пары, мимо старого улыбающегося лоточника, торгующего значками, цепочками, старыми монетами, мимо туристов-англичан. Вот он, остров Сите. Ко мне медленно подплывает роскошная серая громадина Нотр-Дам.
Я покупаю билет, вхожу в здание, сажусь в третьем ряду, и сладкая медленная боль заполняет грудь. Сколько раз я мечтал побывать здесь! Во мне возникает предчувствие чуда. Душа сжимается в восторженном страхе. И чудо свершается.
Здесь, в соборе Парижской Богоматери, откуда-то сверху, как божественный дождь, обрушиваются на нас звуки органа. Светло и печально откликается душа, и плачет, и очищается. И тогда впервые в жизни ко мне приходит удивительное чувство могучего спокойствия, соразмерности «я» и пространства. И сердце ощущает Бога.
Буддист по мироощущению, рожденный на калмыцкой прокаленной земле, я смотрел на распятого Христа, и земное и бренное ушло в сторону, а душа заискрилась, наполняясь хрустальными звуками. И словно пришла и заново повторилась до деталей та давно забытая ночь в Элисте, когда я лежал на раскладушке в саду, глядя на ночное небо, и вдруг мне открылось нечто совершенно немыслимо огромное – Откровение Судьбы или Неба. А может быть, это был магический знак, который я по несовершенству своему не смог ни прочесть, ни понять.
Бывают такие мгновения в жизни человека. Наверное, потому и тянется его душа к храму, чтобы еще хоть раз прикоснуться к этому прозрачному ощущению, которому и названия-то нет.
Может быть, изначально, в утробе матери своей, ребенок впитывает этот свет, эту любовь, но, выпав в этот мир, он рвет божественную нить, и только душа, но не тело помнит и хранит эту святую искру. И не потому ли наша память живет сразу в трех временах: настоящем, прошедшем и будущем? Нас одинаково тревожат и воспоминания прошлого, и ощущения настоящего, и предчувствия будущего – не от этой ли искры? И не потому ли бывает иногда: жизнь вдруг замрет на бегу и нахлынет секундная, острая и невозможная тоска по той прошлой жизни, которой ты жил до своего перевоплощения?
А может, душа отзывается на немой крик гибнущего дерева, скорбь камня, тоску одинокого умирающего зверя?
Что было в начале бесконечных перерождений души моей – рождение или смерть? И что будет в конце – вдох или выдох Вселенной?
Старые калмыки говорят: «Перед смертью человек делает вдох, вбирая в себя Вселенную, и уходит по ту сторону жизни, унося Вселенную в себе».
Говорят, храмы всегда строили на скрещении магнитных полей земли, и эти энергетические родники очищали человека.
Мир жесток и суров, и законы, которые нами управляют, несовершенны и грубы. Сегодняшнему человеку необходимо покаяние, ибо только многократное духовное очищение возродит нас для будущей жизни. Одни называют это совестью, другие – чувством долга, третьи – Великим Моральным Законом, по которому должен идти человек, пролагая путь последующим поколениям.
Может быть, потому и распался Советский Союз, что, испугавшись, не прошли мы до конца мучительный и светлый путь покаяния и духовного очищения. А значит – распад великого государства на совести всех нас. Пронесли мы чашу сию мимо уст своих. Но спросится с нас по полной мере идущими за нами. И клеймо Иуды поставит на нас последующее поколение. Может быть, может быть.
Я часто думаю: пройдут годы, стремительно пролетит жизнь, и останутся последние десять минут перед смертью, а потом – вечность. И отойдет тогда все суетное, сиюминутное, переосмыслятся события и деяния. Не заплачет ли тогда душа от горестного раскаяния за дела наши? Не содрогнется ли от ужаса? Или с достоинством и спокойствием покинем мы этот мир, зная, что сделали все, что могли, и упрекнуть себя не в чем? За десять минут до смерти… Может быть, вся жизнь наша – это подготовка к этим десяти минутам?
Убить – дело двух недель
Восточные мудрецы говорили: «Семья разрушается, если она сама готова к разрушению, государство разрушается, если оно само готово к разрушению». Распался соцлагерь, распался СЭВ, Варшавский Договор, и это разрушение, как всегда, было скорым, сумбурным, непродуманным, безоглядным.
Унизительное, нищенское существование народов империи, грубая лживость закона, средств массовой информации, самодурство и бездарность властей, стоящих над законом, скрытый антисемитизм и национальное чванство – все это ускорило гибель СССР. Вот уж действительно, кого Бог хочет наказать, того он лишает разума. В то время когда Европа убирала границы, объединялась, мы, как сказал классик, сожгли то, чему поклонялись, и поклонились тому, что сожгли.
Я помню эйфорию тех дней. Радостные лица, поздравления, и, кажется, только коммунисты подняли свой голос против. Но кто их слушал тогда? Прорвалась глухая ненависть народа к КПСС, опутавшей страну стальной сетью идеологии, приказывавшей, как жить, что есть, говорить, думать.
В 1989 году Ельцин вышел из КПСС. Он стал национальным героем. Его выступления о закрытии партийных спецраспределителей, кремлевских больниц, отказе от персональных машин и дач, его поездки на работу в общественном транспорте, его стояние в общей очереди в районной поликлинике и даже странный, непонятный случай падения с моста, о котором так много писали газеты, – все это снискало ему необыкновенную популярность и славу.
Комсомольско-партийные деятели срочно уходили в коммерческие структуры, которые дотировались партийными деньгами. Получали льготные кредиты, лицензии на закупку зарубежных товаров, на вывоз сырья. Это был особый, привилегированный слой российского бизнеса.
По каналам совместных предприятий, товариществ с ограниченной ответственностью, фирм из страны уходили огромные деньги и оседали на зарубежных счетах. Партия, предчувствуя крах, готовилась уйти в подполье.
Никем и ничем не контролируемые деньги партии откачивались из страны по многочисленным каналам. Но это особый разговор.
Я думаю, многие бизнесмены чувствовали это мощное перетекание капиталов в никуда. Бизнес очень чуток на движение капитала, большого капитала. И последний где-то должен всплыть, вернуться товаром. Если капитал не возвращался, сразу становилось ясно – здесь нечисто. Приближалось время «Ч».
Утром 19 августа 1991 года в Калмыцкий обком партии пришла шифротелеграмма:
«Секретно.
Первым секретарям ЦК компартий союзных республик, райкомов, крайкомов, обкомов партии.
В связи с введением чрезвычайного положения примите меры по участию коммунистов в содействии Государственному Комитету по Чрезвычайному положению в СССР.
В практической деятельности руководствоваться Конституцией Союза ССР.
О пленуме ЦК и других мероприятиях сообщим дополнительно.
№ 116\Ц
Секретариат ЦК КПСС».
Высшие эшелоны калмыцкой партийной номенклатуры встали навытяжку. Народ же в Калмыкии, впрочем, как и все в СССР, так и не понял: что же там, в Москве, произошло? Не остановились заводы, не прекратили свою деятельность учреждения, не вышли на улицы и площади люди.
Аугусто Пиночет по поводу этой попытки государственного переворота высказался так: «То, что я в Чили сделал восемнадцать лет назад, сейчас пытались повторить в СССР». А известный чилийский эксперт по военным вопросам Рауль Сор писал: «Если посмотреть на «техническую» сторону переворота, то бросается в глаза отсутствие решимости у ваших заговорщиков. Чилийские военные в первые же часы путча начали бомбардировку с воздуха президентского дворца, затем погиб президент Альенде. С военной точки зрения это не имело никакого смысла, но с самого начала вселило ужас в людей, парализовало волю к сопротивлению…»
Возможно, это и случилось бы.
– Надо поднажать! – говорил вечером двадцатого Язов на совете военных и КГБ в Министерстве обороны. – У нас есть вертолеты, танки, мы их подавим.
Рассматривался вариант разгрома первого и второго этажей Белого дома с помощью вертолетов. И только предупреждение командующего ВВС Шапошникова поднять в воздух самолеты заставило путчистов отказаться от этого варианта.
Когда анализируешь все эти события, возникает ощущение недосказанности, нехватки информации, странности всех этих событий.
Запретили выпуск газет, но газеты выходили, печатались листовки в типографиях, функционировали независимые сети кабельного телевидения, работала телефонная связь с заграницей и по Союзу. Радио «Свобода», «Голос Америки», Би-би-си, радио России разносили по эфиру новости с мест событий. Непонятно, где в ту ночь были Таманская, Кантемировская, другие дивизии, перешедшие на сторону российской власти.
Последовавший за путчем арест руководителей ГКЧП, освобождение Горбачева из форосского заключения, запрет центральных газет, поддержавших путч, снос памятников деятелям прежнего режима и многое другое так и не внесли ясности и только еще больше запутали ситуацию.
По сообщению московской конвенции предпринимателей, занявшейся поисками денег КПСС, бывший главный редактор газеты «Правда» Фролов сразу же после путча вылетел в Дюссельдорф, якобы для лечения гангрены ноги. Но уже через час покинул клинику и исчез. По мнению конвенции предпринимателей, Фролов вылетел для снятия партийных денег с секретных счетов. По прикидкам специалистов, КПСС имела около семи тысяч засекреченных денежных счетов в Европе, Уругвае, Эквадоре, Никарагуа, Кубе, Иране и других государствах. Тайные счета КПСС практически окутали весь земной шар. Только за последние несколько лет на них было переведено около ста миллиардов долларов.
Промелькнула статья в британской газете «Гардиан» о тайном вывозе золота из СССР в Швейцарию, затем в Англию. В Швейцарии, по существующим законам, не регистрируются иностранные «золотые» операции, следовательно, и золото России будет регистрироваться в Великобритании как швейцарское. Крупная операция на двенадцать миллиардов долларов.
И не странно ли: стоило только приступить к расследованию, как тут же начали выпадать из окон своих квартир лица, хоть чуть-чуть причастные к тайнам партийных денег.
И уж совсем как о мелочи говорится в заявлении генерала А. Аслаханова, председателя Комитета по вопросам законности ВС РСФСР: «Я служил в системе МВД СССР и занимался выявлением экономических преступлений, возглавлял соответствующие отделы. Документы, которыми я располагаю, попали ко мне в разное время из проверенных источников. Люди, передавшие их мне, рисковали жизнью, так как речь идет о миллионах (если не о миллиардах) рублей, и в валютном исчислении… До недавнего времени существовала практика, когда управляющие делами ЦК КПСС и Совета Министров СССР брали ценности в Гохране СССР и впоследствии за весьма символическую плату продавали работникам ЦК КПСС, Совмина СССР. Драгоценные камни, драгметаллы исчезали не только из Гохрана. Я объездил почти все ювелирные фабрики, был почти на всех приисках. То, что я увидел, было самой настоящей анархией. Эти люди ничего не боялись…»
Золотые слитки вывозились на подводных лодках, деньги переводились в целях конспирации на счета мелких банков, затем переводились в другие, путались следы. Потом миллиардные суммы снова концентрировались где-нибудь в Иране или Никарагуа.
Да и сейчас из страны каждый месяц вывозится один миллиард долларов. И как тут не вспомнить торгово-закупочные и другие предприятия, созданные на деньги КПСС. Они работают, они действуют, эти разные фирмы, банки, торговые дома. И из этого ежемесячного миллиарда часть денег снова перетекает на партийные счета. И создай хоть сто комиссий – никто никогда не найдет эти украденные партией деньги.
Вспомним про золото партии третьего рейха. Где оно? Сколько его? Как оно действует? Где оно всплывет и как выстрелит? А может быть, оно уже всплыло, уже действует? На Западе растет движение неофашизма. Растут как грибы неофашистские партии в России. И рано сбрасывать со счетов коммунистов – золото партии может финансировать любое движение, любой переворот, любой новый путч.
Странный, карикатурный ГКЧП августа 1991 года и утечка российского золота и партийных денег. В этой связке много загадок. Не сомневаюсь я в одном: партийные деньги сработают в качестве страшной разрушительной силы для России.
После августа 1991 года у меня на душе появилось нехорошее предчувствие. Страна ликовала, страна справляла победу, но какой-то гибельный запах я ощущал в воздухе того времени. В глазах истеричных людей была тоска и жажда крови. Страна постепенно начинала сходить с ума. Все понимали: это не конец. Все идет к бойне. Рок завис над страной. Убийство Александра Меня, смерть Сахарова – многие видели в этом знак беды. Национальные, политические, другие многочисленные силы столкнулись грудь в грудь и зашли в тупик. Проба сил, репетиция кончилась. На горизонте замаячила гражданская война. Страна становилась неуправляемой. Ее раздирали противоречия. Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы Ельцин, используя ситуацию, не ликвидировал двоевластие, сосредоточив в руках всю полноту власти. Именно в тот момент нужна была одна, и сильная, рука. СССР неудержимо несся к развалу. Республики требовали суверенитета. Совещание в Беловежской Пуще. Российское государство подтверждает право на самоопределение республик. Запутанный узел обострившихся социально-политических, межнациональных противоречий был разрублен. Власть перераспределилась в республиканские структуры. Начался парад суверенитетов.
Огонь, грозивший захлестнуть Россию, перекинулся на окраины. Резня турок-месхетинцев, армяно-азербайджанская война, осетино-ингушская, грузино-абхазская, кланово-гражданская в Таджикистане, Приднестровье. Все эти войны, вспыхнувшие одни раньше распада СССР, другие позже, показали, что СССР за семьдесят лет так и не сформировал ясной, привлекательной объединительной идеи, за которой пошли бы народы. Все загнанные насильно внутрь болезни социализма вырвались наружу.
Национальная подозрительность, национальная исключительность, родовая клановость, скрыто культивируемое пренебрежение к другой нации – все это подспудно зрело в государстве и вспыхнуло от первой искры.
Чувство боли и одиночества охватывает меня, когда я вспоминаю своих друзей, живущих теперь уже в других государствах. Осиротела Россия. И часто вспоминаются слова слепой старушки, еще тогда своим мудрым сердцем почувствовавшей наступающие беды: «Ты скажи, сынок, там, наверху. Нельзя, чтобы была война».
Один чабан рассказывал. Пропало у него пять овец. Заподозрил он соседа в краже. А у того – глаза бегают, лицо хитрое. И повадки какие-то воровские. Ну точно – он украл!
Через несколько дней чабан нашел овец, заблудились они в балке. Пригнал домой, встречает соседа. Смотрит: и глаза у соседа нормальные, и лицо приветливое, и в повадках ничего воровского. И с чего он недавно вором показался – непонятно…
К началу 1993 года Калмыкия была окончательно раздергана местными политическими течениями, группировками, улусными настроениями. Борьба между Председателем Президиума Верховного Совета республики и Председателем Совета Министров за руководство Калмыкией вошла в клинч. Выборы ничего не дали – силы были почти равны. Назначили новые выборы. Народ был равнодушен к кабинетной войне. Запустение, коррупция, клановость – все болезни России, как в капле воды, отражались и в Калмыкии.
Тяжелая неповоротливая структура управления. Сорок министерств, сто тридцать депутатов Верховного Совета, армия аппаратчиков – это оказалось слишком обременительным для населения в триста сорок тысяч человек. Требовалась кардинальная реконструкция власти, управления, требовалась идея, обращенная лицом к нуждам народа, разуверившегося в возможности перемен. «Что камень о горшок, что горшок о камень, – говорили в народе, – как ни крути – нам достанется».
Изредка прилетая на родину по депутатским делам, после московской суеты, вечной нехватки времени, рассчитанного по секундам дня я словно окунался в забытье. Было ощущение, что время остановилось в Калмыкии, и остановилось давно. Как корабль, получивший пробоину, республика медленно погружалась на дно, а мичманы в это время дрались за обладание капитанской фуражкой.
В моих коммерческих структурах работало к тому времени около шестисот – семисот тысяч человек. Это был хорошо отлаженный механизм с четкой системой управления. Сотрудники наших фирм зарабатывали приличные, можно даже сказать – очень приличные, деньги, но и работали на совесть.
Я видел в городе множество молодых людей, которые болтались без дела, без работы. Они хотели иметь машины, квартиры, хорошую одежду, но не имели возможности, не знали, как заработать. Ко мне постоянно обращались за помощью, я не отказывал, но это не было решением проблемы.
В Америке, кажется, в разговоре с Дюпоном, я рассказывал о деятельности моих благотворительных фондов. И Дюпон сказал мне:
– Господин Илюмжинов, а не кажется ли вам, что ваша благотворительная деятельность порождает целую армию бездельников? Вы губите свой народ. Вы приучаете его ничего не делать. Благотворительность заключается не в раздаче денег, а в создании рабочих мест. Народ сам должен зарабатывать, но создайте условия, чтобы он зарабатывал хорошо, и вы спасете нацию.
– Самая страшная категория нищих – это та, которая не хочет работать, чтобы стать богатой, так выразился один из современных экономистов. Но таких – ничтожное количество. Девяносто девять процентов готовы трудиться в поте лица, чтобы встать на ноги.
Уже в силу профессиональной привычки я прикидывал: как можно было бы изменить структуру управления республики, где наиболее выгодно сконцентрировать капитал, чтобы в короткий срок была ощутима отдача. По моим прикидкам, если убрать лишние звенья бюрократии, повернуть республику лицом к рынку, разбудить потенциал, Калмыкию можно было бы вытащить из долгов. Возникли схемы структур, обтачивались мысли, и постепенно стала складываться ясная картина экономических преобразований. Стало очевидно, что косметический ремонт здесь ничего не давал. Нужны были решительные, кардинальные реформы, на которые руководство республики не могло решиться. Время уходило. Необходимо действовать быстро. Новая волна экономических проблем из Москвы вскоре должна была докатиться до Калмыкии. Россия уже задыхалась в экономическом удушье, катастрофически девальвировался рубль, останавливались производства, возникали мощные забастовки, демонстрации. В правительстве Калмыкии еще надеялись на дотации, на помощь Москвы, как это было всегда. Но я знал, что в Москве уже нет денег и дотации в ближайшее время будут решительно урезаны.
Конечно, я мог бы сидеть в Москве, изредка помогать республике деньгами, машинами, медикаментами, продуктами, и все бы говорили: «Вот какой хороший человек этот Кирсан. Как здорово он нам помогает». Моя популярность среди населения росла бы, и все было бы замечательно…
Я был председателем биржи «Российская бумага», председателем Российской палаты предпринимателей, возглавлял еще ряд обществ, меня знали в деловых кругах Москвы и России, были налажены связи, работали структуры. Деньги, власть, положение, молодость, реальное дело, приносящее удовлетворение, – казалось бы, что еще нужно человеку для счастья? Никто бы не упрекнул меня, что я мало сделал для Калмыкии, для народа (ни один калмыцкий бизнесмен не сделал столько для республики, сколько я). Никто, кроме меня самого. Совесть мучила, говорила мне: ты можешь больше, ты должен… ты не имеешь права кивать на других.
Работа в бизнесе приучила меня рассчитывать только на свои силы. Ты – бегун на дальние дистанции. Ты – один, и нет надежды на помощь со стороны, на друга, партнера, на снисхождение, на скидку, слабость. Если начал – иди до конца. Если делаешь – ставь самую высокую планку, и пусть победит сильнейший. Надежда на помощь делает тебя уязвимым.
Как рассказывал мне один буддийский лама, есть состояние духа, которое называется позой стрелка. Натянут лук, человек сосредоточен и уже ничего не видит, не чувствует, кроме цели. Грянет гром над головой, ударит рядом молния – не шелохнется, ни один мускул не дрогнет. Ты – и цель. Ты сливаешься с целью, становишься одним целым, и тогда стрела, выпущенная тобой, попадает в яблочко.
Такое примерно чувство я испытал в армии. Кросс на дальнюю дистанцию. С полной выкладкой, по бездорожью. Кто-то отстал, кто-то впереди, и ты уже бежишь один. Пот щиплет глаза. Неумолимо несется время, тяжелый автомат бьет по телу, сбивает дыхание. Светящаяся стрелка компаса скачет, дрожит в нетерпении, указывает цель. Скорей! Скорей!
Я бегу сквозь ночь, падаю, поднимаюсь, продираюсь сквозь кусты. Уже нет сил, перед глазами расплываются разноцветные круги. Хочется лечь на эту мокрую холодную землю и больше не двигаться. Но делаешь шаг, еще шаг и еще. Уже на одной силе воли, на характере, стиснув зубы: я могу! я должен! я обязан дойти!
Решив вступить в борьбу за пост президента Калмыкии, я ясно понимал: народ устал от бесконечных выборов, политических интриг, игр в демократию. В Калмыкии нужно проводить резкую капитализацию сознания. Надо повернуться лицом к нуждам народа. Разбудить его, вселить уверенность, что он может и должен зарабатывать не те жалкие гроши, которые он получает сейчас, а настоящие, достойные его труда деньги. Пока еще не поздно, республику нужно резко разворачивать лицом к рынку.
Я ясно понимал, что после того, как я стану президентом, моя популярность среди народа резко упадет. Все те беды и проблемы, которые накопились в Калмыкии, поставят мне в вину и будут требовать немедленных перемен. Но это были мелочи по сравнению с тем, что республике грозило падение в экономическую пропасть.
Кроме того, к тому времени на Северном Кавказе возникла чрезвычайно опасная ситуация, и огонь межнациональных раздоров мог докатиться до калмыцких степей. Нужны были срочные меры для мирного урегулирования кавказского котла, пока еще не вспыхнуло, не рвануло в этой динамитной зоне.
Сомнения мучили меня: стоит ли браться, взваливать на себя эту ношу? Смогу ли?
Я вылетел в Болгарию к Ванге.
– Какой ты молодой! – удивилась Ванга, когда мы встретились. Она покачала головой и снова повторила: – Какой молодой.
Я спросил: стоит ли мне бороться за пост президента? Может быть, есть человек достойнее меня? Который больше принесет пользы народу?
И еще спросил, каким видится прорицательнице будущее Калмыкии.
– Твой народ много страдал, – сказала Ванга. – Но он искупил свою вину. Я вижу, как рассеиваются тучи. Я вижу цветы. Иди к народу, ты можешь много для него сделать.
После встречи с Вангой я побывал в Индии, у Его Святейшества Далай-ламы и попросил благословения.
В марте 1993 года я вступил в предвыборную борьбу.
Моими основными соперниками были генерал-майор Герой Советского Союза В.Н. Очиров, прошедший афганскую войну, и В.X. Бамбаев – председатель ассоциации фермеров Калмыкии.
На следующий день после того, как я объявил о своем решении, мне позвонили:
– Кирсан Николаевич?
-Да.
– Ну зачем вам идти в президенты? Желающих на это место и так достаточно. Не лезь.
– Это почему?
– Ты ходишь без охраны. В наше время убрать человека – дело двух недель. Подумай.
Моя предвыборная борьба началась. Я познакомил народ со своей программой: ликвидировать советскую власть; упразднить КГБ;
интересы гражданина должны стоять выше интересов государства;
частная собственность священна и неприкосновенна;
из сорока действующих министерств оставить пять, остальные сократить;
парламент из ста тридцати депутатов урезать до двадцати пяти;
церковь присоединить к государству.
И многое другое.
Среди моих единомышленников было много таких, которые пытались смягчить программу.
– Кирсан, ну зачем ты объявляешь об упразднении КГБ? Ты представляешь, какого врага ты наживешь? Вычеркни. Вот станешь президентом, тогда спокойно уберешь, без шума.
– Ты восстановишь против себя весь номенклатурный аппарат, всех депутатов. За ними знаешь, какая сила? Это целая армия – мощная, влиятельная. Сожрут и не поперхнутся.
Но я решил не идти на эти уловки. Народ должен был знать, чего я хочу. Эта программа была для народа, и я верил, что он поддержит меня.
– Хватит шептаться по углам, – сказал я, – Борьба должна быть честной и открытой. Пусть будет борьба программ, а народ сам разберется, что для него лучше.
Я начинал первую в стране капиталистическую революцию. Первый опыт в стране перехода от социализма к капитализму.
Мне нужно было сразу показать избирателям, чего может достичь человек, если он хочет работать, если он желает упорно трудиться.
Для предвыборной борьбы был закуплен и прислан в Калмыкию девятиметровый «линкольн», на котором я объезжал районы, чабанские точки, фермы. Из своих средств я месяц выделял деньги на молоко и хлеб, снизив цены в два раза по всей республике. Привез в Калмыкию группу ведущих врачей страны. Впервые Элиста увидела выступления Криса Кельми, группы «Кар-Мэн», Газманова, Апину, Распутину и многих других. Народ всколыхнулся. Предвыборная борьба набирала темпы.
К началу апреля стало ясно, что основная борьба предстоит между мной и генералом Очировым. Его поддерживал международный «Русский клуб», членом которого он являлся.
Выборы в Калмыкии были настолько необычны, нетрадиционны, что вызвали живейший интерес в стране и за рубежом. В Элисту прилетели наблюдатели, корреспонденты центральных газет, Центральное телевидение, иностранные корреспонденты. Каждый день самолет Москва – Элиста доставлял все новые и новые группы журналистов, наблюдателей, политиков. Впервые за семидесятилетнюю историю социализма за пост президента боролся бизнесмен-миллионер, открыто заявивший, что упразднит советскую власть.
Борьба становилась все ожесточеннее. Началась кампания по дискредитации моего имени. «Загадочные миллионы Кирсана Илюмжинова», «Что хан грядущий нам готовит?» – такими заголовками пестрели газеты. Была срочно создана бригада из Министерства безопасности Калмыкии, Министерства внутренних дел России, депутатов из группы «Союз». Проверяли банки, мои коммерческие структуры, искали компромат. Распускались слухи, домыслы. Я предполагал, что так будет, когда решился бороться за пост президента. Недаром меня несколько раз предупреждали по телефону: не уйдешь сам – раздавим, пристрелим. Меня удивляла примитивность мышления моих противников. Разве умный человек, имея за спиной теневой капитал, выставит себя на всеобщее обозрение? Разве он полезет под свет прожекторов, даст рассматривать себя под лупой?
Но как бы то ни было – копали, собирали данные, искали, трудились в поте лица с утра до вечера. У них было задание: до одиннадцатого апреля найти компромат во что бы то ни стало. За месяц провели более десяти проверок. Тщетно!
Тогда схватились за дело о продаже мазута, пытаясь как-то связать мое имя и недополученные республикой миллионы долларов, которые заморозил Внешэкономбанк на своих счетах. Но все это было шито такими гнилыми белыми нитками, что при первом прикосновении рассыпалось в прах.
Еще в начале деятельности корпорации «Сан» мы, как я уже говорил, поставили себе жесткое правило: никаких сомнительных сделок, операций, договоров. Тогда была цель – завоевать себе честное имя на международном рынке. Теперь же я благодарил Бога, что мои подчиненные меня не подвели и не сделали ни одного неверного шага. Поэтому насчет проверок моих коммерческих структур я был спокоен. Волновало другое. По мере приближения к дате выборов в открытую конкурентную борьбу начали вкрапливаться подлость, обман, ложь. И я понял, что теперь можно ожидать все, что угодно. Конкуренты перешагнули через данное честное слово вести борьбу программ, а не личностей. Нарастало напряжение. Надо было срочно принимать защитные меры. Наш выборный штаб предупредил своих людей: не ввязываться ни в какие конфликты, не поддаваться на провокации. Было строго запрещено употреблять даже пиво во время выборов, проведены инструктажи, приняты меры безопасности. И все же напряжение росло. Слишком опасные, изощренные в политической борьбе силы противостояли мне.
В Москве в это время было тоже неспокойно. Собирался Девятый, внеочередной съезд. Борьба между исполнительной и законодательной властями в Кремле (Ельцин – Хасбулатов) расколола пополам весь депутатский корпус, Москву, Россию. Наступили тревожные дни противостояния. Группа депутатов России требовала отставки Ельцина. Старый Верховный Совет Калмыкии, еще находящийся у власти, поддержал это требование. Мне было ясно: если Ельцина снимут, реформам, которые я наметил в Калмыкии, не бывать. В самый напряженный момент пришлось прервать предвыборную борьбу, вылететь в Москву, чтобы поддержать Ельцина.
Это был очень рискованный шаг. За время моего отсутствия мои конкуренты набирали очки, обретали все больше и больше сторонников. Но я четко понимал: главная борьба за будущее Калмыкии сейчас происходит в Москве.
Москва бурлила. Сторонники и противники Ельцина вышли на площади. Транспаранты, митинги, многотысячные толпы. В глазах яростная, пугающая непримиримость. В любую минуту могли вспыхнуть беспорядки, чреватые катастрофой. Впервые за много лет над Москвой нависла реальная тень гражданской войны. Калмыки говорят: «Если постоянно играть с ножом – обязательно порежешься». В воздухе Москвы уже чувствовались грозовые ветры, но тогда никто не предполагал, что это еще одна, уже последняя, репетиция перед октябрьскими событиями.
В принципе, Девятый съезд ничего не решил. Ельцин и Хасбулатов остались у власти. Было ясно: это только передышка, а главные бои – впереди.
В те дни в кулуарах Кремля ко мне подошел один из депутатов:
– Послушай, Кирсан. Мы ставим в Калмыкии своего человека, ты нам мешаешь. Не стой на пути, ноги обломаем. Ты понял?
– Как это – вы ставите? В Калмыкии триста пятьдесят тысяч. Это они выбирают, кого поставить президентом.
– А-а! – скривился он презрительно. – У меня одной охраны двадцать тысяч, мы вашу Калмыкию за одну ночь поставим на колени.
– А почему такой пристальный интерес к калмыкам? – спросил я у депутата.
– Да нужны мне твои калмыки… Нам нефть нужна. Газ. И мы их получим. Не советую тебе с нами конфликтовать.
Вот такой разговор состоялся в кулуарах Кремля с одним из депутатов Верховного Совета. И в тот момент я понял, что окончательно выигрываю: народ проголосует за мою программу. Иначе бы он не рискнул, этот депутат, так грубо, открыто давить на меня.
– Смотри, Кирсан, мы сделаем так, что тебя в наручниках увезут из Калмыкии, – на прощание предупредил он.
Съезд кончился, но в Москве меня задержали еще на несколько дней – по проверке моих коммерческих структур. Именно сейчас, именно в эти дни, когда шел предвыборный марафон. Случайно ли? И это еще раз подтверждало, что народ идет за моей программой.
Один из сотрудников МВД, входящих в группу проверки, признался мне:
– Да нам все ясно. Ничего за тобой нет. Мы бы давно закрыли проверку, но, понимаешь, давят. – И он выразительно посмотрел на потолок.
Да, я уверенно шел к победе на выборах. Из Калмыкии мне сообщили: группа депутатов потребовала перенести выборы на более поздний срок. Это говорило о том, что моим соперникам нужна отсрочка. Им не хватает голосов.
В первых числах апреля количество приватизируемых зданий, магазинов, складов возросло в двадцать раз. Номенклатура почувствовала, что ее дни сочтены, и тащила все, что можно было еще стащить в раздетой и разутой Калмыкии.
Еще в начале предвыборной борьбы ко мне приезжали фермеры, жаловались: начальство грозит, что если проголосуем за Илюмжинова, то не получим ни кормов, ни бензина, ни ссуды в банке. Что делать?
Теперь же начальство лихорадочно списывало, приватизировало, скупало за бесценок все, что можно было прибрать к рукам. Мизерность сумм, за которую скупалось народное добро, поражала.
Подъемный кран – 700 рублей, склад – 600, автомобиль «Волга» – 470 рублей. Я выступил по местному телевидению и предупредил: все, что незаконно прихвачено у народа, вернем обратно. Лучше верните сразу.
В ночь на одиннадцатое апреля многие горожане не спали. Подкатывали машины, сообщая вести из районов: со многими из них телефонная связь была прервана. Это – еще одна странность предвыборной борьбы. Ходили слухи об урнах с двойным дном, о подтасовках избирательных бюллетеней. По дороге на центральный избирательный участок неожиданно пропала урна с бюллетенями. Бросились искать. Звонили телефоны, сновали курьеры. В вестибюле штаба, в коридорах, на улице толпился народ. Не спали горожане, не спали многие приехавшие из районов, из сел, ожидали результатов корреспонденты, калмыки, приехавшие из-за рубежа.
В избиркоме шел подсчет голосов. Но, в принципе, уже было ясно: победа за моей программой.
Нервное напряжение этих дней спадало, и на тело наваливалась тяжесть.
Калмыкия первая в бывшем Советском Союзе сделала резкий поворот к капитализму. Шли последние часы, минуты советской власти.
Я сидел и думал о том, что предстоит сделать и какие ямы и рытвины готовит мне судьба на посту президента.
Белый дом – так называют в народе калмыцкий Дом правительства. К двенадцатому апреля он был полностью разграблен. Ковры, мебель, телефоны, даже стопки чистой бумаги – все было украдено. Счета министерств были пусты, сырье вывезено за пределы республики.
Так начинался первый день президентства. Еще шли поздравления из разных городов, стран СНГ, из-за рубежа. Позвонил Оппенгеймер, Филипп Моршан, пришла телеграмма от Дюпона, Чон Чжу Ена из Южной Кореи. А в коридорах Белого дома уже ожидали сотни людей, и у каждого была своя проблема: жилищная, финансовая, служебная…
Боль, горе, слезы, обиды широким потоком хлынули в мой кабинет. Одна проблема сменяла другую. Народу надо было высказаться, народ долго терпел. В народе появилась надежда на справедливость. И люди шли и шли до трех часов ночи.
Через несколько дней состоялась инаугурация. Поздравления от соседних республик, городов, деятелей трех религий, телеграммы.
Народ вышел на площади, на улицы. Народ ликовал. Это была его победа.
Калмыцкая мудрость гласит: «В степи перекрещиваются три бесконечности. Бесконечность степи, бесконечность неба и бесконечность души человеческой». Благодаря географическому положению на территории Калмыкии перекрещиваются три мощные ветви религии: христианская, буддийская и мусульманская.
Еще будучи во главе корпорации, я переводил многомиллионные средства в Калмыкию на строительство церквей, хурулов, помогал людям и священнослужителям, исповедующим ислам. И я был особенно рад, что представители этих религий поздравили меня с вступлением в должность и благословили меня на этот тяжкий путь.
Я родился в то время, когда в Калмыкии уже не существовало ни одного буддийского молельного дома. Все снесли, сожгли, взорвали. Лам и гелюнгов изгнали, сослали, расстреляли.
С утратой религиозной основы резко снизился духовный и моральный уровень калмыцкого народа. И весьма проблематичным стало его духовное возрождение. А без духовного возрождения нет будущего. Вот почему я вкладываю свои средства в храмы. Я хочу укрепить духовную основу моего народа, народов Калмыкии. На свои средства я построил в Калмыкии православную церковь, дал сто миллионов рублей на строительство калмыцкого хурула. Вскоре начнется строительство мусульманской мечети и католического костела. Калмыкия открыта для всех религий, проповедующих возрождение человеческого духа, добра, национальной и религиозной терпимости. Калмыкия хочет счастья для всех, независимо от национальности, вероисповедания, цвета кожи. В этом – великий моральный закон, завещанный нам предками. Закон неба один для всех. А религия – это разные главы одной великой священной книги Человечества. Я верю, наступит день, и эти главы наконец соединятся, и наступит благоденствие на Земле, и мир поселится в душе исстрадавшегося человека.
Никто неотделим от мира, от человечества, от Вселенной. Несчастье или счастье каждого из нас влияют на всех, живущих на Земле. Бог не имеет национальности.
В первые же дни я разогнал органы Советской власти, упразднил КГБ, приостановил приватизацию и назначил комиссию, которая должна была вернуть все, что незаконно было приватизировано бывшей номенклатурой. Распустил Верховный Совет из ста тридцати человек и образовал парламент из двадцати пяти. Из сорока министерств оставил четыре, создал департамент по делам религии при президенте. Мы отменили сорок шестую статью Конституции Калмыкии и церковь присоединили к государству.
Все это происходило без крови, без единого выстрела, мирным путем. Присоединение церкви к государству Патриарх всея Руси Алексий Второй назвал событием мирового значения.
Как я уже говорил, ко времени моего вступления в должность из Белого дома было вывезено, украдено все, что можно было украсть. Пришлось даже посылать за бумагой в ближайший магазин, чтобы напечатать первые указы.
Так мы начинали. Все свои автомобили, компьютеры, телефаксы и другую технику я передал республике: в Калмыкии не было бюджетных средств.
Известно, что политика – это концентрированное выражение экономики, но экономики в республике не было. Надо было срочно создавать систему экономических отношений, при которых работать плохо было бы невыгодно. Невыгодно не только для республики, но и для каждого. Калмыкия должна была стать огромной фирмой, с четкой структурой, где каждый на виду, где оплата строго соответствует вложенному труду, уму, таланту. В моей программе было записано: «Надо самим учиться зарабатывать на жизнь и соразмерять с кошельком свои аппетиты»; «Гарантом стабильности и безопасности могут быть только сытые граждане».
Но одно дело записать, другое дело выполнить. Когда передо мной предстала реальная и полная картина положения дел в республике, по моей спине пробежал холодок. Аэропорт, жилье, финансы, здравоохранение, экология, преступность, жизненный уровень, дороги… Я знал, что все это и тысячи других проблем сразу же навалятся на меня. Что все это в упадке, я знал еще до предвыборной борьбы. Экономисты, социологи, ученые дали мне полный отчет. Я знал, на что шел. Но ни я, никто другой не знали, что буквально за месяц произойдет катастрофическое падение и жизненного уровня, и рубля, и всего остального. К этому надо прибавить, что все, составляющее хоть малейшую ценность в республике, было расхищено. И резервный жилой фонд, и запасы, и деньги – все. Мою команду поставили перед фактом. Но назад пути не было.
Я отказался от зарплаты, командировочных и других выплат для себя – эти деньги по моей просьбе переводились в Аршанский детский дом и в бюджет республики.
Надо было работать засучив рукава, работать не те восемь часов, которые положено, а столько, сколько потребуется. Сдохнуть, но вытянуть республику из экономической пропасти. Теперь за все, что нам досталось в наследство от старой номенклатуры, отвечали уже мы. И кивать на предшественников, оправдываться, что мы расхлебываем чужие ошибки, было уже неприлично, стыдно. Как говорят калмыки, барса за хвост не берут, но, взявши, не отпускают.
Я собрал молодую, энергичную команду, которая смогла бы выдержать напряженный ритм работы, вынести на своих плечах двойные, тройные нагрузки. Эти ребята, которые бок о бок шли со мной в предвыборной борьбе, прошли проверку предвыборным марафоном.
Конечно, были и ошибки, были неожиданности, срывы. От них никто не застрахован. Многим не хватало опыта административной работы, масштабности, умения с ходу схватывать суть проблемы. Но я знал, что это естественная болезнь роста. И не ошибся. В основном команда быстро наращивала мускулы. И это было очень важно, чтобы хотя бы приостановить падение республики в экономическую пропасть.
Как я и предполагал, дотации республикам из Москвы резко сократились, и надо было выкручиваться самим. Экономика страны давала трещину за трещиной, и это тут же эхом отзывалось на положении республики.
В первые же дни от имени калмыцкого народа я послал приглашение Его Святейшеству Далай-ламе, главе буддистов всего мира, находящемуся в изгнании в Индии. Калмыцкий народ готов был предоставить ему убежище, землю для резиденции и всестороннюю поддержку. Приезд Далай-ламы в Калмыкию прочно укрепил бы политическую стабильность в республике. А политическая стабильность – основа основ экономического подъема.
С 12 апреля 1993 года началась изматывающая борьба за выживание республики, за приостановление обнищания народов Калмыкии.
К 1993 году в бывшем СССР за чертой бедности оказалось более 70 процентов населения. Смертность превысила рождаемость, резко возросло число самоубийств. В России насчитывалось девять миллионов алкоголиков и семьсот тысяч наркоманов, и число их с каждым днем росло. Волна этих бедствий обрушилась и на Калмыкию.
Был создан департамент по делам молодежи. Из своих средств я выделил десятки миллионов рублей, создал при департаменте коммерческие структуры, закупил за границей товары, чтобы болтающаяся без дела молодежь сама начала зарабатывать на свои нужды, чтобы департамент по делам молодежи стал окупаемым. Финансировал спортивные организации, приобрел спортинвентарь и многое другое. С министром внутренних дел мы собрали враждующие группировки города, предложили прекратить вражду.
– Ребята, хватит заниматься мордобоем и пьянством. Займитесь делом, – сказал я. – Вот вам деньги, вот наша помощь, вот конкретное, серьезное дело. Зарабатывайте. Обогащайтесь. Помогайте республике.
Подействовало. Буквально через несколько месяцев преступность снизилась на шестнадцать процентов, количество особо тяжких преступлений – на восемь. Сократилась контрабанда сайгачьих рогов, черной икры, осетрины. Рэкет, организованная преступность, раздирающие на части страну, были остановлены и не пустили корни в Калмыкии. Республика оставалась островком спокойствия и мира. Я прилагал усилия, чтобы территория мира распространялась все дальше и дальше. Калмыкия стала зоной урегулирования межнациональных военных конфликтов на Северном Кавказе. В тяжелый для республики момент Калмыкия выделила пять тысяч тонн зерна и направила их воюющим Осетии и Ингушетии, предложила свою территорию для мирных переговоров. История показывает, что все войны кончались тем, что воюющие стороны садились за стол мирных переговоров. Лучше бы начать так сразу, не ввергая свои народы в пучину бедствий, горя и слез.
В Калмыкии продолжались экономические, политические, законодательные реформы. На сессии парламента был принят Кодекс торгового оборота, которого не было в России с 1917 года. Создание оффшорной зоны на территории Калмыкии, о чем я давно мечтал, становилось реальностью.
О преобразованиях в республике заговорили в России, в СНГ, за рубежом. За короткое время только на Западе было около двадцати тысяч публикаций о Калмыкии. Из краев, областей, автономных республик приезжали в Калмыкию делегации, чтобы перенять опыт ликвидации местных советов мирным путем.
Мы стояли на пороге больших, кардинальных перемен. Республика стремительно разворачивалась в сторону рынка. Я прилагал максимум усилий, чтобы все лучшее, все, что работало бы на республику, приживалось в Калмыкии. Чтобы люди наконец увидели свет в конце туннеля, почувствовали облегчение. Неимоверно трудно давались эти шаги. Одна проблема цеплялась за другую. Запутанный клубок противоречий! Нужно было определить приоритеты. Нужна была жесткая централизация власти.
Для того чтобы республика заработала как единый организм, была создана корпорация «Калмыкия» с уставным капиталом в один миллиард долларов. Был построен коже перерабатывающий завод, самый мощный на Северном Кавказе. Заключен договор с компанией «Локхид» о строительстве международного аэропорта, а также с компанией «Ай-ти-ти». Вскоре на улицах Элисты появятся видеотелефоны и начнет работать спутниковая связь. С Министерством обороны заключен договор о строительстве дорог и санатория на побережье Каспийского моря. Современного санатория с вертолетными площадками для туристских путешествий над морем, с подводными лодками для любителей путешествий под водой. Все это в работе, в действии и в скором времени даст свои результаты.
В Калмыкию летели делегации бизнесменов со всех концов света. Работа кипела. Команда президента работала по четырнадцать – восемнадцать часов в сутки. Некоторые не выдерживали темпа, нагрузки и уходили. Но таких было мало. В основном работали, не считаясь со временем.
Чтобы не попасть в зависимость от иностранных компаний, я начал создавать за рубежом собственные компании со стопроцентно калмыцким капиталом. Экономисты считают, что только за один год Россия выплатила посредническим фирмам от двадцати пяти до тридцати миллиардов долларов. Для Калмыкии этот путь неприемлем. В ближайшее время начнут или уже начали работать за рубежом калмыцкие компании. Тридцать процентов акций всех компаний за рубежом, а также корпорации «Калмыкия» будет бесплатно роздано жителям республики. Это значит, что каждый житель Калмыкии, включая новорожденных, получит акцию на тысячу долларов.
Преобразования в Калмыкии настораживали. Я чувствовал это, прилетая в столицу, встречаясь с министрами, депутатами, руководителями многих регионов. Определенную группу руководителей страны пугала самостоятельность Калмыкии. Они опасались, что Калмыкия выйдет из-под контроля. Привычка руководить из центра еще крепко сидела во многих. В них прочно укоренилось барское, снисходительно-пренебрежительное отношение к провинции, сознание собственной значимости и непререкаемости своего авторитета.
Я не помню, чтобы кто-нибудь рассматривал Москву с точки зрения жителей провинциального города, районного центра, села. Чем для них была всегда Москва? Городом-эгоистом, городом-паразитом, высасывающим все самое-самое лучшее из огромной страны. Лучшие продукты – в Москву, лучшие таланты – в Москву. Лучшие вещи, лучшие дома, дороги, метро – все лучшее забирала Москва, концентрировала, копила в себе. Неудивительно, что со временем в Москве были собраны огромнейшие богатства со всех концов необъятной родины. Это наше с вами богатство, наш с вами труд, пот, талант. Мы вскормили этот город, отрывая на протяжении многих лет от себя самые лучшие, самые лакомые куски. И поэтому, я думаю, Москва должна считаться с каждым регионом, каждым городом, селом, с каждым человеком.
Столица же всегда диктовала тому же колхозу, району, как жить, когда убирать урожай, чем кормить, когда вставать и ложиться спать.
Я не понимал: почему, если Калмыкия – равная среди равных, как записано в законах, почему ей кто-то должен диктовать свои условия? Калмыкия не нарушает законов, Калмыкия не преступает конституционных норм, все же остальное – это внутренние проблемы республики.
Помню, было такое: приказали из Москвы всем перейти на единое время – зимнее, летнее. Встают доярки по новому времени, начинают доить коров, а те не доятся. Не дают молока – хоть тресни. Не перестроились они на новое время. Хоть строгача влепи – корове плевать. Натрави на нее КГБ – глазом не моргнет.
Откуда было знать Хрущеву, Брежневу, Горбачеву, чем живет чабан в калмыцкой степи? Что нужнее Черноземельскому району или Яшкульскому: колготки или колодцы? Что выгоднее: сеять или разводить овец? Но – приказывали, давили, диктовали. Сей кукурузу в Якутии, применяй ипатовский метод на Памире. Вот почему я был инициатором создания Совета субъектов Федерации. Субъекты Федерации знали правду о положении дел в своих регионах, а значит, и в стране. Они знали, как, когда и где нужно строить, что достать, обеспечить. Они знали настроение людей, их нужды. Это были реальные политики, обладавшие реальным весом, и не считаться с ними было нельзя. Если регионы обеспечивают столицу всем необходимым, то и отношение к ним должно быть как к партнерам, на равных. Держать регионы на положении Золушки неразумно, недальновидно… Тайное, глухое недовольство превратится в негласное противостояние. А это – питательная среда для очередного взрыва.
В кулуарах Кремля мне говорили:
– Ну что вы, калмыки, бежите впереди паровоза? Что вы все время суетесь поперед батьки? То со своим проектом конституции России, то еще черт знает с чем? Занимайтесь экономикой, а в политику не лезьте. Не ваше дело.
Наше дело! Потому что экономики без политики не существует. Не потому ли многие бизнесмены ушли в политику?
Как бы там ни было, но наши преобразования вызвали недовольство определенных властных структур, и на Калмыкию началось давление. Москва принялась закручивать гайки. Это было предупреждение: не суйся в большую политику, знай свое место.
На горле республики медленно начала затягиваться финансовая петля. Обещанные кредиты не поступали. Срывались договора, сроки поставок, предприятия республики сидели на голодном пайке. В элистинском аэропорту закрылись многие авиалинии – не хватало горючего. Накапливались неплатежи. Останавливалось строительство. Народ начал роптать. По республике, как тараканы, начали расползаться слухи: «Кирсан кончился, Кирсан выдохся». Мои ошибки, ошибки моей команды оппозиция раздувала до гигантских размеров. Бежали дни, недели, месяцы – кредитов не было. Со мной начали связываться западные инвесторы, предлагать помощь, но условия были кабальные. Я удивлялся их осведомленности в экономике Калмыкии, в условиях текущего момента. Эта осведомленность говорила о том, что их информаторы находятся в самых верхних эшелонах власти.
«Братская дружба, единая семья народов страны» – все это красивые легенды, сказки коммунистов. Может быть, потом, лет через сто, человечество и станет единокровным братством, исчезнут границы, страны и наступит царство благодати и благополучия. Но – не сейчас. Сейчас страну раздирают противоречия, и в политике, экономике нет друзей. Есть партнеры, объединенные одной целью, одной выгодой.
Я знал, что Ельцин одобряет мои реформы, внимательно следит за ними. Но в тот момент пробиться к нему, встретиться с Президентом России я не мог. Люди, заинтересованные в том, чтобы поставить Калмыкию на колени, блокировали все попытки добиться такой встречи. Больше ждать было нельзя: времени не оставалось. Каждое утро ко мне стекались сводки экономического положения в районах республики. Оно ухудшалось. Надвигалась катастрофа.
Растерянные взгляды министров, звонки глав администраций районов: что делать?
Из собственных средств, заработанных в бизнесе, я затыкал многочисленные дыры и прорехи. Мои капиталы таяли на глазах. Ну что ж, я знал, на что шел, становясь президентом.
В какой-то мере все-таки удалось удержать скачок цен в республике. Цены на хлеб и молоко оставались приемлемыми. Во всяком случае, они были ниже, чем в других регионах России. И в Элисте не сидели с протянутой рукой нищие. Потом многие с удивлением будут спрашивать: «А как тебе удалось удержать Калмыкию на самом краю пропасти? Мы считали, вашей республике пришел конец. По всем признакам вы должны были грохнуться в пропасть».
Они «считали»… Я вспоминаю те дни, то нервное напряжение, бессонные ночи, тугой узел проблем и думаю: «Неужели я смог тогда выдержать эту гигантскую лавину, выстоять?» Вспоминаю – и не верится. Поразительно мудра природа, наделив человека колоссальным запасом прочности… Когда к трем-четы-рем часам утра уходили последние посетители, я приезжал домой на короткий отдых – до семи-восьми часов утра. Ловил на себе сочувствующие взгляды жены, матери: зачем тебе все это надо? Зачем ты взвалил на себя этот груз? Надорвешься, не выдержишь!
Не было ни сил, ни времени отвечать, спорить. Я молча ложился на кровать, но сон не приходил. Многочисленные проблемы Калмыкии заслоняла новая, более страшная угроза – всеобщего раскола России. В Москве чувствовалось затишье перед грозой. Это ощущение усиливалось с каждым днем. Что-то должно было произойти. Противостояние Хасбулатов, Руцкой, с одной стороны, и Ельцин – с другой, достигло критической черты. Приближались события 3-4 октября. Анализируя ситуацию, я ясно понимал: в Москве прольется кровь. Я полагаю, это понимали многие. Понимали и выжидали: чья возьмет. Я неоднократно пытался убедить глав регионов России: надо что-то делать. Близится катастрофа. Пахнет гражданской войной.
– Не ввязывайся, – уговаривали меня. – Сами разберутся. Они не хотят, чтобы мы лезли в большую политику, вот пусть сами и расхлебывают.
– Не разберутся, – возражал я. – Противостояние зашло слишком далеко. В Москве может начаться бойня. Это не только их, это наша общая проблема. Если в Москве полыхнет – нас засыплет обломками.
– Да не волнуйся, Кирсан. Отсидимся у себя на местах. Закроемся в горах, лесах, в степях. Это их дела, московские. У нас свои проблемы.
– Не отсидитесь. Любой «першинг», любая ракета «земля – воздух – земля» за пять – десять минут долетит до вас.
– Лучше не лезь, Кирсан. Голову оторвут. Не те, так эти. Сам же и виноватым окажешься…
Вот оно. Аукнулось. И Приднестровье, и Карабах, и Тбилиси… Неужели нас жизнь так ничему и не научила? Хулиганы бьют на улице прохожего – не вмешиваемся. Бандиты грабят соседа – двери на замок, сидим тихо: не дай Бог, пристрелят. Дальше – больше. Осетины с ингушами? Абхазия с Грузией? Да пусть передерутся, поубивают друг друга. Нам-то что! У нас своих проблем хватает! Хлеб вот опять подорожал. Сосед пьяный всю ночь спать не давал. Вот оно – начало. «Плотина разрушается с маленькой трещины, сделанной муравьями» – так говорят мудрецы:
Дней за десять до кровавых событий я несколько раз пытался дозвониться до Ельцина – не соединяли. Пытался попасть на прием – тщетно. Один раз приехал, просидел в приемной пять часов, но так и не добился встречи.
Политика делается не на съездах и заседаниях. Политика делается в кулуарах. Именно там обговариваются детали, сращиваются коалиции, блоки, группировки, берут исток политические течения. Экономические, политические, личные интересы – все круто замешано, скрыто от глаз, но именно на этой почве рождаются постановления, законы, направления.
Я не принадлежал ни к одной коалиции, блоку, течению. Мне много раз говорили на съездах, сессиях Верховного Совета: давай к нам, Кирсан, за нами сила. Мы контролируем промышленные районы. Мы держим руку на пульсе. Я отвечал: группировки, течения, блоки возникают и рассыпаются, а Калмыкия была, есть и будет. Интересы Калмыкии не принадлежат ни одной группировке.
Потом Ельцин, смеясь, скажет: «Кирсан, гуляющий сам по себе».
Да, у Калмыкии был свой путь, путь объединения регионов, наций, путь прекращения развала страны, путь собирания государства. Путь умиротворения.
Мы объединили под своей крышей религии, предоставляем для мирных переговоров воюющим сторонам свою территорию, помогаем хлебом, продуктами разоренному войной населению. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы человек не убивал себе подобного. Я был уверен, что в противостоянии Ельцин – Хасбулатов можно найти компромисс, поэтому я пытался встретиться с Ельциным.
На Востоке есть легенда: к властителю пришел странствующий монах. Но придворные его не пустили. Наконец после долгих усилий, ублажив золотом слуг, монах попал во дворец. Он низко склонился перед визирями, а шаху кивнул небрежно.
– Монах, – возмутился шах, – властитель здесь я, а это только мои слуги. Ты ошибся.
– Нет, – ответил монах. – Я понял, кто главный во дворце. Здесь все решают визири. Ты же – только исполняешь решения.
Диктатура ближайшего окружения – страшная вещь.
К концу сентября Белый дом был уже оцеплен. Шли последние дни мира. Надо было что-то делать. Срочно, потому что неумолимо уходило время. Еще можно было предотвратить трагедию. С Председателем Президиума Верховного Совета Бурятии Л. Потаповым, Председателем исполкома Ленсовета В. Густовым, еще двумя главами администраций мы пошли к Белому дому. Полковники, стоявшие в оцеплении, пытались отговорить нас. Белый дом уже огородили колючей проволокой, и он напоминал возведенный в лагерной зоне дворец. Мы прошли внутрь здания, встретились с Руцким, Хасбулатовым. В зале заседаний шла сессия Верховного Совета. Я попросил слова, призвал народных депутатов проявить благоразумие, пойти на переговоры и решить этот конфликт непременно мирным путем. Я сказал, что мы не стоим на стороне ни Президента, ни Хасбулатова с Руцким, мы защищаем единство России. Сейчас главная задача – сохранить целостность Российской Федерации, не допустить кровопролития.
Это был глас вопиющего в пустыне. Не услышали. Не захотели услышать. У меня было ощущение, что вариант расстрела Белого дома никто всерьез не принимал. Конечно, об этом все говорили, этим пугали друг друга. Но в глубине души никто не верил в такой исход. Как будто шла игра: кто первым испугается, тот и проиграл.
И все говорили, говорили. Очень много красивых, правильных слов о долге, стране, народе, законности. Сколько мы их слышали за свою жизнь! Если бы эти слова подтверждались действиями! Если бы… Если бы действительно думали о судьбе России – кровь бы не пролилась. Нашли бы выход. Не знаю какой, но – бескровный.
«Сидение» в Белом доме продолжалось уже двенадцать дней. В здании находились больные, не было тепла, света, питались сухарями и сухим пайком. Двое суток машины Международного Красного Креста с лекарствами и продуктами стояли у оцепления. Их не пропускали. Почему?
Я связался по телефону-спутнику с Председателем Совета Министров России. Нужно прекратить блокаду, иначе это может вызвать провокации и с той, и с другой стороны. Любой алкоголик, психопат, у которого случайно окажется оружие, нажмет на спуск, и произойдет катастрофа.
Никакой реакции. Молчание. Ходили слухи, что Белый дом забит оружием. Чтобы убедиться, так ли это, мы решили сделать обход здания.
У наружного ограждения стояли добровольцы: казаки, пацифисты, коммунисты, фашисты, но без оружия. Оружие было у милиции, которая несла охрану внутри здания. Табельное оружие. Это нас немного успокоило. Трое суток я находился в Белом доме. Все это время пытался связаться с Ельциным, написал две записки – о том, что Хасбулатов и Руцкой готовы, по моему мнению, сесть за стол переговоров и что нужно скорее начать эти переговоры.
Это был шанс. Возможно, последний. Записки я передал в Кремль. Ответа не было. В эти дни к Белому дому подогнали машину с двумя рупорами. День и ночь крутилась дурацкая музыка, а в перерывах: «Сдавайте оружие, выходите. Вы – преступники!» Музыка и голос. Голос и музыка. Круглые сутки.
Массовый психоз все более нагнетался. Впоследствии болгарский академик Тодор Дичев, занимающийся аспектами психотропной войны и методами дезомбирования, напишет:
«…Белый дом должен был облучаться на подавление психики, максимально – во время заседаний Верховного Совета. Собиравшихся у стен цитадели угощали какими-то напитками, в которых, по моему мнению, содержались психотропные вещества. У многих были чрезмерно расширены зрачки. Кроме того, ни с того ни с сего поливальные машины, которых не было все лето, начали смывать осеннюю грязь с асфальта. Я полагаю, что в растворах цистерн также присутствовали психотропные вещества.
Некоторые газеты перепечатали выступление президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова в правительстве республики. Прямая речь имеет свои правила, но если проследить текст, то психологи найдут там несовпадения и в определенных местах пропуски. Это есть не что иное, как кратковременные провалы в памяти, или, по-научному, – синкопальное состояние, что типично для людей, подвергшихся психотропному облучению. Так подтверждаются слова Илюмжинова о плохом самочувствии и «тяжести», которая навалилась на него во время пребывания в Белом доме…» (газ. «Интервью», № 2, 1993 г.).
Мы предприняли еще одно обращение к Ельцину, Хасбулатову, Руцкому от имени субъектов Федерации. Молчание. Все. Лимит времени был исчерпан. Я помню это ощущение своего бессилия и неотвратимости беды. Страшное ощущение. И – началось. Захват мэрии, бойня у телестудии «Останкино», осада Белого дома… Смерти, жертвы, кровь… И – кто виноват? Наверное, все мы, жители многонациональной, многомиллионной России. Мы все виноваты в этом. Мы могли остановить, но не остановили. Из-за равнодушного нейтралитета пролилась кровь, и эта кровь лежит виной на нас, россиянах. Во всяком случае, я с себя вины не снимаю.
После первой крови, первой смерти что-то нарушилось в сознании людей, в сознании народов России. Страна перешагнула через моральный, через религиозный запрет – не убий. И я понял: мы вступили в новую, страшную эпоху, расстрельную. Теперь все дозволено. Простите нас, дети наши. Что промолчали, просидели.
Сможем ли мы осознать все, что произошло в те дни? Не прикрываясь политическими лозунгами, а объективно осмысливая страшный, людоедский факт: человек убивал человека в центре России на глазах сотен миллионов людей.
Утром третьего октября в Елоховской церкви состоялся молебен о ненасильственном разрешении конфликта. Но небо было глухо к людям, отвернувшимся от него. Бич Божий поразил Москву, опустился на спину России…
Я смотрю на свою Золотую медаль Мира, на медаль Почетного гражданина, врученную мне в Париже, множество других медалей, наград и почетных званий и с ужасом думаю о своем маленьком сыне. Пройдет время, он вырастет и спросит: а что ты делал в то время, когда жгли дома и убивали турок-месхетинцев? Когда шла бойня в Приднестровье, в Карабахе? Получал медали Мира? Звание академика?
Что я отвечу ему? Что ответим мы им, идущим вслед за нами? Какую страну оставим мы своим детям? Государство, поделенное на секторы бандитскими группировками, полное жестокости, убийств, беззакония и нищеты? Как же они жить-то будут в таком государстве, дети наши?
Утром четвертого октября по Белому дому ударили танки. Москва умылась кровью. Все смешалось: правда, предательство и героизм. Нервозность, суматоха, сумбур, противоречивая информация, слухи. Гражданская война ломилась в двери. Теперь уже все депутаты, вся Россия понимала это. Тогда из занавески, сорванной в кабинете Валерия Зорькина, мы соорудили белый флаг и снова поехали к Белому дому. Теперь нас было человек десять, но по пути многие странным образом исчезли. В итоге остались Мы с Русланом Аушевым и еще один-два человека. Надо было вывести женщин и детей из здания. Вокруг Белого дома стояли толпы: кто-то поддерживал Белый дом, кто-то Ельцина. Но больше всего поразило меня многотысячное море зевак; многие пришли сюда с детьми: как же, людей убивают, интересно! В тысячу раз интереснее сказок про Колобка и Красную Шапочку. Смотрите, детки, учитесь убивать. Это совсем не страшно, даже забавно. Шарах из танка – и нету чьего-то папы!
После долгих переговоров и согласований мы с Аушевым миновали ограждение и прошли в здание. Стрельба вроде бы утихла, но, когда мы подходили к подъезду, снова раздались выстрелы и пули засвистели над нашими головами. Трупы, раненые, стоны. Подошел генерал Ачалов, сказал:
– Перехвачены радиопереговоры между военными. Поступила команда: по президенту Калмыкии стрелять на поражение.
Нервы были напряжены до предела, и до меня не сразу дошел смысл сказанных Ачаловым слов. Почему-то вспомнилось выражение: «Дорога в ад вымощена благими намерениями…»
Внизу тоже шла перестрелка. Лейтенант из Приднестровья закричал наверх:
– Здесь президенты Калмыкии и Ингушетии. Не стреляйте!
Мы тоже подали голос, чтобы прекратили стрельбу. Вокруг темно, и в этой темноте гулко разносилось визгливое эхо выстрелов. Стрельба постепенно утихла. Мы начали подниматься. Наверху молодые ребята, необстрелянные, возбужденные. Нервничают. Пальцы на спусковых крючках. А тут еще эта суматоха, неразбериха: где одни, где другие – непонятно.
По темной лестнице, по темному коридору на ощупь, спотыкаясь, мы поднялись наверх. Фонариком освещаем белый флаг. С улицы залетают пули, с визгом впиваются в стены, сыплется штукатурка, едкая пороховая гарь разъедает горло, глаза. Где ползком, где перебежками поднимаемся наверх, пролет за пролетом. С крыши гостиницы «Украина» палят снайперы. Пули визжат над самой головой – не встать.
Не знаю почему, но запомнилось, как я полз под окнами по липкой, начинающей уже чуть твердеть человеческой крови. Чья она была? Украинская? Русская? Чеченская? Труп уже унесли, а кровь осталась. В темноте она казалась черной, и я не сразу понял, что это кровь. Пол был усыпан осколками стекла, и я порезал руку. Кровь обильно стекала с моей руки, смешиваясь с той, уже загустевшей. Вот так и произошло мое кровное братание с неизвестным парнем, с мертвым парнем. И важно ли – кто он? Какой национальности? Все мы – люди.
Уже потом, в Чечне, привезут меня к памятнику жертвам сталинского геноцида. В сорок четвертом году, после высылки чеченцев, сровняли с землей чеченские кладбища, чтобы и памяти не осталось об этом народе. Надгробными каменными плитами выкладывали мостовые. И покатили по надгробным плитам, по горю и слезам чеченского народа пушки, да танки, да солдатский кирзовый сапог – вперед, никуда не сворачивая, прямой дорогой к светлому будущему всего человечества.
После возвращения из ссылки чеченцы разобрали дорогу, вывернули остатки каменных надгробий и поставили их у мемориала жертвам геноцида, где выбита короткая, но емкая надпись: «Плакать не будем. Теряться не будем. И не забудем».
Я молча стоял у этого мемориала, закатные лучи падали на гранитные обломки памятников, и казалось, надгробия кровоточили, взывая к родовой, генетической и духовной памяти народа: плакать не будем, теряться не будем и не забудем.
И вспыхнет в ту минуту в памяти: на омертвевшую холодную кровь натекает моя, еще живая, горячая. И защемит, защемит сердце у чеченского мемориала горя…[1]
Руцкого и Хасбулатова мы встретили, кажется, в коридоре. И снова уговаривали прекратить стрельбу. В это время два снаряда, выпущенных прицельно, разорвались в комнатах, где за пять минут до этого находились Руцкой и Хасбулатов.
По темным коридорам, по комнатам, по углам собирали мы прятавшихся от пуль до смерти перепуганных женщин и детей. В основном это был обслуживающий персонал, а также те, кто оказался случайно в этот момент в здании. Нашли мальчишку – он забился в угол и сидел, съежившийся, дрожащий, с расширенными от ужаса глазами. Аушев взял его за руку, повел к остальным.
По спутниковой связи связались с Олегом Лобовым, секретарем Совета Безопасности. Предупредили, что ведем безоружных женщин и детей. Знакомые депутаты передали записки, письма своим родным – не верили уже, что останутся живы…
Нас почему-то ведут не влево, а вправо по лестнице. Странно, ведь по телефону мы обговорили все детали вывода людей. Спускаемся вниз. Выйти нельзя: стрельба. Что делать? Мы стоим на первом этаже. Любой снаряд, залетевший сюда, превратит людей в месиво. Становится жутко: ведь это мы привели людей на первый этаж. Они смотрят на нас с надеждой, со страхом. Они верят нам.
Проходит минута. Тяжелая, мучительная. По рупору кричат в сторону БТРов, что мы выводим женщин и детей. Просят прекратить стрельбу. Снова связываемся по спутниковой связи. Подтверждаем, что с нами – женщины, дети.
Наступает тишина. Нервы, чувства обострены. И вдруг в этой тишине, после грохота и разрывов снарядов, после криков раненых, я услышал гул Москвы. Мирной Москвы. Гул потока машин с Садового кольца и, кажется, со стороны Киевского вокзала шум проходящей электрички или поезда. После всего виденного мной в Белом доме это было странно и чудовищно. Здесь – кровь, остывающие трупы, а в ста метрах – люди, идущие в парикмахерскую, едущие на дачу, дети, бегающие по аллеям. В ста метрах от нас другая жизнь, другая эпоха, другая планета.
В то мгновение мне показалось, что Москва сошла с ума: она ослепла и оглохла. Это не укладывалось в голове. Это невозможно. Этого не может быть. Люди, да что же с нами творится? Даже на смерть человеческую тебе наплевать, Москва! Ты будешь есть мороженое и читать газету.
Я делаю глубокий вдох, задерживаю дыхание. Надо успокоиться. Хотя какое, к черту, успокоиться? Разве можно сейчас быть спокойным? Выдох. Сбросить напряжение. Гулко, тяжело бухает в висках. Уже вторые, третьи сутки раскалывается голова.
– Не стрелять! Не стрелять! Выходят женщины и дети!
Все. Взмахиваем белым флагом, выходим… Дети, женщины жмутся друг к другу. Каждому хочется забраться в середину колонны, уменьшиться в размерах.
Я иду. Где-то там, на крышах, сквозь оптические прицелы за нами следят снайперы. Кажется, я почти физически ощущаю, как прицел винтовки ощупывает мою грудь. Остывают жерла танковых пушек. Звенящая тишина. Мое тело кажется огромным, безмерно огромным. Ноги – ватные, тело – чужое, неповоротливое. Гляжу на Аушева. Лицо каменное – ничего не прочитать. И вдруг тишину разрывает нарастающий рев:
– А-а-а-а!
Мы приближаемся к толпе. Слов не разобрать. Крики, мат, угрозы, проклятия сливаются в одно звериное, жаждущее крови и смерти: а-а-а-а!
В воздухе мелькают палки, арматура. У мальчишки, которого подобрал Аушев в Белом доме, мелко-мелко трясется подбородок, лицо белое, в глазах – ужас. Он уже видел смерть, он знает, что это такое. Ему страшно. Он дергается, пятится назад. Молча. Он уже понимает, что плакать, умолять – бесполезно. Он стал взрослым за эти несколько дней. Внутри меня вспыхивает, взрывается ярость: да одумайтесь же! Мы же – люди! Руцкисты, ельцинисты – мы все люди! Хватит крови! Хватит смертей!
Толпа не слышит, толпа наэлектризована до фанатизма. Слова разума уже не доходят до нее. Толпа жаждет крови, по ней проходит ток разрушения.
– Вот они, черножопые! – Кто-то тычет пальцем в меня и Аушева. Глаза красные от бешенства. Кулаки сжаты. – Вот они!
Толпа рвется к нам. Над головами взметаются палки, арматурные прутья. Летят кирпичи. Автоматчики из оцепления едва сдерживают толпу.
– Скорей к автобусам! – Мы подгоняем идущих за нами к спасительным автобусам.
Толпа ревет надсадно, страшно. Женщины с детьми заскакивают в автобусы. Цепь автоматчиков размыкается, прямо на нас с Аушевым бегут десятки людей. Десять шагов, пять шагов разделяют нас. Теперь уже отчетливо видна чернота раскрытых звериных ртов, бешеная ненависть взглядов, в которых клокочет жажда растоптать, забить до смерти. Я пытаюсь им крикнуть: «Остановитесь! Одумайтесь, люди!» Телохранитель рывком распахивает дверь подъехавшей машины, швыряет туда меня и Аушева, прыгает сам. Дверца захлопывается. По бронированным стеклам «линкольна», по крыше, по капоту лупят десятки железных палок, булыжники. Кто-то рвет ручку дверцы.
– Выходи, черножопые! – Мат перемежается угрозами. Толпа в ярости: ее лишили возможности убить…
Дорога перегорожена стальными трубами, решетками. Люди в пятнистой форме делают знаки: поворачивай за угол – дорога туда свободна.
Как выяснилось потом, там, вдали от лишних глаз, нас поджидали профессионалы с приказом: «На поражение».
Валера – опытный водитель – жмет на педаль. «Линкольн» ревет. Машина рвет с места, всей семитонной массой врезается в баррикаду. Скрежет, хруст, визг железа. «Линкольн» проламывает заслон. Вдогонку лупят автоматные очереди. Пули щелкают по стеклам, по колесам, по броне. На полной скорости сворачиваем на какую-то улицу, потом еще поворот. Все – выскочили на Садовое кольцо…
Аушев что-то говорит, но слов не разберу. Кровь прилила к вискам, и каждый удар сердца отдается глухим звоном в ушах. На бледном лице Аушева – улыбка. Мальчишеская, обезоруживающая, нелепая в этой ситуации. Какой вид у меня – не знаю. Наверное, такой же нелепый.
За нами на «вольво» прорывалась из окружения наша охрана. Ее отсекли. Спецназ вытащил наших ребят из машины, положил на землю – там, за углом, куда нам указывали сворачивать.
– Где Кирсан? Где ваш президент? – Били прикладами, таскали за волосы. – Где? Куда делся Илюмжинов?
И по рации: «Спецназ, Илюмжинов в «линкольне» вырвался. Стреляйте без предупреждения».
Кому выгодна была моя смерть? Кто так настойчиво добивался ее? Чей заказ исполняли специалисты в пятнистой форме? Нет ответа на этот вопрос. В те дни, 3-4 октября, под шум и суматоху сводились личные счеты, оплачивались лицензии на убийство, убирались конкуренты и ненужные свидетели. В то мутное время легко было меткий снайперский выстрел заглушить грохотом автоматных очередей и буханьем танковых пушек.
Прямо из Белого дома, немытые, небритые, мы с Аушевым приехали в Кремль. Перепачканная, грязная одежда – некогда было переодеваться – смутила чопорный Кремль. Но нам было не до этого. Надо было остановить бойню. В три часа там начиналось совещание субъектов Федерации. Я не мог говорить, боялся, что сорвусь, начну кричать. Говорил Аушев.
Вольтер однажды заметил: «Весьма опасно быть правым в том, в чем не правы великие мира сего…»
Через несколько часов ордер на мой арест лег на стол Президенту России Б. Н. Ельцину.
– А Илюмжинов-то здесь при чем? – спросил Ельцин.
– Ну-у… все-таки был в Белом доме. Неизвестно, что делал там…
Не странно ли? Им было неизвестно! Я посылал записки, звонил, выступал на совещаниях, переговаривался по телефону с ближайшим окружением Президента, и все это было неизвестно…
И – началось. Инициатива наказуема – эту формулу социализма и постсоциализма надо бы золотом выбить на Красной площади, на Лобном месте, на бывших зданиях ЦК, обкомов, горкомов, в школах и детсадах. Самыми крупными буквами: «ИНИЦИАТИВА – НАКАЗУЕМА».
Центральное, российское телевидение по нескольку раз в день крутили одни и те же кадры: я с белым флагом иду в Белый дом, где находятся Руцкой, Хасбулатов, где засели баркашовцы, анпиловцы, коммунисты и прочие. Но я не припомню ни одного кадра, где бы показали, как мы с Аушевым выводили женщин и детей из-под пуль. Не было ни фотоснимков в газетах, ни комментариев. Подавали только это: Илюмжинов, Аушев идут в Белый дом с белым флагом.
В политике не бывает случайностей. И показанная или рассказанная часть правды, а не полная правда – это изощренная форма лжи. Кому-то очень надо было показать меня именно так, выставить на всеобщее обозрение, внушить всем: смотрите, вот он какой! Ату его! Фас!
Я догадываюсь, какие силы раскладывают этот пасьянс, но доказательств нет. И наверное, не будет: не дураки они, чтобы оставлять доказательства. Идет крупная игра, а в крупные игры дураки не играют. Ведь ставка здесь ни много ни мало – Калмыкия. Ее ресурсы: нефть, газ, бишофит, черная икра, шерсть, мясо. Ее выгодное географическое и стратегическое положение. Ставка – республика, вместе с ее населением, хотя на население, на народы им наплевать, им ресурсы нужны.
Поэтапно все эти события можно расположить так:
1. Отдай республику, уйди с дороги, а то хребет сломаем.
2. По Илюмжинову стрелять на поражение (заметьте: не по Илюмжинову с Аушевым, а конкретно по Илюмжинову).
3. В ту минуту, когда мы должны были вести переговоры с Руцким и Хасбулатовым в их кабинетах – а ведь знали, что мы идем вести с ними переговоры, – танки долбанули по этим кабинетам. Случайность?
4. Полуправда, показанная по всем каналам телевидения, призванная убедить: Илюмжинов – враг.
5. Я еще был в Белом доме, а уже был заготовлен ордер на мой арест (в случае, если останусь жив). Ордер в тот же день лег на стол Б. Н. Ельцину.
Каждый эпизод, взятый отдельно, вполне мог быть случайностью. Но когда они собраны вместе, элемент случайности становится бесконечно малым.
Я прилетел в Элисту. Республика была в растерянности: ложь, правда, слухи, вымыслы – все смещалось в головах людей.
– Что будет теперь с республикой? Зачем ты полез в Белый дом? Теперь нам перекроют кислород. Ты подставился, подвел нас всех! – такие упреки услышал я, вернувшись в родной город.
Местные политики и городские пророки кипели от негодования, делали заявления. Оппозиционная печать раздувала слухи.
– Теперь Кирсану конец. Он политический труп. Кирсан – президент, но уже бывший, – слышал я за спиной.
И снова вытащили из нафталина дело о мазуте, о четырнадцати миллиардах, взятых на закупку шерсти. Странным образом, как по волшебству, в центральные газеты просочилась секретная аналитическая записка Ерина президенту Ельцину, где говорилось, что и происхождение моих капиталов «темное», и Калмыкию надо душить экономической петлей, чтобы народ озверел от голода и скинул президента.
Революция, как утверждал Ленин, не делается в белых перчатках. Политика – тоже. Задавить голодом триста пятьдесят тысяч жителей республики, включая новорожденных, чтобы отыграться на одном человеке, – логика убийственная. За что? А не ходи в Белый дом, не спасай людей. Но главное – не лезь в Большую политику. Сиди тихо, паси баранов – будешь хороший.
Надо отдать должное принципиальности Ельцина. Не подписал указ об аресте, хоть и подсовывали ему под горячую руку, когда еще не улеглись страсти. Но холодный ветерок уже побежал по властным коридорам Кремля, разнося «шу-шу». Недаром меня крутили по телевидению, как «Сникерс», и газетные статьи недаром тиражировали свои домыслы.
В те месяцы Москва играла с Калмыкией в детскую старую игру, в которой надо ехать на бал, но черное с белым не надевать, «да» и «нет» не говорить. Отказывать республике ни в чем вроде бы не отказывали, но и навстречу не шли. Все мои усилия тонули в бюрократической рутине министерских канцелярий.
Впрочем, это уже было не смертельно. Россия избежала гражданской войны, и миллионы, десятки миллионов людей, над которыми смерть распластала свои крылья, ходили, дышали, жили. А ведь могло бы случиться по-другому, могло…
Кто проходил по Новому Арбату в Москве, наверное, видел на крыше одного из зданий огромный металлический белый шар. Что это? Каково его предназначение? Как-то любопытные журналисты попытались подняться на крышу. В подъезде их остановили, потребовали документы. На крышу так и не пустили: нельзя, неположено. На все вопросы – молчание. А потом и вообще вытурили: не суй нос, куда не следует. Не твое дело.
А чье же тогда? С нас дерут налоги – и немалые – на содержание армии, службы безопасности, милиции, прокуратуры. Мы вправе знать, куда идут наши деньги. Журналисты позвонили в Министерство безопасности – там и понятия не имеют. Странно, не так ли? Связались с Министерством обороны – не знают. Куда бы ни обращались за разъяснением – или молчание, или разводят руками.
А таких шаров по Москве несколько: на Арбате, на Садовом кольце, у посольства США, где-то еще. Журналисты оказались дотошными, окольными путями выяснили: в шарах сложная аппаратура для приема спутниковой связи. А можно ли с помощью этой аппаратуры прослушивать телефонные разговоры? Оказалось – можно. Даже разговор двух прохожих на улице – тоже можно. Да и не только это.
Психологи отмечают необычайную агрессивность людей с той и другой стороны в дни октябрьских событий. Проверял ли кто-нибудь напитки и продукты, которые привозились руцкистам и ельцинистам? Почему сразу же после событий тщательно убирали территорию вокруг Белого дома и поливальные машины долго мыли тротуары? Случайность? Не много ли случайностей? И странная заторможенность многих депутатов, и агрессивность попавших в зону действия этой случайности… А в трехстах метрах – люди отдыхают на скамейках, идут за хлебом, покупают цветы. Спокойные, мирные, доброжелательные…
Политика, бизнес, наука управления. У многих за этим стоит неуемная жажда власти. Каждый человек на земле – загадка. Мы не знаем себя, но пытаемся руководить другими. Еще не осознав свою собственную ценность на Земле, мы посягаем на ценность других.
Ни экономика, ни политика не имеют права подавлять человека, разрушать его тонкий, сложный внутренний мир: веру, принципы, мораль, дух. Но – пытаются, разрушают, воздействуют. Триллионы клеток живут в человеке независимо от его желания, сознания. Почему бы не использовать их против самого же человека? Каждый волос, каждая молекула существуют независимо от нашей воли, мыслей, чувств. Значит, можно подавить волю, чувства на молекулярном уровне. Мы большую часть своей жизни живем хаотично, бессознательно. Значит, можно усилить хаос, проникнуть в сон, сломать человека, подчинить его, сделать психотропным роботом. Мы стремимся к общению, потому что в нас сидит страх одиночества. Почему бы не усилить этот страх?
Много писалось о гипнотизме Гитлера, о массовом психозе немецкого народа. Мало писалось в этом ракурсе о Сталине, хотя стопроцентный «одобрямс» – это и есть психоз масс. Зомбирование населения ведется не первое десятилетие. То там, то здесь мелькают об этом короткие сообщения. Кто она, эта третья сила, тайно управляющая нами? Есть ли она? Где всплывут те сто миллиардов, на поддержку какого политического движения уйдут они, на какие тайные научные разработки пустят эти деньги? И главное – какова конечная цель?
На первый взгляд эти вопросы кажутся надуманными. Дай Бог, чтобы я ошибался. Дай Бог, чтобы ошибся болгарский академик Тодор Дичев. Дай-то Бог…
Но, помнится, несколько лет назад в корпорацию «Сан» пришел человек и предложил таблетки или порошки, которые подавляют волю человека.
– А зачем мне? – спрашиваю.
– Ну как же, Кирсан Николаевич! Вы же крупный бизнесмен. К вам масса народа ходит. Большими делами крутите. Кого уговорить, кого уломать… Сыпанул в чашку с кофе – и ноу проблем. Никакого рэкета, никаких последствий. Сам все подпишет, сам все отдаст.
Я отказался. Но ведь тот ученый пошел наверняка к другому. И я не сомневаюсь – нашел покупателя. Нет Морального закона, все дозволено. А сколько таких ученых в стране? Физиков, химиков, владеющих секретными формулами?
Каждое утро ко мне на стол кладут кипу газет. Просматриваю. Вот снова мелькнуло сообщение: ученые в загоне. Нет средств на исследования, на оплату труда. Ученые вынуждены уезжать за границу, в страны «третьего мира». Там они нужны, там рвутся к созданию ядерного, нейтронного, другого оружия. Там находят деньги на оплату труда. Мы – нет. На Игры Доброй Волн есть, а на оплату лучших мозгов страны – нет. «Умом Россию не понять», – сказал поэт. В России всегда был переизбыток талантов.
Что же с нами происходит? То ли рок какой завис над Россией, то ли выпали мы из мирового процесса и так и застыли на обочине, то вперед пойдем, то назад двинемся и снова стоим: куда идти, что делать, кто виноват?
Мне часто вспоминаются слова болгарской прорицательницы Ванги:
– Вы стоите в конце тяжелого пути. Скоро небо очистится над твоим народом. Народ искупит свою вину. Я вижу цветы, а это – расцвет нации.
Искупление вины… В Софии был дождь. Самолет прорвался сквозь облака, и над темно-голубыми плотными развалами туч вспыхнуло яркое, режущее глаза солнце. Я летел в Россию и думал: значит, это правда. Земля окутана невидимой оболочкой человеческих душ. Ничто не может пропасть в этом мире – ни мысли, ни желания, ни душа. Все хранится в Космосе. Академик Вернадский, теолог-дарвинист Тейяр де Шарден называли этот невидимый накопитель ноосферой. Сферой разума. Другие ученые – всепроникающим мировым вакуумом. Буддисты-калмыки называют его Великой Пустотой, нирваной, где Время течет в ту и другую сторону.
Ничто не исчезает бесследно. Ничто. За все спросится и будет каждому по делам его…
Христианство, ислам, буддизм много веков вели мир к духовному очищению, а значит, к созданию нового человека. Человека, на порядок выше человека сегодняшнего, духовно совершенного.
Техническая цивилизация – это смена одежд. Наряди дикаря в костюм от Пьера Кардена, разве он станет другим?
Духовная сфера человека – это именно то, о чем забывают сегодня многие политики. Сейчас уже поздно сетовать на то, что у населения скопились десятки миллионов единиц огнестрельного оружия, гранат, мин. Это состоявшийся факт. Практика показывает, что запреты, указы, ужесточение ответственности малоэффективно. Обозленность на всех и вся достигла предела. Сейчас главное, чтобы человек, у которого есть оружие, не нажал на спуск. А это уже сфера духовного. С 1917 года, с начала разрушительной войны против церкви, были сломаны моральные запреты, и в душе образовалась пустота. Она ширилась и углублялась. Замена Бога коммунизмом не состоялась. Потеряли одно и не приобрели другое. Может быть, поэтому мы и выпали из мирового процесса. Создавалась новая, непонятная, страшная генерация человека – советского человека, отмеченного перевернутым сознанием, принявшего ложь как условие жизни, создавшего язык подтекста, недоступный для понимания в свободном обществе. Человека, живущего в рабской, экономической и духовной нищете.
Ничего не пропадает в этом мире. И копилось, копилось в Великой Пустоте все, что наворотили мы в своем безумии, и черная аура затянула, закрыла солнце.
Я много часов беседовал в Индии с Его Святейшеством Далай-ламой Четырнадцатым, искал ответа в Ватикане у Папы Римского, долго разговаривал в Сергиевом Посаде с Патриархом всея Руси Алексием Вторым и все больше и больше утверждался в своем мнении: духовное очищение народа – только этот путь выведет нас в двадцать первый век, в третье тысячелетие с наименьшими потерями, оздоровит нацию. Крестный путь покаяния и духовного очищения тернист и долог, но другого пути нет. Мы скатились к Средневековью, ко времени распада Руси на отдельные самостоятельные княжества, и стали добычей любого, имеющего грозный меч – ядерный, экономический, бандитский.
Процесс распада Великого государства был неудержим. Отделения, суверенитеты, границы, таможни, национальные валюты. Все понимали, что, если не остановить этот процесс, произойдет катастрофа. Но процесс вышел из-под контроля. Цепная реакция вступила в завершающую стадию, и каждый боялся подойти к бикфордову шнуру, чтобы его загасить.
Я не считаю себя политиком. Я ожидал, что в этот критический момент веское слово скажут настоящие политические деятели, каковыми считали себя многие, выступающие на сессиях в Кремле, расхаживающие по кровавым коридорам правительственных зданий.
В свое время они говорили мне: «Сиди тихо, не лезь в Большую политику, паси своих баранов, мы без тебя тут разберемся». Я ждал от этих политиков кардинальных, решительных шагов. Время уходило. Они молчали. Уже Урал объявил себя республикой, Дальний Восток заговорил о суверенитете, об отделении – они молчали, эти вершители Большой политики.
С XVII века калмыки шли плечом к плечу с Россией. Слишком много жизней положили они во имя создания Великого государства Российского, чтобы безразлично взирать на гибель державы. Кто-то должен был сделать первый шаг, чтобы остановить гибельный процесс распада. Переступить через национальный эгоизм, через сознание национальной исключительности и самолюбования. Кто-то должен был встать на путь самопожертвования, отказавшись от права на самоопределение. Великого права.
Я понимал: этот шаг взорвет стабильную политическую ситуацию в Калмыкии, всколыхнет затаившуюся оппозицию, отбросит от меня в другой лагерь многих, не понимающих, что мы стоим на краю пропасти. Я ясно понимал: после этого шага мой авторитет в народе катастрофически снизится. Но другого пути не было.
11 марта 1994 года я сделал заявление об отказе калмыцкой нации от права на самоопределение и о замене Конституции Калмыкии Великим Степным уложением, напряженная работа над которым велась много месяцев.
Я не ошибся. Взрыв негодования прокатился по республике. Срочно, уже на следующий день, был создан Общественный Комитет защиты Конституции. Снова поползли слухи, домыслы. Разношерстная оппозиция объединилась. Это был их звездный час. Обвинения в измене народу, продаже Калмыкии кремлевским властям, требования об отставке в тот же день посыпались на меня.
Утром следующего дня у здания правительства выстроились пикетчики. Многие слышали мое заявление в пересказе других, в интерпретации, с чужих слов. Общественные защитники Конституции накаляли обстановку. Я дал двухчасовое прямое интервью по телевидению, объяснил свою позицию, обрисовал общую политическую ситуацию в стране, рассказал, какое будущее ждет Калмыкию, если страна окончательно развалится.
После этого я собрал у себя в кабинете лидеров оппозиции. Разговор шел долгий, трудный, очень напряженный. Я считал: пусть мы стоим на разных платформах, придерживаемся разных точек зрения относительно пути развития республики. Но если мои оппоненты – истинные патриоты, если им действительно дорого будущее Калмыкии, они должны осознать неизбежность того мучительного, но вынужденного шага, на который пошел президент, чтобы остановить процесс развала государства. Если у нас одна цель – счастье народов Калмыкии, мы поймем друг друга.
А экономическая ситуация в республике была далеко не самая лучшая. Каспийское море наступало на степь. Республике требовалось двенадцать миллиардов рублей для принятия срочных мер. Бедствие, обрушившееся на Калмыкию, разметало и без того непрочный бюджет республики. Были залиты пастбища, размыты дороги, подтоплены селения. Кроме того, развал государства, нарушил торгово-экономические связи. На складах лежала шерсть – серое золото Калмыкии, но у партнеров не было средств выкупить ее. Взаимные неплатежи стали бедствием. А республике нужны были срочно деньги на дальнейшую разработку месторождений нефти, газа. Увеличивалась безработица, снижался коэффициент рождаемости, выросла смертность. Я с цифрами в руках доказывал оппонентам, что иного пути у нас нет. Только объединив Россию, мы восстановим экономические связи, а значит, прекратим обнищание народа. Россия дала нам много, и вот наступило время платить долги. Мы должны сделать этот шаг.
Взрывная ситуация на Северном Кавказе. Хрупкий мир в любую минуту может разлететься в клочья, и Калмыкия, которая пока еще держится на плаву, сгорит в огне. За этот год построили несколько школ, больниц, проложили сорок три километра газопровода, сто километров газовых сетей, сто двадцать километров электропередач, проложили новые дороги и тепловые сети. Но для дальнейшего подъема нам жизненно необходимо существование крепкого государства. Усилия Москвы сверху наталкиваются на сопротивление регионов. Остался единственный путь – объединение снизу, исходящее из самих регионов. Это наш шанс. Мы не отказываемся от республики, мы сохраняем территорию, герб, флаг, мы заключим договор с Россией, по которому получим гарантии, права, полномочия. И главное, зачем нужна свобода самоопределения Калмыкии? Разве Калмыкия собирается выходить из состава России?
Несколько часов я доказывал оппозиции правильность моего шага. Тщетно. Не поняли. Не захотели понять. Комитет защиты Конституции разослал гонцов по районам, по населенным пунктам, предприятиям, учреждениям, выпустил листовки, собрал бывших депутатов, бывших представителей власти, послал ходоков в Москву к Ельцину. В общем, развил бурную деятельность. Мне непонятна была логика ура-патриотов. С одной стороны, они обвиняли меня в том, что я сдал на откуп Москве Калмыкию. С другой – ехали в ту же Москву с жалобой на президента Калмыкии.
Впрочем, мое выступление по телевидению всколыхнуло не только Калмыкию. В кабинете постоянно звонил телефон, шли телеграммы, факсы.
– Что ты делаешь, Кирсан? Ты же нас подставляешь! – возмущались представители других республик. – Ты развяжешь в Калмыкии гражданскую войну. Народ такие ходы не понимает.
– Что там у вас происходит? – спрашивали из правительства России. – Что за Степное уложение? Зачем отказываетесь от Конституции? Надо было бы прежде посоветоваться с нами.
Звонили из Ближнего зарубежья, из Болгарии, Югославии, Франции и Германии, позвонил из США Р. Никсон, звонили лидеры партий и блоков: что произошло в Калмыкии?
Особенно всполошились политики, считая, что это какая-то хитрая политическая интрига. Пытались разгадать: что за этим кроется? Чего хочет Илюмжинов? Чего добивается?
Я не верил, что в Калмыкии начнется гражданская война, которой пугали меня руководители соседних регионов. Калмыки – буддисты, а мироощущение буддиста не приемлет крови и смерти, оно направлено на ненасилие, умиротворение. Именно поэтому в Калмыкии сохранялась политическая стабильность, несмотря на все экономические и другие потрясения. Я верил в мудрость народов Калмыкии. Я ни на минуту не сомневался, что люди поймут меня.
Великое Степное уложение впервые было принято в 1640 году на съезде джунгарских и халхасских ханов. Это было время раздора и смуты. Племена были раздроблены, ослаблены междоусобицей и битвами с внешними врагами. Двадцать восемь ханов и три буддистских деятеля съехались, чтобы принять Великий степной закон, который искоренил бы войну между ханами, конфликты, несколько столетий раздиравшие страну. Они съехались, чтобы установить прочный мир и порядок на территории монгольских ханств.
Мудрость нации опирается на опыт прошлого. Калмыки говорят: «На руке пять пальцев, они все разные, но какой ни порежь – одинаково больно, ибо каждый – часть ладони и все пальцы дополняют друг друга».
Над всеми законами Великого Степного уложения эпиграфом, в котором заключена суть каждой статьи, стоят слова: «Да будет благополучие!» – великие слова предков.
Благополучие человека, благополучие семьи, республики, России. Человек должен быть богатым. Имея деньги, он в короткий срок пройдет экономический ликбез: куда вложить средства. Отдать в рост под проценты, создать свое предприятие, доверить государству. Эти деньги будут работать на республику и создадут основу ее благополучия. Поэтому в моей программе записано: «Интересы граждан выше интересов государства. Частная собственность священна и неприкосновенна». Это – долгий путь. Это – напряженный труд без выходных и отпусков. Но когда ты работаешь на себя, не на государство, этот труд не будет казаться изнурительным.
С ростом материального благополучия в сознании людей должна укрепиться мораль – высшая, надполитическая, всеобщая. Именно поэтому я присоединил церковь к государству, строю церкви, мечети, хурулы, костелы. Из своих личных средств я более трехсот миллионов рублей отдал на укрепление религии, создав фундамент для духовной опоры народов Калмыкии. Однако возрождение происходит не сразу, не вдруг. На это нужно время, деньги, терпение, тяжелый, многомесячный труд.
Я говорил многим из оппозиционеров: я отказался от зарплаты, не получаю ни командировочных, ни суточных. Лично на свои нужды я не беру из бюджета республики ни копейки. Из своих средств я вложил сотни миллионов в экономику Калмыкии. Я работаю по восемнадцать часов в сутки без выходных и отпусков. Моя программа осуществима, я ее опробовал на своих предприятиях, где работало шестьсот тысяч человек. Когда я уходил из бизнеса, многие плакали, потому что для них я уже тогда создал коммунизм.
Мне лично ничего не надо, я свои проблемы давно решил, я хочу блага Калмыкии.
Может быть, в моей программе есть неточности, ошибки – кто не ошибается? У вас есть своя программа? Давайте. Если вы докажете, что можете сделать больше на благо Калмыкии, я уйду. Я не держусь за кресло. У меня в Москве было больше власти и денег.
Нет программы. Не предлагают. Только хнычут: то не так, это не так. Вот уж год прошел, а коммунизма нет. Так его и не будет, если сидеть сложа руки и ждать, пока Кирсан Илюмжинов построит его для вас. Под лежачий камень вода не течет.
Я хочу создать мощный единый экономический организм, имя которому – Калмыкия. Только так мы можем выстоять в условиях всеобщего развала, разрухи, дестабилизации. И каждый гражданин республики должен работать на единую цель – благополучие всех и каждого.
– Вы обещали помогать людям. Дайте народу денег.
– Помогать – это не значит раздавать деньги. Я их уже достаточно раздал, пока не понял: что легко дается – не ценится. Помогать – это значит научить работать.
– А вот вы народ лишили Конституции. Как же мы теперь без нее? Теперь нас похоронят, съедят, растворят. Мы теперь – губерния России.
Мне рассказывали, что, когда умер Сталин, страна билась в истерике: как же мы теперь без Сталина? Все, конец.
Не хочу проводить параллели, но похоже. И ведь лидеры оппозиции понимают: Конституция – это фикция. Конституция не спасла Калмыкию от тринадцатилетней ссылки, где народ потерял почти половину, а может быть, и больше населения. Конституция не спасла от обнищания, от развала. Конституция устарела. Новое время выдвигает новые условия жизни, новые законы.
Не слушают. Что им мои доводы? Наступил момент, когда можно в одночасье заработать политический капитал, взбаламутить народ и стать лидером, войти в историю. Главное – подлить масла в огонь, пока народ не разобрался, не понял.
Митинги на площади, шествия, делегации в Москву – все это я предвидел. Я понимал: снова пойдет волна слухов, обвинений, лжи, и многие из моих сторонников испугаются, переметнутся на другую сторону. Не я знал, что вскоре эта пена сойдет и народ поймет, осмыслит мой поступок. Я верил в мудрость.
Защитники Конституции встретились с руководителем администрации президента России С. А. Филатовым. В Элисту прилетел Р. Г. Абдулатипов – заместитель председателя Совета Федерации.
Но, несмотря на утверждения Комитета по защите Конституции, что в республике произошел чуть ли не государственный переворот, жители Калмыкии не бросились в сберкассы снимать со счетов деньги, не расхватали в магазинах спички, соль и муку, не было очередей у касс Аэрофлота и железнодорожного вокзала. Народ постепенно начинал разбираться, что к чему.
– Знаете, очень много слухов разного рода, никому не нужных, – сказал Р. Г. Абдулатипов на встрече с жителями Элисты. – Есть исключительные полномочия Конституции Российской Федерации, ни один пункт которой не позволено нарушать. Есть совместные полномочия. Но есть еще и все остальное правовое пространство, в котором представляется возможность решать вопросы самостоятельно, об этом и сказано в Конституции России. Договоритесь друг с другом сами, не надо искать в Москве тех, кто «за» или «против»…
Стало ясно, что Москва поняла и одобрила мою инициативу. Процесс дробления России волновал не только меня. В первую очередь он затрагивал саму Россию, и тот шаг, который сделала Калмыкия, был жизненно необходим всем народам Российской Федерации.
В конце марта информационно-аналитический отдел провел социологический опрос населения методом анонимного анкетирования. За Великое Степное уложение взамен старой, отжившей Конституции высказалось 34,9 процента.
Скорее «за», чем «против» – 20,8.
Скорее «против», чем «за» – 10,1.
Против – 13,1
Это была победа. Напряженность в республике спадала. Можно было перевести дыхание. Я понимал, насколько тяжело дается это решение каждому калмыку, каждому жителю республики. Всю жизнь в нас вдалбливали понятия: Конституция священна, Конституция – защита наших прав, Конституция – надежда и опора в жизни народа, Конституция – это свобода.
Эти простые формулы вошли в сознание как аксиома. Так же как в сознание старшего поколения слова: «Сталин – отец народов», «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи» или «Религия – опиум для народа». Вырвать это из сознания удается не сразу, ломка идет с болью и кровью. Но без этой ломки – нельзя. В этот опасный для России, для всех нас момент надо было подняться над национальным самолюбием, поднять забрало, отшвырнуть меч. Кто-то должен был сделать это первым в дни всеобщего межнационального недоверия и страха. И Калмыкия, показав пример другим, принесла жертву общенациональному делу возрождения Отечества.
Моя мечта – ¿делать республику такой, чтобы каждый житель Калмыкии гордился ею. Как гордится своей страной житель Америки или англичанин, японец или француз. Мы должны, мы обязаны добиться, чтобы дети наши с гордостью произносили: «Я – житель Калмыкии». В сознание каждого должно войти: сначала ты житель Калмыкии, а потом уже чеченец, даргинец, русский, калмык, украинец. Сначала – твоя малая родина, земля, на которой ты живешь, все остальное – потом. Моя мечта – увидеть расцвет Калмыкии. Таким, каким его увидела Ванга.
Цицерон сказал однажды великую фразу: «Больше, чем сделал, сделать не могу». Сделать бы это нормой каждого дня! Пусть будут ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но мы должны, обязаны поднять нашу Калмыкию, иначе зачем мы на этой земле? Я вижу, знаю, как тяжело народам республики. Но разве где-нибудь в бывшем СССР сейчас хорошо? Время сейчас такое. Надо бороться за жизнь. Другого пути нет. И борьба будет жестокой, суровой. Мы живем в годы больших потрясений, расплачиваемся за чужие грехи и ошибки. И надо ясно понимать: расплачиваться будем еще долго.
На самом краю пропасти успели остановить экономическую катастрофу, во весь рост встает другая – духовная, а за ней третья – экологическая. Еще неизвестно, какими потрясениями, какой местью воздаст нам природа за ее погубленную жизнь.
В 1966 году произошло сорок три биосферных катастрофы, в 1979 году – уже восемьдесят одна. В последние годы их количество превзошло самые мрачные прогнозы. Число генетических поражений возросло в четыре раза. Сейчас в костях любого ребенка на Земле содержится стронций-90. Из ста злокачественных опухолей восемьдесят развиваются под воздействием окружающей среды. Ужасаемся ли мы этому? Нет. Привыкли. Каждый год исчезают многие виды растений, животных. Добывая руду, уголь, газ, мы создали под землей гигантские пустоты, которые провоцируют землетрясения и наводнения. Знаем ли мы об этом? Что мы делаем, чтобы защитить себя? Ничего. Отравлены реки, воздух. Мы едим уже непонятно что и дышим непонятно чем. Мы говорим: мать-природа, мать-земля – и убиваем эту мать жестоко и безжалостно. Так кто же мы? Люди? Или мы превратились в зомби, в манкуртов?
Как-то весной сломалась у нас машина, и пришлось заночевать в степи, на мертвом берегу канала Волга-Чограй. Зачернело небо, покрылось стальными пятнами звезд. И надрывно, долго и жутко несся из двадцатиметровой глубины сухого канала крик умирающей матери-сайгачихи. Несколько дней умирала она и несколько дней кричала, лежа со сломанными ногами среди уже гниющих трупов других животных. А по обрывистой кромке метался сайгачонок и плакал, плакал, как человек. Так и перекликались они, пока не умерли.
Только что нам до мук их? Мы и себя-то не любим, не жалеем, не ценим. Что нам какие-то сайгаки, если вся страна наша – то концлагерь, то палата номер шесть.
Нет Морального закона – и распалась цепь событий. Нет Морального закона, и эгоизм – личный, семейный, родовой, национальный – кричит, требует: дай! Мы забыли слово «на»! Мы многое забыли за эти годы. Мы потеряли память.
Для того чтобы восстановить связь времен, найти себя в этом хаосе, нужны стремление к объединению и жертвенность. Только пройдя через это испытание, через осознание его, сможем мы спасти себя, народ, страну, Землю. В одиночку не спасется никто: ни Калмыкия, ни Россия, ни США. Ни у одной нации, ни у одного народа не хватит в одиночку ни сил, ни средств, ни времени спастись от надвигающейся мировой катастрофы. И это надо осознать сегодня, завтра уже будет поздно.
Ни политические партии, ни самые умные и справедливые правительства не спасут нас, пока большая часть людей на Земле не осознает, не примет в сердце Моральный закон, единый для всех. Это долгий, мучительный процесс единения путем взаимного покаяния, взаимных уступок и отрешения. Нет малых народов, стран, наций, каждая нация – великая! Уникальная, как и каждый человек. Смерть каждого из нас обедняет человечество на целую эпоху, целую Вселенную. С человеком, с каждой отдельной особью умирают закаты и рассветы, первая любовь, друзья, знания, его уникальность. С ним умирают миры, которые он вобрал в себя.
Да, нужен Единый Моральный Закон. Мне скажут: сначала надо поднять экономику, сделать нормальной жизнь, а уж потом хвататься за мораль. Но не будет этого «потом», если не будет закона совести и души. Разворуют, разграбят, растащат по углам и швейцарским банкам всю экономику. И снова народ останется голым и босым.
Каждый месяц из страны уплывает миллиард долларов. Это двенадцать миллиардов в год, которые работают на экономику других стран, поднимают их жизненный уровень. Почему? Запретами проблему не решить. Счастье России – в дурном исполнении дурных законов, сказал классик. Когда в душе каждого из нас поднимется бунт против любого бессовестного поступка, тогда мы и начнем свое возрождение, обретем твердую почву, на которой можно строить будущее.
Я глубоко убежден: новый этап развития нации, ее духовное возрождение, экономический расцвет станут возможны только тогда, когда мы вытравим из себя душевную глухоту к чужой беде. Иначе запутаемся в лабиринтах лжи и ложных ориентиров.
– В старинных тибетских книгах, – говорил мне буддийский священник, – есть запись, что новый расцвет буддийских народов начнется с самого малочисленного и самого западного народа в начале третьего тысячелетия.
Глубинная, чуткая нравственность Востока и технический прогресс Запада – вот два крыла, которые могут поднять Калмыкию. Два столпа, на которых можно поднять сознание народа к наднациональному Моральному Закону Человечества, вызволить народ из волчьего капкана родового, этнического эгоизма, духовной и экономической нищеты.
«Да будет благополучие» – вот духовный ориентир нации, завещанный нам как самое сокровенное предками. Благополучие равновесия совести и дела, души и здоровья народа. Благополучие – вот степень защиты. Благополучие – корневая основа жизни в нашем неуютном времени, стимул для деятельности, для раскрытия способностей и талантов каждого из нас.
Я делал доклад в Париже перед представителями ЮНЕСКО. Я говорил: Калмыкия – маленькая республика, но ее народы так же участвуют в мировом процессе, как и все народы мира. Солнце, луна, звезды светят всем, независимо от рас, национальностей, политических пристрастий. Это великая мудрость природы. Все мы неразделимы. Даже маленькая заноза в ноге нарушает равновесие человека, и он начинает хромать. Калмыки – единственные буддисты в Европе. Животный и растительный мир Калмыкии больны. Исчезают уникальные травы, нарушается климат, пески пожирают пастбища. Образовывается первая пустыня в Европе. Если она разрастется, любой смерч или ураган донесут ее пески до Франции, Англии, Германии. Если не принять срочных мер, Париж будет ходить по песку. Поздно ставить вопрос: кто виноват? Сегодня надо ставить вопрос: что делать?
Кажется – убедил. На территории Калмыкии был организован биосферный заповедник «Черные Земли». Заповеднику был вручен международный сертификат ЮНЕСКО. Его привезли в Элисту советник по охране животных, служащих объектом охоты, профессор Джеймс Гир, эксперт службы рыболовства и дичи, сотрудник мировой программы по охране диких животных Фредерик Линдсей. Теперь территория Черных Земель будет находиться под защитой и контролем ЮНЕСКО.
Это очень важно для экологии, а значит, и для здоровья народов Калмыкии.
В республике тридцать процентов населения относятся к категории нетрудоспособных. Начал наблюдаться рост смертности, снизилась рождаемость. И одна из причин этого – экологическая катастрофа. Участились хромосомные заболевания. Экологический нож был занесен над генофондом Калмыкии, и тогда мы забили тревогу. Прибыли и в ближайшее время прибудут еще врачи из Франции, США, Германии, врачи из Тибета, планируется открытие центра тибетской медицины в Элисте. Уже запущен в действие кожеперерабатывающий завод – крупнейший на Северном Кавказе, его цеха действуют на оборудовании, привезенном Из Болгарии, начинается строительство международного аэропорта. Проведены Неделя Тибета в Калмыкии, международный форум «Женщины – в миротворчестве и созидании», призванный объединить, сплотить народы во имя мира, стабильности и спокойствия на земле. Прокладываются дороги. Кто может больше и лучше – сделай для Калмыкии больше и лучше, и будет тебе наградой низкий поклон от всех народов республики.
Калмыкия делает первые шаги на пути к благополучию каждого своего гражданина. Шаги эти трудны и тяжелы, и далек еще свет в конце туннеля. Но все же мы начали это движение и, как ни тяжело, идем вперед.
Как-то в Москве корреспондент газеты задал мне вопрос:
– Вы занесены в дипломатический календарь 1994 года, издаваемый английской королевой Елизаветой. Испытываете ли вы чувство гордости?
– Не испытываю, – ответил я.
– Почему?
– У меня нет на это времени.
Когда же гордиться-то? Во время двадцатиминутного обеда? Во сне? Все остальное время занимает работа – напряженная, требующая полной отдачи сил. Иногда подумаешь: обедал ли сегодня? И не можешь вспомнить. А чаще всего и вспоминать-то некогда.
В самый канун 1994 года, тридцать первого декабря, позвонили мне из Салына, где находится зона заключенных. Вот, мол, Кирсан Николаевич, обещали в этом году приехать, а сегодня последний день года. Заключенные спорят: сдержит или нет президент свое слово?
А жена уже новогодний стол готовит, гостей ждет. Что делать? Слово надо держать. Загрузили в машину новогодние подарки – по две пачки «Мальборо» на каждого заключенного, – поехали в зону встречать Новый год. Рассчитывали, что встреча продлится часа два, а получилось – пять. Вопросы, ответы, снова вопросы. Такой живой, заинтересованной беседы я не ожидал. Расспрашивали о моем благотворительном фонде помощи семьям заключенных, о преобразованиях в Калмыкии, о перспективах. Касались и международных проблем, и внутренних, интересовались сутью политических реформ. Ну и, конечно, поднимали свои собственные проблемы.
Вот так и получилось: уехал из дому в девяносто третьем году, вернулся – в девяносто четвертом. Гости заждались, жена в обиде.
– Где же ты, – говорит, – Новый год-то встречал?
– С заключенными, – отвечаю. – Голосовала за меня, теперь терпи.
Еще год назад Калмыкия считалась окраиной России. Приезд любого иностранца в Элисту считался событием. Да и визиты такие за всю историю советской Калмыкии можно по пальцам пересчитать. Сейчас слыша английскую, немецкую, турецкую, финскую речь, никто уже не оборачивается на улицах. Привыкли. Каждый день в Калмыкию летят делегации изо всех стран мира с предложением о сотрудничестве, привозят проекты, планы. Калмыкия вошла в мировое экономическое пространство как полноправный член, и в ближайшее время это даст свои результаты, скажется на благосостоянии народа.
Я смотрю на украшенный драгоценными камнями меч Чингисхана, который вручила мне делегация из Монголии с пожеланием, чтобы я объединил все монгольские народы, разбросанные по миру, но не мечом, а Высшим Законом Разума… И думаю: сколько еще неимоверных трудностей предстоит преодолеть и хватит ли сил, энергии, воли? Надо, чтобы хватило. Должно хватить. Необходимо…
В Элисте закончился Всероссийский шахматный турнир. Улетел гроссмейстер Гарри Каспаров. Разъезжаются гости. Утихли волнения, переживания. Такое шахматное событие проводилось в Элисте впервые. Каспаров провел сеанс одновременной игры…
Три часа ночи. Заканчивается мой рабочий день. Ушли последние посетители. Элиста спит. Я подхожу к окну кабинета. В сгустившейся перед рассветом черноте неба искрятся, вспыхивают, перемигиваются звезды. Такие же недостижимо высокие и яркие, как наши мечты.
На Млечном Пути уже соединились две половинки космического шахматного поля. Фигуры расставлены. Я начинаю с Судьбой новую партию, делаю первый ход. Удачи мне!.
1994 г. Элиста
Иллюстрации
Рабочий день закончен 3 часа ночи.
Выборы президента Народы Калмыкии сказали свое слово.
Март – апрель 1993 г.
Благопожелание президенту
Встреча в Северо-Кавказском военном округе. Май 1993 г.
Президент Калмыкии и Далай-лама Четырнадцатый.
Встреча в Кремле. Апрель 1994 г.
Папа Римский Иоанн Павел Второй. Ватикан
Подарок Патриарха всея Руси Алексия Второго
Ванга – почетный гражданин Калмыкии
К. Илюмжинов, Г. Каспаров Давние партнеры
Президент ФИДЕ Ф. Кампоманес перед отлетом в Калмыкию. Москва, октябрь 1994 г.
Президент Кении Д. Мое. Найроби, сентябрь 1994 г.
Во дворце Саддама Хусейна. Март 1995 г.
Гость президента Калмыкии Эрнст Неизвестный. Июль 1994 г.
1
В самом начале 1994 года резко обозначилось противостояние Ельцин-Дудаев. Средства массовой информации кинулись разжигать этот конфликт. И началось: чеченская мафия в Москве, чеченские авизо, чеченское оружие, наркотики, лица кавказской национальности… В сознании россиян целенаправленно лепился образ чеченца. За всем этим стояли мощные силы, преследующие стратегические интересы: нефть, продажа оружия, огромные криминальные деньги, след которых легко упрятать в огне войны. Такое противостояние было выгодно и многим политическим группировкам, которые на гребне конфликта расчищали себе место на политическом Олимпе страны.
Назревала война теперь уже на территории России. Калмыкия беспокоилась. За 70 лет правления коммунистов между малыми народами и Россией накопилось немало взаимных обид, которые были загнаны внутрь, и было неизвестно, как отразится чеченская война в сознании малых народов, входящих в состав России. Назревший конфликт очень беспокоил Ельцина. Я вылетел в Москву к Борису Николаевичу, затем в Грозный к Дудаеву, предложил территорию Калмыкии как место встречи для урегулирования спорных вопросов между Чечней и Россией. Переговоры с Дудаевым прошли успешно. Когда я доложил об этом Б.Н. Ельцину, лицо его прояснилось. Получив принципиальное согласие двух сторон, я начал работать над деталями предстоящей встречи в Элисте. Однако случилось иначе. Слишком сильны были закулисные силы, которые противостояли миру. Слишком огромные деньги были вложены в военную технику, нефть, криминал, политику, наркотики, чтобы позволить затухнуть бикфордову шнуру. Всем этим силам нужна была война, и они добились своего. Сотни трупов, разрушение Грозного, беженцы, заложники Буденновска…
(обратно)
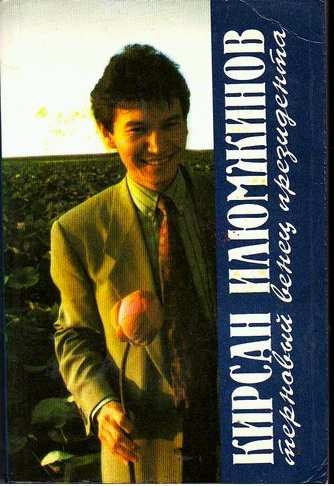

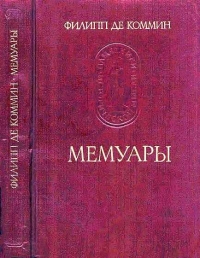
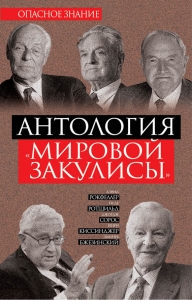

Комментарии к книге «Терновый венец президента», Кирсан Николаевич Илюмжинов
Всего 0 комментариев