Большевик, подпольщик, боевик: воспоминания И.П. Павлова
® Бурденков Е., сост., коммент, 2015
© Павлов Д.Б., лит. обработка, предисл., 2015
© Институт российской истории РАН, 2015
® Центр гуманитарных инициатив, 2015
* * *
Предисловие
Иван Петрович Павлов (1889–1959), рабочий из крестьян Уфимской губернии, принадлежал к почти забытой сегодня когорте старых большевиков. Вступив подростком в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП) в 1906 г., в разгар первой русской революции, и сразу примкнув к ее леворадикальному крылу, пройдя затем аресты, тюрьмы и ссылки, он оставался верен идеалам большевизма до конца своих дней. Неслыханные жестокости «крайне свирепой» (по В.И. Ленину[1]) Гражданской войны и даже последующие кровавые преступления сталинизма против собственных партии и народа не смогли его в этой преданности поколебать. «Так было надо», – успокаивал он себя. ХХ-й век в истории России для него – славная, беспримерно героическая эпоха, главным содержанием которой явилась борьба партии Ленина за коммунизм. В его конечной победе автор воспоминаний ни секунды не сомневался. Но, как мы знаем, в действительности большевистский коммунистический эксперимент провалился.
Для современного читателя мемуары И.П. Павлова могут быть интересны, в первую очередь, тем, что в них из первых уст рассказано о боевой работе РСДРП (б) в начале XX в. на «низовом», провинциальном уровне – о ходе, целях и результатах этой деятельности, о психологии большевистского боевика и его соратников – подвижников, сознательно и добровольно обрекших себя на жизнь, полную опасностей, невзгод и лишений, ради, как им мечталось, счастливого будущего трудящихся России и всего мира. С этой точки зрения предлагаемые читателю воспоминания – это исповедь революционного романтика, непримиримого борца с самодержавием, «рядового ленинской гвардии», подпольщика, тюремного сидельца и политического ссыльного. В глазах самого мемуариста «подпольщик», «боевик» – слова-символы, олицетворяющие подлинных «делателей» революции, ее самых бескорыстных и самоотверженных защитников, словом – лучшую часть большевистской партии, ее становой хребет. Павлов стремится показать, как свою верность «делу Ленина – Сталина» он сам и его друзья и соратники, большевистские боевики, доказали не только в качестве разрушителей старого строя, но и на ниве созидания – на советской и хозяйственной работе в годы социалистического строительства. «Отречение от старого мира» и построение нового общества так и таким, каким они его понимали, явилось главным содержанием их жизни, самой сутью их существования.
Свой «жизненный отчет» Иван Петрович начал писать в 1920-е годы по заданию партийной комиссии, призванной собирать материалы по истории ВКП (б) и октябрьской революции, – Истпарта. Это также придает его мемуарам привкус советской официозности. Выйти за рамки изначально очерченного революционного периода автора воспоминаний позднее заставили настояния, по сути, того же партийного учреждения – просьбы директора его правопреемника, областного Института истории КПСС, «описать работу на хозяйственном фронте солдата партии, бывшего подпольщика». Оказались востребованы и отдельные страницы революционного прошлого мемуариста, воспоминания о которых были им также включены в свой окончательный текст. Отсюда – сюжетно-очерковый характер некоторых глав его мемуаров с их неизбежным взаимным хронологическим «перехлестом».
В окончательном виде публикуемые воспоминания охватывают время с конца XIX в. до начала 1950-х годов. В них отражены события, эпохальные для нашей страны, современником, а нередко очевидцем и непосредственным участником которых их автору суждено было стать. Это – русские революции 1905 и 1917 гг., Первая мировая и Гражданская войны, гибель царской семьи и первые годы советского строительства, послевоенное хозяйственное восстановление и коллективизация деревни, Великая Отечественная война и смерть И.В. Сталина. Читатель опять-таки из первых уст узнает о настроениях на фронте и в Петрограде в 1917 г.; как и в какой обстановке в начале 1918 г. в российской провинции создавались и действовали красная гвардия, органы ЧК, а затем и подразделения РККА; что в 1920-е годы представлял собой местный советский аппарат, как он понимал и проводил правительственный курс применительно к Русской православной церкви, к «нэпманам», а немного позднее – в отношении крестьян-середняков и сельских «богатеев»-кулаков; об атмосфере внутри самой правящей партии в период «большого террора» 1930-х годов; о других, менее хрестоматийных страницах партийно-государственной повседневности первых советских десятилетий. В то же время воспоминания Павлова – «человеческий документ» со множеством колоритных бытовых зарисовок из жизни русской дореволюционной и советской глубинки и портретов людей, которые окружали мемуариста в разные годы и в разных обстоятельствах.
Но и в этом последнем случае мемуары Павлова весьма поучительны для понимания большевистского менталитета – не просто классово-непримиримого, но узкопартийного, черно-белого в своей основе, проникнутого пресловутой «политической целесообразностью» момента. Оценка человека, даже если речь идет о собрате по социалистическому лагерю, определяется не его личностными качествами и даже не социальным происхождением, а почти исключительно партийной принадлежностью. В этом отношении характерна ремарка мемуариста в отношении одного ссыльного рабочего: «хороший был парень, жаль, что эсер». В большевистском восприятии, и эсеры, и меньшевики, и бундовцы, да, пожалуй, и собственные «уклонисты», по сути, такие же, а порой и худшие контрреволюционеры, нежели помещики или буржуазия – нелюди (или «сволочь» – излюбленное большевистское словцо), заслуживающие поголовного истребления в силу своей принадлежности к низвергнутому классу. Ненависть к нему такова, что для Павлова дворянское происхождение своей горячо любимой жены – абсолютное табу. О гибели ее братьев в сталинских застенках (как, впрочем, и многих из своих знакомых и соратников) он, никогда «не терпевший фальши и вранья», даже не находит нужным упоминать. Зато неоднократно подчеркивает партийно-комсомольскую принадлежность своих чад и домочадцев, постоянную сверхактивность на поприще партийно-политической пропаганды себя самого.
Его ощущение нераздельности с «гвардией Ленина» таково, что бюрократические неурядицы с установлением своего «партстажа» Иван Петрович переживает как личную трагедию. Для него вне сомнений непреходящие правота и мудрость верховных партийных вождей – в отличие от функционеров более низкого звена, которые в 1930 г. чуть было не исключили из партии и не упекли за решетку его самого за «оппортунизм» в колхозном вопросе. Лишь в 1956 г. он одумается и в частном письме с горечью признает, что преступления Сталина и его клики – «позорная страница» всей партии, которую «мы не имеем права прощать».
Законченные 60 лет назад, воспоминания И.П. Павлова никогда прежде не публиковались – отчасти потому, что к этому не стремился сам их автор. Самоучка с церковно-приходским образованием, который мечтал, но так и не смог продолжить учебу и получить вузовский диплом, себя он называл «простым деревенским парнем», который «свое место знал и в интеллигенцию не лез». Относительно своих литературных способностей Иван Петрович был настолько самокритичен, что незадолго до смерти, в 1957 г., в письме директору Дома-музея Я.М. Свердлова (ныне Музей истории Екатеринбурга), в фондах которого его «автобиографический очерк» находится и поныне, настаивал на том, чтобы его подлинник сжечь, «ибо рукопись совершенно неудобоварима, и незачем хранить макулатуру». К счастью, сотрудники музея уберегли аутентичный машинописный экземпляр его мемуаров, текст которых и лег в основу настоящей книги. Ее издание приурочено к 110-й годовщине первой русской революции и предстоящему вскоре 100-летию отечественных потрясений 1917 года.
…И сколько нет теперь в живых, тогда веселых, молодых!
Моим любимым друзьям, уфимским большевикам, боевикам
посвящаю свой автобиографический очерк
АвторВступление
XX век для нашей страны является героической эпохой. Подобной героики не знало ни одно государство в истории человечества. Мы пережили четыре кровопролитнейших войны! Прошли три революции. Люди нашей страны заслуживают, чтобы последующие поколения знали их героический путь. Огромна заслуга нашей коммунистической партии, которая все это время стояла во главе борьбы за счастье всего человечества. Трудно теперь представить, сколько в этой титанической борьбе было проявлено героизма, отваги! Люди подполья шли на каторгу, в ссылку, на эшафот. Шли на гражданскую войну, на смерть, на муки, во время Великой Отечественной войны шли на неимоверные лишения и на незабываемый подвиг!
Мой друг и соратник по подполью, по боевой партийной работе в Уфе в 1905–1907 годах И.М. Мызгин[2], задумав писать воспоминания, говорил мне: «Это для наших потомков. Когда-нибудь мы будем им нужны». Я тоже так думаю. Сегодня, в эпоху строительства коммунизма, не только ученые и писатели, но и простые люди вспоминают и будут вспоминать о нас, деятелях подполья, чтобы была короче дорога к тем идеалам, за которые мы боролись в продолжении полувека. Кем были эти старые большевики, подпольщики, ленинская «гвардия», положившая начало нашей партии? – спросят они себя. Кто эти отважные люди, как их назвал И.В. Сталин, которые самоотверженно и до конца отдавали свою жизнь партии, которых не останавливала ни свирепая царская реакция, ни лишения? Молодыми людьми они добровольно вступали в боевые дружины, ежедневно подвергали свою жизнь опасности, отрешившись от всего личного, шли на смерть за интересы своего класса, общества в целом. Эти люди подполья твердо понимали, что до социализма им не дожить, что их удел – погибнуть в ссылке, на каторге, в тюрьме, а боевиков, как правило, ждал эшафот. И, действительно, многие из них не дожили до Октябрьской Революции. Из моих друзей и соратников это – Якутов[3], Гузаков Михаил[4], Гузаков Павел[5], Тимофей Шаширин, Василий Мясников[6], Александр Калинин[7], Валентин Лаптев[8]. В начале 1918 года погибли братья Кадомцевы, Иван[9] и Михаил[10].
Сталин говорил, что коммунисты – это люди особого склада, особенно, добавлю я, – коммунисты-боевики. Будущие историки и писатели, несомненно, заинтересуются ими, займутся глубоким и всесторонним изучением их жизни – не по газетным статьям и романам, а по документам, в том числе – по воспоминаниям их самих.
Для того мой автобиографический очерк и написан.
И. Павлов г. Свердловск, 1953–1954 годы
Часть первая
Деревенское детство. Уфимские впечатления
Свой автобиографический очерк начну со своего раннего детства. Хочу описать в нем среду, в которой родился и вырос, дать характеристику своим родителям и ближайшим предкам, благо у крестьян отдаленных пращуров не водилось. Их генеалогия была проста: «раб, сын раба», родословная которых, как правило, пресекалась с их кончиной. Может быть, и это пригодится кому-нибудь.
Итак, родился я 31 декабря 1889 года в семье крестьянина-середняка Петра Евграфовича Павлова и Анны Семеновны Павловой, по девичьей фамилии Мамаевой, проживавших в селе Языкове б[ывшей] Уфимской губернии, ныне Башкирской АССР[11].
Прежде всего, хотелось бы сказать немного о своих ближайших предках. Мои отдаленные предки – крепостные крестьяне, имена которых никто не знал, да и знать не хотел. В нашей семье очень редко и мало говорили о моих дедушке и бабушке по линии отца, поэтому в детстве я о них почти ничего не знал. Когда стал взрослым и вернулся из первой ссылки, расспрашивал мать о дедушке с бабушкой по отцу. Из ее рассказов я узнал следующее. Дедушка Евграф и бабушка были крепостные крестьяне-бедняки. Бабушку звали Марией. У них было два сына и две дочери. По словам матери, бабушка Марья была первой красавицей на все большое село. Высокая, стройная, с большими серыми глазами, волнистыми темно-русыми волосами, с прямым носом, красивым ртом, была хорошо грамотна. Она, говорила мать, мало походила на крестьянку. Жили они с дедушкой душа в душу, он ее не бил, не обижал. По крайней мере, она никогда на него не жаловалась. После рождения четвертого ребенка, девочки, бабушка начала прихварывать и, не успев вырастить детей, умерла. Дедушка Евграф после ее смерти стал пить и, спившись, ушел на Волгу бурлачить. Где-то на Волге он и умер.
Оставшись сиротами, их дети – мой отец Петр, дядя Андрей, тетка Марфа и тетка Анисья, пока были маленькими, ходили собирать милостыньку, чем и кормились, а когда подросли, ушли работать по найму. Отец и дядя – в батраки, а обе тетки – в Уфу в домработницы, или в прислугу, как тогда их называли. Когда я стал взрослым, меня заинтересовало то, что родня ходила по миру, но все были грамотными. В частности, отец мой был потом сельским писарем и довольно грамотно писал. Дядя Андрей и тетка Марфа тоже были грамотны неплохо. Откуда грамотность у нищих, батраков? На мой недоуменный вопрос об этом моя мать отвечала неохотно, что грамоте их учила сама бабушка Марья, а потом ей помогал дьячок. [На вопрос,] где она сама выучилась грамоте и кто платил дьячку за преподавание, мать моя поджимала губы и молчала или, бывало, скажет: «так научилась». При этом добавляла: «Марья своих ребят никогда не била, содержала чисто». Такая таинственность даже у меня взрослого разжигала любопытство, но мать ничего не говорила, отец умер еще в 1901 году, дядя и обе тетки тоже умерли рано, и мне узнать эту тайну так и не пришлось. А сказать мне правду мать почему-то не хотела, и так эта тайна ушла вместе с ней неразгаданной. Иногда мать со вздохом говорила про бабушку Марью: «несчастная она».
Бабушку по линии матери звали Варварой. Она жила с нами и умерла в Уфе в 1913 году 82-х лет. Замечательная была старуха! Неграмотная, но какая она была умница, просто на удивленье! Вечно кого-нибудь опекала, кому-то помогала, лечила и все это делала совершенно бескорыстно. Нас, внуков всех троих, очень любила, никогда не била и не давала бить матери, которая бивала нас часто, особенно меня, как самого озорного.
Мой отец жил в батраках у моего прадеда Мамаева, отца Варвары, рано овдовевшего. Они полюбили друг друга с моей матерью и решили пожениться. Прадед, узнав об этом, прогнал из дома и свою дочь Варвару, и мою мать с женихом, моим отцом. По рассказам бабушки Варвары и моей матери, этот мой прадед был характера крутого, вспыльчивого, неукротимого. Вспоминали такой случай: вышел он как-то во двор с топором в руках. У дверей стоит овца. Посмотрела она на хозяина и, глядя прямо ему в глаза, заблеяла скрипучим, противным голосом: «бе-е-е». Прадед был взбешен этим «бе-е» и со всего размаху бросил в овцу топором. Пробил ей голову, и овцу пришлось тут же прирезать. Он быстро отходил в таких случаях и жалел о своем поступке и тут отошел, но было поздно, овца убита. Когда соседи спрашивали, почему не вовремя зарезали овцу, домашние хмыкали, а старик хмурился и уходил, не удостоив ответом вопрошателя. Его характер передался и моей матери – она тоже и в скот, и в нас, не исключая отца, под горячую руку иногда запускала чем попало: палкой, так палкой, лопатой, веником и т. д., а потом смущалась этим своим поступком. Эти черты, к сожалению, передались и мне, и моей дочери. Под горячую руку мы тоже можем натворить бед – разбить посуду, поломать что-то, выругать кого надо и не надо. Правда, эта буря скоро проходит, но она неприятна.
Выгнал он их без средств, они уехали в село Языково, где все трое работали у барина на поденщине. Со временем построили дом, завели скот, и когда я родился, хозяйство отца можно было считать уже середняцким. Прадед, когда разорился, часто приезжал к нам, подолгу у нас живал и очень любил в окно показывать мне поле, лес, в котором живут страшные волки, водятся лешие, зайцы и хитрые-прехитрые лисички. Зверья, действительно, много водилось тогда в Уфимской губернии, о встречах с волками чуть не ежедневно рассказывали в нашем доме. Крестьянам было не до охоты, а барин выезжал охотиться только осенью. Все остальное время зверье беспрепятственно ПЛОДИЛОСЬ и размножалось. Поэтому оно себя чувствовало совершенно свободно – зайцы опустошали крестьянские гумна, лисы забирались по ночам во дворы и таскали кур, волки резали собак, овец и коров. Зайцы вокруг копен на гумне устраивали настоящие сабантуи, или базары – весь снег был утоптан, как после танцев.
Вся деревня моего отца в свое время была выменяна ее владельцем на борзых собак у симбирского помещика и переселена в Уфимскую губернию. У нас и выговор был другой, чем у коренного населения, – волжский, мягкий, немного протяжный. Мой отец был удивительно энергичный человек: чинил сбруи, сохи, бороны, сам делал телеги, строил, в общем – никогда не сидел без дела. Семью кормить старался как можно лучше. Порой устраивал так: уходил утром на базар, покупал в долг корову, сразу ее резал и мясо тут же продавал, уплачивал деньги за корову, а весь сбой – кишки, ливер, ноги, голову приносил домой, и этого нам хватало почти на неделю, до следующего базара. Зимой ходил по дворам портняжничать, шить шубы, кафтаны, пиджаки. Летом рыбачил бреднем, острогой, удочками. В общем, мы не голодали, хотя своего хлеба до нового урожая не хватало, прикупали.
У матери моей характер был суровый. Если отец нас никогда пальцем не трогал, то мать била почти ежедневно – тем, что было под рукой: веником, палкой, скалкой, тряпкой. Была она умна, тактична и не болтлива. Ее боялись даже отец и бабушка – ее мать. Бывало, начнет она меня бить, а бабушка заступится: «Анка, что ты делаешь, ведь ты его изувечишь, гляди, он посинел весь», а мать крикнет: «Уходи, ты, потатчица, а то и тебе попадет!». Бабушка, охая и вздыхая, уйдет, а отец меня позовет, начнет гладить по голове и утешать. Но когда мать была в настроении, и веселая же она была! Хорошо плясала и пела и на работе вечно затевала что-нибудь веселое. Очень много работала. Наравне с отцом пахала, косила, жала и одновременно управлялась с хозяйством.
Языково, в котором я родился, было торговое село с двумя улицами. В нем – больница, школа, церковь, кабак, волостное правление, большой дом помещика графа Толстого[12], несколько бакалейных лавок и магазин, похожий на современный универмаг. Каждый четверг съезжался многолюдный базар и ежегодно в январе – ярмарка, торговавшая целую неделю. В селе было два глубоких пруда и две на них мельницы, обе помещичьи. В прудах водилось много рыбы и дичи. Охоту помещик запрещал, а рыбу ловить разрешал, но только удочкой или блесной. Правда, крестьяне, в том числе и мой отец, имели бредешки, которыми ночью, втихую, в верхах пруда ловили рыбу. Мы, ребята, ловили раков, которыми изобиловали оба пруда. Все лето наши руки были исцарапаны их клешнями.
Облик села Языкова налагал на живущих в нем определенный отпечаток – его обитатели были много развитее крестьян окрестных деревень, где не было ни одного общественного учреждения и событием становился приезд урядника. В нашем селе даже появление исправника было обычным делом, к графу на охоту наведывался уфимский губернатор, часто наезжали гости из Москвы и Петербурга. В Языкове и кулаков было больше, однако немало и бедноты, которая батрачила – сезонно или постоянно. Но, очевидно, потому, что в селе работу можно было найти проще, чем в глухой деревушке, я не помню среди односельчан голода и нищеты.
Языковцы возили хлеб кулаков и помещика на станцию Чишмы или в Уфу, а также товар купцов, приезжавших на базар. Постоянное общение с городским населением налагало на наших крестьян отпечаток развитости, расширяло их кругозор. Большое влияние на сельскую молодежь оказывала чайная, особенно ее читальный зал, в котором были газеты черносотенные, но, конечно, и журнал «Нива»[13]. Мы, мальчишки, вечно толкались там, слушали разговоры, рассматривали картинки в журналах.
Почему-то наш дом всегда был местом сбора соседей. Я еще маленьким помню примерно такую картину, которая повторялась почти ежедневно: отец сидит и что-нибудь по обыкновению чинит из одежды, упряжи или плетет лапти. Старший брат ему помогает, мать и бабушка прядут пряжу, мы с братишкой лежим на печи и слушаем, что говорят. Вдоль стен на лавке сидят соседские мужики и бабы и ведут непринужденную беседу. О чем только не говорили! Не только о том, кто болен, кто что делает, у кого и как живет скотина и т. д., но рассказывали разные страшные истории – о домовом, о змее, который летает к солдаткам, тоскующим по своим мужьям; о том, как русалки моют волосы в речке и путают человеческие следы; как черти ночью парятся в бане, гогоча и визжа; как ведьмы и колдуны нагоняют тоску на людей, лишают их удачи в делах и наводят порчу на животных. Бывало, к концу вечера атмосфера накалится настолько, что во двор женщины выходят только группами – в одиночку ходить боятся. И ведь до чего фантазия доходила! Например, «очевидцы» рассказывали, как оборотень их завлекал, как соседская бабка Анисья «кувыркалась на трех ножках» и кошкой убегала сосать соседских коров, как русалка манила крестьянского парня, как на вечерние игры пришла неизвестная девушка, а потом скрылась, как растаяла.
На этих вечерах часто и много говорили о жизни крестьян при крепостном праве. Рассказывала об этом главным образом бабушка Варвара, которая с детства работала на барщине, – о том, как пороли крестьян на конюшне, запарывая до смерти, как издевались над девушками, особенно красивыми: их выдавали замуж только после барина или его сыновей. Многие потом сходили с ума, топились, вешались. Она указывала и могилы этих несчастных женщин за околицей, потому что на кладбище хоронить их было «грех», как умерших «не по божьей воле, а самовольно». В этих рассказах можно было встретить и Салтычих[14], и Ноздревых[15], и иных самодуров-помещиков, о которых так много сказано в художественной литературе 40-х и 60-х годов. Можно представить, какое влияние оказывали на наши детские души такие беседы!
В 1914 году, уже пройдя тюрьмы и ссылку, я приехал в родное село. После работы, почти в полночь, я отправился в баню. Пошел один. Хозяин моей квартиры, знавший меня с детства, не хотел пускать меня: как можно?! время близится к полуночи, когда вся нечистая сила действует! Я настоял на своем и пошел. Только начал мыться, слышу в предбаннике кашель, открываю дверь и вижу младшего сына хозяина, Никишку. Велел ему уходить домой, что он и сделал с удовольствием, потому что рядом был пруд, где частенько «видели» русалку. Наутро узнаю о разговоре с соседями о моей «храбрости». Порешили, что я, как бывший каторжник, душа которого все равно давно погибла, не боюсь ни бога, ни черта. Я об этом упомянул потому, что мой хозяин, Филипп Андреевич, был грамотный, развитой человек. Чего же было ждать от людей из глухих деревень, которые меня окружали во времена моего детства?
После падение крепостного права крестьяне нашего села оставались в вечном долгу у помещика, не имея ни своего леса, ни выгонов, ни лугов. Лес брали у помещика, луга, выгоны арендовали у него же, отрабатывая натурой: каждый год удобряли, пахали, сеяли, пололи и убирали барину целое поле. Все это – последствие отрезков и отработок, о которых говорил В.И. Ленин. Наши крестьяне ежегодно прудили оба пруда в уплату за езду по плотине и ловлю рыбы. Своей земли по наделу у них было мало, но и за ту платили 50 лет. Например, на нашу семью из 9 человек земли приходилось всего 4 ½ десятины, по 1 ½ десятины в каждом поле. Из трех полей ежегодно засевали два, третье оставалось под паром. Конечно, этого не хватало, и отец каждый год арендовал несколько десятин у соседей-башкир. То же делали и остальные крестьяне нашего села. Сеяли овес, просо, рожь, полбу, гречиху, горох. Пшеницу никто не сеял – она в наших краях не росла. Бывало, кто-нибудь из кулаков ради забавы на башкирской земле посеет ее с полдесятины. Про такую пшеницу говорили – «пироги растут», а «пироги» эти только по колено и давали с полдесятины много-много пудов десять.
Питались крестьяне плохо. Беднота – хлебом, квасом, картошкой, более обеспеченные, вроде нашей семьи, чай пили раз в неделю, мясо ели трижды в год. Масло, яйца шли на базар, о сливочном масле я узнал только в Уфе – в деревне у нас его не ели. Улучшали свой рацион рыбной ловлей или, как наш отец, резали скот, мясо продавали в уплату за скотину, а сбой – семье. Но и то, когда съедалась картошка, а хлеб был на исходе, питались квасом с зеленым луком и выловленной рыбой.
В таких условиях я родился и провел раннее детство. Детство крестьянского мальчика! Как много воспоминаний оно будит под старость! Постоянное общение с природой, ловля рыбы, раков, сбор грибов, охота за птицами, сусликами, летом купанье, по вечерам песни у костра, зимой катанье на коньках, на салазках. Все лето босиком и без шапки дни напролет. Солнце палит, обжигает лицо, волосы выгорают, на пятках и икрах трещины от цыпок. Дождь и грязь вымажут – не узнаешь себя. Весной ели какой-то желтый цветок, рыли в низинах дерн, добывая неведомый «красный корень». А придет зима, сколько раз Дед мороз обморозит тебе нос, щеки, руки и ноги, приходишь домой мокрый с головы до пят! Сколько раз за зиму отогревают на печке твое окоченевшее тельце! Некрасов в своем стихотворении «Крестьянские дети» правильно писал: «Положим, крестьянский ребенок свободен, растет, не учась ничему, но вырастет он, если богу угодно, а сгинуть ничто не мешает ему»[16]. Вот именно: «а сгинуть ничто не мешает ему».
Я рос, как все крестьянские дети. Хотя не был особенно озорной, в детские годы (до школы) три раза тонул, падал с колокольни; топором мне отрубили два пальца на руке; не раз падал с возов, побывал и под бороной. В 6 лет пастухом встречался с волками, попадал под сани с дровами, один раз во время игры в шар получил нечаянный удар в висок – из носа и рта пошла кровь, но полежал немного, ожил и пошел купаться с ребятами. Каждый такой случай мог кончиться смертью. Но остался жив!
Тонул я так. В первый раз – во время купанья. Нырнул с моста и попал под его старое крыло. Осмотрелся в воде и выплыл на свет. Не посмотри или растеряйся – утонул бы наверняка, ибо вдохнул воздух уже почти наверху, пополам с водой. Едва не задохнулся, но успел выбраться на берег. После этого случая я нырять боюсь и посейчас глубоко не ныряю. Хотя плаваю по-прежнему хорошо.
Второй случай произошел во время катанья на коньках – не удержался и по льду пруда вмазался в полынью. Спасли товарищи, бросившие мне связанные вместе пояски, а то бы утонул от холодной воды и тяжелой одежды.
Третий случай. Весной ехал верхом на лошади, переезжал овраг, заполненный водой пополам со снегом и льдом. Провалился в яму свалился с лошади, кое-как вылез сам и за повод вытащил лошадь.
Дважды на пруду простужал горло и получал нарывы. Хорошо, что они пошли наружу, а не вовнутрь. Задушили бы.
На Пасху полезли мы на колокольню звонить в колокола. Я оступился и упал в пролет лестницы, летел два этажа, упал на каменную плиту. Какое-то время пролежал без сознания, а потом встал и пошел играть с ребятами. А одному моему товарищу не повезло – он также упал, но попал на перегородку, сломал шейный позвонок и умер. Вот два случая: один спас, потому что я упал боком и ничего не повредил, а второй окончился гибелью мальчика.
Другой случай. Играли мы как-то за огородами, крошили топором репейник. Я держал, а товарищ рубил. Вместе с репейником отрубил мне два пальца. Лечила бабушка, и они срослись. Осталась только кривизна одного пальца и шрамы на обоих.
Под бороной было страшно. Брат пахал, а я, еще маленький, следом за ним ехал верхом. Моя лошадь испугалась чего-то и понесла. Брат рванул ей наперерез, она скачет, лягается и в конце концов меня сшибла. Я упал под борону, но брат успел меня оттуда выхватить. Отделался ушибом. Что поделаешь – поплакал и с перепугу, и от боли и опять сел на ту же лошадь. Только брат ее уже вожжами к себе привязал. Мне тогда было 4 или 6 лет от роду. Какой я был тогда еще пахарь и наездник? Не я один начинал работать с таких лет, а все крестьянские дети.
У нас, как я сказал, было два пруда. Я помню себя с того момента, когда сижу с отцом на пруду и смотрю, как он ловит удочкой рыбу. Не помню, когда научился плавать – к тому времени я уже плавал. Все время мы проводили на пруду. Раков наловим, сварим и наедимся. Ловили рыбу и постоянно купались.
Один раз мать и все домашние ушли в поле жать рожь (поле было близко от деревни), а мне поручили следить за грудным братишкой Пашкой, который спал в люльке. Мне было 5 лет. Мать велела прибежать за ней, как только Панька проснется. Спал он долго, мне стало скучно и я «на минутку» пошел с ребятами искупаться. Ушел… и забыл о Паньке и о своих обязанностях няньки. Матери показалось подозрительным, почему я долго не иду за ней, и она вернулась домой. Приходит – меня нет, Панька лежит в люльке грязный, мокрый по горло и уже не плачет, а только открывает рот, весь посинел. Насилу она его успокоила. Меня мать нашла уже под вечер, когда с поля пришли все – нашла на пруду и даже бить на этот раз не стала, обрадовалась, что я жив и здоров. Так и все крестьянские дети росли. Разве мало погибло их на моих глазах! А сколько покалечило болезнями, в лесу, в поле! Я мог бы привести немало случаев гибели крестьянских детей, но это было обычным явлением, а не исключением. Ведь недаром у женщин-крестьянок порой рождалось до 18 детей (я знал таких), а выживало 5–8, остальные погибали.
Вот, например, как я получил два нарыва в горле, почти смертельных. Первый случай. Бегал на коньках по льду на пруду. Вспотел, устал. Недолго думая, пробил лунку и напился ледяной воды. Простудился, появился нарыв в горле, бабушка компрессом и теплыми припарками вызвала его наружу, под подбородком мешком повис гнойник. Отец не вынес моих мучений – человек он был решительный, взял свои портняжные ножницы, посадил меня на лавку, мать заставил держать голову, а сам взял в руку мой гнойный мешок и состриг верхушку. Как он при этом не разрезал какой-нибудь крупный кровеносный сосуд? Ведь я наверняка бы погиб! Я вскрикнул, мать – тоже, пошла кровь, а нарыв… прорвался, но не там, где отец резанул, а рядом.
Второй случай произошел в селе Давлеканово. Осень, заморозки, но я рыбачил – рыбак из меня сделался страстный. Потом я рыбачил и охотился и в ссылке, и на фронте, даже когда реку или пруд обстреливали немцы. Так вот, сидел, рыбачил, забрасывая за прибрежный лед. Черви у меня были в шапке, внутри обшитой бараньим мехом – в меху они не замерзали. Для удобства шапку я снял, да еще попил студеной воды. В результате – нарыв в горле, но уже с другой стороны. Прорвался и он, и вот на всю жизнь осталось у меня два шрама, «грехи» ранней молодости, вернее – слишком ретивого детства.
Я уже говорил, что работать начал рано. Не помню, когда я научился ездить верхом. Задолго до начала учебы, то есть до 8 лет, я боронил, зимой ездил с отцом за сеном. Вставали, по обыкновению, до свету и еще затемно выезжали в лес или в поле. Часто видели волков, а в феврале они ходят стаями и нападают. Летом пас скот, ездил в ночное, на сенокос. В обед, в жару, все ложились спать, а мы, дети, играли. Разве нас уложишь спать! Я был еще совсем маленьким и не помню, но рассказывали домашние, как я забрался на крышу. Я еще едва умел ходить. Когда меня увидели у края конька, все замерли. Нельзя было кричать, потому что с перепугу я мог свалиться. Старший брат залез и тихонько меня позвал. Так меня и спасли.
Однажды мать стирала белье у печи, а я, играя, съехал с лежанки в ее корыто вниз головой. Или вот такой случай. Проигравшего мальчика в наказание мы взяли в «клещи» двумя скрещенными палками. Сначала он кричал, потом замолк и посинел. Хорошо, что мать увидела, – подбежала к нам, его освободила, а меня избила.
Как-то мы прыгали с высокого плетня. Надоело сигать прямо, решили прыгать задом наперед. Я спрыгнул неудачно, растянул сухожилие и потом долго не мог приседать и плясать вприсядку Уже после, систематической гимнастикой мне удалось разработать сухожилие, но ноги в коленях так и остались кривыми.
Летом мы как стайка воробьев летали с места на место. Кто-нибудь из ребят увидит суслика, и вся ватага за ним, загоним зверька в норку, потом водой его «выльем», завяжем на шею бечевку и водим до тех пор, пока не сдохнет. Не дай бог попасться нам какому-нибудь птенчику, вывалившемуся из гнезда, – обязательно затискаем его до смерти: кормим, дуем ему в рот, поим молоком, ну он и не выдержит, бывало, этой «любви», подохнет, а мы его заботливо похороним. Любили мы таскать у соседей подсолнухи и огурцы, причем «охранником» обычно был тот, в огороде которого мы воровали. Так и я караулил. Однажды мать пришла в огород, а я стою за изгородью, она спрашивает:
– Что ты тут, Ваня, делаешь?
– Караулю.
– Кого караулишь?
– А вон ребята у нас воруют огурцы и подсолнухи, а я их караулю.
– Да от кого ты их караулишь?
– А чтобы ты не увидела.
Пока мы с ней так говорили, ребята, увидев мать, разбежались. Ворованное мы обычно не съедали, и это занятие нам быстро надоедало.
Говорят, я был очень ревнив. Грудь сосал долго, бывало, когда старшим надоест мое баловство, они возьмут, да скажут: «Ванька, я пойду к твоей матери титьки сосать». Ох, я и запущу домой с ревом! Успокоюсь только тогда, когда найду мать.
Так до школы я и рос. В школу пошел 8 лет от роду, уже зная буквы и цифры – научился у старших мальчишек из соседней деревни, которые по-родственному жили у нас. Первые два года учился я хорошо, в охотку и был круглый пятерочник. Одновременно пел в ученическом хоре, который организовал учитель, и в церкви на клиросе. Пел первым дискантом. С учеником Петровым мы часто в церкви пели «иже херувимскую». Он был шатен, я блондин, потому его звали херувимчиком, а меня серафимчиком. Пели, говорят, мы очень хорошо.
В летние каникулы я, как и другие дети, пахал пар, боронил уже «на вожжах», как взрослый. Учился косить, для чего мне купили маленькую женскую косу. По-прежнему много рыбачил. Все свободное время я со старшим братом, страстным рыбаком, проводил на пруду. И, надо сказать, ловили мы рыбы много, особенно щук. С младшим братишкой Павлом стали рыбачить с промысловой целью, а не только для удовольствия, как раньше. Отец с семьей уезжал в поле, а нас отряжали за рыбой. Будили до свету – рыба клюет особенно хорошо на восходе. Приходим на место, бросаем прикорм, забрасываем удочки. Тихо, туман. Светает, становятся видны поплавки, и их уже шевелит рыба. Начинается клев. Ловили мы обычно плотву, окуня и голавля. Первую же плотву насаживали на жерлицы, а их мы брали пять штук, и забрасывали на щуку. За утро налавливали ведерко мелочи и 5–7 щук, и этой рыбой семья наша большая питалась 2–3 дня. Ели ее дома, брали и с собой в поле. Кончали мы рыбалку часов в 9, шли домой, сдавали улов бабушке и бежали купаться – уже на весь день.
Осенью, когда к помещику приезжали гости охотиться на лис, волков и зайцев, он нанимал нас загонщиками за 20 копеек в день. Охотники в просеке становились с ружьями, а мы за много километров гнали на них зверя. Трещали, кричали, свистели так, что не только зайцы – волки, обезумев от шума, сломя голову бежали прямо на охотников. После охотники уезжали обедать, а мы, уставшие, мокрые от пота и снега, с двадцатью копейками в кармане плелись домой.
В ту пору жизни самыми моими любимыми занятиями были рыбалка, ночное и сенокос. Сколько историй разных услышишь в ночном! Но, бывало, поблизости начнут выть волки, и тут уж не до историй, всю ночь с собаками стережем своих лошадей. Неприятен был и дождь, укрыться от которого в поле было негде. На сенокосе разнотравье, свежее сено, масса дикой клубники. Моя обязанность – возить на лошади копны сена. Очень не любил жать и не полюбил никогда. Жал на коленях. Надо мной смеялись, дразнили, но я не мог пересилить себя и работать, согнувшись в три погибели. Особенно возненавидел жнитво, когда чуть не напрочь отрезал серпом безымянный палец левой руки. Шрам остался на всю жизнь. Не любил ездить за снопами – часто падал с воза и больно ушибался. Из игр в это время больше всего любил лапту и бабки, зимой катанье с гор, коньки.
Учась в третьем классе, я уже читал стихотворения на елке. По всем предметам по-прежнему шел первым учеником, но закон божий мне вдруг надоел и даже вера в бога как-то поколебалась. Произошло это, очевидно, вот почему. Прислуживая попу и дьякону за алтарем, я часто видел, как они там пили вино, курили, сквернословили. В результате церковь перестала быть для меня чем-то возвышенным и таинственным, отношение к вере как-то упростилось. По закону божьему я продолжал успевать неплохо, пока не произошел такой случай.
Как-то зимой на большой перемене мы играли на школьном дворе – кувыркались в снегу, бегали, кидались снегом и после звонка бросились всей гурьбой в школу. В двери получился затор, и один из учеников, Наумов, нечаянно ударил головой в живот учительницу Елизавету Сергеевну. Та рассердилась и заявила, что исключает Наумова из школы. В те времена учительница была полной хозяйкой в школе – могла миловать учеников, могла их наказывать вплоть до исключения. Но решение Елизаветы Сергеевны было явно несправедливо – Наумов ударил ее без умысла, нечаянно. В общем, мы запротестовали, бросили занятия и втроем отправились жаловаться к помещику, который был школьным опекуном. Толстой знал меня по пению в церковном хоре, и потому наш протест излагал ему я. Вдоволь насмеявшись по поводу школьного происшествия, он написал учительнице записку, которую мы ей и вручили. Прочитав ее, она покраснела и сказала Наумову: «Ладно, садись за парту». Таким образом, мы победили по всем правилам забастовочного искусства.
Но учительница нам это припомнила. Вскоре она весь наш класс оставила без обеда за невыученный урок по закону божьему, хотя виноваты в этом были не все. Я, видимо, под влиянием отца, с детства не терпел фальши и вранья и, когда учительница ушла, в знак протеста предложил товарищам спеть. Сначала мы пели молитвы, потом деревенские песни, а после начали шуметь и стучать, устроив нечто вроде обструкции. На шум учительница вернулась и, начиная с меня, отодрала всех сидевших на первой парте за уши, а меня сверх того поставила на колени на верхние ребра парты, справедливо посчитав зачинщиком. С этого момента Елизавета Сергеевна меня возненавидела, как, впрочем, и я ее. Учиться стал хуже, закон божий совсем забросил, и каждый его урок кончался тем, что поп ставил меня на колени и оставлял без обеда. Вызывал даже отца, чтобы воздействовать на меня. Вскоре ушел я и из церковного хора, перестал ходить к обедне, возненавидел поповщину и со временем превратился в убежденного атеиста. В годы советской власти, как ответственный работник советского аппарата, я с особой энергией и настойчивостью закрывал церкви, не считаясь с угрозами в свой адрес со стороны попов и кулаков.
На школьном экзамене следующей весной я назло учительнице ответил отлично на все вопросы, даже попа! Толстой, который был в комиссии, предложил выдать мне похвальный лист. Но против этого очень энергично запротестовали учительница и поп. Они говорили, что за мое поведение в последнее время меня и до экзамена нельзя было допускать. В общем, листа мне так и не дали, хотя аттестат об окончании школы я все-таки получил.
На этом, пожалуй, мое детство и кончилось. Сейчас, около 60 лет спустя, с грустью вспоминаешь свое деревенское детство. Лес, пруд, луга, ночное, рыбалка, ловля раков, охота на птичек, сусликов, зайчат, соловьиное пение – словом, свободное общение с природой не забывается! В городе и половины этого нет, не говоря уже о домовом, лешем, русалках, банных чертях. Так все в городе ясно, объяснимо и… скучно до одури.
По мысли отца и настояниям тетки Марфы, после окончания школы меня должны были отдать в городское 4-классное училище Уфы. Но смерть отца перечеркнула все планы. На лето 1901 года я попал к купцу, который ездил по базарам с кожевенным товаром. Был я у него и кучером, и конюхом, и продавцом, и поваром. Бывало, приезжаем в какое-нибудь село вечером накануне базара. Пою лошадь, задаю ей корм, потом сами пьем чай. Спим на возу с товаром. Утром чуть свет я, убрав лошадь, покупаю хлеба, мяса и готовлю обед. После иду на базар помогать своему хозяину торговать. После обеда едем в следующее село. И так все лето. Даже купался редко – бывало, пойду поить коня и наскоро искупаюсь.
Осенью меня отвезли в Уфу и отдали в кондитерскую Прокофьева в качестве мальчика-посыльного и продавца. Магазин стоял на центральной улице и был открыт каждый день с 5 утра до 11 часов ночи, не исключая и воскресений. Так работать было, конечно, очень тяжело. Бывало, уснешь как убитый ближе к полуночи, а уже около 5-ти утра надо вставать. В магазине нас, мальчиков, было двое. Кроме работы в магазине, мы в ящиках на голове разносили булки, печенье, торты по всему городу – в мужскую и женскую гимназии, в реальное училище, отдельным покупателям. Делалось это утром, до завтрака. Позавтракав (наш завтрак всегда состоял из жареной картошки с белым хлебом и чая), мы помогали по магазину, с 8 до 11 утра обычно полному покупателей. Так, в беготне по городу и в хлопотах по магазину проходило время до полудня, когда был обед. Обедали мы мясными щами и жареной картошкой или кашей. После обеда клеили пакеты для упаковки товара и относили их в пекарню, где была огромная печь. Разложив на ней пакеты для просушки, иногда дремали, а порой и засыпали. Один раз я так крепко уснул, что руку сжег до пузырей. С 5 до 11 вечера снова был наплыв покупателей. В это время обычно покупали уже не хлеб, а печенье, пирожные, торты, конфеты, которые мы разносили по домам. Получали чаевые по 5-20 копеек и тут же сдавали деньги хозяину, который их записывал на наш счет. Таков был порядок – мальчикам денег в карманах держать не полагалось. Набегавшись за день и придя домой, мы буквально валились с ног и ужинали уже полусонными.
Платили мне в первый месяц рубль, во второй – два и в третий – три рубля на «готовых харчах». Скоро, правда, я из магазина ушел. Произошло это так. Наклеив пакетов, я отнес их в пекарню сушить. Пекаря в это время отдыхали и играли на гармонии. Я их слушать не стал и пошел помогать в магазин, где в тот момент было много покупателей. Столкнулся в коридоре с женой хозяина, которая, увидев меня идущим из пекарни, откуда раздавалась музыка, и решив, что я ходил слушать гармошку («шалаберничать с мастерами», как она выразилась), в сердцах стукнула меня по затылку. Вечером, когда пришел хозяин, я ему заявил, что ухожу. Он удивился и спросил о причине, я рассказал. Вместе со старшим приказчиком он стал уговаривать меня «не дурить», потому что где, в каком магазине или в мастерской не шлепают учеников за дело и без дела. Надо сказать, что работал я хорошо и меня любили и хозяева, и покупатели. Но я настоял на своем, забрал свою подушку и кошму, на которой спал (одеяла у меня не было), и ушел к тетке Марфе.
Ее мое появление встревожило. Я рассказал ей, как и почему ушел из магазина и заревел. Она меня обняла и тоже заплакала. Так мы с ней обнявшись долго плакали. Дело в том, что тетка Марфа очень любила моего отца. Внешностью и характером они были похожи. Бывало, гостя у нас в Языкове, она почти все время проводила с братом – моим отцом. Тетка Марфа была красива – большие серые глаза, прямой с горбинкой нос, правильный овал лица и губ, волнистые, темно-русые волосы и при этом небольшая, тонкая и стройная фигура. Характер у нее был мягкий, голос слегка глуховатый, но ласковый, с каким-то протяжным выговором. Она не терпела сквернословия и по своим манерам походила не столько на крестьянку, сколько на бедную интеллигентную женщину Всегда приветливая, чуткая, я безумно любил ее.
С моим отцом у нее была еще одна общая черта – оба любили выпить. Пили, правда, редко, по праздникам, но уж допьяна обязательно. Она, бывало, сидя рядом с отцом, приговаривала: «давай браток, выпьем, зальем свое горе», или: «учили нас, да недоучили, так давай хоть выпьем». Она позднее и мне говорила: «учись, Ванюша, но учись как следует, не так, как мы учились». Что она этим хотела сказать, я так и не узнал. Уже после ее смерти мать мне рассказывала, что она, Марфа, «была точная копия своей матери, только ростом ниже, но Марья не пила спиртного, а Марфа не пила ничего спиртного, кроме водки». Вот к ней-то, к этой своей любимой тетке, я и явился. Она написала домой письмо, чтобы за мной приехали. Жил я у тетки две недели, иногда помогал ее мужу, ломовому извозчику, возить дрова. Их сын Алексей, ученик городского училища, обучал меня дробям, русскому языку Грустно было от них уезжать.
По приезде домой началась для меня новая, уже взрослая жизнь. После города наш деревенский дом мне не понравился – душно, грязно, тесно. Как всегда в холода, в избе вместе с семьей из восьми душ зимовали свинья с поросятами, овца с ягнятами, теленок, куры. Здесь же доили корову. Всю следующую весну и лето я вместе с братьями работал по хозяйству – боронил, возил навоз, косил, жал, пахал и т. д. Самым приятным занятием по-прежнему была рыбалка, а из работ– сенокос. Мы с младшим братишкой всерьез занялись рыбной ловлей и все лето как гагар кормили рыбой домочадцев.
Деревенские заботы, игры, рыбалка и прочие дела быстро выветрили из меня городские впечатления. К тому же я был очень привязан к своей семье. Хотя работали мы в это лето, второе без отца, как будто хорошо, но все же хозяйство стало хиреть. В доме всем заправляла мать, снохе это не нравилось, и в конце концов было решено ликвидировать хозяйство в Языкове и осенью переехать в село Давлеканово. Больше всех о нашем переезде жалели ребята, с которыми мы вместе пели вечерами у нашего дома: мой тенор некем было заменить. Хозяйство в Языкове продали, как бывает в таких случаях, дешево, а дом в Давлеканове купили дорого. Переехали мы в него зимой 1902 году, примерно в декабре. Печи топили там кизяком, нам непривычным, и все мы поначалу чувствовали себя на новом месте неуютно, тем более, что в Языкове осталась родня, много друзей и хороших знакомых. Вскоре старший брат заболел водянкой и уехал лечиться в Уфу. Мать поступила посудомойкой в чайную, и вот мы, бывало, вшестером – бабушка, сноха с двумя маленькими девочками и мы с младшим братишкой сядем вечером вокруг пятилинейной лампы и давай плакать от тоски и беспомощности. Бабушка при этом всегда говорила: «Эх, кабы жив был Петруха (наш отец), никогда бы этого не было». Его мы все очень любили и жалели, а умер он рано, 42-х лет, от желтухи. Хворал долго, года два, лежал в деревенской больнице, но спасти его не смогли.
Давлеканово село большое, расположено на берегах реки Дёмы, была в нем и станция железной дороги. Начали мы к новому месту привыкать. Со снохой поступили на станцию, а брат, выздоровев, стал работать на лошади, которую мы вместе с коровой привезли из Языкова. Мать, как я уже говорил, работала в чайной. В общем, материально мы зажили лучше, чем в Языкове. Как истые рыболовы, скоро обнаружили, что в Дёме хорошо ловится зимой, стали днями напролет пропадать на реке и приносить очень много рыбы. Червей копали у себя в подполье. Однажды мы рыбачили в сильный мороз. Рыба, снятая с крючка, быстро замерзала. Дома мы сложили ее в таз, наполненный водой со снегом. Смотрим, вся наша рыба поплыла. Мы были так поражены! Мертвая рыба и вдруг ожила! Потом эту ловлю в мороз повторяли не раз, и всегда у нас рыба оживала. Явление очень интересное. Когда выйду в отставку и начну снова рыбачить, такой метод обязательно применю. Очень уж он необычен по своему результату!
В 1903 году мы работали по найму в поле у кулаков. Весной сажали подсолнух и арбузы, летом пололи их, а осенью убирали. Получали мы со снохой по 20 копеек в день на своих харчах. Все свободное время, как и в Языкове, я проводил на рыбной ловле, купался.
Река Дёма, надо сказать, замечательна не только изобилием рыбы, но и удобством купания. Не широкая, средней глубины и не судоходная, быстрая, она очень чиста и имеет песчаное дно. Ее берега кое-где поросли кустарником, а дальше – луга, на которых паслись стада коров, овец, коз и лошадей давлекановцев. На этих лугах мы объедались вкусным диким луком. Кобылицы-кумысницы кормились в изобилии росшим там ковылем. И, конечно, в лугах водилась масса певчих птиц. После утренней рыбалки, когда переставало клевать, мы относили наловленную рыбу домой, а сами шли купаться – на весь день, до вечернего клева. Раздевались на песчаной отмели, шли вверх по реке километра полтора, выплывали на середину, и нас несло вниз по течению до нашей немудрящей одежонки. Доплыв, выходили из воды и катались в горячем песке, а то и вовсе зарывались в него. Согревшись, снова шли вверх по течению и снова плыли. И так целый день. А надоест – отправлялись в степь «выливать» сусликов, которых там, как и в Языкове, было множество. Зимой кроме той же рыбной ловли играли в бабки на льду, бегали на коньках, катались на санках с горы или на карусели. Во время снежных заносов работали на железной дороге, очищая ее от снега. Взрослым за рабочий день платили 50 копеек, а нам, мальчишкам, – 25.
Обвыклись мы в Давлеканове, оно нам даже стало нравиться. Правда, здесь я мучительно и долго болел – лихорадкой обметало губы. Коросты я срывал, и дело кончилось тем, что меня начали кормить с ложечки. Думал, останусь уродом на всю жизнь. Но выздоровел – видимо, солнце, вода и воздух деревни сделали свое дело.
В детстве я был очень застенчив и скромен, хотя в то же время был хохотун и озорник. При сборе подсолнуха, например, я, бывало, не съем ни зернышка. Осенью убирали дыни и арбузы – я никогда самовольно не ел и даже отказывался, когда угощал хозяин. Это была и застенчивость, и какая-то своеобразная гордость.
Давлеканово – село башкирское, и летом башкиры продавали кумыс. Я его пил с детства, очень любил и в Давлеканове часто бывал в таборе продавцов кумыса. За какие-то пустяковые услуги, вроде того, чтобы пригнать кобылиц с пастбища или наносить травы, нас угощали кумысом, и мы довольнехонькие уходили домой. Бредень из Языкова мы привезли в Давлеканово и частенько по ночам ловили рыбу. Таким образом, на новом месте мы жили не бедно, хотя после болезни старшего брата пришлось продать и лошадь, и корову. Брат стал работать поденщиком на железной дороге.
Брат был неграмотный, глухой на оба уха. Маленьким он упал с воза с сеном, воз через него переехал, и он оглох. Он был неглупый, красивый, очень сильный. Например, упавшую лошадь ему ничего не стоило поднять за хвост. Был высок и строен. Страстный, неутомимый рыбак, всегда ловил больше всех. Про него говорили, что он «слово знает». Женили его на девушке не любимой, но зато «работящей». Любил он другую, я знал ее. До свадьбы брат водки не пил совершенно, а потом начал пить и пил до самой смерти. Умер он в 1908 году.
Поздней осенью 1903 года мы переехали в Уфу.
Незадолго до нашего отъезда в Давлеканове случился пожар, сгорело половина села. В разгар лета загорелся один дом. Был сильный ветер. Крыши в большинстве были соломенные, и клочья горящей соломы летали по ветру и зажигали другие дома. Наша семья частью сидела на крыше, частью – во дворе, чтобы подавать воду. Наш дом не сгорел, потому что был сложен из саманного кирпича, а крыша, хоть и соломенная, обмазана глиной. Кругом творилось что-то страшное – все гудело от огня! Пока все не сгорело до оврага, пожар потушить не могли, без крова осталось много людей.
Запомнилось еще одно событие – когда из Уфы в Самару везли тело убитого уфимского губернатора Богдановича[17]. Везли его в отдельном вагоне, с помпой, на больших станциях служили панихиды при большом скоплении народа. Конечно, вопрос о его убийстве местные жители обсуждали на все лады, но вывод был один: губернатора убили «студенты-крамольники». Сожалений о его смерти никто не высказывал, на все это смотрели скорее, как на бесплатный спектакль.
В Уфу мы приехали почти разорившимися. Скотину прожили. Дом, который был куплен за 500 рублей, при отъезде удалось продать лишь за 300.
Уфа – город большой, старинный, губернский. В нем было много чиновников, купцов, дворян-помещиков. Ежедневные базары в нескольких местах, дважды в год большие ярмарки. Все это создавало колорит, совершенно отличный от деревенского. Здесь был другой язык, другие нравы. Мы, например, сначала не могли понять, зачем запирать квартиру на ночь. В деревне у нас никогда не было никаких запоров. Летом уезжали в поле всей семьей, и двери оставляли не запертыми, а тут надо было запираться на ночь, даже когда все были дома.
Сняли мы на окраине комнату с русской печкой и полатями, на которых мы с братишкой и спали. Старший брат купил корову (молоко было нужно двум его дочерям), и для ее прокорма мы с младшим братом ходили вечерами на сенной базар собирать сено. Наносили столько, что хватило на всю зиму. Конкурентов почти не было – бедный люд на окраинах коров не имел, а башкиры жили в противоположной части города. Многие из них держали коз, но за сеном к нам не ходили. Однако весной 1904 года корову все же пришлось продать. Собирали мы и щепки на топливо, чтобы, тем самым, удешевить нашу городскую жизнь. Целыми днями мы с братом шатались по улицам, выискивая стройки и подбирая там обрезки и щепки. Часто нас прогоняли плотники или другие ребята, иногда били.
По приезде в Уфу старший брат определился на лесопилку, мать поступила в прислуги. Дома оставались бабушка, сноха с двумя девочками, да мы с братишкой. Семья была, таким образом, в шесть ртов, а заработок у брата был очень небольшой. Он работал сдельно, пилил горбыль на дрова и зарабатывал в день не больше 50 копеек. Мать получала в месяц три рубля, которые полностью уходили в уплату за наше жилье. Когда брат стал запивать, наше положение превратилось в бедственное. Живя в деревне, мы никогда не голодали так, как здесь. В городских магазинах мы видели белые хлеба всевозможных сортов, но сами питались только черным хлебом. Навещая нас, мать всегда приносила кренделей или пряников, и это было для нас праздником. Часто заходила и тетка Марфа. Она жила неподалеку и днями напролет сидела дома одна – муж с утра до вечера на работе, а сын в училище. С утра приготовив обед, вторую половину дня она обычно проводила у нас, в основном в разговорах о старине, о барщине и вообще о жизни при крепостном праве.
Ее и бабушкины рассказы были для нас как страшная сказка. Сколь же терпелив и вынослив человек! Рассказывали, как до смерти засекали розгами ни в чем не повинных крестьян, как их травили собаками, как калечили молодых девушек, особенно красивых. Ни одна не выходила замуж по своей воле и никогда – девушкой. Рассказывая об этом, бабушка называла имена молодых крестьянок, которые, не вынеся надругательств, кончали жизнь самоубийством. Иногда краешком мелькала и история моей бабушки Марьи. Но говорили о ее судьбе так коротко и неохотно, что нельзя было понять, что же с ней произошло. Интересно, что в Уфе о домовых, банных чертях, летающих змеях уже не судачили. Видно, в большом городе вся эта нечисть была не в почете.
Первым сильным уфимским впечатлением для меня стала масленица. В патриархальном губернском городе, населенном купцами и чиновниками, это был большой, многодневный и шумный праздник. Все три масленичных дня, с пятницы до воскресенья, в городе работали только магазины. По центральным улицам, Большой Успенской и Александровской, сплошным потоком на разряженных лошадях, украшенных лентами, бубенцами, колокольчиками, ехали гуляющие. И откуда набиралось столько лошадей? Тут были и чистокровные рысаки, и простые рабочие лошади, тройки, пары и одиночные санки. А по тротуарам лавиной шла толпа, сплошь грызущая семечки, – молодежь и старики, трезвые и пьяные, купцы, чиновники и рабочие, русские и башкиры, хорошо и плохо одетые.
В воскресенье вечером на соборной площади торжественно жгли соломенное чучело – масленицу, предварительно провезенную на дровнях по всему городу. А как ели и пили в эти дни! На последние гроши обязательно стряпали блины. Богатые объедались блинами с семгой и икрой. Местные доктора, потирая руки, приговаривали: «С чистого понедельника придет и наш праздник». Дело в том, что чиновники и особенно купцы, обожравшись за три дня масленицы, в понедельник шли к ним лечить животы. В эти дни врачи драли за прием втридорога, но они ничего не жалели, лишь бы очухаться. От обжорства случались завороты, кровоизлияния в мозг, инфаркты со смертельным исходом.
Мать пошла в прислуги к сборщику выручки казенных винных лавок. Как-то я зашел к ней в гости. Хозяин вышел на кухню, увидел меня, узнал, что я грамотный. Сказал, что устроит меня посыльным в контору казенного винного склада, пообещав, что в дальнейшем я буду получать до 25 рублей в месяц. Я был очень доволен, что пойду работать – хоть немного, а смогу помогать семье. В ноябре 1903 года меня приняли посыльным, для начала положив 7 рублей в месяц. Работали в конторе с утра до 8-ми вечера и в воскресенье с 10 до 4 часов дня. Обязанности мои были не сложные. Писарь дает бумагу, я ее вношу в исходящий журнал, запечатываю, записываю пакет в разносную книгу и доставляю адресату. Должность посыльного имела ту положительную сторону, что дала мне возможность хорошо узнать город. Хуже было то, что разносить бумаги приходилось в любую погоду. Бывало, зимой закрутит такая башкирская пурга, что на метр не видно ничего, и при этом мороз в 30 и более градусов. А ты идешь, потому что надо успеть до вечера разнести пакеты. Сколько раз я обмораживал нос и щеки, сколько раз еле оттирал руки! Чтобы не замерзнуть, я обычно бежал бегом. А сколько раз меня кусали собаки тех, кому я доставлял пакеты на дом! Был у нас один сборщик денег – домовладелец, который держал много собак. Его дом стоял в глубине двора, и пока добежишь до него от ворот, тебя обязательно покусают. А попробуешь сопротивляться, хозяин набрасывается еще злее собак. И на вид он был страшный, волосатый, не говорил, а рычал.
Зимой 1907 года на него напали грабители, когда он вез деньги, причем прямо в лоб застрелили из револьвера его стражника. Сам он сумел убежать, бросив деньги в санях. А через пять лет выстроил два двухэтажных дома. Ясно, кто был настоящим разбойником.
Носил я пакеты и в дом хозяина матери. Подгадывал приходить под вечер, пил с ней чай, отдыхал, а уж потом шел домой. Хозяин был маленький, худенький, невзрачный, с чудной фамилией Дросявецкий. Зато его жена была настоящая русская красавица – высокая, светло-русая, с белым, кругловатым, чистым лицом. Она, бывало, посадит своего мужичонку на колени и укачивает, как ребенка. Жили они в согласии. Мать говорила, что когда он уезжал по делам, она не «шалила» и терпеливо его ждала.
Летом мучила жара, мочил дождь. Купаться удавалось только вечерами. Домашние моей службой были довольны – старший брат приносил в семью немногим более моего. Но больше всего мне докучали сотрудники конторы – писаря. Их было человек 15, каждый получал не более 30 рублей в месяц. Одеваться им следовало чисто – в крахмальную манишку и пр., и вот снаружи эти чиновники, бывало, одеты опрятно, а белье – рваное, грязное. Излюбленными темами их разговоров были скабрезные анекдоты. Все это мне не нравилось. Дружил я только со сторожем Денисычем. Это был чудесный, веселый старик, очень добродушный, бывший николаевский солдат.
На всю жизнь у меня осталось отвращение к манжетам, к крахмальным нагрудникам, к бумажному воротничку. Позднее, будучи уже ответственным советским работником, я рубашку с галстуком заменял френчем или рубахой с отложным воротом. А косоворотка, которых теперь, к сожалению, не носят, всегда была моей любимой одеждой. Из конторы я на всю жизнь вынес и ненависть к заносчивости, к самозванству и хвастовству, к угодничеству и карьеризму, – одним словом, ко всему, чем была так богата чиновная среда.
Еще будучи посыльным, начал я похаживать в механическую мастерскую, познакомился там со слесарями и рабочими других профессий. А тут еще моя мать неожиданно бросила работу и вышла замуж за многодетного сапожника-вдовца. Его старший сын был уже взрослым, работал слесарем. Я как-то сразу сошелся с этим своим сводным братом и его товарищами-рабочими. В общем, решил я перейти в мастерскую и объявил об этом конторщику Тот не хотел меня отпускать. У меня обнаружился хороший «канцелярский» почерк, и он предложил мне место писаря. Но мне так опротивела эта среда и так понравилось среди рабочих, что я от писарской карьеры отказался. В июне 1904 года я стал учеником в механической мастерской. Чиновный мир остался позади, я превратился в пролетария, рабочего в блузе с ключом в руках.
У Кокоревых, в семью которых мы вошли вместе с матерью, был свой домик из двух комнат и кухни. Сам Кокорев и два его средних сына сапожничали и неплохо зарабатывали. Старший Илья, как я уже сказал, работал слесарем в железнодорожных мастерских. Младший Александр ходил в школу. Были еще две девочки 7 и 9 лет. От перенесенной в раннем детстве оспы обе были почти слепые. С нашим приходом детей в семье стало восемь.
Кокорев-отец был неграмотный, по взглядам – ярый черносотенец. Кроме сапожного ремесла он приторговывал. Покупал пиво, воблу, колбасу, черный хлеб и всем этим в кредит потчевал артель шпалотесов. Рассчитывались они с ним по субботам, в получку. Других товаров он не держал и патента на торговлю не имел.
По внешности это был типичный лабазник – выше среднего роста, крепкий, с большими руками, волосы носил под гребенку, с большой бородой и широким красным лицом. Вид у него был свирепый. Мы с братишкой сразу почувствовали к нему антипатию и потому нисколько его не боялись, чем очень его раздражали. Каждый вечер перед сном (спали мы вповалку на полу) он выстраивал детвору перед иконами на молитву. Вставал и сам (мать молиться по вечерам отказалась наотрез). Мне это фальшивое моленье скоро надоело, и я, как мальчик смышленый и живой, начал выделывать разные фокусы. Обычно делал так. Только отец увлечется молитвой, я складываю руки на груди, устремляю на иконы печальный взор и со вздохами произношу: «Господи, владыко живота моего» и т. д. Глядя на меня, ребята начинают фыркать – сначала тихо, потом громче и, наконец, в изнеможении валятся на постель. Не понимая, в чем дело, отец начинал их ругать, а меня ставить в пример. Но, как-то взглянув на меня, засмеялся и сам, махнул рукой и только сказал: «подлец, комедиянщик». После этого случая молиться заставляли только младшее поколение, а нас с Илюшей оставили в покое.
Купил отец как-то Илье двухрядную гармонь. У Илюши музыкального слуха не было совсем, и он, бывало, сидит и по нотам что-то пиликает. А я взял гармонь, сразу на слух подобрал «барыню» и потом играл хорошо без всякого самоучителя. По-прежнему любил петь и плясать русского. Наверное, делал это неплохо – посмотреть и послушать меня у нашего крыльца собирались толпы соседей. Как-никак, а бесплатное представление!
Надо сказать, что Кокорев, хоть был и небогат, на еду денег не жалел. Белый хлеб, колбаса, холодец на нашем столе были постоянно. Обед всегда состоял из двух блюд: суп из костей и каша или картошка с салом. Чай пили каждый вечер с калачом. Отец не был пьяницей. Пил по субботам со шпалотесами и не допьяна и, главным образом, за счет подношений «клиентов». По воскресеньям угощал пивом и нас.
Старший мой брат купил за 70 рублей дощатый домик в одну комнату недалеко от нас и поселился там с женой, своими девочками и бабушкой. Домик был плох: с потолка сыпалась земля. Бабушка спала на печке, а остальные – на полу. Бедность у них была страшная. Как-то их поддерживала мать, девочки и бабушка часто захаживали к нам. Наша бывшая деревенская жизнь вспоминалась как рай. Мама с бабушкой рассказывали, сколько у нас было кур, поросят, как пили молоко от своих двух коров, сколько у нас было своей картошки. А сколько ели рыбы, как близко была церковь, а как в поле во время сенокоса красиво! Бывало, сядут на крыльце и все-то вспоминают.
И ведь, правда, было, что вспомнить! Летом, как поспеет рожь, перепел днем поет «поть-полоть», а вечером уговаривает: «спать пора». Потом – ягоды, грибы, в долгие осенние вечера разговоры с соседями о жизни святых и похождениях назойливой нечисти. А дальше – святки, ряженые, свадьбы, катание на салазках, масленица. Сидя на крыльце и вспоминая все это, мать и бабушка, бывало, всплакнут о невозвратном прошлом. Городские кокоревские дети к этому были равнодушны, понимал их только сам Кокорев, бывший тамбовский крестьянин, да я. И сейчас о своем деревенском детстве я вспоминаю с восторгом и грустью.
Расскажу поподробнее о друзьях моей юности, которые оказали на меня большое влияние и, по сути, дали направление всей моей дальнейшей жизни.
Мой сводный брат Илья Кокорев был слесарем уфимских железнодорожных мастерских, по вечерам вместе с отцом шил и чинил сапоги. Был скромен, тих, честен и правдив. В партию вступил в 1905 году. В 1906 и 1907 годах участвовал во всех боевых операциях Уфимского горкома большевиков. В опасной ситуации действовал исключительно хладнокровно. Осенью 1907 года был арестован и выслан в Архангельскую губернию. Именно он в 1906 году рекомендовал меня в партию большевиков и в ее боевую организацию. В 1912 году Илья был арестован вторично, причем я брал его на поруки. Затем он работал в ГПУ. Умер он от туберкулеза в 1935 году.
Федор Новоселов – слесарь тех же железнодорожных мастерских. В партию и в уфимскую боевую организацию вступил в 1905 году. Был много развитее своих товарищей, скромен, умен, много читал, не пил и не курил. В 1906–1907 годах член Совета уфимской боевой организации, выполнял ответственные боевые задания. Был арестован в 1907 году и в 1908 году выслан на пять лет в Якутскую губернию, из ссылки бежал. Активно участвовал в гражданской войне. Сейчас живет в Туапсе и, несмотря на возраст (67 лет), работает на верфи начальником цеха. Он также рекомендовал меня в партию и в ее боевую организацию. Федя был, да и остался лириком по натуре. Жизнерадостный, но серьезный и начитанный, о своей боевой работе, тюрьме и ссылке он всегда рассказывает грустно-иронически. Он мог бы стать крупным государственным деятелем. Данные у него для этого действительно были.
Лаженцев Петр. Слесарь. Веселый, общительный парень. В партию и в ее боевую организацию вступил в 1906 году. В 1907 году был арестован, сослан в Сибирь. Мне говорили, что он погиб где-то в Астрахани, куда бежал из ссылки.
Куклин Иван, слесарь уфимского депо. В партию большевиков вступил в 1905 году. Трезвый, вдумчивый, умный был парень. Хорошо пел, и мы с ним летними вечерами частенько собирали много слушателей; пели и революционные песни – на рыбалке в лодке или в избе. Спас меня, когда я пытался утопиться. После ареста я потерял его из вида.
Юрлов, рабочий уфимских железнодорожных мастерских. Очень общительный, хороший был парень. Также много читал. Будучи уже членами партии, мы вместе изучали политэкономию и труды Ленина. Бывал я с товарищами и у него дома – он жил далеко от города, где не было полиции, и поэтому собираться у него было безопасно. Что стало с ним впоследствии– не знаю, с 1907 года я о нем ничего не слыхал.
Вот мои близкие друзья – простые рабочие парни. Конечно, мы были молоды и не всегда вели себя правильно, но стремление читать побеждало нездоровые влечения. Мы не были пьяницами, хулиганами, не играли в карты или в другие азартные игры. Зачитывались Хаггардом, Купером, Майн Ридом, потом – Писемским и другими авторами. Горячо обсуждали прочитанное. Летом, по субботам, независимо от погоды, отправлялись на лодках рыбачить. У всех были лодки – весной наши дома разливом реки Белой затопляло, порой до окон. Конечно, после спада воды в домах было очень сыро. Куриная слепота и малярия гуляли вовсю, не миновав и меня. Но об этом чуть позже.
Так вот, с весны и до осени каждую субботу мы выезжали вверх по Белой и в затоне рыбачили ночи напролет. В воскресенье к обеду возвращались домой и, отдохнув, играли в городки возле дома Новоселова. В городки мы играли и в будни по вечерам – работали до 6 часов, и времени для игр хватало. Конечно, летом ежедневно купались, благо до реки было рукой подать. Изредка гуляли по железной дороге. Там я потерял два нижних зуба. Илюша как-то замахнулся палкой на вагон проходящего товарного поезда и случайно ударил меня по лицу.
Жители нагорной части города – «горцы», или «кавказцы» – часто дрались с подгорными ребятами-«нижегородцами». Мы дрались на стороне «кавказцев». Дураки, били друг друга отчаянно, чем попало. Доходило до того, что избитых увозили в больницу. А полиция равнодушно на все это взирала – ей было на руку такое братоубийство. В 1904 году шла война с Японией и уфимские ребята в нее играли. Однажды взяли в плен «генерала Куроки[18]» и повесили его на дереве. Испугавшись, что повешенный умрет, ребята разбежались вместо того, чтобы перерезать веревку. Так несчастный «Куроки» и задохнулся.
Один раз мы с Илюшей пошли вечером погулять. Нарвались на пьяных хулиганов, и один из них ударил Илью железным прутом по голове. Я его до дома еле довел, а утром его отвезли в больницу. Так шрам у него на лбу и остался на всю жизнь. И ударил-то знакомый парень, они вместе работали в мастерской. Потом он каялся не раз, когда, как и Илюша, стал большевиком. Я его знал. Парень он был неплохой, а вот спьяну набедокурил.
Зимой мы были постоянными посетителями ярмарок и цирковых балаганов. Денег у нас не было, и представления мы обычно смотрели с крыши. Замерзнем, тогда уйдем. В 1904 или 1905 году через Уфу проезжал из Сибири Николай II и мы бегали посмотреть на него. Смотрели с дерева – на вокзале собралась огромная толпа. Царь стоял в вагоне и кланялся, а народ кричал «ура!» и «дурак!». Мы не верили своим ушам, но после подтвердилось, что некоторые рабочие кричали именно так.
Наш маленький поселок стоял на озере, в которое спускал горячую воду ректификационный завод. От озера постоянно шел пар, растительности по берегам не было. Жители страдали от сырости и сопутствовавших ей малярии и куриной слепоты. Странная это болезнь, куриная слепота. До заката бегаешь, играешь, и вдруг зрение пропадет настолько, что на шаг ничего не видишь. Бывало, домой меня уводили под руки. Вылечили меня «народным» средством – свиной печенкой. Наелся я ее и жду, когда опять ослепну. Но вот, солнце заходит, проходит час, другой, а я все не слепну. После мы стали часто есть свиную печенку с картошкой, – и вкусно, и полезно.
В городе я впервые узнал, как встречают Новый год. Сам я стал принимать участие в таких вечеринках только в ссылке – встречал с товарищами 1908 год в Березове и 1911-й – в Ялуторовске. Правда, вечеринками эти встречи трудно назвать: прослушав доклад, обсуждали партийные задачи в наступающем году. Всегда без выпивки, а иногда и без чая.
Когда Белая, разливаясь, нас затопляла, мы в узких проходах ловили рыбу – мордой или накидкой. А после работы катались на лодке и пели. Вечерами в тихую погоду наше пение было слышно далеко, и соседи осыпали нас комплиментами. Однажды, поссорившись с отцом, я решил утопиться. Спасибо, Куклин бросился за мной и поймал мою лодку уже на выходе в русло Белой. После другой ссоры я пытался зарезаться, но нож оказался настолько тупым, что оставил на шее только царапины. Строптивым я был с детства, никому не спускал даже небольшой обиды. Не терпел, когда обижают мать. Но попусту ни с кем не ссорился и никогда не был задирой или драчуном. Очень любил я слушать музыку особенно фортепиано. Уфа – музыкальный город, во многих домах были пианино, и я подолгу сидел на какой-нибудь лавочке, слушая музыку из окна или террасы. Любил вальсы «На сопках Маньчжурии» и «Дунайские волны». Специально ходил летом в Веденеевский сад, чтобы их послушать. Вот так протекала моя подростковая жизнь.
В рабочей среде
Итак, в июне 1904 года я поступил на работу в ремонтно-механические мастерские уфимского ректификационного завода. Как ученик слесаря, перепробовал все виды работ по металлу, до молотобойца включительно. Приходилось чистить и котлы. Бывало, вылезаешь из него черным от копоти, видны только глаза, да зубы. Благо, при мастерской была круглосуточная баня. Завод производил и разливал спирт, который, конечно, рабочие могли легко достать. Несмотря на это, пьянства в мастерской я не замечал, и не только в строгостях администрации было тут дело. Выпивали редко и не помногу. Идешь, бывало, в цех что-нибудь ремонтировать и возвращаешься в мастерскую с бутылкой под блузой. В обед добычу по-братски делили на всех. В разливном отделении работали исключительно женщины. Поэтому в обеденный перерыв в вестибюле часто устраивались танцы.
Мне нравилось работать с медником, токарем, электриком. Не любил кузницу. Там было шумно и тяжело. Не любил работать и в кочегарке – жарко, грязно, душно, а, главное – нудно. Иное дело с электриком – интересно, чисто настолько, что в конце дня я специально пачкал лицо сажей или пылью, чтобы возвращаться домой как заправский мастеровой. Даже во времена подполья и после Октября меня всегда тянуло к производству, к слесарному делу. На всю жизнь остались и симпатии к мастеровым. Хотя я родился и вырос в деревне, у меня нет хорошего чувства к крестьянскому труду, не люблю деревенской патриархальщины по сей день. А вот на заводе я всегда себя чувствовал на своем месте, в своем кругу.
Так прошел 1904-й и почти весь 1905-й год. В декабре 1905 года была объявлена всеобщая забастовка, которая состоялась и на нашем заводе. Как я уже говорил, мой сводный брат Илья Кокорев и сосед Федор Новоселов были рабочими уфимских железнодорожных мастерских. Летом 1905 года оба вступили в РСДРП, в ее большевистскую фракцию. Стали агитировать и меня. Начали с того, что ругали царя, купцов, помещиков и попов. В этой связи припоминается такой случай. Дома отец повесил портрет Николая II с подписью: «Царь Польский, и прочая, и прочая». А кто-то приписал карандашиком: «и последний». Поначалу никто эту приписку не заметил. Но вот однажды к отцу пришел в гости его кум, тоже черносотенец, сторож, по фамилии Симанов. Прочитал он подпись под портретом и спрашивает отца: «Кум Савелий, это что у тебя? Кто это написал: "последний"? Откуда он знает, что наш батюшка-царь будет последним?». И пошел, и пошел. Отец краснел, бледнел, а потом как взовьется: «Кто это сделал, подлецы вы эдакие? Ты, Ванька, это написал – говори!». Я не признался, тогда он напал на Илью и чуть его не избил.
С того и начали свою агитацию Кокорев и Новоселов. Насчет попов, купцов и помещиков я с ними согласился сразу – веру в бога я давно потерял, а богатые никогда не вызывали у меня симпатий. Смущал только царь, которого я все еще искренне считал помазанником божиим. Илья и Федя стали давать мне прокламации, чтобы я их разбрасывал на своем заводе. Сам я их, конечно, читал и хорошо понимал. Таким образом, я стал соучастником подпольщиков, не будучи еще их сторонником. Но их разговоры со мной, брошюры и прокламации в конечном итоге сделали свое дело, и осенью 1905 года я помогал им уже сознательно. В октябрьские дни, после выхода [царского] манифеста [17 октября 1905 г.] я распространял прокламации в городских рабочих кварталах. Став заведующим библиотекой, снабжал заводчан нелегальной литературой. По тогдашним меркам моя библиотека считалась большой. Помню книгу Бебеля «Женщина и социализм», брошюру «Пауки и мухи», произведения Ленина, Плеханова. На 200 человек рабочих и работниц завода книг вполне хватало, и они были очень довольны.
В ходе всероссийской октябрьской стачки состоялась первая в истории Уфы манифестация рабочих железнодорожных мастерских. На население и власти выступление рабочих произвело огромное впечатление. Я, как разведчик боевиков, всюду шнырял и хорошо помню, как на всем пути следования от железнодорожных мастерских до Ушаковского парка и обратно демонстрантам не встретился ни один полицейский. На митинге председательствовал И.С. Якутов, слесарь железнодорожных мастерских, социал-демократ-большевик. Речь с крыши летнего театра говорил подпольщик «Николай Иванович». Он потребовал от губернатора немедленно освободить политических заключенных, пригрозив, что в противном случае манифестанты сделают это сами. Губернатор стоял в толпе (впервые я видел его так близко), бледный, – струсил. Он обещал, что выполнит это требование, и, действительно, политзаключенные были освобождены в тот же день. Митинг закончился избранием «президента Уфимской республики». Избран был Якутов.
После этой демонстрации забастовочный комитет мастерских под руководством того же Якутова ежевечерне заседал в рабочем клубе и продолжал собираться вплоть до декабрьского восстания. Я часто бывал на его заседаниях и помню, что там дискутировались не только расценки, 8-часовой рабочий день, но и вопросы политические. Уфимская «чистая» публика собиралась в клубе приказчиков и в других местах.
У себя на заводе я продолжал снабжать рабочих революционной литературой. Приходил за полчаса до начала смены, раскладывал прокламации на видных местах, и рабочие успевали их прочитать до прихода администрации. Нелегальные брошюры мы читали в это время почти открыто, снабжал ими рабочих также я. Во время обеденного перерыва устраивались диспуты и беседы на политическую злобу дня. Благодаря им, мы скоро узнали, кто из рабочих к какой партии принадлежит или какой симпатизирует. Среди моих знакомых и товарищей оказались и большевики, и анархисты, и эсеры, и беспартийные. Было интересно слушать их споры о достоинствах и недостатках партийных программ.
Декабрьские события проходили у нас бурно. Завод бастовал. Мой брат Илья и Новоселов к тому времени стали членами уфимской боевой организации большевиков, городскую «часть» которой возглавлял Эразм Кадомцев[19], а ее железнодорожной (экспроприаторский) отряд – его брат Михаил. Командующим всеми боевиками был Мавринский[20], а восстанием в железнодорожных мастерских руководил Якутов. Во время декабрьских боев я находился вблизи этих мастерских и слышал стрельбу и взрыв бомбы, брошенной Якутовым в солдат. После того, как восстание было подавлено, многих рабочих арестовали и сослали на каторгу. Якутова, которого выдал провокатор, в конце 1907 года повесили в уфимской тюрьме.
Из наших заводчан никто арестован не был, руководителей забастовки просто уволили. Я со своей библиотекой был вынужден уйти в подполье. Книги спрятал в ящик в кузнице за мехом, оттуда и выдавал их рабочим. Партийные организации на заводе и в мастерских уцелели. Илья и Новоселов продолжали вести и чисто партийную, и боевую работу. Последняя, в частности, заключалась в охране собраний. Помню зимой большое собрание в клубе приказчиков, которое охраняла боевая дружина во главе с Михаилом Кадомцевым. В черной папахе и кадетской шинели он выглядел очень внушительно. Я выполнял и его поручения, продолжая быть разведчиком. Распространение на заводе прокламаций по-прежнему было моей обязанностью.
Зимой 1906 года вместе с другими молодыми рабочими – Мыльниковым Игнатием[21], Шашириным Тимофеем, Лаженцевым, Куклиным я начал посещать кружок политграмоты. Мы собирались в оранжерее железной дороги, в которой работал Юрлов. Изучали политэкономию, сочинения Ленина и другие произведения марксистов. Занимались с нами Эразм Кадомцев, Василий Алексакин[22] и приезжие пропагандисты – «Лука» и «Алексеевна» (Черепановы)[23]. Учиться мы начали, кажется, в феврале, когда овощи в теплице только выпускали первые листочки, а закончили в мае, когда они поспели, и мы их ели. Будучи тогда совершенно политически сырым материалом, на этих занятиях мы сумели крепко усвоить главное – что являемся представителями рабочего класса, которому «нечего терять кроме, своих цепей»; что свергнуть самодержавие и власть капитала можно только путем вооруженного восстания и что мы обязаны полностью пожертвовать собой, безоговорочно делая то, что велит партия, которая стоит во главе рабочего класса. Учил Кадомцев нас и тому, как держаться с жандармами при аресте. Эта наука нам многим потом очень помогла.
Одновременно с учебой мы выполняли партийные поручения – распространяли листовки, разносили записки, книги и т. д. Помню операцию по разбрасыванию антирелигиозных прокламаций в пасхальную ночь 1906 года. Собрали нас в железнодорожной церкви прямо во время пасхальной службы. Каждому выдали листовки и определили район. Мне и Тимке Шаширину досталась Вокзальная улица. Во всех домах – предпраздничная суета, уборка, стряпня, никто не спит. Мы передавали листовки хозяевам либо бросали их в открытые окна, а иногда просто совали в дверную щель. Где и как удобнее, лишь бы они не завалились. Под конец не удержались и бросили листок в открытое окно полицейского участка, думая, что там никого нет. Полицейский, который там все-таки оказался, кинулся за нами. Но наши ноги были резвы, а пасхальная ночь, как известно, темна. В общем, от городового мы благополучно удрали. Об этом маленьком происшествии мы потом рассказали Алексакину, думая, что он нас похвалит. А он нам устроил взбучку, объяснил, что политика – дело серьезное, а не игра. Но лихачество было у нас в крови, и, пожалуй, оно впоследствии Шаширина и погубило. Но об этом после.
Вспоминается и маёвка в 1906 году. Партийный комитет решил отпраздновать Первое мая в лесу, за мужским монастырем. Я стоял в дозоре и речей не слыхал. Вдруг из-за монастыря на нас наскочила конная полиция и казаки. Маёвщики бросились к реке Белой, но многих догнали, избили нагайками и арестовали. Я тоже получил пару ударов нагайкой. Не знаю, почему эту маёвку не охраняла боевая организация, которая к тому времени уже была, большая и хорошо вооруженная. Летом того же года, когда я уже стал боевиком, мы массовки в лесу охраняли.
В июне 1906 года со мной случилась неприятность – меня уволили с завода. Началось с того, что к нам поступил кузнецом только что пришедший из армии мастеровой. Я с ним работал молотобойцем и из разговоров понял, что он ярый черносотенец. Служил он в артиллерии, где всегда было много революционно настроенных рабочих, а он оказался каким-то выродком. Как я уже говорил, нелегальную библиотеку я хранил в кузнице. Поняв, что за птица кузнец, наиболее ценные книги я унес домой и, как впоследствии выяснилось, тем самым сохранил и саму библиотеку. Как-то в мое отсутствие черт понес кузнеца за меха, и, обнаружив там мой ящик, а в нем книги, он сдал их в администрацию. Подозрение пало на меня, и меня тут же рассчитали. Я попытался обжаловать увольнение, ходил к генералу, управляющему акцизными сборами. Но он, переговорив по телефону с директором завода, мне отказал. Так, проработав в мастерских ровно два года, на время я стал безработным.
Вступление в партию большевиков. Дёмская экспроприация
В 1906 году революционное движение держалось еще высоко. Каждое воскресенье в Уфе и в окрестных лесах проходили массовки, собрания, беседы. Я с братом и Новоселовым часто ходил на эти собрания – в лес за станцией Воронки или за Белую. В середине июня 1906 года на лесной полянке близ Воронков меня и приняли в партию большевиков. Заявления я не писал, просто за меня поручились Кокорев и Новоселов. Было мне тогда 16 с половиной лет. По Уставу в партию можно было вступить в 18 лет; мне прибавили год, и я был принят.
Оба моих поручителя входили в уфимскую боевую организацию, и по их рекомендации вскоре туда же приняли и меня. Ее руководителем по военно-боевой работе был Эразм Кадомцев, бывший офицер, член партии с 1901 года. Начальником дружины состоял его брат Иван, а на Симском и Миньярском заводах – брат Михаил, которого, как бывшего кадета, мы между собой называли «без пяти минут офицер».
Сегодня, почти полвека спустя, когда я пишу эти строки, мне хочется крикнуть: «Шапки долой!». Я говорю о людях, отдавших жизнь за Родину и счастье ее будущих поколений: о Якутове, Шаширине, Мясникове, Алексакине, Зенцове[24], Ермолаеве[25], о Дьяконове, Кадомцевых Михаиле и Иване и других боевиках знаменитой уфимской боевой организации нашей партии большевиков. Они понимали, что не доживут до социализма, знали, что обречены погибнуть на каторге, в ссылке, на эшафоте, в тюрьме, но, тем не менее, шли в революцию! Это были настоящие герои-смертники. Кто объяснит их подвижничество?
Прежде, чем стать боевиком, я прошел курс изучения огнестрельного оружия и военного дела. Нас учили разбирать и собирать трехлинейную винтовку, обращению с маузером, наганом, парабеллумом, Смит и Вессоном, со взрывчатыми веществами – динамитом, пироксилином, гремучей ртутью. Изучали мы и уставы царской армии – полевой, боевой, гарнизонной и внутренней службы, а также тактику уличного боя, историю бурской войны, Парижской коммуны, московского вооруженного восстания. Преподавали нам основы стрелкового, саперного, санитарного дела и военной разведки. Отдельно с нами занимались по политграмоте – Эразм Кадомцев преподавал политэкономию, муж и жена Черепановы знакомили с сочинениями Ленина. Но главным оставалась боевая учеба. Мы отправлялись вниз по течению Белой, потом на дрожках перевозили лодки на реку Уфимку Высаживались в глухих местах и стреляли, бросали самодельные бомбы, тренировались физически, проверяли оружие. Не случайно, что в 1917–1918 годах на ответственные военные посты в Уфе назначали именно бывших боевиков, а не «политиков» вроде Коковихина[26] или Брюханова[27].
На всех занятиях мы, так или иначе, говорили о будущем. Заместителем начальника одной из дружин нашей боевой организации был Владимир Алексеев[28], сын 2-й гильдии купца. Мы рассуждали о том, как, взяв власть, конфискуем имущество его отца. Алексеев считал это несправедливым, но именно так и случилось в 1918 году. Позже расскажу об этом.
Летом 1906 года, уже будучи большевиком, я поступил на механический завод, который арендовал некто Киснемский – эсер, сын какого-то не то чиновника, не то купца – точно не знаю. На завод он принимал только членов революционных организаций – эсеров, анархистов, социал-демократов. В обед и вечерами на заводе устраивались беседы, читались рефераты, лекции, проходили диспуты. Жандармы пронюхали об этом и в декабре 1906 года завод закрыли, а его хозяина арестовали и выслали. Но, благодаря этим беседам и диспутам, я стал лучше разбираться в общественно-политических вопросах.
Прежде, чем рассказать о наших боевых операциях, попытаюсь охарактеризовать наиболее авторитетных членов нашей организации.
Ее общепризнанным идейно-политическим и военным лидером был Эразм Самуилович Кадомцев. Именно он написал ее устав, который сам же докладывал на Таммерфорсской конференции большевиков, и вскоре вошел в Боевой центр при ЦК партии вместе с В.И. Лениным (председатель) и Л.Б. Красиным[29]. С нами, рядовыми боевиками, в 1906–1907 годах он постоянно проводил занятия. В целях конспирации он имел обыкновение носить офицерскую форму, и это срабатывало: увидев офицера, жандармы, как правило, оставляли нас в покое. Правда, случалось и по-другому. Как-то летом 1907 года за Белой на наше боевое занятие нагрянула полиция. Кадомцев в офицерском кителе вышел им навстречу, чтобы их задержать, однако был арестован и с месяц просидел в тюрьме. Волевой и решительный был человек. В спорах с эсерами и меньшевиками бывал очень резок, и вступать с ним в дискуссию те избегали. К проступкам соратников был непримирим, трусости не терпел. Например, не любил Гриньку Андреева[30], который, однако, трусом не был, а просто на операциях волновался. Вообще, трусов в нашей боевой дружине не было и быть не могло – все мы знали, на что идем и чем рискуем.
Брат Кадомцева Иван непосредственно руководил нашей боевой организацией. В свое время по причине политической неблагонадежности его исключили из уфимской гимназии, и потому у нас его прозвали «гимназистом». Был серьезный, волевой и всегда очень спокойный. Отличался строгостью, не то, чтобы смеяться, улыбался редко. В боевой организации пользовался большим авторитетом. Он погиб зимой 1918 года – умер от воспаления легких.
Другой брат Кадомцева, Михаил, был человеком иного склада: в боевых операциях был отважен и вместе с тем холодно рассудителен. Был редкостно красив. Все Кадомцевы ко мне относились очень тепло, называли меня «Ванюшка беленький». Но особенно близко я сошелся с Михаилом, с которым не раз встречался и после 1917 года. Товарищ он был замечательный. Будучи сам приговорен к смертной казни, он, например, поддерживал в тюрьме боевика Ивана Мызгана, когда тому грозил эшафот. Меньше всего Михаил заботился о себе – бежал из Мензелинской тюрьмы, чтобы помочь товарищу и, спасая его при побеге, убил стражника. Погиб геройски в 1918 году. Командуя самарским фронтом против чехословаков, он бросился в атаку и попал под пулеметный огонь из засады.
Неординарной фигурой был уже упомянутый мной Владимир Алексеев. Благодаря тому, что его отец владел в Уфе медовым заведением, в ямах под бочками с медом мы имели возможность хранить динамит, пироксилин, оружие, нелегальную литературу. Сам Владимир, хотя по должности заместитель начальника боевой дружины, для нас был просто боевым товарищем. Вернувшись с каторги в 1917 году, он примкнул к меньшевикам и вместо отца как заложник сидел в одиночке уфимской тюрьмы, инспектором которой был в прошлом его близкий друг и тоже наш боевик Василий Алексакин.
Редкой выдержкой и храбростью отличался мой товарищ Тимофей Шаширин, слесарь уфимских железнодорожных мастерских. Он погиб в 1914 году в Тобольском каторжном централе.
Невозможно рассказать обо всех. Достаточно сказать, что ни в боевых операциях, ни на военном «скорострельном» суде, ни в тюрьме или в ссылке я не видел своих товарищей растерявшимися и тем более струсившими. Наоборот, они всегда стремились бежать из царских застенков, чтобы снова работать в подполье. В этом отношении характерным примером является «Петруська» – И.М. Мызгин. Сколько раз он бегал из тюрьмы и из ссылки! Его вспоминания читаются как приключенческий роман. Другие наши боевики – Павел Гузаков, Шаширин – погибли во время побега или, как Михаил Кадомцев, получили за него вечную каторгу.
В учебе и боевых занятиях прошло лето 1906 года. В сентябре мы узнали о решении горкома партии произвести экспроприацию казенных денег, перевозимых артельщиками (инкассаторами) на поезде Самара – Уфа. Для «экса» требовалось 15–20 боевиков-добровольцев. Хотя желающих оказалось много больше, в порядке учебы взяли и меня, в сущности, еще подростка. Мне прямо говорили: «Если не надеешься на себя– не ходи». Я, конечно, храбрился, но у самого на душе кошки скребли. Помню, тихим солнечным вечером накануне «экса» вышел на улицу, обернулся на дом, увидел братишек и мать, и подумалось, что, возможно, завтра погибну и вот так вижу их в последний раз. Должен сознаться, что едва тогда от этих мыслей не заревел. Но на боевую операцию все-таки пошел, и совершенно сознательно.
Операция состоялась 21 сентября 1906 года на разъезде Дёма близ Уфы. Ей предшествовала тщательная подготовка: еще в Самаре в поезд должен был сесть Федор Новоселов и сопровождать его до места; Константину Мячину[31] поручалось сесть в поезд на станции Чишмы и остановить его у намеченного разъезда; Михаилу Кадомцеву вместе с Сергеем Ключниковым после остановки поезда надлежало проникнуть к артельщикам и нейтрализовать их вооруженную охрану. Поезд должен был быть остановлен в строго определенном месте – у единственной дороги среди окружавших разъезд непроходимых болот. Я вместе с Алексеевым и Шашириным должны были для верности набросать на рельсы шпалы. Остальным предстояло обезвредить солдат охраны и не дать вмешаться в события обычным пассажирам. Всего нас было 18 человек, с оружием и бомбами. Командовал отрядом Иван Кадомцев. Он же был и самым старшим среди нас – ему было 22 года. Все заметно волновались.
Вечером 20 сентября наш отряд вышел на позицию, но в последний момент пришло известие, что артельщики отложили отъезд из Самары на сутки. Поужинав прямо на полянке, мы отправились по домам, шутя и смеясь, довольные, что на время опасность миновала. Следующим вечером мы снова были на месте. Слышим – свисток, увидели прожектора паровоза, который остановился за километр до намеченного места. Началась стрельба, и под свист пуль мы рванулись к поезду. Навалили на рельсы шпал, потом Алексеев с Шашириным побежали на выстрелы. Меня с револьвером в одной руке и с самодельной бомбой в другой оставили охранять тропку на случай, если явится помощь из города. Откровенно говоря, одному было страшно.
Стрельба продолжалась долго, паровоз давал свистки. Вдруг в кабине машиниста раздался взрыв. Как оказалось, Михаил Кадомцев, чтобы прекратить свистки, бросил петарду и оглушил машиниста. Наступила зловещая тишина. Кругом осенняя лесная темень, поезд чуть виден – как большой гроб. Вот-вот явятся жандармы. В полной неизвестности, со Смитом и Вессоном в руке, я оробел. Удивляюсь, как я, 16-летний мальчишка, тогда не удрал. Но вот, слышу чьи-то тяжелые шаги и кряхтение. Окликнул. Оказывается, это Алексеев тащит мешок с деньгами. Он сообщил, что повозки подогнали куда-то поблизости, и ушел, приказав ждать условный сигнал, а при появлении жандармов открыть по ним стрельбу или бросить бомбу.
Я уселся на пенек, по-прежнему было жутко. Но вот раздался условный свисток, и я отправился на место сбора. Весь отряд уже стоял на полянке, ждали только меня. Алексеев доложил Ивану Кадомцеву, что я нес охрану дальних подступов к поезду на случай прибытия подмоги из города, и тот похвалил меня за то, что я не ушел с поста. Сделав перекличку, Иван Кадомцев по лесной дороге повел отряд к городу. Мешки с деньгами повезли на лошадях куда-то в назначенное место. Светало. Едва мы отошли, со стороны железной дороги снова послышались выстрелы. Как оказалось, это стреляли жандармы, которые шли от города по железнодорожному полотну; стреляли наугад, и, понятно, никакого ущерба нам не причинили. Нас защитил лес.
Дойдя до Белой, мы разделились. Те, кому утром нужно было идти на завод, включая меня, на лодке переправились на другой берег, разошлись по домам, где, позавтракав, в 6 утра как ни в чем ни бывало отправились на работу. Те же, кто в этот день не работал, прошли вниз по реке до моста, и вскоре также были дома, никем не замеченные. Так состоялось мое боевое крещение.
Участников «экса» жандармы так и не нашли. Характерно, что не нашли и золотых монет, хотя взять их мы не смогли. Имена экспроприаторов были названы много позже в книге присяжного поверенного Кийкова[32]. Рабочие моего завода, узнав из газет об этом происшествии, оживленно его обсуждали. Гадали, кто это сделал? Никто и предположить не мог, что одним из экспроприаторов был рядом стоящий мальчишка-слесарь. В газетах писали, что нападавших было 50 человек.
Через несколько дней состоялся разбор операции. Докладывал Иван Кадомцев. Оказалось, что всего артельщики перевозили бумажных денег, золота и серебра на 250 тысяч рублей. Их охраняли 10 солдат, вооруженные трехлинейными винтовками. Мячин остановил поезд раньше, чем следовало, и этим чуть не погубил все дело. Из-за этого и денег взяли всего 153 тысячи (золото и серебро пришлось оставить – до повозок их было не донести), и оказалось много необязательных жертв. К месту остановки поезда лошади подойти не могли, и пока одни боевики перетаскивали деньги к дороге, другие вели перестрелку с солдатами. Двое из них были убиты, а остальные ранены. Несмотря на ранения, охрана укрылась в поезде, только расстреляв все патроны. Когда Михаил Кадомцев в полумаске подошел к купе кассиров, солдат, охранявший их, преградил ему дорогу и наставил штык. Отпарировав штык браунингом, выстрелом в горло Кадомцев убил его наповал. Артельщики, хотя и были вооружены, сразу сдались. С нашей стороны потерь не было.
Мячин всегда казался мне подозрительным типом. Считался боевым командиром, храбрецом, а на деле был трусоватым неврастеником. Например, весной 1906 года он сорвал одну экспроприацию на железной дороге, почему-то не сумев остановить поезд[33]. Он плакал потом, просил прощения. Летом командовал нашим отрядом, который охранял лесную массовку. Вдруг бежит с поста и орет на весь лес: «Жандармы!», а сам наутек. Публика разбежалась, побросав шляпки, зонтики, калоши. Оказалось, что мимо случайно проехал городовой или стражник, и все. Мы, собрав все оставленное, спокойно ушли, а имущество потом вернули владельцам.
В 1909 году, став после Кадомцевых командиром нашей дружины, во время одного «экса» и снова на железной дороге, Мячин опять запаниковал и застрелил ни в чем не повинного начальника станции; поднялась стрельба, и было напрасно убито еще шесть человек[34]. Бросалось в глаза, что мы, рядовые боевики, неоднократно сидели в тюрьмах, бывали на каторге и в ссылке, а он, наш начальник, ни разу не был даже арестован. Бывало, что на конспиративную квартиру, спустя час после его ухода, с обыском являлись жандармы. Позже, по его рекомендации, в дружину был принят некто Терентьев[35], его давний знакомый (они вместе учились в городском училище), который оказался провокатором. Этот Терентьев выдал многих наших товарищей, некоторые погибли. Или такой эпизод. В начале 1910 года, гостя у М. Горького на даче, Мячин выронил свою записную книжку, а в ней оказались фамилии, клички и даже адреса наших боевиков. Это было грубейшим нарушением правил конспирации, попахивавшим провокацией.
Прочитав воспоминания Ивана Михайловича Мызгина, члена партии с 1906 года и уфимского боевика, я окончательно пришел к заключению, что с Мячиным дело нечисто и что он, скорее всего, был провокатором. История такова. Мызгину поручили подготовить побег из тюрьмы боевика Михаила Гузакова, которому грозила смертная казнь. В обсуждении этого вопроса принимал участие и Мячин. Мызгин отправился в Златоуст, чтобы собрать там боевой отряд, но по приезде его сразу арестовали. Другими словами, тамошние жандармы знали, когда и каким поездом он приедет и у кого остановится. Мызгину в тюрьму товарищи передали пилку, чтобы он мог перепилить решетку и убежать. Но накануне побега его неожиданно перевели в другую камеру. Несмотря на это, бежать ему удалось, он ушел в лес и там неожиданно встретил Мячина с группой боевиков. Поездка самого Мячина в Златоуст не планировалась, но он все же туда явился; мало того, именно Мячин узнал по голосу Мызгина, которого, зная, что тот в тюрьме, никто из боевиков встретить не ожидал. Значит, Мячин был осведомлен и о побеге. Они ушли, оставив Мызгина ночевать в шалаше, а утром к нему нагрянули конные стражники. Не много ли совпадений?
Мызгин бежал в одном белье, переплыв речку Ай, и потом три дня бродил по лесу. Мячин его в таком виде и сфотографировал. Вообще-то, боевикам строго запрещалось сниматься, но Мячин пренебрег и этим правилом. Спрашивается, для чего? В итоге план по спасению Гузакова привести в исполнение не удалось – пока Мызгин находился под арестом и бегал по лесам, Михаила повесили. Кончилось тем, что осенью 1918 года Мячин переметнулся к меньшевикам. Таков был этот, с позволения сказать, «большевик» и «боевик». Поистине, в семье не без урода.
В заключение еще несколько слов о дёмской экспроприации. Все добытые тогда деньги – 153 тысячи рублей– были израсходованы под строгим контролем Уфимского горкома нашей партии и по указаниям вышестоящих партийных органов. Мне доподлинно известно, что 25 тысяч было отпущено на Лондонский съезд РСДРП, 15 тысяч пошло на издание петербургской газеты «Казарма». Остальное потратили на местные газеты, на устройство и содержание школ бомбистов – например, во Львове, и боевых инструкторов – в Финляндии, под руководством Красина и Эразма Кадомцева, лабораторий по изготовлению бомб в той же Уфе, наконец, – на покупку оружия.
После экспроприации на станции Дёма наша организация работала прежним порядком – мы продолжали изучать боевое дело, политэкономию, произведения Ленина, документы партийных съездов, текущие политические вопросы. Занимались с нами Эразм Кадомцев и наезжавший из Екатеринбурга пропагандист «Назар» (Накоряков)[36]. Я продолжал регулярно снабжать рабочих своего завода книгами и прокламациями.
Тем временем отношения с отчимом у меня испортились окончательно. Надо сказать, что он пытался нас контролировать, вечерами всегда открывал нам дверь сам и сильно ругал, если мы с Ильей запаздывали. Дверь запирал на крючок, и я придумал, как открывать ее снаружи, сделав незаметную, шириной в ножик, щель против крючка. Через несколько дней наш вредный старик эту щелку обнаружил, забил, а дверь стал запирать на засов. И вот, после очередного собрания мы явились домой поздно. Отец, по обыкновению отругав нас, сделал вид, что лег спать. Легли и мы. У меня в пиджаке была пачка прокламаций, которые наутро я должен был отнести на завод. Но оказалось, что отец, ощупав мои карманы, нашел прокламации и заставил младшего Саньку их прочитать (сам он, как я уже говорил, был неграмотным). Услыхав про «долой самодержавие, царя и его сатрапов», он вскипел, порвал прокламации и заорал, что выгонит меня из дома. Меня его крики обозлили, взбесил и подлый обыск, и то, что он уничтожил прокламации. Выхватив револьвер, я крикнул: «Не смей меня трогать, я сам уйду, подлый черносотенец!» – и отправился к старшему брату, жившему по соседству. Отец так перетрусил, что в полицию не заявил и целую неделю просидел за печкой, боясь, что я его застрелю из окна.
Конечно, все это я наговорил сгоряча и сильно потом раскаивался. Мне, боевику, не следовало себя выдавать. Этот небольшой инцидент обсуждали и в Совете нашей дружины. Посмеялись, как я, маленький и безусый, нашарахал бородатого медведя-черносотенца, но некоторые (например, Мячин) предлагали на всякий случай отобрать у меня оружие. За меня вступились братья Кадомцевы, особенно Михаил, который отметил выдержку и смелость, которые я, по его мнению, проявил в дёмском «эксе». Хотя за горячность мне попало и от них.
Между тем, приближалась годовщина царского манифеста 17 октября 1905 года. По своим каналам мы узнали о планах черносотенцев по примеру годичной давности устроить в городе еврейский погром с одновременным избиением студентов, гимназистов и рабочих. Уфимский горком партии решил погрома не допустить. Человек 50 боевиков, разбитых на отряды, засели по чайным и пивным. В общем, ситуацию мы держали под контролем. В полдень 17 октября в толпе черносотенцев мы явились на молебен, одетые, как лабазники – в картузах, поддевках и в сапогах гармошкой. Через Новоселова пустили слух, будто рабочие готовятся дать вооруженный отпор. Это охладило пыл черносотенцев, но окончательно их планы сорвал следующий инцидент. Во время молебна один из них нечаянно проткнул древком хоругви царский портрет, за что был немедленно растерзан толпой. Когда черносотенцы увидели, что укокошили своего, тут же разбежались. В общем, их погром так и не состоялся.
Поселившись в сырой лачуге брата, я заболел малярией и с месяц провалялся пластом, пожелтел и был чуть живой. Не то, что лечить, кормить меня было не на что. Семья брата сама жила впроголодь, а матери отчим категорически запретил помогать «подлецу и разбойнику Ваньке». На лечение мне, участнику 150-тысячного «экса», и нужно-то было рублей 50, если не меньше. Спасли меня Федя Новоселов и Вася Мясников, как-то зашедшие меня проведать. Увидев меня на полу сырой, холодной и грязной избушки, они пришли в ужас и тут же перевезли в сухую теплую комнату. Поселили меня вместе с боевиком, рабочим Ильей Васильевым[37]. Помню, спал я на кушетке под одним байковым одеялом, и когда начинала трясти малярия, долго не мог согреться. Как профессиональный революционер, из партийной кассы я стал ежемесячно получать 18 рублей, 5 из которых я платил за жилье. Остальное уходило на питание, папиросы, лекарства. В видах экономии готовили мы с Васильевым сами. Питались так: утром 3-копеечная французская булка и четверть фунта (100 грамм) дешевой колбасы; на обед картофельный суп или щи и сосиски с картошкой; ужинали чаем с булкой.
Несколько слов об этом Васильеве. В субботу, в получку он покупал шкалик водки, выпивал его и потом весь вечер сидел молча. Был он очень неразговорчив, много спал, иногда играл на балалайке и не читал ни книг, ни газет. По начитанности я по сравнению с ним был сущим профессором, и с ним мне было скучно. Раздражало и другое. Скажем, свою наволочку он менял так: покупал на гривенник аршин ситцу и поверх грязной наглухо нашивал свежую. Таким же образом поступал и с рубахой, простыней вообще не признавал и никогда ничего не стирал. Один раз принес фунта два свежей мелкой рыбешки, а у нас испортился примус. Делать нечего – стал он варить рыбу на спиртовке. Кое-как сварил, съел полусырой и улегся спать, не заметив, что лампа коптит. Утром был черный, как негр – только зубы белели. Меня это очень развеселило, и на мой хохот пришел Костя Савченко, хозяин квартиры. Увидев Илью, он тоже покатился со смеху. Этот Костя часто заходил к нам. Революции он сочувствовал, но о нашей боевой работе не знал ничего. Он мне как-то сказал: «Ты какой-то нездешний, взгляд у тебя устремлен куда-то вдаль. Мечтатель ты, что ли?». Когда он ушел, я посмотрелся в зеркало и ничего особенного в своих глазах не нашел. Глаза, как глаза.
Возвращаюсь к Илье. Осенью 1907 года он был арестован и в тюрьме вел себя недостойно – плакал, каялся. Был сослан в Березов Тобольской губернии, пробыл там месяца два, достал откуда-то денег, паспорт, украл у хозяина квартиры револьвер и бежал в Уфу. Вскоре я узнал, что он заделался провокатором, но так как знал очень немного, большого вреда нам не причинил и, в конечном итоге, по слухам, перешел в сыск по уголовным делам.
В бытность нашего вынужденного соседства партийным поручением Васильева было паять стеклянные трубки – части взрывателей для бомб. В трубку наливалась серная кислота, потом она запаивалась на специальной лампе. В декабре 1906 года, когда я несколько оправился от болезни, к бомбовой мастерской прикомандировали и меня. Лаборатория находилась в центре Уфы, на съемной квартире, в доме на углу Солдатского переулка и Приютской улицы. У хозяина дома на имя Густомесова[38], члена Совета нашей боевой организации, был снят верхний этаж флигеля. Как потом выяснилось, в соседнем флигеле обосновались анархисты, по причине неконспиративности которых наша лаборатория в конце концов и «провалилась». Нам удалось спасти часть взрывчатых веществ, препаратов и аппаратуры. Но многое из инструментов, заготовок и материалов попало в руки жандармов. Интересно, что обезвреживать обнаруженный в нашей лаборатории учебный 3-дюймовый снаряд жандармы пригласили отца Густомесова, инженера и ярого монархиста (наш Володя с ним к тому времени уже порвал).
Произошло это позже – в сентябре 1907 года. В числе прочих арестовали Шаширина и меня. Доказать нашу причастность к изготовлению бомб следователи не смогли, и мы отделались трехлетней административной ссылкой в тот же Березов. Но и оттуда через полтора года бежали.
Руководил бомбовой мастерской «Петруська» – Иван Мызгин. Кроме него в ней работали Владимир Алексеев, Владимир Густомесов, Шаширин Тимофей, я и несколько других боевиков, фамилии которых не помню. Надо было быть не робкого десятка, чтобы просто находиться в такой лаборатории, в чулане которой хранилось несколько пудов сильнейшего взрывчатого вещества под названием гремучий студень, белого «менделеевского» пороха, с десяток пироксилиновых шашек, коробки с трубками-взрывателями и емкости с серной кислотой. Одно неосторожное движение, и гибель от взрыва была неминуема. К тому же над каждым из нас висела угроза ареста и почти неизбежная впоследствии казнь. Бомбы мы делали в основном в картонной оболочке, так называемые «бризантные», которые предназначались для обучения и тренировки боевиков. Я, например, летом 1907 года вместе с оружием возил их дружинникам в Екатеринбург и в Нижний Тагил.
Наша лаборатория была строго засекречена. В уфимской боевой организации о ее существовании, конечно, знали, но и только. Подробностей никаких – таков был неписаный закон. Мы сами работали в ней исключительно по ночам. О некоторых деталях операций наших дружинников того времени нам стало известно лишь спустя десятки лет. Я, например, только в 1952 году узнал, что Федор Новоселов и Илья Кокорев весной 1906 года вели паровоз поезда, на который напали наши боевики. Экспроприировали они тогда 25 000 казенных рублей, причем без жертв. Правила конспирации были привиты нам так, что принцип Кадомцева: «говори не то, что можно, а что нужно», почитается нами и посейчас. Не мудрено, что ни одно наше боевое предприятие царские власти так и не раскрыли. А было их более десятка.
О большевистском индивидуальном терроре в Уфе
Партия большевиков никогда не признавала индивидуальный террор. Это совершенно бесспорно. Политические убийства, которые производили большевики в Уфе, были направлены против шпиков и потому являлись актами самозащиты. Летом 1907 года первым был ликвидирован тайный агент полиции по фамилии Зеленецкий, который поселился в Солдатском переулке как раз против нашей бомбовой мастерской. Об этом нас известил «свой» человек в городской полиции. Не зная, что Зеленецкий выслеживал не нас, а анархистов, мы решили его убрать. Акция была поручена Петру Подоксенову[39], рабочему-котельщику, который незадолго перед тем был принят в боевики по рекомендации своего двоюродного брата и моего недавнего соседа Ильи Васильева.
К тому времени я уже сменил квартиру, и Подоксенова поместили ко мне, чтобы я мог познакомиться с ним поближе и за ним понаблюдать. Как и его двоюродный брат (недаром встречавшие их потом в тюрьме называли их «парой гнедых»), Подоксенов читать не любил, много ел, но все больше играл на трехрядной гармошке. Играл виртуозно, обитатели нашего дома им заслушивались. Иногда ходил в театр. Впрочем, мне он показался хорошим парнем, прямым и добродушным. Местом для ликвидации Зеленецкого был определен Веденеевский сад с летним театром; наблюдать за действиями Подоксенова поручили другому нашему боевику – Гриньке Андрееву. С Подоксеновым мы условились, что после ликвидации он явится домой только в том случае, если за ним не будет «хвоста».
Партийное поручение Подоксенов выполнил успешно. В толпе выходивших из театра он не торопясь пошел за Зеленецким, и когда тот отделился от толпы, выстрелил ему в спину и еще раз, когда Зеленецкий упал. Шпик был убит наповал. Подоксенов знал, что у ворот стояли полицейские, и потому спокойным шагом пошел назад – вглубь сада. За ним погнались наш злейший враг, помощник пристава Бамбуров и еще какие-то офицеры. Они стреляли в него, но подходить ближе опасались: он покажет им свой браунинг, и преследователи спрячутся за деревья. Дойдя до ограды, Подоксенов через нее перелез, для верности побродил по городу и, убедившись в отсутствии слежки, под утро вернулся домой. Все эти детали он тут же рассказал мне сам, после их подтвердил и Гринька.
Через несколько дней Совет дружины поручил Подоксенову убийство еще и Бамбурова. Подоксенов даже обрадовался – он был зол на Бамбурова за свое преследование после ликвидации Зеленецкого. На этот раз ему выдали маузер – Бамбуров был очень толст, и наши опасались, что пуля браунинга его не прошибет. Наблюдать за актом снова отрядили Андреева. Бамбуров был убит рядом с летним театром того же Веденеевского сада примерно через неделю после Зеленецкого. На этот раз Подоксенов поджидал свою жертву у крыльца, и когда Бамбуров в антракте вышел в сад, трижды выстрелил в него в упор. Бамбуров упал на брюхо, завертелся, как шмель на иголке, и завизжал, будто недорезанная свинья. Умер он по дороге в больницу, а Подоксенов уже знакомым путем отправился в глубину сада и скрылся. На улице за ним, было, погнался стражник, но забоялся и отстал. Все эти подробности я снова узнал от него самого.
Вскоре Подоксенова приняли в дружину и поселили в бомбовой лаборатории. Как я уже говорил, кроме мастерской игры на гармошке и неразговорчивости он отличался редкой прожорливостью – за один присест легко «убирал» фунт колбасы и столько же черного хлеба. Бывало, придем в лабораторию, а там целый ворох колбасных очисток. Подоксенова не смущало соседство с гремучим студнем, пироксилином, мелинитом, обладающими колоссальной взрывчатой силой, как равно и то, что при малейшей неосторожности он мог взлететь на воздух.
В результате провала мастерской осенью 1907 года Подоксенов был арестован, в камере он оказался вместе со своим двоюродным братом. Плакал и в камере, и на допросах, и через пару недель, видимо, не имея против него серьезных улик, жандармы его отпустили. Освободившись, он снова пошел работать котельщиком и стал меньшевиком.
В том же году состоялся еще один террористический акт. На этот раз был ликвидирован шпик по фамилии, кажется, Брейкин. Очень был ловкий и опасный тип, ходил за нами по пятам, бывало, негодяй, как из-под земли вырастет у тебя за спиной. Убил его Гр. Андреев и еще кто-то – не помню. Как и оба предшествовавших, это убийство также не было раскрыто. Больше мы террористических актов в том году не допускали. Впоследствии в Уфе были организованы еще одно или два политических убийства, но ни прямого, ни косвенного участия я в них уже не принимал и подробностей не знаю.
Экспроприация браунингов
Летом 1907 года та же уфимская боевая организация большевиков произвела экспроприацию браунингов на уфимском казенном винном заводе. Мы старались руководствоваться принципом: «вооружайся сам и вооружай рабочих за счет врага – самодержавия». Оружие, а тем более браунинги, были нам очень нужны; до этого наша партия закупала их в Бельгии. Участие в этом «эксе» служило и обучением наших новобранцев. В общем, представился случай и бесплатно вооружить свои дружины, и подучить молодых боевиков. Было это в июле 1907 года. Мои давние знакомые по ректификационному заводу (напомню, что в его мастерских я работал в 1904–1906 годах) тайком известили меня, что к ним привезли четыре ящика новых бельгийских браунингов. Оружие предназначалось сидельцам казенных винных лавок – их часто грабили. Складской приказчик Евдокимов, мой приятель (и в свое время самый ревностный читатель книг библиотеки революционной литературы, которой я заведовал), указал мне, где эти ящики лежат, как выглядят, кто и как их охраняет, сообщил другие важные детали. В свою очередь, я передал эти сведения заместителю начальника нашей дружины Владимиру Алексееву. Обсудив ситуацию с товарищами, мы решили эти браунинги взять.
Я, хорошо знавший завод, набросал его план, на котором обозначил интересующие нас его точки – Евдокимов утверждал, что из четырех ящиков один стоит в конторе, а три в кладовой. Поэтому мы решили действовать двумя группами. Пошли в 2 часа ночи – на теоретических занятиях Кадомцев нас учил, что это самое подходящее время для боевых вылазок, и не ошибся. Первый отряд во главе с К. Мячиным (помню в нем Владимира Густомесова, Игнатия Мыльникова, П. Волкова, Гр. Андреева) отправился с повозкой к задним заводским воротам; второй, которым командовал Алексеев (в нем были Федор Новоселов, Тимофей Шаширин и я), двинулся к центральной проходной. Сторож нас, конечно, не пустил и поднял тревогу. Тогда мы перелезли через забор, направили в сторожку Шаширина «успокоить» охранника, а сами отправились к конторе, откуда нам навстречу уже бежал живший тут же М.И. Соболев – помощник начальника винного склада. Мы ему сказали, что если он будет молчать, мы его не тронем, но его выскочившая на шум жена, увидев нас в масках, завизжала. А когда Соболев заметил в руках Алексеева кинжал, и он заорал благим матом. Благо, что на дворе была глухая ночь, и никто эти крики не услышал. Мы схватили Соболева за руки, в рот сунули кляп, но он его тут же выплюнул и продолжал кричать и сопротивляться. Когда стало чуть тише, мы услышали сигнал к сбору и отходу. Выбежали на улицу и присоединились к первому отряду.
У Мячина дело пошло глаже. На заводском дворе они встретили сторожа Маклакова – тот был «свой», хоть и беспартийный; его сын состоял в эсеровской партии. Маклаков согласился тихо и мирно посидеть в своей будке. Потом боевики зашли в мастерскую и арестовали дежурного машиниста, который тоже был эсер и обещал сидеть смирно. Затем они сбили замок кладовой, нашли там и забрали ящики с браунингами и уже возле подводы один на пробу вскрыли. Внутри оказались новенькие вороненые браунинги, каждый с двумя обоймами и кобурой и с большим запасом патронов. После этого нам и был дан сигнал к сбору. Всего, таким образом, нам удалось взять три ящика, в которых оказалось 96 браунингов и 7,5 тысячи патронов.
На другой день Евдокимов, похвалив нас за проведенную операцию, сообщил мне, что и четвертый ящик он накануне отнес в кладовую, предварительно сняв с него упаковочную рогожу, чтобы отвести от себя возможные подозрения. Выходит, зря мы возились с Соболевым – в конторе браунингов не было. Я тогда отругал Евдокимова, но теперь думаю, что он был прав. Во всяком случае, о его сотрудничестве с боевиками до революции никто из заводской администрации не догадывался, и все это время он был вне всяких подозрений.
О нашем нападении из администрации завода сразу сообщили в полицию, но полицейские явились только утром. Сначала никто не мог понять, что ночью на заводе делали неизвестные в масках – кладовая стояла на отшибе двора. Но когда обнаружили, что она взломана, ее заведующий сразу все понял и, говорят, едва не умер от досады. Хотя со временем в нашей дружине завелись провокаторы, это дело охранке раскрыть так и не удалось, и никто по нему привлечен не был.
Так мы добыли почти сотню браунингов. Они пошли на вооружение нашей дружины, которая сыграла большую роль в революционном движении на Урале. Браунинги мы сдали Ольге Казариновой (Кадомцевой) – единственной женщине в нашем отряде, она же их и прятала[40].
Побег из ссылки (1909)
Как я уже рассказывал, после первого ареста в 1907 году, за недоказанностью обвинения, я был административно сослан на три года в Тобольскую губернию, в город Березов. Узнав, куда меня отправляют, я еще в тюрьме начал читать об этом крае и многое о нем узнал. Из Уфы этапом мы выехали 1 февраля 1908 года, а до Березова добрались ровно через два месяца – 1 апреля. При этом пешком двигались только от Тюмени до Тобольска, а все остальное время – на лошадях. В этом путешествии приключилось много всякого: ссыльные отмораживали руки, уши и носы, вываливались из саней, плутали, когда поднималась пурга, но везли нас день и ночь, чтобы успеть в Березов до распутицы.
Ссыльных тогда в Березове находилось около ста. Это были совсем разные люди, включая и таких, которые к политике отношения не имели и в ссылку попали по недоразумению. Например, вместе с одним лодзинским парикмахером, социал-демократом, загребли семерых посторонних молодых людей, его постоянных клиентов, а также одного старого еврея, который и в ссылке постоянно молился. В итоге он стал единственным, кто не изменил своим убеждениям, а все молодые уехали из Березова революционерами. Так жандармы невольно помогали революции.
Общеизвестно, что царская тюрьма и ссылка были школой для революционеров. Там мы читали, там мы учились. По сравнению с другими краями, жизнь ссыльных в Березове проходила в относительно благоприятных условиях. Мы часто по своему желанию устраивали рефераты, была у нас большая библиотека, причем такой литературы, которая считалась в России запрещенной и за которую можно было в ту же ссылку и попасть. Там были труды Маркса, Энгельса, Ленина, Бебеля, Плеханова, Каутского, Лассаля и других марксистов, народников – Чернова, Лаврова, Михайловского, анархистов – Крапоткина, Бакунина и т. д.; масса брошюр.
Мы, ссыльные, жили колонией, устраивали собрания, имели свое небольшое хозяйство – слесарную и столярную мастерские, на нужды которых (в основном, на ремонт и покупку инструмента) работавшие в ней отчисляли 2 % своего заработка. Были среди ссыльных и умельцы по изготовлению паспортов. Я тоже научился «смывать» паспорт, а потом выравнивать его цвет крепким чаем. В нашем распоряжении были невод и лодки. Мы артельно ловили рыбу, заготовляли дрова. Секретарем колонии ссыльных был я. Зимой работы становилось намного меньше, и многие ссыльные, особенно не получавшие помощи из дома, очень нуждались. Местное же население жило вполне обеспеченно.
Наше, по меркам ссылки, привольное житье в Березове отчасти объяснялось тем, что дети уездного исправника, бывшего казака Льва Никифоровича Ямзина[41], жившего в Березове с женой, тоже были причастны к революционному движению. Его сын-студент[42], как социал-демократ, в 1908 году был сослан в Якутскую область, а дочь была курсисткой в Москве. Оба требовали от отца не притеснять ссыльных и по возможности им помогать, что он и делал, причем иногда с риском для себя. Помню такой случай. Как-то в начале 1909 года он вызвал к себе одного из ссыльных (моего соседа А.И. Малюсова) и предупредил о готовящемся аресте его товарища, Д.С. Яковлева, – на этот счет пришла бумага из Петербурга. Очевидно, что имелось в виду возбудить против Яковлева новое дело. Со своей стороны, Ямзин предложил, чтобы Яковлев либо бежал, если за ним числится что-то серьезное, либо явился в березовскую тюрьму, откуда он, исправник, отправит его этапом в Тобольск. Яковлев бежать отказался – ни теплых вещей, ни денег у него для этого не было, и на следующий день мы сопроводили его в острог, в котором до его отправки в Тобольск и навещали. В 1931 году, спустя 22 года, я случайно встретил Яковлева в Свердловске. Он рассказал, что в Петербург его так и не повезли, по новому делу осудили в Тобольске, дали ссылку на поселение в Тару где он пробыл вплоть до февральской революции.
Вскоре похожее случилось и с другим ссыльным – Николаем Бурцевым, рабочим-столяром из Екатеринодара, который водил дружбу с нами. Хороший был парень, жаль, что эсер. Весной того же 1909 года и вновь через Малюсова Ямзин предупредил Бурцева о том, что тот скоро будет арестован. По каким-то прежним партийным делам Бурцеву грозила петля, и он решил бежать. Уехал на лесосеку в 60 км от Березова и прожил с нашей артелью недели три. За это время мы изготовили ему паспорт, снабдили адресами явочных квартир в Тобольске и Тюмени, собрали денег, а потом посадили на пароход. Но до Тобольска Бурцев так и не доехал – помешали амуры. Дело в том, что еще будучи в Березове, он сошелся с местной челдонкой, очень хорошей симпатичной женщиной, которая поехала его провожать. Они сошли на берег на полпути, в прибрежном селе Самарово[43], да так и остались в нем жить. Именно здесь Ямзин, совершая ежегодный объезд своего уезда, оказался вынужден его снова арестовать. Говорю: «вынужден», потому что, как рассказывали очевидцы (а потом нам – и сам Ямзин в своем кабинете), увидев Бурцева идущим по селу, Ямзин сделал вид, что его не узнал. Но сопровождавший исправника полицейский указал на него, Ямзин не мог пропустить мимо ушей доклад своего подчиненного и послал выяснить фамилию указанного человека в надежде, что Бурцев себя не назовет. А тот возьми, да бухни: «Бурцев». Ну, его и арестовали. Что с ним сталось потом, я не знаю.
Бегали из ссылки тогда немногие – революционное движение было задушено настолько, что, с партийной точки зрения, побег был не всегда уместен. Но мы с Тимофеем Шашириным все же бежали. Он – весной, а я– 21 сентября 1909 года, получив еще летом его «приглашение» готовиться «к поездке в Уфу» и с обещанием, что деньги на побег будут высланы. Прождав впустую месяц, я решил, что обещанные Тимкой деньги перехватили в дороге, и отправился в бега на свои 70 рублей, заработанные рыбной ловлей. Сел на пароход «Ангара» с самодельным паспортом на имя Прокофьева и вместе с Малюсовым, двумя меньшевиками и одним эсером (помню, что эсера звали Макарочкин, а одного из меньшевиков – Поляков) – и в путь. Из нас пятерых бежали только двое, остальным просто изменили места ссылки, и они путешествовали с подлинными проходными свидетельствами.
Наше путешествие неожиданно затянулось. Еще на середине пути «Ангара» наскочила на мель и сломала винт. В итоге до Тобольска мы добирались две недели и прибыли туда только 5 октября, когда навигация уже фактически кончилась. Местный большевик «Петрович», к которому у нас была явка, помочь нам ничем не смог. Но на наше счастье по реке Туре проходила баржа с группой томских студентов, которые возвращались из научной экспедиции. По распоряжению губернатора, ее до Тюмени тянул казенный пароход «Тобольск». Мы попросились на баржу, выдавая себя за ссыльных, которые-де возвращались в места ссылки с рыбных промыслов. Студенты долго сопротивлялись, но под конец согласились взять нас на борт.
Жизнь на их барже была организована своеобразно. Помимо студентов на ней ехали рабочие-промысловики и матросы, всего человек 20. Студенты жили в домике на палубе, а все работы по судну – топку печей, мытье палубы и т. д. – выполняли эти пассажиры, которые, правда, за это ехали в трюме бесплатно. Нас в первые дни работать не заставляли. Но как-то ночью пароход остановился, и нас вместе со всеми пригласили таскать на борт дрова. Мы не пошли – из принципа. Тогда старший среди студентов, солидный такой, с бородой, барского вида, потребовал от нас выйти на работу, угрожая в противном случае высадить нас на берег. Мы снова отказались, заявляя, что согласны уплатить за билет, но дров грузить не нанимались и на берег высаживаться не желаем. Взбешенный нашим ответом, студент заявил, что сдаст нас в полицию – ближайший по пути полицейский участок находился в селе Иевлеве. Мы устроили совещание: «беглецы» настаивали ехать до Иевлева, а там – будь, что будет; остальные предлагали не рисковать и высадиться сразу. Сторонников второй точки зрения оказалось больше, «беглецы» сдались и все мы стали высаживаться.
Ночь, пустынный берег Туры. Ни человека, ни жилья. Отвратительная осенняя слякоть, снег с дождем. Мы и наш багаж сразу промокли. Вытащили мы одеяла, кое-как прикрылись и задумались о ночлеге. Пока мы так сидели и размышляли, подошел матрос и тихонько сказал, что верстах в двух в землянке живет бакенщик, у которого мы можем переночевать. Оставив товарищей с вещами, мы с Макарочкиным пошли его искать. Что это за путешествие было – вспомнить страшно! Темень такая, что мы рядом не видели друг друга. Грязь, дороги нет, спотыкались о каждую кочку, падали в каждую ямку, а их, как на грех, почему-то попадалось много. Кое-как нашли землянку бакенщика. Рассказали ему наше горе, он выслушал нас и, видимо, посочувствовал. Много шаталось в тех местах нашего брата, местное население привыкло к бежавшим и симпатизировало им. Подходишь, бывало, к этапу, набежит баб, молодежи, натащат яиц, масла, хлеба, молока, всякой снеди. Продают баснословно дешево, а у кого нет денег – даром дают. Они даже к уголовным хорошо относились, хотя их и побаивались. Совсем иначе было иметь дело с кулаками-челдонами.
Бакенщик дал нам фонарь, и обратно идти было уже веселее. Перенесли вещи, вымылись, кое-как подсохли у костра. У бакенщика оказалось немного водки и рыбы, был и чай. Подкрепившись, завалились на полу и спали до утра. Утром бакенщик перевез нас на другой берег. Недалеко виднелась деревня. Там мы наняли лошадей и отправились в Тюмень.
В расчете попасть в Уфу до холодов, свои валенки, полушубок и папаху я оставил березовским товарищам, а сам поехал налегке. Между тем, холодало не на шутку. Чтобы не окоченеть, значительную часть этого пути я бежал за тарантасом, а когда уставал и садился в повозку, Малюсов укрывал полой своей шубы. Ямщики на нас смотрели как на добычу и драли немилосердно. Всю тамошнюю ямщину содержали кулаки-челдоны, публика прижимистая. В общем, пока мы добрались до Тюмени, деньги у нас почти вышли. Приехав туда, мы остановились на постоялом дворе и сейчас же связались с местными ссыльными. Любопытно, что в начале 30-х годов, когда я стал заместителем председателя Тюменского горсовета, квартиру мне дали в этом самом доме.
Ссыльные нам помогли с жильем, но не с деньгами. У меня оставалось только на билет до Уфы и полтинник на еду. В Уфу я приехал с пятаком в кармане – можно себе представить, как и чем три дня пути я питался на 45 копеек. Но о еде и одежде мы как-то тогда мало думали. Не было подпольщика, одетого не только что в новое, просто в целое. Если брюки целы, так обязательно пальто рваное или сапоги без подметок. Всю зиму 1909 года у нас с Шашириным было одно пальто на двоих. Позже на пару с другим товарищем мы попеременно носили один пиджак.
Я заметил, что от Челябинска до Уфы все вокзалы усиленно охраняются – как потом выяснилось, в связи с миасским «эксом»[44], но в тот момент я о нем, конечно, еще ничего не знал. 12 октября приехал в Уфу, нашел Шаширина, тот удивился моему появлению. Оказалось, что после его письма ко мне почти все наши дружинники были арестованы по доносу провокатора Терентьева (сам Тимка спасся только потому, что Терентьев не знал его адреса), и следующим письмом Шаширин отменил мой вызов. Но это письмо то ли не дошло, то ли уже не застало меня в ссылке. Сам Тимофей собирался освободить товарищей из тюрьмы, а потом ехать в Париж – к Ленину, в школу пропагандистов. В январе 1910 года он действительно отправился в Челябинск вызволять товарищей-боевиков из застенка, а я поехал в Москву, чтобы оттуда следовать за границу. Но мой зарубежный вояж так и не состоялся.
Неудачный побег из Челябинской тюрьмы
В 1910 году в одиночном корпусе Челябинской тюрьмы находилось около 30 членов уфимской боевой организации РСДРП (б). 24 из них, включая семерых женщин, привлекались по так называемому «второму миасскому» делу.
Одиночный корпус представлял собой особо охраняемое, отдельно стоящее здание и имел собственный прогулочный двор, огороженный высокой кирпичной стеной, которая полностью закрывала его первый этаж. Внутри корпус делился на два яруса, соединенных железной лестницей с железными же перилами. На первом ярусе находилось, сколько помню, 14 одиночных камер, на втором – 16. Комната надзирателей была на первом этаже. Площадки ярусов были сделаны с тем расчетом, чтобы проходящий по второму ярусу не мог быть виден находящемуся на первом, и наоборот. В каждой камере была кнопка звонка, которым заключенный мог вызвать надзирателя.
Порядки в корпусе были такие. В 6 утра по свистку подъем, койка поднимается к стене; к ней же наглухо прикреплены стол и стул; далее – уборка камеры. По второму свистку – поверка: заключенные должны встать в шаге от двери и спиной к ней. Так помощнику начальника тюрьмы легче их пересчитать, не подвергая себя особому риску. После поверки через пищеподаватель (форточку в двери) – выдача заключенным завтрака: хлеба и кипятка. Их единственное «развлечение» до обеда – 15-минутная прогулка. Гуляли попарно, по кругу, под приглядом надзирателя и часового; ходить следовало средним шагом, не останавливаясь, разговаривать вполголоса. За нарушение любого из этих правил надзиратель мог застрелить заключенного на месте – как чуть не произошло со мной, когда во время прогулки я без команды остановился, услышав какой-то посторонний шум. В тот раз я отделался сутками темного карцера на хлебе и воде.
В таком режиме мы и жили. Я сидел на первом этаже, в камере № 10. Время шло, подходило к концу лето. Следствие по нашему делу заканчивалось, и мы уже знакомились с собранным им материалом, готовясь к воєнно-окружному суду. Но событие, которое произошло 15-го августа, нарушило устоявшийся ход тюремной жизни.
Как и всякие тюремные сидельцы, мы мечтали о побеге. Насколько можно было судить, находясь в одиночном заключении, из всех нас, уфимских боевиков, на свободу особенно рвался Александр Калинин, начальник нашей дружины. Он сидел во втором ярусе, в камере № 20, как раз надо мной, и тоже проходил по «миасскому» делу, только по «первому» – об экспроприации почты. Свой план побега он сообщил соседям – М. Ефремову[45], П. Зенцову и В. Алексакину, и те его одобрили[46]. Однако решили, что побегут только «верхние», а «нижние» примут участие лишь при особо благоприятном стечении обстоятельств. Мы, «нижние», об этих планах ничего не знали.
15 августа, после обеда, часа в два, наверху раздается звонок. Слышу, как к камере Калинина подходит надзиратель и отпирает ее, очевидно, чтобы выпустить заключенного в туалет. Вскоре тот возвращается, раздается шум борьбы и крики: «Лопатин, Лопатин!» (фамилия одного из надзирателей). Кто-то падает. Думая, что надзиратель истязает Калинина, остальные заключенные стали неистово звонить. Оказалось, наоборот – это Калинин напал на надзирателя. На шум прибежал старший надзиратель, раздались два выстрела: Калинин, будучи ранен (первый выстрел), сумел отобрать у охранника оружие и прикончить его (второй). Тело убитого Калинин сбросил вниз.
Тут налетели другие надзиратели и вместе с солдатами открыли беспорядочную стрельбу. Пробили водопроводные трубы, внизу начался потоп. Шлепая по воде, набежало и начальство – начальник тюрьмы, прокурор, офицеры охраны. Все стреляли, но попасть не могли – площадка второго яруса надежно защищала Калинина, который расхаживал между камерами, прощаясь с товарищами. Маневры нижних «войск» выдавало и их шлепанье по воде. На эти звуки Калинин реагировал рычанием и стуком револьвера по перилам – свои патроны он уже расстрелял (о чем охранники не догадывались).
Наступил вечер, но положение не менялось. Мы ждали, что в горячке перестреляют и нас. Наконец, видя, что стрельба не приносит желаемых результатов, прокурор вступил с Калининым в переговоры, предложив ему сдаться. По совету товарищей, тот объявил, что сложит оружие, если получит гарантии неприменения репрессий ни к нему, ни к прочим сидельцам. Исходный инцидент Калинин объявил случайным убийством надзирателя в драке. В свою очередь, прокурор заявил, что осведомлен о планах боевиков совершить побег или даже разгромить тюрьму. Давать какие-либо гарантии он отказался. Постепенно в переговоры с Калининым втянулись не только должностные лица, но и мы, арестанты, причем, надо отдать справедливость, начальство терпеливо нас выслушивало. Мы говорили, что побега не замышляли и в доказательство готовы на самый тщательный обыск, а они – что если Калинин не сдастся, по тюрьме будет открыт артиллерийский огонь (что, как потом выяснилось, было правдой – к тому времени тюрьма была окружена двойным кольцом войск с пушками).
В конце концов, гарантии неприменения репрессий были даны, и Калинину было предложено, бросив оружие вниз, спуститься с поднятыми руками. Медленно, с трудом держа руки (он был дважды ранен), Калинин прошагал по лестнице. Нервы у всех нас были напряжены до предела – ждали провокации. Но обошлось. Калинина подхватили и куда-то увели. Когда выяснилось, что оба его револьвера пусты, ух, как взбеленились господа-начальники! «Ведь мы бы голыми руками его взяли без всяких разговоров и гарантий», – слышалось из коридора. Но и изменить данному слову не смели, зная, с какой организацией имеют дело. Вскоре нас обыскали, и очень тщательно. Во время моего обыска в дверях стоял громадный детина с наганом в руке. Ночь мы не спали. Нервы по-прежнему были взвинчены до того, что аж приподнимало с кровати. Наутро, во время уборки, надзиратели стояли уже вооруженными, и так продолжалось до самого суда.
План же Калинина был младенчески прост. Он должен был связать надзирателя и, обезоружив, запереть в своей камере. Затем открыть соседние камеры, вместе с их обитателями выйти во двор, убрать часового, перелезть через стену и скрыться. План был явно построен на песке: перебраться через стену без лестницы было немыслимо, охрана открыла бы по беглецам огонь, на воле их никто не ждал, бежать им пришлось бы в арестантской одежде в город, наводненный казаками. Конечно, их бы неминуемо перестреляли – если не в тюрьме, так на воле.
В общем, это была явная авантюра, за которую и сам Калинин, и мы, тюремные сидельцы, дорого заплатили. Калинина в 1912 году за убийство надзирателя повесили, а тюремный режим заметно ужесточился: на прогулку нас стали выводить поодиночке, ограничили библиотеку и выписку литературы с воли, сократили число передач. Охрана прямо зверствовала.
Военно-окружное судилище в Челябинске (1910)
После поражения революции 1905 года Россию наводнили военно-окружные суды. Они были стандартны как по своему составу (председатель – генерал, члены – полковники, обвинитель – военный прокурор), так и по способу и порядку рассмотрения дел. Фактически, эти суды были предназначены облекать в «законную» форму, а, попросту говоря, штамповать приговоры, предрешенные властями, в первую очередь – жандармскими. В этом отношении челябинский воєнно-окружной суд был учреждением вполне заурядным, но в 1910 году он судил нас, уфимских боевиков. Это-то и заставляет меня рассказать об этом, с позволения сказать, суде более подробно.
К этому времени освободительное движение в России было настолько задушено царским правительством, что революционных организаций почти не осталось. Результатом разгула реакции стали тысячи повешенных, отправленных на каторгу и в ссылку, десятки тысяч заключенных в крепостях и тюрьмах. Провокация развилась настолько, что в каждом пристально посмотревшем на тебя встречном невольно виделся шпион либо переодетый жандарм. Но в рабочем классе революционные настроения не ослабевали. Теряя руководителей, он выдвигал из своей среды новых и, таким образом, поддерживал революционное движение, пусть и в меньших, чем прежде, масштабах.
Наши большевистские комитеты и в Челябинске, и в Уфе были обескровлены арестами, но продолжали существовать, время от времени давая о себе знать. Особенно власти боялись нашей боевой организации в Уфе. О том, насколько велик был страх перед ней местной охранки, говорит хотя бы такой факт. Летом 1907 года мы, боевики, часто собирались на свежем воздухе – в Ушаковском городском парке, устроив там нечто вроде явочной квартиры. Рядом был полицейский пост. Молодежи летом по парку гуляло много, и первоначально наши встречи ни у кого не вызывали особых подозрений. Но со временем шпики нас все-таки выследили. Бывало, сядет неподалеку такой «гороховый» тип с газетой и слушает, о чем мы говорим. Всех их мы знали в лицо – в полиции у нас были свои люди – и потому особо с ними не церемонились. Один из нас с книгой в руках садился рядом со шпиком. Если тот не уходил, второй боевик пристраивался по другую сторону. Шпик меняет скамейку – мы за ним, и так до тех пор, пока тот не вылетит из парка как ошпаренный. Такая игра могла продолжаться часами. «Шпикогонством» у нас особенно любили заниматься Огурцов, Волков и Шаширин.
Позднее, допрашивая меня, жандармский ротмистр интересовался, что мы делали в парке. Из его вопросов стало понятно, что жандармы думали, будто мы готовим нападение на находившееся поблизости казначейство. Я, в свою очередь, спросил, почему же, в таком случае, нас не арестовали? Тот ответил буквально следующее: «Вы– люди молодые, беззаботные, были все хорошо вооружены, и сколько бы вы побили наших жандармов. А солдат стыдно было посылать для ареста 5-10 человек молодежи. Теперь, вот, по одному вас перехватали и вышлем – кого на каторгу, кого в ссылку». Действительно, все мы были хорошо вооружены, до бомб включительно, и если бы нас тогда попытались арестовать, пощады жандармам не было бы.
Такое же, я бы сказал, уважительно-опасливое отношение к себе во вражьем стане мы почувствовали и в Челябинске – в ходе суда над нами. Администрация тюрьмы была убеждена, что бежать из нее без поддержки с воли невозможно, и когда 15 августа 1910 года такая попытка все-таки состоялась (о ней я уже рассказывал), власти были уверены, что связь с волей у тюремных сидельцев была, и их там ждали. Боясь нас, боевиков, сидящих в тюрьме, они не меньше боялись и наших товарищей, остававшихся на свободе. Поэтому, когда наступило время вести нас, два десятка боевиков, из тюрьмы в суд, меры предосторожности были приняты беспрецедентные. Чего скрывать – многие из нас были даже горды такой охраной.
Хорошо помню первый день суда [20 сентября 1910 г.]. Теплое, солнечное утро. Всех нас, тщательно обыскав, выводят на тюремный двор. Сколько радости было встретить друзей! Долго ведь не виделись, намолчались по одиночкам. Многие дружили, шутка ли сказать, с 1906 года! Все шумно и весело разговаривали, и тюремщики, надо отдать им должное, почти не вмешивались. Построили нас попарно, сковав каждую пару ручными кандалами (так, попарно и в кандалах, мы и отсидели в суде все 10 дней процесса). Семерых наших женщин[47] посадили в большую телегу. Усадили с ними и Токарева («Пароход» была его революционный псевдоним[48]), у которого был настолько сильный порок сердца, что долго ходить он был не в состоянии. Все мы были в отличном настроении, смеялись по любому поводу. Хохотали, когда Вася Алексакин, на которого надели большую арестантскую шапку с ушами, очень правдоподобно представил местного подагрика-архиерея на трясущихся ногах.
Вокруг нас сплошной стеной встали конвоиры. Демонстративно перезарядили винтовки и, взяв «на плечо», повели за тюремные ворота. Там нас ожидали верховые казаки и полицейские, вооруженные шашками, револьверами и винтовками. Казаки окружили нас вторым кольцом, а полицейские двинулись чуть поодаль. Городовые, ехавшие за квартал впереди, загоняли поголовно всех встречных во дворы, заставляли обывателей закрывать окна. Суд должен был заседать близ железнодорожного вокзала, и нас повели по одной из окраинных улиц. Вероятно, это была Заречная. На месте нас ожидала дополнительная охрана из гарнизонных солдат под командой старичка-подполковника. Дом, в который нас привели, представлял собой мрачноватое приземистое каменное здание с асфальтовым полом и низкими потолками. Это были воинские бани, на время приспособленные под суд.
Нас усадили на скамьи за высоким барьером. Впереди за столом расположилась защита, наискось напротив – военный прокурор, слева – секретарь, а прямо перед нами – судебная коллегия – генерал и два полковника. Их фамилий я не помню[49]. Генерал был седой, барского вида человек с холеной бородкой. Оба полковника – лысые, какие-то потасканные, хотя еще и не старые. В середине зала стояли скамьи для «публики», которая состояла из родственников подсудимых, представителей местного «общества», шпиков, жандармов и офицеров.
Итак, судилище началось. Опросив каждого, кто мы и что мы, и покончив, таким образом, с формальностями, председатель попросил секретаря зачитать обвинительный акт. Обвинялись мы в следующем: в августе 1909 года на станции Миасс членами уфимской боевой организации под началом «Николая» (Константина Мячина) было совершено нападение на почту, в которой в тот момент находилось золота в слитках на 86 тысяч рублей. В результате нападения были убиты семь станционных служащих и чинов охраны, а все золото похищено. Взяв золото, экспроприаторы захватили паровоз и, отцепив его от поезда, вместе с одним вагоном отправились в сторону Златоуста. Отъехали несколько верст, высадились и пустили паровоз обратно. Состав шел без машиниста, и стрелочник направил его в тупик, сбив который, паровоз вместе с вагоном рухнул под откос и скатился в овраг[50]. Похищенное золото власти так и не нашли.
Надо признать, что обвинительный акт в целом верно передавал событийную сторону миасской экспроприации. Умалчивалось в нем лишь о том, что Шаширин брошенной бомбой расколол здание станции надвое. План нашей боевой дружины не предусматривал каких-либо убийств. К жертвам привело плохое руководство операцией со стороны Мячина – паника, которую он создал в самом начале, убив начальника станции лишь только потому, что тот не сумел быстро найти ключи от своего кабинета и кассы[51]. Говорю это со слов экспроприаторов – сам я в этом «эксе» участия не принимал.
После чтения обвинительного акта нас начали по очереди допрашивать. Все подсудимые, кроме Терентьева, не признали себя виновными. Потом перешли к опросу свидетелей обвинения и защиты. Свидетели опознать никого не смогли, так как дело было ночью, а экспроприаторы орудовали в масках. Дошла очередь и до свидетелей Гаврилова и Малышева, которые выдали Шаширина и меня (подробнее расскажу об этом ниже). Оба пришли в суд в темных очках и давали показания вяло, как оплеванные, как бы сознаваясь в своей роли предателей-«интеллигентов».
Защищали нас шестеро адвокатов, среди которых были столичные светила – социал-демократ Соколов[52], эсер Керенский[53], Кашинский[54], меньшевик Турутин[55]. Был среди них и крупный уфимский адвокат Кийков. Шестым (его фамилию вспомнить не могу) был казенный «защитник», задача которого, похоже, заключалась в наблюдении за своими коллегами[56]. Жители Челябинска свое сочувствие нам выразили тем, что натащили в суд всякого продовольствия невпроед – кур, гусей, сыру, масла. В общем, после скудного тюремного пайка в суде мы в первый же день наелись до отвала.
В тюрьму нас вернули тем же порядком. Расковали, после долгого и унизительного обыска – под языком, в ушах и даже в заднем проходе – сменили всю одежду и белье, поменяли камеры. И эта гадкая процедура повторялась все десять дней, пока шел суд. Поднимали нам настроение лишь толпы рабочих-железнодорожников, которые приветствовали нас на пути, одновременно громогласно отпуская язвительные замечания относительно трусости властей. Позже мы узнали, что во время процесса в местной газете появилась статья с протестом против жестокого обращения с нами. Власти ответили тем, что изменили способ доставки нас в суд – чтобы исключить появление нас на улицах города, стали перевозить по железной дороге, которая проходила рядом с тюрьмой и от здания суда была в двух шагах. От ворот тюрьмы до вагона по обе стороны сплошным коридором расставлялись вооруженные полицейские и казаки. В арестантском вагоне мы, понятно, ехали под надзором многочисленного конвоя.
Суд заседал своим чередом – защита препиралась с прокурором по поводу внесения или невнесения в протокол того или иного замечания свидетелей, судьи рассматривали их ходатайства и т. д., однако спустя всего 2–3 дня Керенский нам шепнул, что приговор нам уже фактически вынесен: семеро (по числу миасских жертв) будут приговорены к повешению, остальные получат разные сроки каторги. Керенский вместе с Кашинским отправились в Петербург хлопотать о замене смертной казни каторжными работами. От нашего ЦК еще до суда поступила директива «спасти во что бы то ни стало уфимских боевиков» (благодаря этому, к защите были привлечены лучшие адвокатские силы). Позднее Петр Гузаков[57] и Эразм Кадомцев подтвердили мне, что тогдашние слухи о том, что ЦК распорядился использовать все партийные связи, чтобы повлиять на суд, а затем и на министра, соответствовали действительности. Сами мы свое будущее ходатайство о помиловании расценивали лишь как маневр, как один из способов борьбы с царизмом.
Вот еще один запомнившийся эпизод. Калинин, зная, что скоро будет казнен и желая напоследок взглянуть на всех нас, заявил, что может дать по миасскому делу (к которому он в действительности отношения не имел) ценные показания. Его привели на наш суд – в бинтах, в ножных и ручных кандалах. Он заявил, что экспроприацию организовал и провел сам и никто из сидящих на скамье подсудимых в ней не участвовал. На вопрос судьи, как проходил этот «экс», он, плохо зная подробности, понес такую околесицу, что председатель его прервал, и его увели. Но взглянуть на своих бывших соратников и подчиненных Калинину, тем не менее, удалось. Своего он добился[58].
Спустя десять дней нудный судебный спектакль подошел к концу[59]. По предварительной договоренности, от последнего слова мы все отказались, лишь подтвердив, что виновными себя не признаем. Говорил один Терентьев, и, продолжая каяться, сказал, признаюсь, красиво и хорошо. В зале многие даже всплакнули[60]. Поздним вечером суд удалился на совещание. В зале полутемно, тревожно, все разговаривают полушепотом. Со скамей публики слышатся вздохи и приглушенные всхлипывания. Очевидно, что смертные приговоры будут, но кого именно приговорят? Оправдательных вердиктов никто из нас не ждал – слишком очевидной была принадлежность каждого к боевой организации.
Выходит суд. Генерал выглядит смущенным. Зачитывает приговор: семь человек – Зенцов, Алексеев, Алексакин, Чудинов, Ермолаев, Терентьев и еще один приговорены к смертной казни через повешение[61], десятеро – к разным срокам каторги и крепости, а семеро оправданы. В числе последних оказался и я. Я не верил своим ушам, но радости не чувствовал. Меня поздравляли, Тимка тайком жал руку (во время суда мы сидели рядом), Соня Меклер[62] тоже шептала что-то ободряющее, а я стоял, как истукан. Мне было страшно жаль товарищей. Хоть и ожидал жестокого приговора, но он как-то придавил. Тяжелый был. Мой друг Тимка получил 15 лет каторги.
После оглашения приговора родные осужденных зарыдали, а нас увели в арестантское. Думая, что смертников от нас сейчас же отделят, мы начали с ними прощаться. Но в вагон нас снова посадили вместе, хотя охранять стали строже. Раньше по дороге мы с удовольствием пели, но теперь настроение было уже не то. Вспоминали прошлое, о будущем старались не думать. Как всегда в таких случаях, говорили не о том, о чем следовало. Наружно, однако, все были спокойны, оберегая от волнений приговоренных на смерть. В душе надеялись, что они будут «помилованы». По прибытии в тюрьму смертников тут же заковали в ножные кандалы и развели по камерам. Потом взялись за прочих. Оставшись последними, мы с Шашириным крепко расцеловались, пожали друг другу руки и, как оказалось, расстались навсегда. Больше я его уже не видел. Вскоре в Тобольском каторжном централе ушел из жизни этот чистейшей воды большевик, светлый образ которого меня никогда не покинет.
Познакомились мы с ним и подружились еще в 1906 году в ячейке, на политзанятиях. Он был мой сверстник, рабочий железнодорожных мастерских. Происходил он из бедной многодетной семьи, глава которой, вдова Любовь Макаровна, работала по найму вместе со своими малыми детьми. Хотя членом партии стал один Тимофей, вся его семья, включая мать, была настроена революционно и активно помогала нам – большевикам: в их доме нас прятали, хранили запрещенную литературу, устраивали партийные совещания и т. д. Хозяйка дома, удивительно остроумная и всегда бодрая, часто сама того не замечая, поддерживала в нас боевой дух. Мы всегда уходили от нее какими-то повеселевшими. В мрачные предвоенные годы реакции мы собирались у Шашириных особенно часто. «Мы» – это Катя Тарасова[63], Петруська Волков, Д.Е. Сулимов[64], Коковихин, Юрьев и я. Потеряв сына, Любовь Макаровна не утратила присущей ей бодрости, она вообще была явно незаурядным человеком, образцом женщины-матери революционера.
Возвращаюсь к Тимофею. Внешне несколько угрюмый, он был очень отзывчивым, самоотверженно преданным товарищем. Умный и даже талантливый, Тимка быстро и глубоко усваивал то, что нам преподавали. В январе 1907 года, когда я жил на полулегальном положении, он почти ежедневно бывал у меня. Мы вместе делали стеклянные трубки для бомб и испытывали их в лесу. После бок о бок работали в бомбовой лаборатории, участвовали в «эксах», причем я никогда не видел его растерявшимся и уж тем более струсившим. Смелости, как и хладнокровия, он был необычайной. При арестах стрелял в жандармов (как, например, в Уфе зимой 1907 года), не раз бежал из-под стражи (в 1909 году в Челябинске), разоблачал провокаторов, организовывал побеги товарищей из тюрьмы. Не перечесть его геройских дел. Вместе мы жили и в ссылке в Березове. Всюду – в беседах, диспутах, на рефератах – он отстаивал большевистскую позицию, первым среди нас из ссылки бежал. Это был выдержанный, стойкий, смелый, преданный делу рабочего класса большевик-боевик. Герой в полном смысле этого слова. Из него вышел бы большой революционер, если бы жандармы не погубили его. Его имя должно быть вписано золотыми буквами в историю революционного движения в Уфе и на Урале.
После оглашения приговора военного суда меня посадили в камеру на верхнем ярусе. Вряд ли кто-то из нас спал в эту ночь. Утром всех отвели в полицейское управление, пятерых там освободили, а нам с Мыльниковым объявили о ссылке, его – в Архангельскую губернию, меня – в Тобольскую. В тюрьме нас посадили уже не в одиночки, а к пересыльным политическим в общее отделение.
Кроме Тимофея Шаширина из приговоренных по миасскому делу до февральской революции не дожили и погибли в застенках Мясников, Лаптев и Токарев. Остальные, вернувшись с каторги, приняли самое активное участие и в гражданской войне, и в социалистическом строительстве.
Три ареста (1907–1912)
Часто люди представляют себе арест революционера приблизительно так. Ночь. Все спят. Полиция стучится в лачугу рабочего, ей отворяют, производится обыск, после чего арестованного уводят в тюрьму. На самом деле аресты происходили очень по-разному. Меня арестовывали трижды, и всякий раз по-своему. Расскажу о каждом.
Первый арест (1907)
Это было в сентябре 1907 года в Уфе. Только что по вине соседей-анархистов «провалилась» наша бомбовая мастерская, о которой я уже упоминал. Чудом избежав ареста, я получил приказ как можно скорее уехать в Миньяр или в Сим и лишь ждал, когда товарищи примут у меня и спрячут в надежное место две большие корзины, стоявшие у меня дома. В корзинах хранились коробки для бомб (я делал их и дома) и нелегальная литература. Ожидая, продолжал выполнять партийные поручения. Одно из них состояло в том, чтобы явиться на проходивший в те же дни суд над товарищами-большевиками и попытаться сообщить им о происходящем на воле.
И утром 29 сентября, конечно, безоружным, я отправился в уфимский Окружной суд. Но едва я вошел в Ушаковский парк, мне преградил дорогу полицейский с револьвером в руке, другой подходил со спины, а поодаль я заметил господина неприятной наружности, в синих очках и рукой в правом кармане пальто. Рядом со шпиком стояли извозчики. Полицейские объявили, что я арестован, посадили в пролетку и отвезли в участок. Шпик на другом извозчике отправился следом.
В участке от меня первым делом потребовали назвать свое имя. Как правильно вести себя на допросах, я уже знал (нас этому специально учили), к тому же выполнить это требование полиции было равносильно сообщить ей свой адрес с неизбежным последующим обыском, а там корзины, которые могли «потянуть» на большой каторжный срок. В общем, я отказался назвать свое имя, чем привел полицейских сначала в замешательство, а потом в ярость. Был приглашен «сам» полицмейстер Бухартовский[65] – гроза всех арестованных, их форменный мучитель, особенно уголовных. Тот прибежал взвинченным, а когда я, 18-летний, при его появлении не встал и даже не снял фуражки, пришел в сущую ярость. Сорвав с меня головной убор, он силой заставил меня подняться, но бить почему-то не стал, а приказал обыскать.
Надо сказать, что в одном из отделений моего портмоне лежала квитанция о подписке на газету с указанием моего точного адреса. На мое счастье, обыскивавший на эту бумажку внимания не обратил. Тем временем меня посадили фотографировать, что тоже было потенциально опасно – я жил в Уфе с детства, многие в городе меня знали и могли легко опознать. Вспомнив один из уроков в боевой школе, в момент съемки я незаметно для фотографа слегка качнулся назад. Вероятно, фокус удался, потому что когда спустя три дня мою фотографию показали разыскивавшей меня матери, она меня на ней не узнала.
Не добившись ничего в полицейском участке, меня под усиленным конвоем отправили в жандармское управление. Там меня долго показывали каким-то подозрительным личностям, вероятно, филерам – агентам наружного наблюдения. Тоже без толку. Промучившись таким образом, посадили в дежурную комнату. И вновь мне повезло. Воспользовавшись тем, что мой охранник-жандарм увлеченно читал газету, я незаметно вытащил из портмоне злополучную квитанцию и, изжевав, бросил в угол. Однако положить бумажник на прежнее место (в карман брюк) не успел – за мной снова пришли, чтобы вернуть полицейским.
В полиции меня уже дожидался знаменитый сыщик Ошурко[66], который причинил нашей организации чрезвычайно много вреда. Ошурко велел снова меня обыскать, но уже на его глазах. Вышло так, что обыскивал меня тот же полицейский, что и в первый раз. Тот сразу обнаружил, что мой кошелек из брюк перекочевал в карман тужурки и открыт. Когда об этом услышал Ошурко, он чуть не избил полицейского, кричал, топал ногами, грозился отдать его под суд.
Дело шло к вечеру, и меня решили отправить в тюрьму. Повезли под охраной здоровенного пристава, который «доблестно» отказался от конвоя конных городовых, но заставил меня все время в пути держать руки на коленях, а сам сидел боком, наведя на меня маузер. Было еще светло, и прохожие удивленно оборачивались на нас. На двери одиночки, в которую меня посадили, появилась крупная надпись: «Неизвестный».
Почти каждый из восьми дней, которые я просидел как подследственный, меня вызывал на допрос ведший мое дело жандармский ротмистр, но и он ничего не добился – я по-прежнему отказывался называть себя. 25 лет вожусь с вашим братом, говаривал он, и отлично понимаю, почему Вы фамилию не называете; знаю, что по прошествии трех дней с момента ареста с обыском на квартиру ходить нечего, там уже все будет убрано. И, действительно, вскоре с воли мне дали знать, что у меня дома «чисто». После этого я со спокойной совестью назвал следователю свое имя и, просидев в одиночке еще четыре месяца, в начале февраля 1908 года был отправлен в ссылку в Березов.
Второй арест (1910)
После побега из березовской ссылки я жил нелегально. В начале 1910 года из Уфы я перебрался в Москву, чтобы далее следовать за границу – сначала на остров Капри к М. Горькому, а затем в Париж в школу пропагандистов. В ожидании заграничного паспорта прожил в Москве целый месяц, когда товарищи – Тимофей Кривов (революционный псевдоним «Граф»)[67] и Петр Гузаков – поставили вопрос, кому ехать первым – мне, которому за побег грозило «только» от 4-х до 8-ми лет каторги, или моему другу Шаширину которому смертной казни было не избежать. Тимка в тот момент устанавливал связи с сидевшими в челябинской тюрьме боевиками, готовя их побег. Я с радостью согласился заменить его с тем, чтобы поскорей спровадить от греха подальше за кордон.
Между тем, дело с заграничным паспортом в Москве безнадежно забуксовало, и я поехал в Уфу где некто Косачин[68] (хороший и честный был парень, как-то странно умер от разрыва сердца) доставал нам подобные документы. Заказав ему паспорт, отправился в Челябинск к Тимке, но тот, оставив у себя мой багаж, настоял, чтобы я вернулся в Уфу и довел дело с паспортами (себе и ему) до конца, что я и сделал. Пока суть да дело, прошел слух, что Шаширин в Челябинске арестован[69]. Товарищи не пускали, но я подхватился и, взяв для себя паспорт у рабочего Ерошкина, рванул в Челябинск проверить слух и, если он окажется уткой, свой паспорт передать Тимофею.
Хозяин явочной квартиры в Челябинске, учитель реального училища по фамилии Гаврилов, подтвердил, что Шаширин арестован, причем не где-нибудь, а прямо в тюрьме, куда он носил передачу. Я попросил проводить меня на квартиру Тимки, где по-прежнему находились мои вещи. Пока мы так беседовали, к Гаврилову явился его шурин Малышев, тоже учитель, и мы отправились втроем. Мои спутники вели себя странно – то Малышеву для чего-то понадобилось по пути заглянуть в какой-то двор, то Гаврилов внезапно вспомнил, что ему срочно надо зайти в библиотеку. Я почуял неладное, а когда впереди увидел полицейский наряд, а позади приближающегося казака (в Челябинске они служили стражниками), понял, что бежать поздно. В одну секунду полицейские меня схватили, а казак повел Малышева (Гаврилов застрял в «библиотеке»).
В полицейском управлении нас с Малышевым тут же разъединили. Меня обыскали, нашли два паспорта, пристав начал допрос. Тут со мной произошел непростительный казус. Дело в том, что паспорт Ерошкина я хорошо изучить не успел, а свой прежний, московский (кажется, на имя Тимофеева), по-прежнему помнил назубок[70]. В результате, имя, отчество, фамилию, губернию и уезд я назвал по паспорту Ерошкина, а село и деревню – по тимофеевскому. При повторном обыске у меня нашли и заграничный паспорт, спрятанный в ботинке. Все это меня и погубило. Дольше скрывать свое настоящее имя не имело смысла, и я назвал себя[71].
После трехдневной отсидки в участке я попал в тюрьму – в ее только что отстроенный одиночный корпус. Помню, повели меня по светлому, широкому, с блестящим полом коридору, подводят к нише в стене, приказывают: «раздевайтесь донага». Я разделся, думая, что меня снова будут обыскивать, но надзиратель толкнул ногой дверь камеры. На полу я увидел грубое арестантское белье, коты, бушлат, брюки, шапку; мою одежду тут же унесли. Я было начал протестовать, говоря, что политических одевать по-арестантски не полагается, но мне ответили, что «такого закона нет», а по тюремным правилам заключенные должны быть одеты одинаково. Дверь камеры захлопнулась, и я был вынужден напялить на себя «казенное».
Несмотря на подозрительное поведение Гаврилова и Малышева, я, конечно, не мог быть уверен в их предательстве и, сидя за решеткой, волновался за них. Но когда следователь-жандарм рассказал нам с Шашириным, что нас выдали, назвал их имена и сообщил некоторые детали (он это сделал для того, чтобы выудить и у нас откровенные показания), все сомнения отпали. Оказалось же следующее. Будучи пойманы на помощи революционерам, Гаврилов и Малышев испугались репрессий и стали выдавать. Первым они выдали Тимку Шаширина, затем меня, а после еще кого-то. Как потом сами они рассказывали на процессе, ведя меня на квартиру Шаширина, Малышев забегал «во двор» звонить в полицию с сообщением о прибытии «крупного» революционера, а Гаврилов отправился не в библиотеку, а на казацкий пост – поторопить с моим арестом. После того, как нас доставили в полицейский участок, Малышева с поклоном отпустили. В общем, зря я мучился за них обоих.
В ходе следствия нас с Шашириным перевели в Уфу, где рассадили по одиночкам. Однако вскоре у меня появился сокамерник – двоюродный брат Косачина по фамилии Овчинников. Этого Овчинникова мы знали – какое-то время устраивали у него явки, а Шаширин даже некоторое время у него жил – но ему, в отличие от Косачина, не доверяли. Кстати, именно на явке Овчинникова я познакомился с Михаилом Степановичем Юрьевым, тоже боевиком. Он был из крестьян, крепок и бодр, веселый и умный собеседник, полезный по части выполнения всевозможных боевых партийных поручений. Позднее он стал одним из тех большевиков, кто поднимал крестьян на борьбу против белых за власть Советов.
Так вот, подсадили мне в камеру этого сомнительного типа, и он давай меня выспрашивать о нашей боевой организации. Я ему ничего рассказывать не стал. Потом подсадили Тимку – это была уже радость: мы вместе читали, много говорили, даже спали на одной кровати, а, главное, скоро окончательно установили, что Овчинников – провокатор. Один раз лежим днем и тихонько разговариваем. Овчинников притворился спящим, но я смотрю, он ухо высвобождает, чтобы было слышно. Показал Тимке, стали мы шептать разную ерунду еще тише, следим за Овчинниковым. А он еще больше ухо к нам направляет. Мы расхохотались, а он вскочил взбешенный – понял, что его разгадали. На другой же день его от нас увели, а через несколько дней выпустили. В 1918 году после нашего отступления из Уфы он был у меня дома с обыском вместе с белогвардейцами, и по рассказам матери, с особой ненавистью перебирал мои вещи, досадуя, что не застал меня самого.
Нас же с Шашириным вскоре вернули в челябинскую тюрьму, где мы и досидели до суда.
Третий арест (1912)
В третий раз меня арестовали вечером 24 марта 1912 года. Этот арест был не совсем обычным в том смысле, что я знал о нем заранее и даже ждал, когда меня арестуют. Между прочим, и деньги, чтобы быть отпущенным под залог, приготовил.
Произошло это вот как. 12 июня 1911 года закончился срок моей ссылки в Ялуторовском уезде, и в тот же день с проходным свидетельством в кармане я выехал на родину В уфимской полиции на основании этого свидетельства мне, как жителю Уфы, выдали паспорт. Однако, как я позже узнал, через считанные дни после моего отъезда из Ялуторовска туда пришло распоряжение следователя по важнейшим делам о моем аресте. Ялуторовская полиция сообщила о моем отъезде, и так как было известно, что я родом из Языкова, следователь запросил тамошние уездные власти. Те меня, конечно, в Языкове не нашли. Между тем, все это время я легально, по прописке жил в Уфе, ни от кого не скрывался и никуда не бегал. Мало того, за мной, как за бывшим ссыльным, полиция почти открыто наблюдала – ежедневно у моей квартиры дежурило «гороховое пальто». Мы над ним издевались, гоняли, ругали, но он, несмотря ни на что, старался добросовестно исполнять свои обязанности. Впрочем, наблюдение не помешало мне больше недели прятать у себя Игнатия Мыльникова, когда тот перешел на нелегальное положение. В общем, в российской полиции правая рука явно не знала, что делает левая[72].
После ссылки материально я жил очень тяжело, а на шее семьи сидеть было совестно. Братишка подрос, но зарабатывал еще мало, мать перебивалась кое-как. Зимой я ходил в брезентовых опорках, чиненых-перечиненных брюках и пиджаке – пальто не было. Да и пиджак был не мой, а одного моего товарища, и я его одевал только, когда ходил в театр или слушать лекции в Дворянское собрание – в косоворотках туда не пускали. Ссыльному найти работу в городе было почти невозможно. Окончив заочные бухгалтерские курсы, попытался поступить бухгалтером – не берут, слесарем на завод – тоже отказ.
Надоело мне голодать, и осенью 1911 года я уехал к Юрьеву в Белебеевский уезд, где из-за засухи случился недород, кормить голодающих. Юрьев заведовал там земским складом, а я стал его помощником. Кормили мы примерно 12 тысяч человек, в основном – татаро-башкир. Вместе с нами «на голоде», как тогда говорили, работали сестра Тимки Женя, Катя Тарасова, Иван Ильин, кто-то еще из наших, не припомню, кто именно. Врачи были в большинстве меньшевиками.
Но вот в середине марта 1912 года меня телеграммой вызывают в Уфу к председателю губернской земской управы. Кропачинский, так, кажется, была его фамилия[73], сообщил, что меня увольняет, так как скоро меня арестуют – об этом он случайно узнал от самого следователя. По какому делу меня собираются привлечь, он не знал. Так как нераскрытых дел за мной числилось порядочно, я обратился к меньшевичке Плаксиной, муж которой был известным в городе врачом и, как и земец Кропачинский, часто встречался со следователем и прокурором за преферансом. Сама Плаксина часто нам помогала деньгами и жильем, и я попросил ее узнать, по какому делу меня хотят засадить на этот раз. Выяснилось, что по «дёмскому». Причем, по ее словам, это дело за давностью настолько запутано, что следователь Иванченко может надеяться лишь на откровенные показания кого-либо из непосредственных участников этого «экса». Таковых, однако, не оказалось, провокатор же и мерзавец Терентьев, к счастью, знал о дёмском «эксе» лишь понаслышке. Между тем, Иванченко уже пересажал массу людей и готовился к новым арестам, из которых, однако, истинных участников этого «экса» было лишь двое – Илья Кокорев, да я.
Узнав все это, я решил в подполье не уходить. Был уверен, что дело рассыплется само собой, а бегством я лишь подтвердил бы свою вину. Стал ждать дальнейших событий. И вот вечером 24 марта 1912 года, накануне Пасхи, за мной пришел полицейский и доставил в участок. Там не знали, что со мной делать, хотели даже отпустить до после праздника – кому охота возиться с малозначительным арестантом в пасхальную ночь! Имея, все же, в виду, что я арестован по распоряжению следователя по важнейшим делам, пристав не решился меня отпустить, а отправил к полицмейстеру уже известному нам Бухартовскому Привели меня в его управление поздно вечером, и кроме дежурного писаря там уже никого не было. Видимо, все полицейские были брошены на охрану порядка у церквей. Хотя писарю тоже явно не хотелось мною заниматься (он даже спрашивал, явлюсь ли я добровольно после праздников), он пошел звонить следователю, оставив меня с одним полицейским. Признаюсь, меня сильно подмывало сбежать – странно и стыдно было почти добровольно идти под арест, – но, поразмышляв, я остался.
Спустя 10–15 минут прибегает писарь, весь бледный, и с собой ведет вооруженного винтовкой стражника. Оба принялись меня охранять, а полицейского послали за самим Бухарювским. Тот явился в сопровождении детины устрашающего вида – в красной рубахе с засученными рукавами, весь покрытый рыжими волосами. Однако узнав, что я бывший политический ссыльный, полицмейстер своего спутника отпустил. Из их разговоров я понял, что то был палач – помощник Бухартовского на допросах: политических Бухартовский пытать опасался, а вот уголовных пытал очень часто (об этом я слышал в тюрьме от самих уголовных). Бухартовский распорядился освободить от пьяных одну из камер внизу и посадить меня в нее одного под охраной часового. Так я и просидел всю Пасху в полицейском управлении, питаясь продуктами материной передачи.
На следующий день меня повели к самому следователю Иванченко – домой, вероятно, по случаю праздника. Водили три вооруженных винтовками стражника. В день Пасхи на улицах было людно, и со всех сторон раздавались возгласы простых людей: «Видать ведь, не вор – политический, отпустите его, ироды!», или: «А где же ваши и поповские – ныне отпущаеши раба твоего»? и т. п. Мои стражники помрачнели и шли, как оплеванные. У следователя нас встретила горничная и тоже набросилась на них с упреками, как будто они были виноваты в моем аресте: «Смотрите, ведь он еще совсем молодой и, видать, хороший, за что вы его так строго охраняете?». И когда стражники сказали, что я важный политический преступник, она смотрела на меня недоверчиво и удивленно, но не осуждающе, а, скорее, одобрительно. Вот в этой поддержке простых людей и была наша сила. Что нам после этого были Бухартовские и ему подобные, каторга и эшафот!
Когда мимо нашего одиночного корпуса вели на казнь Якутова, вся тюрьма буквально стоном стонала. Все пели в открытые форточки: «Вы жертвою пали…». Песню было слышно далеко за тюремными стенами, и все, кто был на стороне революции, в ту ночь не спал вместе с нами, заключенными, и кто громко, кто потихоньку подтягивал. Это сочувствие вселяло и в меня силу и бодрость, с которыми я в третий раз в свой жизни шел в тюрьму. Сидел я снова в одиночном корпусе, но, как я и предполагал, скоро это дело за недоказанностью прекратили, и всех нас выпустили.
На кирпичном заводе и строительстве Народного дома (1912–1914)
Освободившись, осенью 1912 года вместе с Юрьевым я уехал в село Шемяк в 30 верстах от Уфы строить кирпичный завод. Уфимское уездное земство захотело построить там больницу, и кирпич решили делать на месте, благо глины и известняка там было в достатке. Брат Юрьева был членом уездной управы, и нам было поручено организовать строительную артель, в которую мы стали набирать себе подобных. Сам Юрьев был боевиком, членом партии с 1907 года, себе в заместители он взял меня, слесарями-механиками – большевика Шуршина и Захара, своего племянника, тоже члена партии. В нашу артель вошло и несколько беспартийных из числа сочувствующих – батраков и батрачек села Топорнина, из которого происходил сам Юрьев.
Явились мы в этот Шемяк, сняли жилье и начали строить сараи для сушки кирпича и рыть в поле яму для обжига извести. Ни денег, ни лошадей, ни инструмента у нас поначалу не было. Ели мы в основном горох – по словам Юрьева, он обладал всеми необходимыми для человека питательными веществами, но, главное, был дешев. Бывало, напремся его вечером с луком, да ржаным хлебом, так ночью в комнате хоть топор вешай. Зато питание обходилось нам в гривенник в день.
Спустя какое-то время земство выделило нам деньги на покупку лошадей, упряжи, инструмента, леса для сараев и дров для обжига кирпича. Купили мы срубы, и появился у нас большой дом без пола и крыши, только с потолком. В нем мы все вместе и поселились. Каждый день ездили в лес, купленный у одного разорившегося помещика. Роща, внутри которой стоял этот лес, как оказалось, была заложена, но мы узнали об этом слишком поздно, когда все уже пошло под топор. Иногда тот же помещик давал нам двустволку, с которой мы ходили на зайцев. Ружье было шомпольное, но замечательно меткое – я легко попадал в зайца со ста шагов, с каждой охоты приносил их штуки по четыре – больше просто не мог унести. В общем, всю осень мы питались зайчатиной, а шкурки меняли у одного крестьянина на добытую им дичь. На гумнах я в изобилии бил голубей. Это было у нас самое питательное время!
Так как расчеты с этим помещиком за лес и дрова вел я, мне приходилось часто ездить в Уфу где на Большой Успенской стоял его особняк. Когда я первый раз вошел в него, меня поразило убранство его квартиры: она была битком набита старой, облезлой мебелью– креслами, кушетками, диванами и т. д., вывезенными из к тому времени проданного барского дома в деревне. Жили они вдвоем с женой, такой же старой, как и он сам. Они держали кошек и комнатных собачонок; между собой говорили по-французски. Я привозил деньги и подолгу ждал, пока он напишет расписку в их получении. В общем, я впервые увидел, как доживают свой век помещики, разорившиеся после отмены крепостного права. Жили они тем, что продавали свои вещи, порой наивно плутовали, но почти всегда умирали в нищете.
Заготовка леса и дров шла тяжело, особенно зимой. Вставали до свету и, чтобы не замерзнуть, в лес и обратно шли за санями. Но когда навозили и того, и другого и начали строить яму и сараи – стало еще сложнее: строительного опыта никто из нас не имел. Сколько было ошибок, сколько раз переделывали уже сделанное! Например, выкопали яму для обжига кирпича. Вдруг она, проклятая, с одного бока потекла – оказалось, мы попали на водяную жилу. Нам бы отгородиться цементной стенкой или сделать дренаж, а мы вместо этого стали… затыкать протекшие места деревянными пробками и соорудили дощатый щит. В один прекрасный день эту стенку подмыла водой и она рухнула. Мы с Михаилом Юрьевым едва успели выскочить. Впечатление от этого обвала было настолько сильным, что следующей ночью я вскочил с постели с криком: «Миша, держи стену, она падает!», и он вместе со мной послушно вцепился в стену избы. На шум из-за перегородки прибежал с фонарем Захар и увидел, как мы в одном белье стоим и держим стену. Много смеху потом было. Я это наше происшествие помню и сейчас, спустя 40 лет. Можно себе представить, сколько сил и нервов стоила нам эта яма. В итоге мы ее бросили и в другом месте вырыли новую, но, наученные горьким опытом, предварительно это место прошурфовали.
Были у нас сложности и с колодцем. Для производства кирпича требуется много воды, а речка Шемяк от одноименного села далеко. Решили мы выкопать колодец, причем «передовым» способом – наделали бетонных колец и стали их спускать вниз вместо сруба. Но по ходу дела одно из них перевернулось и никак не хотело вставать на место. Миша попытался его подрыть, оно сдвинулось, едва его не задавив, но снова стало боком. Когда мы уже отчаялись, земство прислало нам гидротехника, который прорыл артезианский колодец.
Сушка кирпича у нас тоже поначалу не пошла – нам и здесь хотелось быть «механизаторами». Купили три станка и начали делать пористый кирпич из сухой, а не мятой, как принято, глины. Наделали этого кирпича много и положили его сушить в «елку». Пока штабель был сырой, он стоял, но как только «елка» по краям подсохла, она завалилась, и весь наш кирпич рассыпался и поломался. Тогда, побросав станки, мы стали делать кирпич обычным способом и наделали его для всей больницы. Все бы ничего, но эти наши новаторства стоили нам больших денег. Не мудрено, что после полутора лет работы домой мы не привезли ни копейки – только на горох и заработали, да одежду истрепали.
Не лучше у нас пошло дело и с известью. Добывать известняк и обжигать его мы подрядились сами. Обжигом в нашей артели заведовал мастер Степан, который дело знал, но дорогу к кабаку знал еще лучше. Выкопали мы с ним круглую яму для обжига, обложили ее камнем, а он возьми, да рухни. Обложили снова, начали обжигать. Прихожу однажды топить печь в яме. Вижу, Степан спит в приямке пьяный, дрова горят только спереди печи, а свод ямы уже начал «прикипать» – обливаться шлаком (это значит, что пламя вверх не идет, и яма извести не даст). Пытаюсь «пробить» пламя вверх. Измучился сам, измучил рабочего, подносившего дрова. Степана к яме больше не допустил. Миша Юрьев, прознав про все это от соседских крестьян (известь мы жгли верстах в семи от Шемяк), примчался к нам и услал меня домой отсыпаться – я проработал без отдыха две смены. Все равно в яме оказалось много недогара – известняк на четверть оказался не обожженным.
Немало было приключений с доставкой на нашу стройку теса. Ближайшая лесопилка была в 30 верстах – в Уфе. Один раз ночью по дороге на лесопилку попали в страшную пургу и с дороги сбились. Я ехал первым, вдруг, чувствую, лечу куда-то вместе с подводой (к счастью, пока пустой). Оказался овраг, в который один за другим провалились и остальные, ехавшие следом. Кое-как выбрались из снега сами, вытащили из оврага и лошадей. А пурга такая, что не то, что дороги, человека рядом не видно. В итоге, ориентируясь по ветру, попали на гумна, а уже от них нашли дорогу в деревню, где и переждали ненастье. В Уфу отправились следующим утром.
Случались и курьезы. На строительство ямы и своего дома нам понадобилось несколько сот штук кирпича. Поблизости была заимка уфимского женского монастыря. Жили на ней монашки, они обрабатывали небольшие посевы, были у них коровы и домашняя птица, был и кустарный кирпичный заводик. Вот к ним на розвальнях мы за кирпичом и отправились. Являемся на заимку, у каждого за поясом топор (на обратном пути мы планировали нарубить в лесу дров), одеты соответственно. В дом монашки нас не пустили, из-за двери спросили, чего нам надо, и когда мы ответили, нам сказали взять кирпича сколько надо, в кирпичном сарае. С тем мы и уехали. Но в сарай все же заглянули, кирпич осмотрели, и после Миша уже съездил в одиночку и кирпич купил. Как выяснилось, в первый раз монашки заперлись, потому что приняли нас за разбойников.
Со своими артельщиками и окрестными крестьянами мы вели и кое-какую революционную работу. Была у нас двухрядная гармонь, на которой я хорошо играл, была и балалайка. Когда по вечерам к нам приходила деревенская молодежь, мы вместе пели, плясали, читали вслух нелегальную литературу, которую нам доставляли из города. Пели песни и деревенские, и революционные. Запевали мы обычно втроем с Мишей и Шуршиным. Я проводил занятия по боевому делу с Юрьевым, его племянником Захаром и с тем же Шуршиным. Через Короткова, Арцибушева («Маркс»)[74], Брюханова поддерживали связь с городским комитетом партии. Несколько раз к нам наведывался подпольщик, боевик И.М. Мызгин, который после побега из ссылки жил нелегально в Уфе. Бывало, его шпики доймут, он пешком придет к нам и недели две живет. Помогал нам на стройке, привозил много нелегальной литературы – прокламации, книги Ленина, Либкнехта и др. Привозил и оружие.
Удивительно, насколько все мы были тогда веселы и бодры, особенно Мызгин после многолетней каторги и месячного плутання по тайге без продовольствия и в ветхой одежде – бежав из ссылки, он прошел так более тысячи верст. С крестьянами мы жили дружно, они часто обращались к нам за советом. Побывав в их колхозе много лет спустя, Юрьев убедился, что всех нас помнят и вспоминают с любовью и уважением. Об этом он мне сам рассказывал в 1950 году. Интересно, что главным врачом больницы, на постройку которой мы делали кирпич, до сих пор состоит дочь одного из наших рабочих. Звали его Дормидонт.
Захаживал к нам и местный урядник, до которого, конечно, доходили слухи о «странных» молодых людях, которые много работают, но не хулиганят, водки не пьют и подозрительно ладят с крестьянами. Бывало, придет, посидит, покурит и уйдет. Мы его, конечно, не задерживали и ничем не угощали. Вежливо встречали, вежливо и провожали.
Осенью 1913 года, закончив изготовление кирпича, мы приступили к обжигу извести для школы, которую земство предполагало построить в башкирском селе Арасланово в 65 верстах от Уфы. Русских в нем была всего одна семья бакалейщика-лавочника, да и тот, потеряв сына, торговлю забросил. Когда известь обожгли, артель уехала, а я остался ее «творить». Поселился у местной старухи-вдовы. У нее было два взрослых сына, старший из которых, Ахтяшка, работал у меня. Замечательно честный народ – башкиры! Бывало, возьмут денег вперед купить семье продуктов и обязательно придут отрабатывать, никогда не обманут. У них существовал, да и сейчас, говорят, существует обычай по осени созывать девушек забивать и разделывать гусей. Каждая берет гуся за голову и ноги, подходит мулла, режет гусю горло, и девушка держит его до тех пор, пока не выйдет вся кровь. Если мулла случайно отрежет голову напрочь, такая птица считается уже «поганой» – ее либо выбросят, либо продадут русским. Потом до вечера идет пир – гусиные туши вывешивают на холод, а головы и потроха варят и ими угощают девушек, которые пляшут и поют.
Как-то раз у нас остались ночевать двоюродные сестры Ахтяшки и мы задумали за ними поухаживать. Но наша старуха всю ночь не сомкнула глаз и ничего нам сделать не дала. На этот счет у башкир было строго – если русский сходился с башкиркой, его, как правило, убивали. Я тогда об этом обычае не знал, и рассказал мне о нем тот же Ахтяшка. Мы как-то проезжали мимо дома этих его сестер, они нам махали, приглашая зайти, а он, наоборот, стал нахлестывать лошадей. Так мы скакали, пока не выехали за деревню, и вот тут-то он мне об этом обычае и рассказал. Позднее он говорил, как одного русского, которого застали с вдовой-башкиркой, ее соплеменники убили прямо у церкви в русской деревне, куда тот бежал.
Закончив работы с известью, в январе 1914 года я уехал в свое родное Языково, куда был назначен помощником уездного техника-строителя на постройку Народного дома. Моя артель во главе с Юрьевым осталась строить шемякскую больницу. За кирпично-известковые труды земство вынесло нам благодарность, а до того, что мы на этом ничего не заработали, никому дела не было – не умерли с голоду, и ладно.
Сейчас заштатная деревенька, перед войной Языково процветало – в нем работали земские больница и 4-классная школа, ветеринарный и агрономический пункты, действовали почта и телеграф, на базарной площади бойко торговали универмаг и бакалейный магазин. Как и в прежние годы, в чайную выписывалось много газет и журналов. Конечно, были и церковь, и кабак; в селе появились стражник и второй урядник. Хотя интеллигенции в селе заметно прибыло, языковские нравы мало изменились. Как и прежде, пьяные хозяева до полусмерти избивали своих работников, мужики дрались оглоблями, воров и конокрадов избивали до полусмерти, в базарные дни могло достаться и уряднику.
Как я уже говорил, в Языково я приехал от уездного земства строить Народный дом. Здесь я близко сошелся с управляющим помещика и его семьей. Сам граф бывал в имении только летом – рыбачил на пруду, охотился, в общем – отдыхал. Был он либерал, как и его брат[75], живший в Уфе и издававший там же либеральную газету. Был у них и младший брат, который застрелился, когда я был еще маленьким, помню, бегал на его похороны. В народе говорили, что он был «крамольник» и покончил с собой, когда его разоблачили. Зять графа пошел «в народ» – жил в Языкове отдельно и был ходатаем у мужиков перед властями. Писал им прошения разные и пил с ними водку где попало.
Звали графского управляющего Николай Иванович Зиновьев. Помню его еще ребенком, когда он был приказчиком. Позже он сделался ключником, а вот теперь стал управляющим. У него был сын-гимназист, дочь и поразительной красоты жена. Таких красивых женщин я, пожалуй, ни до, ни после не встречал. Жили Зиновьевы в отдельном домике, скромно и дружно. Сам он был на удивление строг и щепетилен – рассказывали, что даже продукты покупал на базаре и никогда ничего барского не брал. Вспоминается такой случай. Как-то мы с техником отправились на охоту в барский лес. За целый день добыли одного зайца, измученные возвращаемся домой. Навстречу – Николай Иванович, верхами. Он мирно так спрашивает: «Ну, как охотничали?». Мы: «Подстрелили одного зайца».
Он: «Да, маловато. Но, все равно, платите штраф 3 рубля – за охоту в лесу графа без разрешения». Мы уплатили, он выдал квитанцию и говорит: «Сегодня жена стряпает пельмени. Приходите на пульку. Кстати, спрыснем и вашего зайца. Иван Игнатьевич (директор школы) уже приглашен. Приходите! Не сердитесь – служба службой, а дружба дружбой». Жена Николая Ивановича потом говорила, что он оштрафовал бы даже родного сына, если бы застал его в лесу.
За вечерним преферансом собиралась вся сельская интеллигенция. Александр Николаевич Кормушкин, техник-строитель, в помощники к которому меня определили, происходил из семьи мелкого служащего, его жена была учительницей. Он окончил Самарское техническое училище, был скромен, умен и очень честен. Любил охоту и преферанс; читал мало. Мы с ним много ездили по стройкам. Подрядчики его боялись – на приемке работ он был неумолим: стены простукивал молотком, лазил в колодцы, на крышу, на чердаки – везде, где можно было спрятать дефекты. По убеждениям был меньшевиком, дружил с другим техником, который, хотя и беспартийный, придерживался передовых взглядов. К Кормушкиным на пульку приходили Иван Игнатьевич и учительница той же школы, Зоя Константиновна Гуменская. У Кормушкиных я с ними и познакомился. Поскольку, кроме преферанса, этих люди, пожалуй, ничего на досуге более не интересовало, я стал искать других знакомств. Сошелся с волостным писарем Иваном Яковлевичем Фиониным[76], возобновил отношения с агрономом Васей Тимофеевым, с которым когда-то учился, с телеграфистом, которого за глаза звали «тук-тук», со старшим агрономом.
Гуменская была «епархиалка» (выпускница женского епархиального училища), вместе с двумя своими сестрами учительствовала. В быту семья была строгая, но не особенно грамотная. Вася Ананьин-Тимофеев окончил сельскохозяйственное училище. Веселый, довольно остроумный, много читал. Телеграфист «тук-тук» был молодой, задорный балагур. Фионин пользовался у крестьян большим авторитетом. Был неподкупен, не пил и не курил. С крестьянами был ровен, спокоен, но спуску никому не давал. Был не особенно общителен и даже в преферанс играл редко.
Директор школы Иван Игнатьевич говорил басом, любил поесть, а за едой – проповедовать. Например, что щи надо не варить, а парить в русской печи, в чугунке, плотно закрытом сковородой. Тогда, по его словам, они делаются ароматными и особенно вкусными. Пьяницей не был, но выпить любил. Выпив рюмочку, крякал и причмокивал, приговаривая, что лучше русской водки на свете напитка нет. Жили они вдвоем с женой, детей у них не было, и этим, вероятно, объясняется, что жена ему частенько изменяла.
Кроме них я общался с сыновьями своего квартирного хозяина Филиппа Андреевича Пономарева – Никешкой, Мишей и Никитой. Были у меня друзья и в семье дяди – мои двоюродные братья и сестры. Одна из них, Маша, когда меня арестовывали и отправляли в ссылку, все плакала и причитала: «Ох, опять Ваню арестовали! Да когда же они его перестанут арестовывать. Да как это он не бережется!» и т. д. Когда ее мать, тетка Параня, бывало, начнет об этом рассказывать, Маша покраснеет и убежит. Я найду ее и начну утешать. Замуж ее выдали за нелюбимого, и вскоре она умерла. Когда ее отпевали, ее отца, а моего дядю Андрея хватил удар. Вскоре умерла и тетка Параня. Но об этом я узнал в 1916 году, уже на фронте.
Помимо преферанса языковская интеллигенция играла в лапту и в городки, летом часто отправлялись в лес на пикники. Конечно, не пренебрегали и алкоголем, но пьянства при этом не наблюдалось. Крепко выпивали только по большим праздникам. Однажды на Пасху Иван Игнатьевич и агроном напились, в обнимку шли по улице и горланили песни. Встретив водовоза, сели верхом на бочку, запели: «Христос воскресе из мертвых» – и с этим песнопением въехали во двор. Долго после этого над ними смеялись.
Когда я вернулся в Языково, на базаре парни показывали на меня пальцем, как на «крамольника». Многие со мной учились в школе и знали меня с детства. О моих арестах и ссылках было известно и языковским урядникам, которые, как мне передавали, тайком за мной следили. В общем, я скоро понял, что, приехав в село, где вырос, я совершил ошибку – сидеть сложа руки я не привык, а распространять нелегальную литературу, которую я привез из Уфы, в таких условиях было сложно. Моими читателями стали Тимофеев и Фионин, а потом сыновья квартирного хозяина – ребята грамотные, развитые. У них же книги и хранил. Потом вместе начали ставить спектакли в Народном доме, на которые съезжались учителя даже из соседних сел.
Как-то одна учительница спрашивает Гуменскую, показывая на меня: «А кто этот беленький?». Она ответила: «Простой деревенский парень, хотя и очень развитой». Вот, думаю, точная характеристика.
Именно – простой деревенский парень. Потому свое место знал и в интеллигенцию не лез. С этой учительницей у меня вначале был интересный разговор – в доме Кормушкина, за преферансом.
– Скажите, кто Вы, что Вы за человек? – спрашивает она.
– Помощник техника-строителя, Иван Петрович Павлов, уроженец этого села.
Она засмеялась и говорит: «Это я и без Вас знаю, а вот по-настоящему-то кто Вы? Знаете ли Вы, какие страшные слухи о Вас по селу ходят?». Я отшутился, попрощался и ушел. После, когда мы подружились, она меня попрекала за скрытность, но не мог же я, в самом деле, рассказывать ей о своей подпольной работе! О том, что я был боевиком, она узнала только в 1918 году, когда это уже ни для кого не было секретом.
Я частенько бывал у своих двоюродных братьев, но общего языка с ними так и не нашел. Их отец, мой дядя, много лет батрачил на некоего Гусева, женился на его дочери и превратился в середняка. Жил он в достатке, имея двух сыновей и двух дочерей, в наемных руках не нуждался. При советской власти его дети стали крупными работниками в колхозе, старший Степан был даже его председателем. Так вот, тогда на мои речи все они неизменно отвечали: «Пускай бедняки и батраки идут против царя, а нам ничего не надо».
Известь для языковского Народного дома мы решили обжигать в горах, в нескольких верстах от села. Привезли из Уфы мастера, вместе с ним построили шалаш и поселились в нем; рабочие жили в соседней деревне. Выкопали яму конусом вниз, обложили ее камнем, заготовили дров и начали обжиг. У огня дежурили по очереди. Недели через три работу закончили и вернулись в Языково.
Все это было в разгар весны, в мае – жаворонки поют, в липовой роще по соседству неумолчный птичий гомон! Я ходил с ружьем на косачей и, бывало, лягу на полянке в гуще леса и часами слушаю их пение. Один раз набрел на глухариный ток и долго любовался грациозным танцем этой красивой птицы. Стрелять не стал. С тех пор полюбил ходить в лес подышать воздухом, послушать птиц, полюбоваться цветами. На севере нет такого их разнообразия, как на лугах Башкирии весной.
Из старых друзей ко мне в Языково приезжал только Миша Юрьев – он работал десятником на постройке шемякской больницы. Мызгин пропадал где-то на южноуральских заводах, и времени на поездки ко мне у него не было. Жизнь революционера была тяжела. Недаром, попав в тюрьму, подпольщик, как правило, дня три спал без просыпа. Помню, в декабре 1907 года к нам в камеру уфимской тюрьмы привели Михаила Гузакова, закованного в ножные и ручные кандалы. Зная, что его ждет смертная казнь, он, тем не менее, спал несколько суток кряду – так был измучен подпольной работой.
Летом 1914 года мы с Кормушкиным много времени проводили на охоте. Уходили в ночь, возвращались только на другой день поздно вечером. Охотились с азартом и дичи добывали много. Большей частью стреляли уток в камышах, набивали их штук по 20–30. Сколько раз проваливались в ямы с головой! Большое это было удовольствие, незабываемое. Хотя порой и опасное – однажды Кормушкин угодил мне дробью в спину, но меня спасла толстая кожаная куртка. После охоты, мокрые и грязные, шли к знакомому башкиру-рыболову Он поил нас чаем, а мы его – водкой. Охота как-то не утомляла. Вечерами вместе с Фиониным, Тимофеевым и телеграфистом часто ходили купаться на верхний пруд, а после подолгу беседовали на политические темы. Я, главным образом, доказывал им необходимость вооруженного восстания для взятия власти.
С началом первой мировой войны, осенью 1914 года все мы были взяты в царскую армию. Меня скоро отправили на фронт, Вася Тимофеев попал в школу прапорщиков и, как и телеграфист, тоже потом воевал. Фионин состоял писарем в запасном батальоне. Я с ними переписывался, и снова мы встретились в Уфе только в конце 1917 года. Василий стал большевиком и погиб в гражданскую войну комиссаром, Фионин превратился в крупного военного, а потом советского работника, братья Пономаревы тоже воевали на стороне Советов. Кто знает, может быть, мои беседы с ними в Языкове отчасти стали тому причиной. Кто знает…
В царской армии (1914–1917)
В конце октября 1914 года по повестке воинского начальника мы, языковцы, явились в Уфу и там получили назначение в 144-й запасный батальон, который готовил и отправлял маршевые роты на русско-германский фронт. Нас сразу же разлучили – Василия [Ананьина-Тимофеева] отправили в уфимскую школу прапорщиков (на фронте он потом командовал ротой), а остальных распределили по разным ротам. Я попал в 8-ю. Уфимцам в первое время разрешали ночевать дома, и мы с Фиониным спали на полу в избушке моей матери (позже нас поротно разместили по городским школам). При формировании рот требовалось много писарей, каптенармусов, артельщиков, а грамотных среди призывников было мало. В итоге я, как грамотный, попал в ротные писаря.
Почти каждый вечер я бывал у сестер Тарасовых, к которым приходили Арцибушев, Коковихин, Мызгин. Мы обсуждали политическое положение, знакомились с указаниями центра. Часто собирались у Шашириных и у Короткова. Благодаря этим собеседованиям, я был в курсе политических событий, представлял ход войны, ее закулисные стороны, знал отношение к ней нашей партии и старался донести эти идеи в солдатскую массу. Среди солдат, конечно, преобладали крестьяне, но были и рабочие, и мелкие служащие, вроде приказчиков. Наши беседы о ненужности этой войны для простых людей находили у них живой отклик. Я приносил в казарму и прокламации, которыми снабжал нас «Петруська»-Мызгин. Обстановка для агитации была благоприятная – в казарме процветали порка, мордобой, зуботычины. Этим особенно отличался один фельдфебель, немец по национальности. Солдаты прямо ему говорили: «Подожди, немецкая сука, поедем на фронт, первая пуля будет твоя, а вторая – твоим сородичам». Может быть поэтому этого немца вскоре убрали. Сначала я работал в одиночку, но со временем мне стали помогать старший писарь Ульянов и каптенармус, оба – рабочие Белорецкого завода. Первый был беспартийным, а второй, как оказалось, – меньшевиком.
У Шашириных и у Тарасовых много спорили на теоретические темы, особенно Арцибушев с Михаилом Коковихиным. Арцибушев был ленинцем, а Коковихин тогда почему-то отстаивал точку зрения Богданова[77]. Он всегда был ярым противником боевых дружин, которые организовывались по прямой директиве Ленина и по решению Третьего съезда партии. И сейчас, почти полвека спустя, Коковихин убежден в своей правоте. Недавно я читал его рукопись об истории Миньярской с.-д. организации, где он высказывается резко против боевых дружин, критикуя их с точки зрения пропагандиста – на что я и указал в своей рецензии. А вообще-то это был крупный партийный работник, грамотный, начитанный. Учился в школе пропагандистов на Капри, потом в Париже, у Ленина.
Наступил 1915 год. К началу февраля была сформирована очередная маршевая рота в 250 человек. Солдатам выдали новое обмундирование, назначили взводных командиров, фельдфебеля; роту стали обучать уже отдельно от остальных. Командиром роты был назначен подпоручик Савицкий, который только что закончил юнкерское училище. Меня в списках роты поначалу не было – «свои» люди шепнули, что меня собираются оставить при штабе батальона, и в интересах подпольной работы это меня вполне устраивало. Но в начале марта Савицкий сообщил, что я тоже еду на фронт – в офицерском вагоне, в качестве ротного писаря. Я тут же отправился к Арцибушеву за директивами горкома партии, на другой день получил его «добро» и снялся с партийного учета. Мне было сказано: «Поезжайте. Вы там, а мы здесь будем делать одно дело. Наше место там, где народ».
Дорогой Савицкий рассказал, почему меня не оставили при штабе батальона, предварительно сообщив, что сам он – социал-демократ-меньшевик. Оказалось, что в Уфе меня узнали шпики и внимательно за мной приглядывали, благо штаб моей роты помещался прямо напротив сыскного отделения. К тому времени я уже больше двух лет жил легально и от слежки не берегся настолько, что порой нахально заходил в сыскное позвонить, пока в роте не было телефона. Сыщики без труда установили, что я служу ротным писарем, и сообщили об этом «по профилю» – в Губернское жандармское управление (сами они занимались уголовниками), которое, в свою очередь, направило нашему генералу подробную справку о моем революционном прошлом. Называя меня «крайне неблагонадежным», жандармы требовали отправить меня на фронт с ближайшей маршевой ротой и там «содержать только в окопах». Эту справку Савицкий мне в поезде и предъявил. С такой «путевкой в жизнь» я попал на фронт.
До Варшавы мы ехали по железной дороге, а потом уже пешком отправились на позиции. Все десять дней в Варшаве мы сидели в казарме – в город не пускали – и вели бесконечные разговоры. Я рассказывал о декабристах, читал Некрасова, пересказывал Чехова, Горького, но главной темой, конечно, была война. Хотя никто из моих собеседников воевать не хотел, открыто высказываться в антивоенном духе было невозможно. Свою принадлежность к большевикам я открывать тоже не имел права, и потому вел политические беседы самого общего порядка. На позиции пришли грязные и измученные – в марте в Польше уже жарко, почва песчаная, шли с полной выкладкой по щиколотку в пыли. На месте Савицкому дали другую роту, и он в нее забрал несколько человек, включая меня. Мы попали в резерв 2-го батальона 147-го пехотного полка, жили в палатках на берегу Вислы, против городка Червинска, в паре километров от передовой. Немцы нас обстреливали шрапнелью, но как-то лениво, и мы частенько плавали на лодках в Червинск за французскими булками. Сам Савицкий вскоре заболел и был отправлен в госпиталь.
Наша новая рота состояла сплошь из необученных ратников ополчения. На их фоне мы выглядели «профессорами» и потому сразу были назначены на командные должности. Я, например, вплоть до возвращения Савицкого из госпиталя командовал отделением. Савицкий же, как и обещал, назначил меня ротным писарем. Поганая, надо признаться, была эта должность! Ротный писарь воюет наравне с другими солдатами, но после боя, когда все отдыхают, должен собрать сведения о потерях и доставить их в штаб батальона или полка. Товарищи сидят в окопах, а ты, бывало, под вражеским огнем, бегом или ползком несешь донесение в штаб. Не мудрено, что к осени 1915 года из 16-ти писарей в нашем полку осталось только два, да и я был контужен. У нашего брата была только одна «привилегия» – писарей не посылали ни в разведку, ни на работы. В общем, писаря завидовали солдатам, и многие просились в строй. Но грамотных людей тогда было мало, а убыль среди писарей – высока.
Первое время я, как и другие молодые солдаты, приседал от свиста пуль или разрыва снарядов. Наш фельдфебель, воевавший с начала войны, все смеялся и говорил: «Что присел, пуля-то, ведь, пролетела». Но человек ко всему привыкает, пообвыкли и мы. Некоторые даже бравировали своей храбростью, но это порой плохо кончалось. Помню, один наш солдат принес в котелке воды с реки и на виду немцев стал неспешно умываться. Те начали стрелять, и одна пуля попала ему прямо в висок – в окоп мы стащили его уже мертвым. Другому такому же смельчаку прострелили разом обе ягодицы – что, конечно, потом долго веселило всю роту. После госпиталя парень вернулся в строй, храбро воевал, но больше на бруствере уже не умывался.
К свисту снарядов мы привыкли настолько, что крепко спали в землянках даже во время артобстрелов. Солдаты, конечно, меня поймут. По звуку выстрела научились определять не только калибр снаряда, но и направление его полета. Однажды немцы начали нас обстреливать из 6-дюймовых пушек. Я в это время сидел в нашей канцелярии вместе с фельдфебелем и санитаром. Снаряды ложились все ближе, мои сослуживцы отправились в «лисью нору», а я чуть задержался. Закончил работу и тоже пошел в укрытие. У пулеметного гнезда вижу санитара, который позвал меня под козырек, я отказался и, услышав очередной выстрел, бросился к «лисьей норе». Снаряд разорвался совсем рядом, взрывной волной меня бросило на землю, обдало комьями мерзлой земли. А санитара мы нашли мертвым – с развороченными осколками грудью и животом. Послушайся я его тогда, тоже был бы убит.
Спасали и везение, и реакция. Помню, несу в штаб батальона очередное донесение. Ход сообщения кончился, выхожу на открытое пространство, вдруг слышу винтовочный выстрел. Молниеносно прыгаю обратно в окоп, и тут же пуля впивается в стоящую на бруствере сосну – прямо на уровне моей груди. Постепенно на выстрелы вообще перестали обращать внимание. Бывало, пули свистят, рвутся снаряды, а солдаты делают свои обычные дела: едят, спят, чинят или стирают белье. Днем где-нибудь за пригорком разводили костер и «жарили» белье, гимнастерки, брюки, до отказа забитые вшами. Бывало, держишь над горячими углями гимнастерку и слышишь треск лопающихся насекомых. Тем и спасались – баня у нас была только раз в месяц, когда уводили в резерв. Все мы, конечно, были покрыты вшами, но, как ни странно, тифа не было. Правда, поначалу питались мы неплохо. К казенному пайку прикупали у местных жителей булки, яйца, кур, колбасу. Еще в 1910 году в тюрьме я схватил катар желудка и с тех пор меня мучали изжога и боли. Боялся, что на фронте живот меня погубит. Но за все время пребывания в окопах, с марта 1915 года по март 1917 года, я ни разу не заболел. Даже насморка не было! То ли нервное напряжение заслоняло все бытовые невзгоды, то ли сказалась здоровая основа моего организма.
Мы долго стояли на Бзуре, речке быстрой и чистой, и наши саперы устроили импровизированный водопровод – по трубам качали воду прямо в окопы. Мылись, стирались, в жаркое время обливались холодной водой. Но все равно постоянно ходили грязные и в песке, в окопах под ногами хлюпало. По окопам передвигались согнувшись – немцы в 100 метрах, постреливали, – а высокие даже закрывали голову лопатой. Кругом песок, а подпочвенные воды высоко – глубокий окоп не выроешь: либо осыплется, либо его затопит.
Когда поспели ягоды, варили варенье. Однажды я высыпал в вишневое варенье содержимое кулька, который мне прислала Гуменская. Думал, что это сахар. И только когда мое варенье начало трещать, понял, что сыпанул соли. Как же я ругался и как солдаты издевались надо мной! Я написал об этом Зое и она мне ответила, что с сестрами смеялась над моим маленьким происшествием до слез. Так оно потом и называлось: «Ванино варенье».
Только на передовой я понял, как война сближает людей. Фронтовая дружба завязывается на многие годы, иногда на всю жизнь. Смертельная опасность открывает в человеке его лучшие качества, все мелкое уходит на второй план. Интересно отметить еще один психологический момент. Казалось бы, в окопах опасно, неуютно – вши, грязь, стрельба, а между тем, в резерв с обжитого места мы всякий раз уходили с неохотой. Но, правда, и возвращались на передовую без энтузиазма.
Принято считать, что на фронте презирают трусов. Скажу больше – их убивают, но только если трус погубил товарищей. А вообще-то над трусостью чаще всего добродушно подтрунивали. Нет человека, который бы не боялся за свою жизнь. Боялись и мы, но в бой шли, потому что идти надо было. У нас в роте было два молодых солдата-еврея. Они постоянно держались рядом, над ними поэтому посмеивались. Многие почему-то думают, что евреи трусы по природе. Это, конечно, неправда. В подполье, в тюрьме, в ссылке я не раз встречал евреев очень смелых, волевых. Так и эти молодые еврейчики – случился большой бой и они первыми бросились в атаку. Оба были представлены к Георгиевским крестам, я и рапорт на них писал и в штаб отнес. Но получить награды они не успели – оба вскоре были убиты.
Будучи на фронте, я вел большую переписку – с домашними, с Гуменской и Коротковым, с Арцибушевым, Е.М. Тарасовой, Фиониным, Ульяновым. Был в курсе всех уфимских новостей. В свою очередь, сам подробно писал им о фронтовой жизни и настроениях солдат. Помню, Арцибушев даже намеревался публиковать мои письма в газете «Южный Урал», но чем кончилась эта его попытка, не знаю. Читал неграмотным солдатам письма из деревни. Все эти сведения, плюс информация газеты, которую получал наш ротный, давали мне обширный материал для бесед с товарищами на политические темы. После нашего печально знаменитого отступления 1915 года настроения в окопах было неважные, из деревни тоже приходили плохие вести – сеять и убирать некому, кое-где начался голод, богатели одни кулаки. Я, конечно, старался свести разговор к существующему царскому строю с его жандармерией, помещиками, капиталистами. С меньшевиком Савицким, моим ротным командиром, мы наедине часто спорили на тактические темы. Наверное, со стороны это выглядело странно – на позиции офицер и рядовой на равных обсуждают политические вопросы. Узнай об этом командир полка, нам обоим каторги бы не миновать. Савицкий все хотел представить меня к офицерскому званию, но я отказывался – в солдатской среде мне было лучше.
Тот же Савицкий спас меня от крупных неприятностей. Полуротным у нас служил один малоприятный тип – купеческий сынок, трус, солдат бил и его ненавидели. Как-то он в развязном тоне прокомментировал Савицкому одно из моих личных писем: мол, твой писарь Павлов – просто поэт, а меня спросил, кто та женщина, которой я писал. Я ответил буквально следующее: «Кто она мне, это мое личное дело, а чужие письма читать – низость», и ушел. Взбешенный моим ответом, полуротный решил пожаловаться на меня командиру полка, и Савицкому стоило больших усилий его отговорить. Напиши тот рапорт и учитывая «путевку в жизнь», выданную мне жандармами, меня, пожалуй, упекли бы надолго. Какое-то время спустя полуротного ранили в пятку, и через пару дней он умер в околотке от заражения крови. Солдаты потом рассказывали об этом с усмешкой, из чего я заключил, что это было делом их рук. В общем, хотели малость подстрелить, а он возьми, да подохни. Ну, туда, мол, ему и дорога.
Между тем, наша окопная жизнь шла своим чередом. Кормили нас все хуже – хамса, вобла, селедка, черная и удивительно невкусная чечевичная похлебка. Мы завидовали артиллеристам – те жили в землянках в 4–8 накатов в нескольких верстах от линии фронта, не то, что пули, самолеты до них не долетали, снарядов у них почти никогда не бывало, и они тем и занимались, что играли в городки, да ходили к солдаткам. В разговорах с нами артиллеристы – в основном это были инженеры или студенты-путейцы, народ грамотный – ругательски ругали свое вынужденное безделье и прямо говорили, что «кругом измена». Но когда у них появлялись снаряды, они замечательно стреляли. Мы, пехота, восхищались их меткостью.
В июне 1915 года немцы прорвали фронт в нескольких местах и попытались взять наш V-й Сибирский стрелковый корпус в мешок. Чтобы не попасть в окружение, корпус стал отходить. Нашей 50-й стрелковой дивизии было приказано двигаться в его арьергарде. Страшно вспомнить это отступление! Шли с боями, обычно по ночам, в окружении горящих деревень. Бывало, за сутки проходили верст по 50 – с полной выкладкой и без отдыха, спали прямо на марше. На 10-минутном привале рухнешь в грязь, и дальше в путь. Под утро, придя на позицию, спешно рыли окопы и до вечера задерживали немца. Ночью снимались и снова шли – до следующей остановки.
Помню бой у белорусской деревни Сервичи (или Червичи). К нам подошли крупные немецкие части с орудиями и пулеметами. Глубокие окопы вырыть мы не успели и с трудом отбивались. В разгар боя пришел приказ командира батальона отходить. Наши побежали. Я впервые видел такое паническое бегство, – жуткая картина. А немцы садят из орудий, пулеметов, пули вокруг так и «чокают». Прошли деревню, позади нее в окопах – наши. Там только немцев и остановили. Подсчитали потери – они оказались на удивление небольшими. Но потрепали нас в том бою все равно изрядно – многие потеряли свои шинели и вещевые мешки, все до последней степени грязные, потные и голодные. Только наутро привели себя в порядок и немного поели. Вообще, кормили нас во время этого отступления из рук вон плохо – с июня по август походную кухню мы не видели ни разу. Варили найденную в полях картошку, другие овощи брали на огородах, покупали у крестьян масло и молоко, ловили мелкую домашнюю скотину. Иногда удавалось разжиться и хлебом. Кругом выжженные поля, разоренные польские деревни, плачущие крестьянские дети, – страшная картина. В Белоруссии такого разорения почему-то уже не было.
В Польше мы проходили мимо фольварков польских панов. Сами паны уже разбежались, а свои хозяйства бросили. В одном перед домом-дворцом помню пруд с парой белых лебедей. В доме все оставлено. До того это было хорошо и красиво, что наши солдаты не тронули лебедей и в доме, вопреки обычаю, ничего не разбили. У другого фольварка тоже был пруд, который казаки нашего дозора тут же спустили. Основная рыба ушла, но в водорослях и камышах ее все равно осталось много. Я, как заядлый рыбак, сейчас же снял штаны и залез в воду. За мной – другие солдаты. Руками таскали крупных налимов и чебаков и бросали на берег. В общем, рыбы набрали на всю роту. Потом принялись за раков. И их скоро на берегу выросла гора. Отнесли все это в роту и сварили. А тут еще наш санитар вынимает бутылку водки. Так что мы и выпили, и закусили на славу. Потом выяснилось, что в подвале фольварка солдаты нашли несколько бочонков хорошей самогонки, но офицеры вылили ее в овраг. Однако кое-кто из солдат все-таки успел прилично хлебнуть, и наутро их еле добудились.
С боями мы дошли почти до самой Варшавы. Разместились в окопах у взорванного форта под литерой «А», обнесенного рвом с водой. Августовский день выдался ясным, жарким, и мы кинулись в ров мыться и стираться. Некоторые еще не успели как следует высушиться, как немцы открыли орудийную пальбу. К вечеру канонада стихла и к нам впервые за много месяцев пришла полевая кухня. Ночь прошла спокойно, но утром обстрел возобновился. Наши жалкие три орудия сделали по три ответных выстрела (помню это точно) и удалились. Ну, и постреляли же по нам потом немцы! Много наших полегло.
К вечеру 15 августа немецкие части подошли вплотную к форту. Перед нашими окопами было несколько рядов колючей проволоки, немцев мы отлично видели и расстреливали наступавших «на выбор». Уже в сумерках одна шрапнель разорвалась в окопе рядом со мной. Нас с товарищем оглушило, мы оба упали. Сколько времени так пролежали, не знаю. Вышли из окопа, услышав команду «строиться». Покачиваясь – от контузии кружилась голова – встали в строй, в лазарет идти отказались. Контузия оказалась серьезнее, чем я думал. И сейчас мое контуженное ухо почти не слышит.
Наше отступление продолжалось. Под утро вышли на окраину Варшавы. Жители нас провожали молча, с грустью. Перешли через Вислу по временному деревянному мосту, который уже приготовились сжигать, и на противоположном берегу устроили привал. Пока завтракали, саперы мост сожгли – прямо на наших глазах. Раздались два мощных взрыва – это наши взрывали варшавский вокзал и красавец-мост через Вислу. А дальше – снова бои, походы, лишения, холод и голод. Двигаясь на восток, мы проходили и знаменитую Беловежскую пущу, природа которой поразила меня своей мощной красотой.
Так с боями мы вышли к станции Столбцы под Минском и только там остановились. Дальше немец уже не был допущен. Наше героическое отступление кончилось. В моей роте на тот момент оставалось всего 33 штыка. Нас отвели в полковой резерв, дали отдохнуть, пополнили, обмундировали (выдали даже валенки), стали учить. Ударили ранние морозы. Возле своих землянок мы насажали елок, и если бы было побольше дров, зажили бы совсем по-хорошему. Однажды вечером на установке проволочных заграждений нас застал дождь, и все наши валенки развалились.
Они оказались сваляны из кислой и явно недоброкачественной шерсти. Так подрядчики снабжали нашу армию!
За летне-осеннюю кампанию многие из нас были награждены, и было за что. Шутка ли сказать, весь июль, август и сентябрь мы находились почти в непрерывных боях, толком не обмундированные, полуголодные, без патронов и артиллерии. Это отступление было прямо-таки легендарным. Я получил Георгиевский крест за Сервичи и Георгиевскую медаль за то, что не оставил строй после контузии.
Много по роду службы вращаясь среди офицеров, я к ним присматривался и должен сказать, что эта среда меня разочаровала. И в этом не было предубеждения подпольщика. Везде – и в роте после ухода Савицкого (его назначили полковым адъютантом и я потерял его из виду), и в штабе батальона, и в полковом от офицеров я в основном слышал безобразно скабрезные анекдоты. Ни в ссылке, ни в тюрьме мне не приходилось встречать столь же духовно испорченных людей. Солдаты, конечно, тоже любили рассказывать разные «эдакие» истории, но у них это получалось как-то добродушно, без смакования грязи. Это свое мнение об офицерах я изменил только в гражданскую войну, когда встретил офицеров из рабочих и крестьян, когда и сам стал офицером.
Итак, нашу роту пополнили, «старикам» начали давать отпуска. В числе отпускных оказался и я. Готовясь к поездке домой, все мы что-то чинили, поправляли, в общем – приводили себя в порядок. В белорусских деревнях бань не было, и мы смастерили собственную – накрыли яму картофелехранилища, прорубили внутрь ступеньки, внутри сделали полок, рядом сложили печь, а над ней каменку. Для стока воды выкопали яму. Баня получилась хоть и тесноватая, но жаркая. Наломали березовых веток, сделали веники, попарились на славу. По дороге, в вагоне чувствую боль. Поднял гимнастерку, товарищи посмотрели и ахнули – я весь исполосован розгами. Догадались, что это баня виновата – дело было в октябре, березовые листья быстро облетели, а света в бане не было. В общем, отхлестали мы себя голыми прутьями. Потом смеялись.
Явился я в Уфу с Георгием на груди. Тогда георгиевских кавалеров было еще немного, и этот крест мне очень помогал при посещении конспиративных квартир и явок. Шпики за мной не увязывались, и я спокойно навестил Арцибушева, Короткова, Тарасовых, Шашириных. Сейчас можно услышать, что мы, подпольщики, получая кресты за храбрость, якобы защищали царский строй. Не могу с этим согласиться. Кто бы нас стал слушать на фронте, если бы мы не воевали наравне с другими солдатами? А когда ты делишь с ними все невзгоды, и отношение к тебе иное. Солдаты считают тебя своим и очень прислушиваются к тому, что ты им говоришь о войне, о царе, о помещиках. Отказываться же от креста, когда тебе его вручает командир, – глупо, да и невозможно. В 1915 году русский железнодорожный транспорт был вконец разрушен, и ездить по железной дороге было сущим мучением – в страшной давке, духоте, вони и грязи. Но люди ехали на фронт, в окопы, на смерть. И не было в глазах фронтовиков человека более презираемого, чем «летун» – дезертир или уклонист. Велико чувство долга перед родиной у нашего народа, велика его нравственная сила! Поистине, это великий народ! В общем, мы воевали за родину, за отечество, а не за царя.
Конечно, после отпусков посыпались рассказы. Одного нашего взводного (он был из тамбовских крестьян) дома женили, но поначалу как муж он оказался плох. Скорее всего, сказалось фронтовое нервное напряжение. Уж его и укладывали под куриную нашесть, и продевали через хомут, и в полночь парили в бане, – все без толку. Но прошло три дня, он выздоровел, да так, что небу стало жарко. Солдаты, слушая его рассказы, покатывались со смеху, а он отвечал им: хорошо вам смеяться, а я три дня и три ночи потерял зря. Вскоре он получил письмо, что скоро станет отцом. Как же он радовался! У него несколько дней рот не закрывался – круглые сутки улыбался.
После переформирования, в феврале 1916 года наш полк перебросили в Лифляндию, с какой целью – не знал и не знаю. Везли нас через Двинск, высадили в Юрьеве, а далее пешком почти до Ревеля (Таллинна). Расквартировали нас по эстонским фермам и деревням. Местность там болотистая, и начиная с мая нам спать не давали, буквально оглушая, лягушки. Я любил слушать этот живой голос природы. Штаб нашей роты и ее первый взвод поселились на ферме, которая принадлежала немолодой эстонской паре. У них был кустарный пивоваренный завод, скотина, десятин 25 леса. Я спал на кухне, и по утрам хозяйка часто угощала меня завтраком – жареной свининой и кофе. Старики были нами довольны, мы вели себя смирно, никого не обижали, покупали у них продукты. Молодые солдаты быстро свели знакомство с местной молодежью и пользовались успехом у девушек.
У наших хозяев была племянница, учительница по фамилии Милнакснис, что по-русски можно перевести как «черная ольха». Ее имя я забыл. Она почти каждый день бывала у тетки, мы с ней подолгу беседовали. Очень умная, начитанная и строгая была, но я ей чем-то понравился. Начала она за мной ходить как тень, а я от нее бегать. Уйдешь, бывало, в лес, а они с теткой найдут и утянут вместе гулять. Часто настойчиво просила проводить ее домой. Жила она от нас километрах в трех и нарочно засиживалась у тетки дотемна. Она была красивая шатенка с правильными чертами лица, темными большими глазами, но почти на голову выше меня. И племянница, и тетка стали поговаривать о женитьбе, и на мои попытки отговориться тем, что не сегодня-завтра меня отправят на фронт и там могут убить, отвечали, что война рано или поздно кончится, и убивают на ней не всех. Но я стоял на своем. После нашего ухода я долго переписывался с этой замечательной девушкой, была у меня и ее карточка. А потом началась гражданская война, Эстония стала «заграницей», и я переписку прекратил.
В июне 1916 года наш полк перебросили на Юго-Западный фронт, как потом выяснилось – для участия в знаменитом «брусиловском» наступлении. Провожали нас душевно, хозяйка даже всплакнула, но Милнакснис провожать не пришла. До Юрьева мы снова шли пешим порядком, а дальше – по железной дороге. Ехали через Могилев, где тогда находилась Ставка главковерха. На платформе нас встречали сам царь и наследник. Они прошли вдоль всего эшелона, Алексей заметно прихрамывал. Царь, как всегда, был невзрачен, а сколько этот палач и ничтожество причинил горя и страданий народам России! Это была моя вторая встреча с Николаем Кровавым.
Приехали мы на фронт – в местечко Крочице, и через несколько дней нас бросили в бой на реке Стоход. Речонка маленькая, но протекает посреди огромного болота. Наши части прогнали немцев за Стоход, сами жили в окопах на берегу и на позиции выходили по специально проложенным по болоту настилам и дамбам. Немцы обстреливали дамбы из пулеметов, орудий, винтовок. Когда обстрел был особенно силен, мы ложились под дамбу, а потом опять шли. Взяв у взводных командиров сведения об убыли, составляли донесение в штаб полка и, подписав его у командира роты, снова ползли в полковой штаб. Провоевали мы на Стоходе ровно неделю, и за эти семь дней от нашего корпуса почти ничего не осталось. В роте снова оказалось 30 штыков – как после отступления 1915 года. Нас опять отправили в тыл на переформирование. За неделю боев много было пережито, перевидано. Кошмарная была мясорубка! До этого я ничего подобного не видел.
Сколько раненых, сколько убитых, сколько пропало без вести! За Стоход я получил второй Георгиевский крест. В дальнейшем наш полк стоял у деревни Черницы близ местечка Подкамень Волынской губернии. Но это была уже позиционная, «окопная» война.
В январе 1917 года я снова получил отпуск, съездил в Уфу и там встретился со своими старыми товарищами-революционерами. В полк возвращался в тамбуре или даже на крыше вагона, на пронизывающем зимнем ветру. Разговоры попутчиков стали более откровенными: Распутин (только что убитый), Дума, «сплошная измена», голод в деревне и т. д. Чувствовалось, что война уже всем ненавистна. В поезде было много женщин – молодые и старые, образованные и не очень, в тогдашних невероятно тяжелых условиях они ехали за тысячи верст навестить на фронте своих мужей, братьев, сыновей, везли им «гостинцы». На нас, простых солдат, этот женский поход на фронт произвел очень сильное впечатление, и мы делали все возможное, чтобы облегчить их многотрудную долю. Приехал я в полк, переполненный дорожными воспоминаниями и сведениями о революционном движении в России. В окопах – те же разговоры о войне, голоде, разрухе. А через полторы недели грянула февральская революция.
1917 год. Февральская буржуазная революция
Одна тысяча девятьсот семнадцатый год. С чем можно сравнить этот бурливый, штормовой год? – с бурей на море, когда все гремит, свистит, стонет, когда молнии полыхают как гигантский пожар и горит все небо… Жутко становится даже сейчас, 37 лет спустя, когда вспоминаешь обстановку того времени. Среди этой бушующей стихии как маяк светился огонек правды, зажженный большевиками. Наша партия звала рабочих и беднейшее крестьянство на этот огонек, ибо в нем было спасение для всей России.
Как известно, нас, большевиков, к моменту февральской революции было только 40 тысяч человек. Скажем, на весь наш полк, как выяснилось после Октябрьского переворота, я был единственный большевик. То же – в соседнем, 198-м полку. Революционной литературы у нас тогда практически не было, газету «Правда» мы стали получать только в мае. А солдатское море бушевало, его надо было ввести в нужно русло. Тяжело было очень.
Об отречении Николая II-го нам официально объявили 4 марта. Предложили поротно провести собрания и выбрать делегатов в полковой комитет. Наш фельдфебель, полный Георгиевский кавалер, безумно храбрый в бою, выстроил роту, но растерялся и не знал, что сказать. Тогда я взял слово и впервые в жизни, к своему собственному удивлению, произнес заправскую политическую речь. Сказал я примерно следующее: в России произошла революция, свергнут кровавый царь Николай, который пролил много крови рабочих и крестьян. Тысячи лучших людей России он расстрелял и повесил, тысячи сгноил на каторге, в тюрьме, в крепости, выпорол сотни тысяч крестьян. Наконец, он вверг народ России в никому из нас ненужную войну с немцами. В доме Романовых свили гнездо предатели нашей Родины, и потому наша армия терпела поражение за поражением. Этот царь теперь свергнут, но остались еще помещики и капиталисты. Нам надо сейчас бороться за то, чтобы у власти встали рабочие и крестьяне. Крестьянам надо скорее брать землю, а рабочим – фабрики и заводы. Главное, надо немедленно прекратить войну, которая ни нашему народу, ни немецкому не нужна. Полковой комитет нашего полка должен за это бороться. Вот, мол, для чего нам нужно выбрать туда своих делегатов.
Весть о моей речи молниеносно разнеслась по полку, и меня единогласно выбрали сначала в полковой комитет, в нем – товарищем председателя, а затем членом и секретарем дивизионного комитета. За мной почему-то укрепилась репутация дельного хозяйственника, и в марте я возглавил еще и хозяйственный комитет полка. Вот тут пошло дело! В марте и апреле я не помнил, когда и где спал. Отзаседав в полковом комитете, бежишь на заседание дивизионного, с дивизионного – в корпусной и т. д. Везде бурно обсуждаются самые жгучие вопросы – о войне, о власти, о снабжении армии. Созывались и митинги. А тут еще в апреле начались братания с немцами – мы за ними следили, чтобы не быть обманутыми.
В апреле четверых членов дивизионного комитета, включая меня, выбрали делегатами на петроградский съезд фронтовиков. По пути заехали в Киев, осмотрели Лавру и ее катакомбы. Вместо святых там лежали какие-то чурбачки, а сколько сотен тысяч темных людей были одурачены этими деревяшками, сколько денег собрали тут тунеядцы-попы и монахи! Позже в газетах писали, что в соборе под ризой «богородицы» обнаружили порнографическую картинку. Вообще известно было, что монастыри, по сути, являлись скрытыми домами терпимости.
В Петрограде я остановился у одного из наших делегатов, унтер-офицера Савельева, у которого, как оказалось, здесь жила семья. Сам город был похож на растревоженный улей. Кругом все шумело, кричало, протестовало, убеждало, угрожало, спорило. Отправился на Путиловский завод, на котором работала Люба Тарасова, наша уфимская боевичка. Вместе пошли на заводской митинг, на котором выступали рабочие-большевики, меньшевики и эсеры, причем было трудно понять, кого из них на заводе больше. Меня это удивило – я полагал, что на Путиловском заводе преобладают большевики. Люба меня разочаровала, заявив, что, к сожалению, всякой сволочи и здесь много.
Потом мы с ней отправились во дворец Кшесинской, в котором заседала конференция нашей партии – хотелось увидеть Ленина, поговорить с ним о братании с немцами. Дело в том, что однажды, покуда мы братались, на соседний полк немцы начали наступать, и получилось, что таким образом мы предали соседей. Повстречав на конференции Брюханова (делегата-уфимца), я поделился с ним своими сомнениями и просил поговорить с Лениным. Брюханов предложил мне сделать это самому, сообщив, что в братании сам ничего не смыслит. Мы с Любой стали ждать Ленина. В перерыв они вместе со Сталиным быстро прошли через вестибюль, о чем-то оживленно разговаривая. Я постеснялся остановить их, а потом мы вернулись на завод.
На следующий день пошел в Таврический дворец на съезд фронтовиков. Заседал он дней десять. Говорили и говорили – Керенский, Соколов – автор приказа № 1, которым в армии отменялось чинопочитание и «ваше благородие», дважды – Плеханов. Интересно, когда он поднимался на трибуну и сходил с нее, ему хлопали, а когда сказал речь – нет. От большевиков выступал Крыленко[78], его речь пользовалась успехом. Но мне эта болтовня скоро надоела, и я перестал туда ходить. Говорили мне потом, что съезд фронтовиков принял оппортунистические решения, но какие именно – не знаю.
Был раз на заседании Государственной думы, видел там и Пуришкевича[79], и Маркова Второго[80], и Родзянко[81], и Родичева[82]. Говорили они разную ерунду, мы с галерки им свистели – конечно, это было глупо, но мы не сдержались. Каждый вечер ходил на заседания Совета рабочих и солдатских депутатов, которые проходили в зале Адмиралтейства. Однажды даже пытался выступить – по вопросу об отправке войск на фронт, но Чхеидзе[83], узнав, что я большевик, слова мне не дал, как не депутату Совета. В президиуме мы стояли с Сурицем[84], который был одновременно со мной в ссыпке в Березове. Потом он был долго послом в Турции. В Совете чаще других выступали от меньшевиков Чхеидзе и Церетели[85], от большевиков – Коллонтай[86], от эсеров – Дан[87] и Чернов[88]. Ленина и Сталина на этих заседаниях я ни разу не видел. Да там им и делать было нечего – одна говорильня. Настоящее настроение масс ковалось на заводах. Там большевики и работали.
Первое мая я провел на митингах на Марсовом поле. Перед рабочими и работницами там выступали ораторы разных политических партий. Я, как фронтовик, тоже произнес речь работницам какой-то фабрики, потом слушал Коллонтай. Она хороший, горячий была оратор, ее слушатели (и особенно слушательницы) часто плакали. Потом отправился слушать Ленина, когда увидел его на возвышении, встал с ним рядом и наблюдал его во все время его речи. Я опять постеснялся поговорить с ним по интересующему меня вопросу – может быть, еще и потому, что я как-то сам понял необходимость братания и, возвратившись на фронт, энергично его проводил.
Участвовал я и в демонстрации против Милюкова «Дарданелльского»[89]. Демонстрация двигалась к Адмиралтейству, где заседал Совет, но на Невском, на углу библиотеки, нас обстреляли. Демонстрация рассыпалась, но значительная часть демонстрантов все же прорвалась к Адмиралтейству, ворвалась на заседание Совета и учинила там бунт против Милюкова, которого в тот же день сместили с поста министра иностранных дел.
В конце мая 1917 года я вернулся в свой полк. Набрал в Петрограде книг, брошюр, газет и еле доехал с этим имуществом. По дороге приходилось и голодать, и не спать. На дивизионном собрании отчитался о поездке. Тут же встретил поручика Волостного, с которым мы когда-то вместе были в Березове. Оказывается, он сдал экстерном на аттестат зрелости, а у меня до этого руки так и не дошли. На месте снова с головой погрузился в партийные и хозяйственные дела. Армия к тому времени снабжаться фактически перестала, ни продуктов, ни фуража в полку не было, и мы стали ездить по деревням на заготовки того и другого. В результате из солдатского котла исчезли опостылившие вобла и чечевица, зато ежедневно появилось мясо – по фунту на брата. Создали мы и свое собственное колбасное производство, колбасу продавали дешево в полковой лавке, и шла она нарасхват. Стали снабжать солдат даже красным вином, которое выхлопотали у корпусного интенданта. Организовали в каждой роте мастерские по ремонту обуви и обмундирования, кое-что из одежды мне удавалось добывать в том же интендантстве. В общем, снабжаться наш полк стал лучше всех во всей дивизии. Работали все члены полкового хозяйственного комитета очень энергично, у нас были распределены обязанности, и каждый добросовестно их исполнял. Мне часто приходилось ездить на заседания в дивизию и в корпус. Возвращался оттуда обычно ночью, часто мокрый, грязный (ездил верхом) и всегда смертельно усталый. А утром опять в полк на работу.
Как я уже говорил, я был единственным большевиком в полку, и сколотить полноценную организацию мне долго не удавалось. Гонения на большевиков после июльского восстания[90] аукнулись и у нас. Как-то к нам в полк приехал седой рабочий-путиловец, бывший каторжанин, но, как выяснилось, – меньшевик. На собрании он стал критиковать большевиков и допытываться, что мы в полку по партийной линии делаем. Я от греха отправился на заготовки по деревням и вернулся, когда он уехал. В общем, дальнейшую партийную работу мне пришлось вести уже полуподпольно.
Большие хлопоты и волнения нам доставляли братания с немцами. Пока наши и немецкие солдаты братались в окопах, мы в полковом комитете вели разговоры с их представителями о ненужности этой войны для обеих сторон. Беседовали всегда дружески и расставались довольные друг другом. Наши солдаты давали немцам мыло, хлеб, сахар, а те взамен – перочинные ножи, бритвы. Нередко они вместе напивались австрийским ромом. Ни наши, ни немецкие офицеры в братаниях участия не принимали. Явились к нам однажды в полк два бывших депутата-думца (не помню их фамилий), начали уговаривать солдат прекратить братания и даже пытались спровоцировать артиллеристов к стрельбе по немецким позициям. Но мы эту попытку пресекли, и успеха они не имели. Характерно, что когда Керенский объявил о записи добровольцев для намеченного наступления, у нас в полку записалось всего несколько десятков человек из кулаков, чиновников, и торговцев, и ни одной полноценной роты добровольцев из 16-ти рот сформировать так и не удалось.
Все лето прошло в спорах, собраниях и митингах. Одни наши солдаты были настроены воткнуть штык в землю и немедленно разойтись по домам, другие, напротив, стояли за войну до победы. Первым мы разъясняли, что их уход с фронта станет изменой родине, и, освободив Россию от русского царя, мы ее отдадим немецкому. Вторым – что эта война не наша и вести ее до победного конца значит лить воду на мельницу капиталистов. Но характерно, что дезертирства у нас было очень мало. Чаще дезертировали офицеры, чем солдаты.
С мая через корпусной комитет мы стали регулярно получать газету «Правда», я продолжал поддерживать связь и со своими уфимскими товарищами. Постоянно выступал на заседаниях корпусного комитета. Много там говорили и офицеры из эсеров и меньшевиков. Бывало, по пустякам часами как соловьи разливались.
Однажды после заседания мы все отправились на экскурсию в Ионитский монастырь. Ввиду близости фронта монастырь был закрыт, а его монахи увезены в Почаевскую лавру. В здании оставался один монах, сторожи уборщица. Монах нас охотно впустил и все показал, потом пригласил в подвал, люк в который был прямо в центре храма. Мы спустились по небольшой железной лестнице и увидели массу окаменевших человеческих тел. Нас особенно поразила одна девушка замечательной красоты, лежавшая как живая, с погребальным венком на голове. Оказалось, что все эти тела были извлечены во время строительства из старого кладбища, которое стояло на известковом холме. Место было сухое, и трупы, не успевая разложиться, пропитывались известью и превращались в камень. Интересно, сохранились ли эти окаменелые люди и особенно та девушка?
Единственным нашим развлечением в то время была охота. В большом помещичьем лесу по соседству во время войны никто не охотился, и всякого зверья там развелась тьма. Были там и кабаны, и волки, и даже медведи. Звери серьезные, и потому на охоту мы ходили с трехлинейками. Кабаны мне попадались, но всякий раз уходили подранками. Однажды встретилась козочка, но она так мне понравилась, что стрелять я не стал. До сих пор не могу забыть этой красавицы-козочки! Один наш саперный офицер добыл огромного черного кабана, и когда зверя поставили стоймя, он оказался на две головы выше самого офицера. Некоторое время спустя в лесу шальной пулей убило солдата, и охоту командование запретило. Действительно, бывало, идешь по лесу и слышишь выстрелы и свист пуль. Тем моя кабанья охота и кончилась.
После Октябрьского переворота. В Красной гвардии
Наступил октябрь. Сразу после переворота мы переизбрали командиров рот, батальонов и самого полка. Меня снова выбрали товарищем председателя полкового комитета, председателем хозяйственного комитета, да еще и полковым комиссаром. Правда, в этом последнем качестве я проработал всего несколько недель – свалился от переутомления и простуды. Вероятно, авторитетом в полку я пользовался, и солдаты боялись отпустить меня с полкового хозяйства. Смеясь, говорили: «Больно вкусно кормишь – мясом, колбасой, вином поишь – как тебя отпустишь!».
Надо сказать, что в деревнях Волынщины, по которым мы ездили, нас принимали очень хорошо. Когда узнавали, что я председатель хозяйственного комитета и большевик, в хату набивались старые и молодые крестьяне. Каких только вопросов мне не задавали! И о царе, и об Учредительном собрании, и о земле и помещиках, о фабриках. Молодежь особенно интересовалась моей подпольной работой– расспрашивала о тюрьме, каторге, ссылке. Как-то, когда я осматривал во дворе приведенный на продажу скот, мой заместитель сообщил хозяевам, что я бывший подпольщик и сидел в тюрьме. Когда я вернулся в хату, все, не мигая, уставились на меня. Оказывается, они думали, что я офицер. Помню, одна старушка, глядя на меня, вздохнула и сказала: «Дывысь, який вин молодый, та красывый, а скильки мытарств приизошов». Когда я вкратце рассказал о ссылке и тюрьме, молодежь стала за мной ходить хвостом, на меня начали показывать пальцем, как на диковинку. Было неловко, но желания беседовать с крестьянами это у меня не отбило. Мы потом часто ездили в эту деревню, и нам крестьяне все охотно продавали. Платили мы наличными по «базарным» ценам. Любил беседовать и впоследствии с крестьянами во время коллективизации. Эти беседы мне всегда нравились своей конкретностью, практичностью.
Как известно, вскоре после Октябрьского переворота были отменены погоны. Но офицеры не хотели их снимать, и с некоторых приходилось их срывать силой. Бывший мой командир роты Савицкий как-то мне сказал: «Пропала Россия, Павлов». Я ответил ему: «Вот когда, наконец, начала жить Россия, гражданин Савицкий». Мы, комитетчики, потребовали от солдат прекратить споры о том, за кем идти и кто прав – большевики или меньшевики и эсеры. «Поговорили, поспорили и хватит, – говорил я на митинге. – Извольте подчиняться новой, советской власти. За сопротивление ей или невыполнение ее указаний и директив придется отвечать». И меня поняли – солдаты политически выросли, ситуация стала яснее. Не помню результатов выборов в Учредительное собрание в нашем полку, но уверен, что большинство проголосовало за большевиков. После этих выборов я свалился и вскоре уехал в отпуск в Уфу. Помню, как незадолго до отъезда моя квартирная хозяйка говорила: «Пан председатель, гляньте, який Вы сухий! Ешьте больше, слаще! К Вам ходють разние охвицера, Вы старше над ними, а едите плохо и посохли зовсим».
Теперь удивляюсь, как я доехал до Уфы в те бурные времена. В вагоне, битком набитом солдатами, женщинами, крестьянами, рабочими, велись самые разнообразные споры, никто толком не знал, кто такие большевики. Распространяли о них нелепые слухи, которые не хочется и повторять. Я чувствовал себя плохо и большей частью лежал в углу теплушки или на топчане. Но нередко вмешивался в разговор, когда какой-нибудь «бывший» принимался особенно пачкать наши идеи. В общем, ехал я что-то около месяца. Часто поезд останавливался, иногда шел кружным путем – так, например, мы объезжали гайдамаков[91] под Киевом. Дорога была страшно тяжела, но домой я явился все же бодрее, чем уезжал из полка. За полк я не беспокоился, потому что своим заместителем оставил там толкового питерского рабочего по фамилии Ковалев. И в нем не ошибся. Когда позже наш полк начал отходить, он сумел все ценное имущество увезти, а лишних лошадей роздал крестьянам. Немцам ничего не оставил. Позднее мне рассказывали, что когда полк отступал, офицеры вслух жалели, что меня нет, говоря, что Павлову бы первому пустили пулю в лоб. А комитетчики им отвечали, что за голову Павлова готовы снести сто офицерских. Вот как, оказывается, меня расценивали друзья и враги. А я об этом и не подозревал.
Приехал в Уфу я страшно грязный и первым делом отправился в баню. В тот же день, не утерпев, сходил к Петру Зенцову у которого застал Кривова. Посидели, поговорили. Я сказал, что приехал в отпуск – отдохну, подлечусь и обратно в полк. Слушали они меня, слушали, Петр вышел в другую комнату и возвращается с наганом в руке. Для начала, говорит, возьми это, а зачем – узнаешь, когда пойдешь домой. «А насчет твоего возвращения на фронт, вряд ли что выйдет, потому как путь на Юго-Западный фронт перерезали гайдамаки. Да, кроме того, ты и здесь нужен, Эразм Кадомцев с тобой будет говорить. Приходи на партсобрание завтра вечером в клуб железнодорожников. Там и поговорим обо всем, а теперь иди домой, у тебя очень усталый вид. А наган держи наготове – в Уфе ночью небезопасно». И точно. Только я от Зенцова вышел, как услышал выстрелы, где-то кричали. Вот, думаю, попал на отдых в «тихий уголок». Даже на фронте у нас по ночам не грабили и не убивали. Так, держа в кармане руку с наганом, и дошел до дому.
На другой день вечером пошли мы с братом Павлом в клуб железнодорожников на партсобрание. Там повидал всех своих старых друзей-боевиков, прибывших кто с каторги, кто из-за границы, кто из ссылки. Вот была встреча! Никогда ее не забыть. Хотелось и плакать, и смеяться. Мы целовались, хлопали друг друга по спинам, приговаривая: «Эх, Ванька, дьявол! Эх, Игнашка, черт!» и т. д. Многих я уже не надеялся увидеть. На собрании меня выбрали в Уфимский городской штаб боевой организации и в городской Исполнительный комитет. Кадомцев мне сказал: «На фронт обратно не пустим. Если тебе нужен полк, дадим его тебе здесь». И дали. Вскоре губком ввел меня в состав губернской Чека, где я стал начальником красногвардейской дружины, выбрали в губернский штаб боевых организаций, и началась у меня новая жизнь, день и ночь полная забот и тревог. Вот тебе и отдохнул!
Зимой 1917–1918 года в Уфе, как и во многих других городах, творилось нечто ужасное. Еще в октябре 1917 года местные черносотенцы по примеру 1905 года учинили погром, во время которого выпустили из тюрьмы уголовников и вместе с ними громили евреев, избивали большевиков; сожгли Окружной суд, в архиве которого хранились дела уголовных, убили начальника районной милиции Токарева[92], бывшего нашего боевика, разбили множество лавок и магазинов. Последствия похожего погрома я потом видел и в Сарапуле.
Когда я приехал в Уфу в городе грабили даже днем, не брезгуя и старьем. Возле моего дома, например, с женщины, пошедшей утром за водой, сняли старый плюшевый жакет. Вот идет пара молодых людей, у девушки в руках муфта. Встречается им другая пара, у которой муфты нет. Парень подходит к девушке с муфтой, достает нож и говорит: «Хватит, поносили муфты, пора носить и нам, отдавай ее моей барышне». Раздевали прохожих среди бела дня у дверей собственных домов.
В общем, в городе требовалось срочно навести порядок. Этот вопрос имел и политическое значение, потому что в грабежах было замечено много людей в матросской и солдатской форме. Вот губком и поручил мне это дело вместе с милицией и Чека, председателем которой стал наш боевик Андрей Ермолаев. Меня назначили начальником дружины Красной гвардии по охране народного достояния. Еще до этого я начал формировать отряды красногвардейцев как для уфимского губернского продовольственного комитета, так и для охраны городских учреждений. Одним из них, пехотным, командовал бывший подпольщик Михаил Дьяконов, другим, кавалерийским, – Хмелевский, оба в недавнем прошлом офицеры. Бывший штабс-капитан Шеломенцев стал у меня техруком. Бухгалтером я взял Костю Савченко, у которого живал во времена подполья, а машинисткой – свою племянницу Паню.
Отряды мы формировали исключительно на добровольной основе – из солдат, вернувшихся с фронта. И надо сказать, народ шел к нам охотно. При приеме я проверял документы, интересовался социальным происхождением добровольца и его отношением к советской власти. Потом бойцу выдавалась винтовка с патронами, и его отправляли к Дьяконову либо к Хмелевскому К концу января 1918 года в моих дружинах в общей сложности числилось уже около двух тысяч штыков и сабель. Бывших дворян, купцов, промышленников, помещиков мы не брали, и может быть поэтому ни один наш отряд на сторону белых не перешел. Все потом влились в Красную армию.
В январе 1918 года мы приступили к наведению порядка в Уфе. Каждый вечер патрулировать улицы города я отправлял группы кавалеристов и пехотинцев с приказом вылавливать бандитов, разоружать их и арестовывать; сопротивляющихся расстреливать на месте. Попутно красногвардейцам следовало обыскивать всех поздних прохожих, особенно мужчин, найденное оружие конфисковывать, подозрительных задерживать. Операцию контролировала губЧека, где к утру набиралась куча разнообразного оружия, в том числе огнестрельного. Некоторых из арестованных утром отпускали, других отправляли в тюрьму. Кроме патрулирования города отряд Дьяконова нес охрану железнодорожного моста черев реку Белую. Боевики, которые состояли в непосредственном подчинении губЧека, в том числе мой младший брат Павел, охраняли железнодорожное полотно от Уфа до Чишмы на запад и до Златоуста – на восток.
Иногда под горячую руку попадало и «своим». Как-то вечером брат Павел отправился на службу в ЧК, но вскоре прибежал домой бледный и сказал, что только что убил своего школьного друга, Петьку Андреева. Оказалось, что по пути Павел столкнулся с компанией из пяти ребят, в которой был и его приятель. Увидев его, те закричали: «А, это – Пашка-большевик, чекист! Бей его, Андреев!». Петька бросился на Паньку с кинжалом, и тому ничего не оставалось, как стрелять. Я отправился на место происшествия. Убедился, что компания Андреева разбежалась, а его самого его старший брат (и давнишний мой знакомый) унес домой. Наутро я повел брата в милицию и заявил, что он, защищаясь, убил бандита. Позвонили начальнику милиции Петру Зенцову, тот велел Павла не задерживать. Как мне потом передавали, брат убитого, Василий, слесарь железнодорожных мастерских, долго грозился отомстить – и Павлу, и мне.
В январе 1918 года мы, уфимские боевики, понесли тяжелую утрату – умер Иван Кадомцев, в 1905–1907 годах наш первый начальник. В пургу по пути из затона на окраине Уфы он простудился и умер от воспаления легких.
Порядок в Уфе мы навели быстро – уже в феврале даже по ночам в городе стало тихо и безопасно. Дисциплина среди чекистов была железная, мародерство пресекалось на корню. ГубЧека как-то проводила обыск в номерах Бровкина на Большой Успенской – искали адъютанта генерала Дутова, который, по слухам, нелегально прибыл в Уфу. Адъютанта не нашли – его вскоре арестовали в другом месте – но после обыска в ЧК явилась особа, которая представилась женой купца, с требованием вернуть изъятые у нее драгоценности – серьги, кольцо и часы. Председатель Чека Ермолаев устроил очную ставку, и купчиха сразу опознала своего обидчика. Тот – я этого Голикова знал с детства – отпираться не стал, но заявил, что просто не успел сдать реквизированное. Ермолаев распорядился драгоценности купчихе немедленно вернуть, а Голикова за мародерство в тот же день приговорили к расстрелу. Казнить его поручили мне. Ваську Голикова, друга своего детства, скромного и тихого парня, я должен был расстрелять! Он так не походил на мародера!
Вечером посадил я его в пролетку и повез на железнодорожный мост. Дорогой он просил меня утром зайти к матери, отдать ей узел с бельем – пусть, мол, обо мне не беспокоится: «я не враг советской власти». Мне очень было его жаль, но что я мог поделать? Его надо было расстрелять, чтобы неповадно было другим. Приехали на мост. Когда Михаил Дьяконов и случайно оказавшийся там же мой брат выразили желание его казнить, я возражать не стал. Повели мы Ваську по мосту, он впереди, мы втроем – сзади. Михаил и Павел выстрелили ему в спину. Он упал и захрипел, я подбежал и сбросил его в Белую. Вот какие бывали у нас дела!
Сегодня страшно об этом вспоминать и еще тяжелее писать. Но из песни слов не выкинешь. Так было надо. Петр Гузаков, уполномоченный ВЧК по Сибири, расстрелял Салова[93], с которым был дружен с детства, в 1906–1907 годах они вместе сидели в тюрьме. Этот Садов, будучи комендантом омской губЧека, сошелся с одной красивой заключенной, заклятым врагом советской власти. Виктор Дьяконов, сотрудник той же губЧека, рассказывал мне, что Петька Гузаков плакал, когда Салова вели на расстрел. Одного его слова достаточно было, чтобы отменить приговор. Но он выдержал и этого слова не сказал.
Вскоре на том же железнодорожном мосту был расстрелян и адъютант Дутова. Его взяли в номерах Боброва вскоре после казни Голикова. Расстреливал брат Павел в присутствии того же Михаила Дьяконова. По их рассказам, как и на допросе в ЧК, тот держал себя надменно, презрительно поджимал губы. Только перед смертью дрогнул – закрыл глаза. Его труп тоже сбросили в Белую. После него застрелили одного бывшего провокатора по фамилии, кажется, Королев. Больше расстрелов у нас в Уфе с января по июнь 1918 года не было, если не считать перестрелок с бандитами.
В начале 1918 года мы разоружили башкирский полк, в котором верховодили эсеры и, играя на национальных чувствах башкир, настраивали их против советской власти. По распоряжению губкома, план операции разработал Эразм Кадомцев. Сначала в полк направили башкир-большевиков, они там почву подготовили, и когда мы с пулеметами окружили здание, в котором тот размещался, башкиры без сопротивления сложили оружие и разошлись по домам. Был ли при этом кто-либо арестован – не помню. Возможно, что и нет, – тогда в Советы еще входили левые эсеры, и мы были вынуждены их терпеть во всех советских органах.
Через Уфу проходили эшелоны, шедшие с фронта. Демобилизованные солдаты везли много оружия, включая даже пушки. Наши информаторы на станции Чишмы заблаговременно сообщали нам об этих эшелонах, и, не доезжая до Уфы, мы их останавливали и под дулами пулеметов требовали разоружиться. Привыкнув к «вольнице», солдаты нередко пытались сопротивляться, но в конце концов с криками и руганью сдавались. Офицеры после этого обычно разбегались. Разоружение башкирского полка и проходящих эшелонов дали возможность хорошо вооружить наши уфимские красногвардейские отряды, а затем и части Красной армии. Весной 1918 года один из таких отрядов под командой вернувшегося с каторги Михайла Кадомцева участвовал в разгроме атамана Дутова. В мае мы встречали его красногвардейцев в Уфе, как героев.
Весной 1918 года из деревни стал поступать хлеб, который мы отправляли в Москву и в Петроград. Но вскоре восстали чехословаки, и нам пришлось срочно формировать части Красной армии. И вот тут-то мы поняли, насколько прав был Ленин, когда еще в 1905 году призывал создавать боевые дружины рабочих, которые потом, в момент восстания, превратятся в красных офицеров. И наша уфимская боевая организация, в свое время самая мощная в России (недаром именно ее устав в 1905 году был утвержден на Таммерфорсской партийной конференции), в 1918 году действительно дала отличный кадр красных командиров. Всеми красногвардейскими отрядами в Уфимской губернии руководил Эразм Кадомцев, ранее – создатель южноуральских боевых дружин. Его брат Михаил, глава миньярского боевого отряда, в 1918 году командовал Самарским фронтом против чехословаков. Бывшие боевики Андрей Ермолаев возглавил уфимскую губЧека, Василий Алексакин – тюрьму, Петр Зенцов – городскую милицию, один из братьев Мыльниковых – районную, Виктор Дьяконов стал начальником штаба уфимской боевой организации, я – начальником уфимской дружины Красной гвардии. Словом, во главе военных частей и учреждений Южного Урала встали бывшие подпольщики-боевики. Они, как настоящие солдаты партии, не только делали, но и защищали революцию с оружием в руках.
Работы у нас, конечно, было невпроворот. Надо было успевать и командовать, и заседать. В своих «кабинетах» мы прямо-таки жили. Зенцов – в бывшем губернаторском доме, в котором разместились губком, губисполком и штаб боевой организации; мы с Дьяконовым – в канцелярии штаба нашего пехотного полка. И никто не жаловался на тяжелую жизнь – даже те, кто только что отбыл многолетнюю каторгу. Да, собственно, разве мы отдыхали и после гражданской войны?
Иной раз ездили по деревням. В январе 1918 года попал я в свое родное Языково, где возник конфликт между одним из моих отрядов и волостным Совнаркомом – были тогда и такие! Оказалось, что при дележе имущества графа Толстого красногвардейцы хотели реквизировать помещичий хлеб, но сельский «Совнарком» этому воспротивился, и дело дошло до драки. Созвали общее собрание. Председательствовал мой давний знакомый, учитель Иван Игнатьевич, докладывал Вася Ананьин, выступил и я. Решили: половину зерна сдать государству, а половину раздать крестьянам на еду и семена. Потом ездил в деревню Тукмак[94] в 80 верстах от Уфы расследовать обстоятельства смерти нашего бывшего помещика Владимира Языкова – в Тукмак он переехал, женившись на тамошней помещице. Было очевидно, что его убил кто-то из местных крестьян, когда он попытался сопротивляться реквизиции своего имущества. Мы опросили полдеревни, но все крестьяне, как один, заявили, что момента убийства не видели, потому-де, что «уходили домой обедать». Так ничего и не добившись, мы приказали Языкова похоронить, что мужики с готовностью и сделали. Потом многие настойчиво предлагали «отобедать» и нам, но мы уехали. Лошадей нам дали отличных, помещичьих, и мы лихо домчали до ближайшей железнодорожной станции. Характерно, что потом это дело пытались расследовать и белые, но за убийство Языкова так никого и не привлекли.
В первой половине 1918 года уфимская крупная буржуазия была обложена контрибуцией. Кто денег не вносил, попадал на баржу как заложник либо в тюрьму. В Уфу тогда понаехало много белых офицеров, буржуазии, бывших князей, графов. Мы их вылавливали и тоже сажали в тюрьму или на баржу. Арестовывали и меньшевиков, которые готовили заговор против советской власти. Как-то меня послали арестовать присяжного поверенного Полидорова, который раньше почти одновременно со мной отбывал ссылку в Березове – я какое-то время даже жил в выстроенном им там доме (он был женат на богатой купчихе). Самого Полидорова я почти не знал, как и он меня. Приходим в его уфимский дом, он вместе с женой сидит в столовой, завтракает. Мы осмотрели его библиотеку (надо признать, отличную), переписку, но ничего предосудительного не нашли. Ее письма я читать не стал. Но когда в корзине для бумаг обнаружил черновик какого-то списка (как потом мне сказали чекисты, очень важного), хозяин побледнел. В общем, Полидорова я арестовал и под конвоем отправил в тюрьму. Сам он со мной ни о чем не говорил, но на вопрос жены, кто я такой, ответил: «Какой-то Павлов. Я что-то его не знаю, хотя лицо немного знакомо. Вероятно, один из фанатиков-большевиков».
В качестве заложника был взят и купец Алексеев, отец нашего бывшего боевика Владимира. Тот в 1917 году от большевиков отошел, но пытался заступиться за отца. Когда его хлопоты ни к чему не привели, он не нашел ничего лучшего, как отправиться в камеру вместо отца. По злой иронии судьбы, сидел он в том же одиночном корпусе, что и в 1907–1908 годах. Его давний друг Алексакин, как инспектор тюрьмы, часто там его навещал. Так Алексеев и досидел до прихода в Уфу чехословаков.
Судьба заложников на барже закончилась трагически. Незадолго до нашего отступления из Уфы баржу отправили по Белой и Каме до деревни Николо-Березовки. Конвоировал ее один из моих отрядов, которым командовал бывший офицер, принятый по рекомендации Петра Зенцова. Не знаю, что у него там вышло с заложниками, но когда мы приплыли в эту Николо-Березовку все они по его приказу были уже расстреляны. Надо сказать, что заложников (а в основном это были либералы и меньшевики, вроде Полидорова) мы планировали обменять на своих товарищей, захваченных колчаковцами или чехами. В общем, своим самоуправством этот офицер сорвал важную операцию. В итоге его судили и тоже расстреляли.
Помню, как в 1918 году в Уфе праздновали 1 мая. Как и во время октябрьской стачки 1905 года, рабочие начали шествие у железнодорожных мастерских, а затем прошли по центральной улице до Ушаковского парка, где состоялся митинг. Поскольку, как было сказано выше, в Уфе тогда все еще было много всяких черносотенцев, конному отряду под моей командой было поручено демонстрацию охранять. Полдня я просидел в седле и потом с трудом выправил ноги. Но праздник прошел без происшествий. Вечером мы собрались у Виктора Дьяконова, выпили немного вина и даже шампанского – выпросили у Мыльникова из реквизированного. Многие из нас шампанское попробовали тогда впервые в жизни. Хотя редко, собирались и в будние дни – в основном, чтобы вспомнить о своем житье-бытье после выхода из тюрьмы. А порассказать было что. Каждый из нас жил жизнью необыкновенной, полной приключений – порой забавных, порой трагических. Пели революционные песни, иногда выпивали. Как-то в конце мая вместе с братом, Костей Савченко и Фиониным отправились в ночь на рыбалку на Дёму и здорово наловили. Под утро к нам присоединились Мыльников, Андреев, Зенцов и Дьяконов, последние двое – с молодыми женами. Наварили вкуснейшей ухи, изрядно выпили (я взял с собой отрядного спирта) и так как всю ночь рыбачили, завалились спать. Фионин повеселил нас тем, что, не разобравшись, улегся на муравейник, и это его быстро протрезвило.
Иногда ходили в клуб рабочих-железнодорожников, с которыми, как и прежде, поддерживали тесные связи, на вечера самодеятельности, спектакли, концерты, танцы. Вот и все наши тогдашние развлечения. Да особенно развлекаться и некогда было. В Самаре и Челябинске восстали чехословаки, к ним присоединились белогвардейцы, кулаки, городская буржуазия и все двинулись на Уфу. Из уфимских событий вспоминается съезд башкир, который работал в июне в здании цирка. Съезд прошел впустую и земельного вопроса не решил – на него собрались одни антисоветски настроенные баи. От большевиков на нем много выступал Эразм Кадомцев, бывал на его заседаниях и я.
Сформированные нами части Красной армии храбро дрались с чехами. Однако силы были не равны, сказывались и измены бывших офицеров. В общем, в июне 1918 года Уфу мы оказались вынуждены сдать. Готовясь оставить город, на пароходе «Норд» (интересно, что его капитаном был левый эсер) мы вывезли из уфимского отделения госбанка золото и драгоценности. В спешке, и, как потом поняли, напрасно, сожгли архив жандармского управления – я своими руками бросил в огонь свои сделанные жандармами фотокарточки. Боевиков и красноармейцев на пароходах увезли вниз по Белой, отдельно и с вооруженной охраной плыл наш штаб. Охрана пригодилась – недалеко от Топорнина нас сильно обстреляли. Вероятно, это был кулацкий отряд. Мы высадили на берег десятка два боевиков, и после перестрелки нападавшие отступили.
В самой Уфе мы оставили явки, деньги и паспорта для своих нелегалов. Хозяевами конспиративных квартир назначали людей, для обывателей малозаметных. Я, например, оставил Костю Савченко. Но его выдал наш техрук, бывший офицер, который перешел на сторону белых. Был, сволочь, сыном рабочего, «своим в доску», а оказалось– редиска: снаружи красный, а поскоблили– белым-бело.
Уезжали из Уфы мы под утро. Светало, в городе тишина. Но мы, сидя в пролетках, держали револьверы наготове – знали, что из-за ставней и занавесок за нами следят враги. В то же время все мы были уверены, что скоро вернемся. В Уфе я оставил мать и сноху с дочкой Клавдией. Старшая ее дочь, а моя племянница Паня стала женой Григория Зенцова и выехала вместе с нами. Когда город заняли белые, наш дом обыскали, причем особо усердствовал неизвестно откуда вынырнувший Мишка Овчинников – провокатор, которого мы с Тимофеем Шашириным разоблачили еще в 1910 году. Он перебирал мои вещи, злобно приговаривал: «Это Ванькин пиджак», «это его ботинки», «попадись он мне, я бы из него котлету сделал» и т. п. Все искал оружие, но ничего не нашел. Но ни мать, ни сноху с дочкой почему-то не тронули.
В Николо-Березовку нас приехало много – два батальона красноармейцев-добровольцев, дружина боевиков и конный отряд Зенцова. Хмелевский к тому времени получил назначение на чехословацкий фронт, где потом и погиб вместе с Михаилом Кадомцевым. Обстоятельства их гибели, со слов очевидцев, таковы. К ним явился представитель Ставки Подвойский[95]. Он считался крупным военным специалистом, но по всем признакам было видно, что он скорее штабист, чем боевой командир. По приказу Подвойского, фронт Кадомцева занял крайне невыгодную позицию – за его спиной протекала р. Самара. Когда чехословаки пошли в наступление, Михаилу ничего другого не оставалось, как броситься на прорыв их цепей. Он попал под кинжальный пулеметный огонь и погиб. В том же бою пуля настигла и Хмелевского.
В Николо-Березовке я был назначен к Андрею Ермолаеву заместителем начальника Особого отдела. Из разобранных тогда нами дел запомнилось разбирательство бывшего жандармского письмоводителя, которого арестовали и привели к нам мензелинские товарищи. Допросив, мы с Ермолаевым убедились, что это человек простой и вполне безобидный; мензелинцы никаких конкретных обвинений ему не предъявляли. Поначалу мы ему объявили, что он будет расстрелян, и даже место для казни выбрали, но потом решили освободить. Я спустился к нему – он сидел в трюме того же парохода, на котором жили мы. Он испугался, думал, я пришел брать его на расстрел, но когда я объявил, что он свободен, он поначалу не поверил, а потом упал на колени и давай целовать мне руки и ноги. Насилу его успокоил. Вывел его на берег и сказал: иди и работой, искупай трудом свое жандармское прошлое. Он недоверчиво озирался, а потом убежал, словно заяц. В 1919 году я его случайно встретил в Казани. Фамилию этого человека я забыл. Да не так это и важно.
В Николо-Березовке был произведен сбор всех наших уфимских отрядов, часть которых держала фронт на южном направлении. В середине июля мы были перебазированы в Сарапул, где влились во 2-ю армию РККА.
К вопросу о перевозке и расстреле бывшего царя и его семьи
В последние два-три года[96] в печати появились разноречивые сведения о перевозке из Тобольска в Екатеринбург семьи бывшего царя Романова и его расстреле. Давно установлено, что брошюра Быкова[97] по этому вопросу, написанная с чужих слов, освещает вопрос неверно. То же можно сказать и о воспоминаниях Петра Захаровича Ермакова[98] – коменданта дома Ипатьева в бытность в нем царской семьи. Продолжают циркулировать слухи, будто была расстреляна только часть царской семьи, и что старшая дочь, Ольга, осталась жива и по сей день проживает в Курганской области. В 1949 году в газете «Уральский рабочий» появилась статья, в которой говорилось, будто царя сопровождал отряд во главе с заместителем председателя Екатеринбургской губЧека Хохряковым[99].
В целях установления истины я решил написать о событиях, свидетелем которых либо был сам, либо узнал от их непосредственных участников.
В феврале 1918 года из Москвы к нам в Уфу в штаб боевой организации, явился ее бывший начальник Константин Мячин, который заявил, что является уполномоченным ВЦИК по перевозке бывшего царя Николая с семьей из Тобольска на Урал и имеет на сей счет мандат за подписью Я.М. Свердлова[100]. Такой важности дело, сказал он, может быть доверено только боевикам Уфы, Миньяра и Сима, и просил выделить ему людей. Кроме того, Мячин сообщил, что Николая хотят увезти англичане и что эсеровский отряд, который охраняет его в Тобольске, без сопротивления его не отдаст; не исключены и попытки отбить его в пути. Поэтому ему требуются люди смелые, верные. Не помню, кто именно был командирован из наших (знаю одного Дмитрия Чудинова, который сейчас живет в Уфе), но могу засвидетельствовать, что формировали охранный отряд из миньярских, симских и отчасти уфимских боевиков. Мне, как начальнику уфимской дружины по охране народного достояния, в составе которой был кавалерийский полк под командой Хмелевского, поручили сформировать для Мячина отряд кавалеристов. Его командиром назначили Григория Зенцова, рядовых отбирали втроем: Хмелевский, Григорий Зенцов и я; отобранных нами утверждал Петр Зенцов.
Соединенный отряд под общей командой Мячина выступил в Тобольск в конце февраля 1918 года. Примерно в конце марта или в первых числах апреля Мячин вернулся в Уфу вместе с отрядом моих кавалеристов[101]. Снова было созвано заседание штаба, на котором председательствовал Петр Гузаков. Мячин доложил о выполнении задания ВЦИК и сообщил следующее (передаю по памяти).
В Тобольск его отряд прибыл благополучно. Как и ожидалось, отряд Керенского, охранявший царя, выдать его категорически отказался. Но когда Мячин выставил два пулемета, эсеры сдали ему всю царскую семью и уехали в Тюмень. Мячин намеревался забрать всех, но сын царя Алексей был в тот момент болен корью, везти его на лошадях было нельзя, и его оставили под охраной в Тобольске вместе с тремя сестрами и частью прислуги, которые были вывезены позже пароходом по Туре. Таким образом, Мячиным были взяты бывший царь, царица, их дочь Анастасия и кое-кто из прислуги. До Тюмени ехали в санях: с Николаем – безотлучно Мячин, с царицей так же – Чудинов, с Анастасией – дружинники посменно. Чудинов, на вид угрюмый и неразговорчивый, и царица, злая как кошка, за все время в пути не проронили ни слова. В Тюмени сели в поезд, но отправились не в Екатеринбург, а через Омск в Миньяр, чтобы сдать Николая и его спутников под охрану тамошним рабочим.
Дело в том, что, как нам докладывал Мячин, ознакомившись в пути с положением в Екатеринбурге, он пришел к выводу, что охрана бывшего царя и его семьи не будет там достаточно надежной (как он выразился, в Екатеринбурге «полно всякого сброда», и царя могли освободить), а предложение перевезти Николая в Миньяр он слышал от рабочих еще до поездки в Тобольск. Об этом своем решении он доложил Свердлову, в доказательство чего зачитал свою телеграфную ленту в Москву. «Если бы поручили уфимским боевикам отобрать у екатеринбуржцев царя с его семьей, мы бы смогли это сделать быстро и без потерь?» – спросил он нас.
Слова Мячина тут же подтвердили Чудинов и Гр. Зенцов. В общем, версия Быкова о том, будто поездка в Миньяр была всего лишь маневром, а на деле Мячин хотел увезти царя во Владивосток и там передать англичанам, беспочвенна. Но даже если предположить обратное, такое предприятие было фактически невыполнимо. Во-первых, в ходе поездки через всю Сибирь местные рабочие рано или поздно их бы перехватили (Мячин не мог этого не предвидеть и если бы действительно замышлял сдать Николая англичанам, из Тобольска отправился бы на лошадях в сторону Ледовитого океана, по малонаселенным местам). Во-вторых, с Мячиным ехал отряд отборных южноуральских боевиков, и попытайся он похитить царя, он был бы немедленно арестован, а потом, пожалуй что, и расстрелян. В общем, если допускать измену Мячина, то в ней же следует заподозрить и уфимских и миньярских рабочих-большевиков, что немыслимо и для них оскорбительно. Каких-либо оснований возводить на них такой чудовищный поклеп у Быкова, очевидно, нет.
Эти сведения Мячина позднее дополнил и уточнил Михаил Иванович Ефремов – член партии с 1905 года, в 1905–1910 годах один из руководителей уфимской боевой организации, затем бессрочный каторжанин. Я с ним встретился в августе 1951 года в одном из санаториев Сочи. В начале 1918 года Ефремов, как председатель Екатеринбургской губЧека, был хорошо осведомлен об обстоятельствах перевозки царской семьи. Оказалось, что прежде, чем явиться к нам в Уфу Мячин приезжал в Екатеринбург для предварительных переговоров в губкоме и губЧека. Мандат за подписью Свердлова он предъявлял и там. Посадив Романовых в Тюмени в поезд (Ефремов, вероятно, по ошибке, утверждал, что вся царская семья на тот момент была уже в сборе), Мячин получил сообщение, будто на них в пути готовится самосуд. А так как Мячин, в соответствии с мандатом, отвечал за них головой, он решил не рисковать и отправился в Омск. Не доехав до Омска одну станцию, он сел на прямой провод со Свердловым, от которого получил указание все-таки везти подконвойных в Екатеринбург, что Мячин и сделал. Пока шли эти телеграфные переговоры, к Мячину прибыл чекист Авдеев[102] – помощник Ефремова по Красной гвардии, посланный Мячину на подмогу. Вот у этого-то Авдеева и создалось впечатление, будто Мячин собрался везти Николая на Дальний Восток[103]. Ефремов утверждал, что об этом Авдеев тут же известил его телеграммой, хотя после эту телеграмму в ЧК затеряли. В результате екатеринбургские власти на какое-то время были дезориентированы.
Чтобы покончить с этим, скажу, что лично я Мячина не любил, не верил ему никогда, о чем и писал. Я уже тогда сомневался, чтобы ВЦИК и ЦК нашей партии поручили ему перевозку Николая II-го. И, по-видимому был прав, потому что, по заявлению Петра Гузакова, не Мячин, а он, Гузаков, как уполномоченный ЦК нашей партии, фактически стоял во главе отряда, перевозившего бывшего царя из Тобольска в Екатеринбург. Мячин выступал лишь официальным представителем ВЦИК и выполнял все указания Гузакова. Это, кстати, мне потом подтвердил и Ефремов.
В заключение несколько слов о расстреле бывшего царя и его семьи в Екатеринбурге. Я всегда сомневался в достоверности рассказов П.З. Ермакова, который утверждал, будто лично производил этот расстрел. Много позже мои сомнения подтвердили и упомянутый М.И. Ефремов, и Ф.Ф. Сыромолотов[104] – старый большевик-подпольщик, который в 1918 году, как член Екатеринбургского губкома и губисполкома, принимал непосредственное участие в решении вопроса о расстреле бывшего царя. В годы Великой Отечественной войны Федор Федорович был эвакуирован в Свердловск. Мы часто встречались – он жил в том же доме, что и я, – как-то заговорили о расстреле царской семьи и он рассказал мне следующее:
«В 1918 году летом в Екатеринбурге было очень тревожно. От Челябинска наступали чехословаки, в районе Перми происходили кулацкие восстания, в самом Екатеринбурге собралось много разной сволочи – князей, попов, переодетых монахов и монахинь. Вся эта братия замышляла освободить бывшего царя с семьей. Ввиду того, что в распоряжении губкома не было достаточных сил для отражения растущей опасности извне и изнутри, надо было эвакуировать бывшего царя в более надежное место. Однако железная дорога была ненадежна, и везти семью царя по ней было опасно. Держать же в описанных условиях тоже было нельзя, и потому губком запросил у ЦК и ВЦИК разрешения на расстрел царя и его семьи в Екатеринбурге. Такое разрешение было получено через Я.М. Свердлова. Постановление о расстреле вынес Екатеринбургский губисполком.
Привести приговор в исполнение поручили председателю губЧека Юровскому, который действовал вместе со своими сотрудниками. П.З. Ермаков непосредственного участия в этом деле не принимал и даже не присутствовал при расстреле. Ему было поручено отвезти трупы в лес, там их сжечь, что он и сделал. Расстреляна была вся семья Романова и четверо их ближайших слуг, всего 11 человек».
О «спасенной» Ольге, старшей дочери бывшего царя, Ефремов рассказал мне следующее. В 1917 году одну уральскую учительницу за убийство своего мужа-прапорщика посадили в тюрьму. За решеткой она сошла с ума и, узнав о расстреле царя, вообразила себя его старшей дочерью Ольгой, «чудесно» спасшейся от смерти. Выйдя из тюрьмы, она так всем и представлялась. Ефремов вызывал ее на беседу и точно установил, кто в действительности эта лже-Ольга. Он же подтвердил, что царскую семью расстрелял его преемник на посту председателя губЧека Юровский, а Ермаков выполнял лишь вторую часть операции – вывозил и сжигал трупы.
На фронтах гражданской войны (1918–1921)
Итак, в середине июля 1918 года мы были перебазированы в Сарапул, где влились во 2-ю армию РККА. В штабе командарма Блохина[105] Андрей Ермолаев был назначен начальником контрразведки, а я стал его заместителем. Обстановка в Сарапуле напоминала уфимскую образца января 1918 года – после черносотенного погрома обыватели были терроризированы выпущенными на свободу уголовниками. Уездный исполком заседал ежедневно, но ничего путного сделать не мог. Почти в открытую действовала банда «братков» – подонков, одетых в матросскую форму, которые «мобилизовали» городских проституток и ими торговали.
Вот в их-то «казарму» мы с Ермолаевым первым делом и направились. Увидели настоящий вертеп – пьяные «братишки» вместе со своими «подругами» орали похабные песни, на столе самогон, кругом пятиэтажная матерщина. Когда мы вошли, Ермолаев скомандовал: «Смирно!». Все притихли. Сзади кто-то крикнул: «А вам что здесь надо? идите к себе в штаб!». Ермолаев потребовал командира, и когда тот явился, записал его имя и приказал на следующее утро явиться в контрразведку со списком «личного состава». На утро этот «начальник», который, как ни странно, действительно оказался матросом, такой список принес, и в тот же день его ватагу передали одному из наших командиров, который формировал полк для ликвидации ижевского восстания[106]. Те из «братков», кто не пожелал служить в Красной армии, продолжали воровать, но уже втихую. Нас они очень боялись и вскоре исчезли из города. Но самых злостных бандитов все-таки пришлось расстрелять.
Сам Сарапул оказался очень симпатичным городком – уездный, маленький, но вовсе не захолустный, замечательно уютный, весь обсаженный липами; стоит близ слияния Камы и речки Сарапулки. На 20 тысяч жителей в городе было две гимназии, реальное и музыкальное училища, много интеллигентной молодежи, кожевенный завод. Идешь, бывало, по улице и почти из каждого окна слышишь либо пианино, либо скрипку или мандолину, гитару. Горожане встретили нас хорошо, были благодарны за наведенный порядок, звали в гости и с удовольствием принимали. Многие стали работать в штабе, молодежь охотно вступала в Красную армию. При нас местная буржуазия ничем себя не проявляла – поджала хвост. Свое лицо она показала уже после нашего ухода, и лицо это, конечно, было поганым. Вместе с нами в Сарапул переехал и уфимский губком партии, который стал формировать группы подпольщиков для заброски в Уфу. Из моих знакомых в эти группы попали Е. Тарасова, В. Алексакин, К. Мячин. Мы с Фиониным изготовляли им паспорта.
Наш командующий, бывший подполковник Блохин, походил на грузина, вид имел болезненный. Вместе со штабом жил на пароходе, а свой аппарат разместил в гостинице недалеко от Камы – в так называемых «Московских номерах». Жена Блохина, высокая, стройная, красивая грузинка, показывалась на людях редко и исключительно по ночам. Ходила в штанах или в ярком нарядном платье. Охраняли штаб латыши под командой бывшего офицера Хованского. С самого начала ни Блохину, ни Хованскому мы не особенно доверяли и, посовещавшись, решили отправить «ходоков» к Ленину – доложить, что одна из армий Восточного фронта находится в ненадежных руках. Во время этого нашего совещания случился курьез – отряд Хованского нас окружил и попытался арестовать, но сдать оружие (в кармане каждого из нас был револьвер, а у некоторых еще и бомбы) мы наотрез отказались. Пошли объясняться к Блохину – «арестанты», вооруженные лучше, чем конвой. Командующий перед нами извинился, пожурил Хованского, но было видно, что тот действовал с его ведома и согласия. Вероятно, мы им просто чем-то мешали. Вскоре Хованский был арестован ЧК и расстрелян как шпион, а его отряд расформирован. Блохина сняли, и куда он делся – не знаю.
Снабжением армии ведал Ольмерт – беспартийный еврей, очень изобретательный и предприимчивый и, как мы вскоре убедились, неподкупно честный. Но поначалу он тоже доверия не вызывал, и губком предложил нам с Фиониным определиться в его отдел и за ним приглядывать. Должности придумывайте себе сами, сказали нам, но следите за Ольмертом; за снабжение армии перед командующим отвечает он, а перед губкомом – вы. Что поделаешь, губкому виднее, и мы с Иваном Яковлевичем отправились к Ольмерту Услыхав, что мы явились ему «помогать», он ухмыльнулся, но в штат зачислил. Так продолжилась моя работа снабженца, но уже в Красной армии.
Все это время я не терял связи с контрразведкой, благо партийная организация у нас была общая. Кстати, скажу несколько слов о советско-партийной работе сарапульского периода. Еженедельно в клубе железнодорожников проводились партсобрания, на которых, как правило, обсуждался текущий момент и решались внутрипартийные дела: выделяли коммунистов для выполнения разных поручений, в том числе боевых. Кроме того, я, как начальник дружины, участвовал в заседаниях губкома и губернского штаба боевых организаций. В виде партийного задания вел кружок антирелигиозной пропаганды. Горисполком иногда устраивал диспуты с попами, от которых выступал «отец» Андрей, уфимский архиерей. Ученый был поп– богослов, окончил Духовную академию, университет, еще что-то. В диспутах упирал главным образом на бесконечность мироздания, но вопрос о его происхождении всегда ставил его в тупик.
Один раз Ермолаев сообщил мне по секрету о намерении местных эсеров и анархистов взорвать штаб Блохина. В тайне от Хованского мы мобилизовали своих боевиков для охраны штабного парохода и вскоре, действительно, арестовали двух анархистов, рабочих кожевенного завода. Фамилия одного была Воронцов, а другого, кажется, Колчин. Впоследствии Воронцов вступил в партию и мы с ним подружились. На допросе они сообщили, что решили взорвать штаб Блохина, потому что ему не доверяют, и, сделав внушение, Ермолаев их отпустил.
Дело снабжения армии поначалу было организовано так. Бывало, Ольмерт поедет по камским городам, реквизирует под расписку у купцов обувь, одежду мануфактуру, хлеб, сахар, чай, крупу, нагрузит всем этим свой пароход и приведет его в Сарапул. Выгрузит и снова поедет, а я выдаю все это частям, уходящим на фронт. Из этого продовольствия и обмундирования даже Блохин себе ничего не брал, а мы – тем паче. В общем, своего имущества у армии фактически не было – мы даже питались в частной столовой.
Между тем, гражданская война становилась все более ожесточенной. Когда ижевские повстанцы потеснили наши отряды, Блохин испугался и без разрешения Москвы отправился в Вятку. Взял с собой и нас, работников штаба, прицепив к нашему пароходику баржу с красноармейцами и скудным имуществом. В реке Вятке к нам подошел катер, и выскочивший из него человек потребовал предъявить разрешение на проезд. Ольмерт не растерялся (он вообще умел приструнить) и, в свою очередь, строго попросил того же от него самого. Незнакомец оказался проходимцем «из бывших», который грабил проходящие суда, а заодно и всю округу, выдавая себя за начальника красногвардейского кордона. В «резиденции» его банды мы обнаружили целый склад награбленного. Все это мы реквизировали, а бандитов сдали в вятский Особый отдел. Там главаря расстреляли, а его соучастников отправили на фронт. И таких самозванцев и мародеров мы вылавливали и уничтожали на протяжении всей гражданской войны.
В Вятке мы прожили недолго. Блохина прогнали, новым командующим был назначен Василий Иванович Шорин[107], бывший генерал, командир дивизии на русско-германском фронте. Человек он был крутого нрава, но военное дело знал и командовать умел. Начальником его штаба стал Федор Михайлович Афанасьев[108], бывший полковник, начальник штаба армии в германскую войну. Оба пошли в РККА добровольно. Членом Военного совета был назначен Гусев[109], крупный партийный работник. Новый штаб армии был сформирован в Вятских Полянах, кажется, в сентябре, одновременно армия получила большое количество продовольствия и обмундирования.
Я очень хотел уехать к товарищам на подпольную работу в Уфу, но Шорин меня не отпустил и назначил заведовать армейской базой, которая размещалась на двух баржах на пристани городка Котельнич недалеко от Вятки. Воинское имущество мы получали из Вятки, а выдавали по телеграфным распоряжениям штаба армии. Жили скудно, питались плохо настолько, что приходилось прикупать рыбу у местных рыбаков. В то время свирепствовала «испанка» – род гриппа, от которого умирало много народу. Заболел и я. Ни врача, ни даже фельдшера в Котельниче не было, и меня положили в отдельной комнате под присмотром брата Павла и нашей уборщицы Маши. Не лечили меня никак, просто я неделю провалялся в постели. Помню, голова болела так, что не то что пошевелиться, глаз поднять не мог. Указания по работе давал лежа. Но в итоге здоровый организм взял свое, и я выздоровел.
Однажды ночью нас разбудила пулеметная стрельба. Решили, что началось очередное восстание или белые подошли к городу. Наутро узнали, что это местная ЧК в ответ на покушение на Ленина расстреляла на берегу несколько десятков заложников. Дорого заплатила буржуазия за это покушение!
В октябре 1918 года базу армии перевели в Вятские Поляны – в бывшие хлебные лабазы. Одновременно я был назначен помощником интенданта армии – все того же Ольмерта. Начальником снабжения стал бывший учитель, а в германскую офицер Суетов, комиссаром – южноуральский большевик-подпольщик Котомкин. Появились новые люди и в штабе армии. Адъютантом Шорина стал Александр Лукич Налимов, с которым мы крепко дружим до сих пор. Его будущая жена Серафима Федоровна работала в нашем штабе машинисткой. Сейчас их замечательная семья живет в Москве.
Штаб армии помещался в каменном двухэтажном доме крупного купца, а наше управление занимало школу. Там же мы и жили. Работали, конечно, день и ночь. Бывало, ночью прибывает на вокзал следующая на фронт часть, которую надо срочно снабдить хлебом и всем необходимым. Идешь в пекарню, выдаешь хлеб, потом мчишься на базу. Глядишь, уже и утро, и надо идти на работу. Ольмерт по-прежнему разъезжал по городам и весям забирать реквизированные комитетами бедноты кулацкий хлеб и разные товары, а учет имущества и снабжение в основном лежали на мне. Я отдыхал, когда отправлялся в командировки. Бывало, заберешься в рубку баркаса и спишь часов 12 – до самой пристани. Эти поездки были далеко небезопасны, в нас частенько стреляли из-за угла, и мы всегда были хорошо вооружены. Не дремала и ЧК, которая каждую ночь расстреливала по нескольку человек. Приговоренного обычно ставили на борт парохода лицом к воде, стреляли ему в затылок, и труп летел за борт.
Приближалась зима. Наши войска понадобилось снабдить валенками. С детства я слышал о кукморских валенках, и вот теперь мне поручили организовать их массовое производство. Мы мобилизовали все мастерские Кукмора, снабдив их сырьем и топливом. Я в первое время ездил туда из Вятских Полян ежедневно, иногда там же и ночевал. В итоге мастерские заработали на полную мощь и валенками мы снабдили не только свою, но и 3-ю армию, и весь Северный фронт. Работу закончили в декабре 1918 года. Интересно, что когда кукморские мастера узнали, что меня посылают в Москву, они сделали для меня особо легкие и теплые бурки, которые я, зная, как живется в столице, решил подарить самому Ленину. Но не довелось.
А дело было так. В Москву мы с группой красноармейцев приехали под новый, 1919-й, год и поселились в казенных комнатах на Тверской. В соседней комнате была какая-то канцелярия, в которой работали молодые девчонки. Москва тогда голодала, горожане получали по осьмушке (50 грамм) суррогатного хлеба в день, а мы привезли пятипудовый мешок белого хлеба, мяса, яиц. Когда девчата прознали про это, они стали атаковать моих красноармейцев, а те, как полагается молодым, стали менять хлеб на «натуру». Тогда я хлеб запер, своим стал выдавать только паек. Девчата, чтобы меня задобрить, подослали ко мне самую красивую. Та явилась с флаконом какой-то сладкой эссенции, а взамен попросила хлеба для больной матери и сестренки. От ее подношения я, конечно, отказался и просто дал белый каравай. Она, бедная, долго смотрела на меня широко открытыми главами, потом заплакала и убежала. После мы с ней стали друзьями, она оказалась девушкой строгой и умной. Очень жалела, когда я собрался домой, и на прощанье сказала: «Я никогда, никогда Вас не забуду! Таких людей нельзя забыть». Не знаю, так ли это, но я, грешный, запомнил только ее красивое лицо.
В Москве по вопросам снабжения армии я несколько раз бывал у Красина. Заходил и в наркомпрод. С наркомом Цурюпой[110], уфимцем, не общался, зато по подполью был хорошо знаком с его заместителем Николаем Павловичем Брюхановым и с членом коллегии Алексеем Ивановичем Свидерским[111]. Брюханов встретил меня бранью, назвал бандитом. Тебе, говорит, не обмундирование надо давать, а расстрелять. Дело в том, что наш Военный совет ввиду крайней нужды реквизировал эшелон с рожью, шедший в голодающую Москву, правда, с обязательством собрать и направить в столицу новую партию хлеба. Рассуждали так: если армию не кормить, она может не выдержать и побежать, а в Москву хлеб пошлем, но позднее. Я и скажи Брюханову: «Сидел бы ты здесь, если армию не кормить». Он поостыл и стал зазывать в гости. Жил он в гостинице Метрополь, приглашал к 7-ми утра или к 2-м часам ночи – по своему рабочему графику. Так они в наркомпроде тогда работали – начинали в 8 утра, а заканчивали глухой ночью. Я, кстати, упомянул и о бурках для Ленина, у которого Брюханов бывал чуть ли не ежедневно. Он ответил: «Иди сам и дари, если тебе жизнь недорога: он тебе такие бурки пропишет! К нему каждый день лезут с подарками, кто с чем, и всех он гонит в шею».
Тогда пошел я к Свидерскому – может, думаю, этот будет посговорчивее. Но и тот отмахнулся, хотя бурки посмотрел. Они действительно были хороши. Я ему сказал: «Как хочешь, но постарайся всучить их Владимиру Ильичу, а только обратно я их не возьму», и ушел. Больше я Алексея Ивановича не видел и не знаю, что он сделал с этими бурками. После я снова пошел к Красину. Тот мне сказал, что обмундирование нам вышлют позднее, и я, не солоно хлебавши, отправился со своими бойцами домой. Правда, обмундирование мы и вправду вскоре получили, так что съездил я не зря.
В конце 1918 года в Москву начали приглашать красных командиров на курсы при Генеральном штабе – подучить военному искусству. Приехали и двое наших – начальник оперативного отдела армии (не помню его фамилии) и комдив Чевырев, старый рабочий-подпольщик[112]. Чевырева я давно знал и, будучи в Москве, отправился его навестить. Сидим мы у них в общежитии, разговариваем, а Чевырев нет-нет, да пройдется по комнате, позвякивая шпорами. Я отпустил что-то язвительное насчет этих шпор, а он как взовьется: «Ты задел самое больное место! Я такой же подпольщик, как и ты, и понимаю, что к чему, но раз надо носить эти погремушки, так что же я поделаю!». Так распалился, что чуть меня не застрелил – даже схватился за кобуру. Насилу мы его успокоили. Вскоре после моего отъезда из Москвы были отозваны и наши командиры, и Чевырева я снова увидел уже в штабе армии.
В Москве я пробыл всего пару недель, но на фронте за это время многое изменилось. Азин[113] прогнал колчаковцев за Каму, и к моменту моего возвращения наш штаб переехал в только что освобожденный Сарапул. На место куда-то отозванного Гусева в качестве членов Военного совета пришли Афанасьев и Штернберг[114]. В Сарапуле меня поселили в квартире неких Кокинас. Работы по снабжению армии как всегда было много, но шла она уже более организованно. Осложняло нашу жизнь то, что в аппарате штаба по-прежнему было немало бывших офицеров, среди которых попадались пьяницы, развратники, кокаинисты и даже шпионы. В 1919 году целую группу таких расстреляли, и за некоторыми исключениями аппарат стал настроен вполне советски. А те, кто был с белым налетом, заработал молча и исправно, а в тогдашних условиях большего и не требовалось.
В феврале 1919 года меня командировали в Воткинск инспектировать по части снабжения вновь сформированную дивизию перед ее отправкой на фронт – помнится, 21-ю. Железная дорога была по-прежнему очень плоха, и дивизия сосредоточивалась целый месяц. В общем, моя командировка сильно затянулась. В Воткинске я встретил много офицеров, знакомых еще по германской войне. Командиром 21-й дивизии был генерал, который когда-то командовал нашей 50-й, и даже дивизионный интендант был тот же. Этот подполковник Григорьев обрадовался встрече и сказал: «Мы знали, что Вы где-нибудь на большой работе. Там Вы мне были подчинены, а здесь – я Вам, но мы рады встретить Вас снова». Я выстроил дивизию, выяснил потребности каждого полка в обмундировании, обуви и продовольствии, выдал по акту все, что требовалось, и дивизия отправилась на фронт. Сам вернулся в Сарапул. Вскоре белые снова начали наступать, и эта дивизия, к сожалению, в своей значительной части перешла фронт и сдалась белым. От нее осталась лишь кучка офицеров и солдат.
При переезде штаба армии в Сарапул с вятско-полянских складов взяли имущества и продовольствия только для оперативных нужд Передо мной была поставлена задача до 15 апреля, то есть в месячный срок, перевезти все склады армии в Сергач. Помощников у меня было что кот наплакал – завскладом Лебедев, два бухгалтера (помню фамилию одного – Нигай, он был кореец), кладовщик Балабанов, да кучер с лошадью. В общем, ни людей, ни транспорта – хоть плач. А огромные лабазы в Вятских Полянах продолжали наполняться – один реквизированный овес поступал к нам сотнями подвод. Я начал действовать. Перво-наперво договорился с начальником военных перевозок о регулярной подаче мне порожняка. Во-вторых, добился, чтобы ко мне прикрепили все деревни в радиусе 10 верст от Вятских Полян.
Так у меня появились вагоны и гужевой транспорт. Наконец, подводы, которые привозили нам хлеб из Екатеринбурга, я после разгрузки заставлял трижды съездить на склад и доставить грузы на вокзал. Конечно, крестьяне этим были очень недовольны. Мне часто угрожали, не раз пытались от меня сбежать. Помню, однажды я ехал на последней подводе, а вся колонна пустилась наутек. Я выстрелил в первую подводу и только так остановил беглецов. С испугу этот обоз потом перевез мне дополнительно грузов на два вагона. Попутно с работой по эвакуации базы я снабжал всем необходимым и проходящие на фронт части. В общем, утром я садился в седло и до вечера вылезал из него только раз – чтобы накормить лошадь, поесть самому, да попутно подписать срочные бумаги. С тех пор я езжу, как заправский кавалерист.
В то полуголодное время возникали у меня конфликты и с теми из командиров, которые всеми правдами и неправдами пытались урвать побольше продовольствия и фуража. Один раз приходит ко мне командир саперного батальона и просит сахару, чаю, муки и крупы. Я ему отказал, зная от Ольмерта, что все положенное этот батальон уже получил. Сапер отправился прямо к командарму жаловаться. Шорин взбесился, а раздражался он быстро, и вызвал меня в классный вагон, в котором находился вместе со своим полевым штабом. При моем появлении вскочил с кресла и закричал: «Как Вы смеете срывать боевое задание части! Я Вас сейчас прямо у вагона собственноручно расстреляю!». Я удивился: Шорин так со мной никогда прежде не разговаривал, и все ему объяснил. Стали разбираться. Запросили по телеграфу Ольмерта, тот мои объяснения подтвердил. Тогда Шорин потребовал к аппарату того самого сапера и так его по прямому проводу обматерил (на что был большой мастер и любитель), что телеграфистки вышли и его телеграмму отстучал старший телеграфист.
Той же ночью произошло еще одно происшествие. К нам в Вятские Поляны прибыла дивизия Азина. Сидим мы в его штабе вместе с начштаба Овчинниковым, вдруг слышим по селу стрельбу. Овчинников тут же распорядился разослать пешие и конные патрули, и через час все стихло. Кто и зачем стрелял, мы узнали только через несколько дней. Чекисты сообщили, что это были белые диверсанты, которые хотели вызвать в дивизии панику. Но в 1919 году наши части уже не паниковали. Тем более у Азина.
Наутро я уехал в Казань. Склады я эвакуировал вовремя. Скоро в Вятские Поляны вошли белые.
В Казань, где располагался штаб нашей армии, я приехал под 1 мая 1919 года. Пролетарский праздник там отмечали широко, на большой площади были собраны войска, рабочие, трудящиеся. По всему городу проходили митинги, на некоторых выступил и я. Нас, большевиков, здесь поддерживал в основном русский пролетариат. Рабочие-татары по безграмотности в своей массе к политике были равнодушны. Как и многие другие крупные города в то время, Казань была наводнена купцами, дворянами, торговцами, бывшими офицерами и прочей сволочью, которая, как только могла, вредила советской власти. Кто-то из «бывших» поджег прекрасный казанский Оперный театр. Горел он так, что напоминал кипящий котел. До него не долетали струи из брандспойтов – вода испарялась на лету, и театр сгорел дотла. Другими словами, у здешней ЧК было много работы, и мы ей всячески помогали. Я, например, вплоть до 1920 года был ее внештатным сотрудником.
Настроение солдат тоже было неважное, и не без причин. Политически они были развиты плохо, во многих вопросах не разбирались. К тому же белые тогда зажали советскую республику в кольцо: с востока они дошли до Вятки и Казани, с юга – почти до Орла, на севере взяли Архангельск. Трудно было воевать без хлеба Украины и Сибири, без железа и угля Донбасса, без нефти Кавказа. Хотя положение было очень тяжелым, внутренне все мы были уверены в победе, ибо правда была на нашей стороне, а это – главное.
В РККА были тогда большие проблемы не только со снабжением, но с боевой выучкой и особенно с дисциплиной. Приведу пример из собственного опыта. Как-то члена Военного совета нашей армии Штернберга (он был ученый, профессор астрономии) и меня направили в одну свежепополненную часть, которую предполагали скоро отправить на фронт. Нам следовало проверить ее боевую готовность и состояние снабжения. Приезжаем в часть, входим в казарму, никто, даже дежурный и дневальный, не обращают на нас никакого внимания – все заняты своими делами. Многие красноармейцы лежали на нарах в обнимку с женщинами, вероятно, с приехавшими их навестить женами. И тут же, в казарме, у всех на глазах занимались тем, что полагается в таких случаях делать мужчине и женщине после разлуки. С некоторыми красноармейцами Штернберг попытался поговорить, но ему отвечали односложно и неохотно. Наконец, явился командир части, но на его «Смирно!» снова никто не отреагировал. И такая часть была направлена на фронт! Можно себе представить, как она воевала.
Дисциплину наши командиры подтягивали по-разному. Когда в дивизии Азина в одном из полков (Елабужском) выбросили плакат «Долой братоубийственную войну!», он вывел этот полк из боя, разоружил, построил и начал собственноручно расстреливать каждого десятого. После пятого расстрелянного таким образом остальные закричали: «Хватит, будем воевать!». Тогда Азии скомандовал «В ружье!» и снова послал полк в окопы, пополнив убыль коммунистами. Потом этот полк стал у него одним из самых боевых. Точно так же Азин как-то «убедил» крестьян доставить на передовую патроны. Мы в штабе о его «художествах» знали, но сделать ничего не могли.
Он вообще был сорвиголова. Однажды сидел в своем штабном вагоне и пил со штабными чай. Ему докладывают, что привели семерых пленных колчаковских офицеров. Азин встает и выходит, говоря: «Продолжайте, я сейчас». С улицы раздается семь выстрелов, Азин возвращается и как ни в чем ни бывало продолжает чаевничать. Он ненавидел белых офицеров, считал их предателями и, несмотря на строгое предписание направлять их в штаб армии, всегда собственноручно расстреливал. Пленным же солдатам предлагал перейти на сторону советской власти, и если те отказывались, отпускал на все четыре стороны. Презирал трусов, гнал их от себя либо расстреливал, но людей храбрых, находчивых обожал. Очень любил Чевырева, другого комдива нашей армии, как человека смелого, быстрого в решениях и талантливого командира. Азин недолюбливал финансовый контроль и денежную отчетность, инспекторов РКП[115] близко к себе не подпускал, говорил: «Вот разобьем Колчака, тогда и начнем деньги считать, а теперь воевать надо». Понятно, что с такими командирами вся повседневная, будничная организационная работа легла на плечи коммунистов. Им, впрочем, тоже часто приходилось вынимать наган – в армию наряду с людьми преданными проникали и враги.
В мае 1919 года вместе с комиссаром армии Борисом Шапошниковым я ездил в Сергач проверять состояние перевезенных туда из Вятских Полян армейских складов. Все оказалось в порядке, мы все пересчитали, на выдержку перевесили хлеб. Часть зерна уже размололи на муку. Ездил я и на эту мельницу, стоявшую на реке Пьяной. Несмотря на название, речка оказалась очень рыбной и, говорят, полна рыбы по сей день. Ежедневно питаясь рыбой, наши представители на этой мельнице, Новоселов и Сизых, даже поправились. Шапошников, как не хозяйственник, в этой работе участия не принимал, пропадал в сергачском горкоме и только время от времени лениво выслушивал мои доклады. Между прочим, в Сергаче я обнаружил большие запасы чая, сахару, мануфактуры, в которых армия остро нуждалась. Все это было бесхозным – владельцы-купцы давно разбежались. С разрешения штаба фронта, часть найденного мы отправили в свою армию, а прочее по акту оставили местным властям для снабжения населения.
Долго пожить в Казани мне не удалось. Наши войска перешли в наступление, Азин с ходу занял Ижевск, а Чевырев – Сарапул. Стремительно отступая, белые бросили много вооружения, боеприпасов и всякого имущества. Командующий Шорин послал меня поставить все это на учет и взять под охрану. В Сарапул я приехал вместе с помощниками – инспекторами Баженовым и Семенюком, каждый из нас собирался остановиться на своей прежней квартире. Дом, где раньше жил Баженов, был от вокзала первым и мы, грязные и голодные после теплушки, пошли вместе с ним. Было это 6 июля 1919 года. Тепло, сели мы на полянке возле дома, а Баженов пошел в дом узнать обстановку. Выходит, говорит: хозяева ушли с белыми, в доме живет семья квартирантов, приглашают остановиться у них. Семенюк отказался и пошел к себе, а мы вместе с Баженовым зашли в дом, в отведенную нам комнату. Раскланялись с квартирантами – пожилой женщиной с энергичным лицом и двумя ее дочерями. Умылись, сидим, обсуждаем план работы. Тут одна из девушек пригласила нас к столу, но мы, смутившись, от обеда отказались. Второй раз, и уже намного строже («Что еще не идете обедать, заставляете просить себя! Идите без разговоров!»), нас пригласила мать. На кухне за столом мы увидели ее, молодого человека и двух девушек, блондинку и худую как палку шатенку, которых звали Серафима (она была старшей) и Ирина. Рассказываю об этом так подробно, потому что Сима вскоре стала моей женой.
После «семейного» обеда мы навестили командира полка, от которого узнали, что ввиду продолжающихся обстрелов города белыми, работать нам можно только по ночам, да и имущества в Сарапуле они оставили сравнительно мало – намного меньше, чем в Ижевске. Зная повадку Азина все трофеи забирать себе, мы с Семенюком решили немедленно отправиться в Ижевск, а Баженова оставили в Сарапуле. Утром следующего дня, пока ждали на дворе лошадей, поболтали с хозяйскими дочерями. На вопрос Баженова о замужестве блондинка Сима сообщила, что ее «никакой дурак замуж не возьмет». Я, признаться, был удивлен такой самокритике, тем более, что Сима была очень симпатичной, даже красивой, развитой и прекрасно выглядела. Я спросил: «А если бы такой дурак нашелся, Вы пошли бы за него?». Она ответила: «За дурака – нет, не пошла бы». Тут подали лошадей, и на прощанье я ей сказал: «Не унывайте, найдется и умный жених, но при этом надо быть и самой умной». Она рассмеялась и лукаво ответила: «Постараюсь быть умной».
Отправились. 50 верст до Ижевска ехали целый день – в окрестных лесах еще бродило много белых, и приходилось двигаться с осторожностью. Все время в пути держали наготове наганы, но обошлось, и поздним вечером мы были в Ижевске. Комендант поселил нас в поповской семье (сам поп сбежал с белыми), говоря, что с перепугу попадья будет кормить до отвала. Так и вышло. Попадья страшно нас боялась и отменно угощала. На ночь все семейство запиралось в своей комнате – делай, что хочешь. Только узнав, что мы не «азинцы», она немного осмелела, но все равно разговаривала неохотно и с опаской косилась на наши наганы. Явно боялась ареста – но за что их было арестовывать? Сама она не политик, а дети маленькие.
Наутро мы явились к Азину. Меня он знал и, выслушав, зачем приехали, кисло улыбнулся и сказал: «Учитывай скорее, а то мои хлопцы живо все заберут». Выделил нам красноармейцев, и мы начали работать. Брошенного белыми имущества, действительно, оказалось очень много, особенно зимней одежды – целые склады валенок, телогреек, ватных шаровар. Все это мы с Семенюком в три дня учли, склады опечатали и отправились назад в Сарапул. Дома первой я встретил Симу, поздоровался с ней, назвав по имени, и она вся просияла. После она рассказывала, что загадала: «Если вспомнит мое имя, значит – "да"», но что это за «да», толком сама не понимала. Вскоре мы с ней подружились, вечерами подолгу говорили. Она окончила гимназию, много читала, я тоже неплохо знал классическую литературу. Сближала нас и революционная тема – ее братья были революционерами, ссыльные часто гостили в семье, и все это перекликалось с моим собственным жизненным опытом. Отец их был лесничим, мать – учительницей, оба дети крепостных. Их старшая дочь, коммунистка, была в Красной армии, сын работал в Сарапуле уездным агрономом, другая сестра – медсестрой в госпитале. Словом – интеллигентная, трудовая семья[116]. Сама Сима работала в уездном продовольственном комитете, а ее отец – в лесном отделе.
Смущало меня другое. Мне было 29 лет, и я прошел большой и сложный жизненный путь. Сима же была совсем юной 18-летней девочкой. В общем, я опасался, что для нее уже стар. Забавно, но в меня была влюблена и младшая Ира – черноглазый 16-летний бесенок. Как я потом от нее же и узнал, она тайком бегала в мою комнату нюхать подушку – я любил хороший одеколон и пользовался им при бритье. Каждый день я находил у себя на столе тарелку крупной клубники, посыпанной сахаром и с клубничными листьями по краям. Было красиво и вкусно. Откуда она бралась, мне Сима не говорила и уже после призналась, что они ее делали вместе с младшей сестрой. В общем, я сдружился с этой семьей.
В Сарапуле выяснилось, что у Баженова появилось много помощников – в город перебрался штаб армии вместе со всем интендантским управлением. Поэтому мы с Семенюком отправились на станцию Сюгинскую, где тоже обнаружилось много брошенного белыми имущества, а потом – в Дюртюли за конфискованным хлебом. Дали в мое распоряжение пароход и отряд красноармейцев. Но съездил в эти Дюртюли я впустую – на месте оказалось, что все зерно накануне забрал уполномоченный Совета труда и обороны. На личном фронте события развивались стремительно. Вернувшись в Сарапул, я в тот же день объяснился с Симой, и она стала моей невестой. Мы договорились пока об этом никому не рассказывать.
В конце июля 1919 года 28-я дивизия Азина взяла Екатеринбург, и наш командарм Шорин получил приказ перебазировать армию в Вольск и развернуть ее в особую группу Юго-Восточного фронта. Туда мы со всем штабом на пароходе и отправились. При отъезде, как это ни странно, мы с Симой никаких обещаний друг другу не давали. Очевидно, оба понимали, что можем больше и не встретиться – время было очень опасное. В дороге Эдя Мэр, наша сотрудница, не зная, что Сима моя невеста, рассказывала о ней много хорошего. И как в колчаковщину она председательствовала в Союзе учащихся, и какая она строгая и чистая девочка, и какая умница. И так она меня этими разговорами настроила, что я с пути написал Симе, чтобы она меня ждала.
В Вольске обстановка нас встретила грозная: всего в 20 верстах от города проходил фронт генерала Шкуро[117]. Вся местная парторганизация была мобилизована, с ходу включились в оборону города и мы. Каждый получил винтовку и трижды в неделю ходил в дозор. В штабе парторганизация у нас была та же. Ее секретарем был сотрудник артиллерийского управления, а председателем – я. Часто с докладами о текущем моменте выступал наш новый комиссар Ефимов – бывший подпольщик, печатник, человек грамотный и волевой. Не помню почему, но мы вели партийную работу и на местном цементном заводе. Ездили туда еженедельно. Работать там было трудно.
В бытовом отношении жили мы, в общем, неплохо. Меня разместили вместе со снабженцем по фамилии Лисин, с которым еще в Вятских Полянах произошел забавный случай. Однажды он отправился в Кукмор в кузове машины, которой управлял начальник нашей авточасти Кошкин. На ухабе машину занесло, Лисин из кузова вылетел, но Кошкин обнаружил это только в Кукморе. В общем, как говорили остряки, Кошкин потерял Лисина. Питался я в городской столовой, кормили там скверно, и я сильно отощал. Подкармливал нас наш гуртоправ (на Волге стоял гурт скота нашей армии), наш старый, с 1918 года, сотрудник, который время от времени приносил нам рыбы, молока, масла, а порой даже свежей черной икры. Дело в том, что гуртовый скот шел на убой, а молоко, учесть которое было невозможно, пастухи могли менять на другие продукты.
В Вольске мы изнывали от жары и от, в буквальном смысле, горячих ветров. На работе мы закрывали ставни, а наш комиссар спасался тем, что одевал кожаную куртку. В пекло выглядел в таком костюме странно, но зато ветер его не брал. Нашу армию развернули в Юго-Восточный фронт, изменился масштаб работы, но людей не прибавилось. Ольмерт по-прежнему рыскал по округе в поисках имущества и продовольствия, которые можно было бы «реквизнуть», а я, как и раньше, все добытое им учитывал и распределял. Хотя в конечной победе над Шкуро никто из нас не сомневался, приходилось принимать в расчет близость противника и, исходя из этого, строить всю свою снабженческую политику Врагу ничего не должно было достаться.
Работы было так много, что я стал забывать, что в Сарапуле меня ждет невеста. Вообще, применительно ко мне, старому холостяку, это слово звучало непривычно. Вдруг получаю от Симы письмо. Пишет, что за время разлуки окончательно поняла, что меня любит и будет ждать. Это меня еще больше смутило: идет война, кругом враги, меня могут убить или покалечить. На что я толкаю эту девочку, какое «счастье» ей готовлю – 18-летней вдовы? Теперь, спустя много лет, могу признаться, что тогда страшно себя ругал, что увлек ее – прекрасного и чистого человека.
Но тут мне приснился удивительной красоты сон, который отчетливо помню до сих пор. Я видел длинный светлый коридор с колоннами. По нему идет молодая, красивая, белокурая женщина и ведет за руку маленькую девочку. Идут ко мне как жена и дочь, улыбаются. Этот сон ошеломил меня, и я его описал в письме Симе. Пригласил к себе, сказал, что поженимся. Я был почти уверен, что она не приедет – не отпустят родители: в дороге она могла погибнуть от тифа, ее могли убить, но не написать этого я не мог. Прошла неделя, и мне вдруг сообщают, что меня спрашивают две женщины, а с ними девушка. Я сразу понял, что это Сима. Оказалось, что она приехала с матерью и старшей сестрой, которая была замужем за комендантом нашего штаба. Признаюсь, от неожиданности я тогда даже испугался, да и совесть все еще мучила. Но в начале сентября мы поженились. Все было более чем скромно. Из загса Сима пошла домой, а я – в управление на работу, вот и весь праздник. Сразу по приезде я отдал ей свой браунинг, который оказался как бы моим свадебным подарком. Сейчас это выглядело бы дико, но по тем временам подарок был в самый раз.
Живем мы с женой вот уже 35 лет. У нас родилось трое детей. Дочь Ирина член партии, младший сын Борис комсомолец, оба с высшим образованием. Серафима за годы замужества закончила два вуза – педагогический и библиотечный, вступила в партию. Старший сын Артем погиб под Старой Руссой 23 февраля 1943 года. Было ему 20 лет. На фронт пошел добровольцем, воевал в комсомольском лыжном штурмовом батальоне. Погиб как герой – так мне написали «все», то есть вся его рота. Жили мы всегда дружно, серьезных ссор не припомню. Если случались размолвки, жена просила повторять за ней: «Прости меня, моя любимая жиночка, за то, что я тебе надерзил, и больше этого делать никогда буду». И я покорно повторял, даже если надерзили мне. Потом следовал поцелуй, и в семье снова воцарялся мир. Воспитанием детей Сима занималась сама. Мне на это никогда не хватало времени, я лишь старался дать этому воспитанию правильное политическое направление. Под руководством жены дома выходила стенная газета с разделом критики и самокритики. Однажды на общем семейном собрании я схлопотал выговор за случайную грубость в отношении младшего сына. В общем, порядки у нас всегда были строгие.
Пусть не подумают, что наша женитьба произошла как-то сама собой. Просто я не писатель и не умею изобразить наших чувств. Мы понравились, заинтересовали друг друга с первой же встречи, и это предрешило наши дальнейшие отношения. Теперь я понимаю, что в глазах 18-летней девушки меня окружал несколько романтический ореол – я был недурной наружности, веселый, остроумный и вместе с тем, как подпольщик, неоднократно сиживал в тюрьме, бывал и бегал из ссылки, судился военным судом, был на войне. Я же, прожив большую жизнь в одиночестве, подспудно мечтал о семье. В общем, нас тянуло друг к другу. Очень сблизили и беседы – о литературе, о социализме, о боге.
Но я забежал далеко вперед. Продолжу по порядку.
В конце сентября 1919 года нашу армию снова переименовали и передислоцировали. Мы стали называться Кавказским фронтом с Саратовом как местом базирования. Интендантом фронта был снова утвержден Ольмерт, а я оставлен его заместителем. По сравнению с Вольском жизнь в Саратове был спокойнее, ночные дежурства прекратились. Но работы было по-прежнему много, а бытовые условия – привычно аскетичны. Помещений не хватало, и часть сотрудников жила при штабе. Питались, как всегда, в столовой, были одеты так, что кто-то из коллег (кажется, Суетов) однажды позавидовал аккуратности заплат на моих брюках, конечно, у каждого из нас единственных. И это при том, что через наши руки проходили тысячи и тысячи комплектов обмундирования.
В Саратове я познакомился с Николаем Михайловичем Шверником[118], тогда – заместителем Чусоснабарма нашего фронта. Его начальником был некто Абезгауз, но тот вечно пропадал в Москве в командировках. Вещевым довольствием нас стал снабжать именно Чусоснабарм, которому были подчинены все местные заводы, и «гастролирования» Ольмерта прекратились. Я по нескольку раз в день бывал у Шверника, он был в курсе всех моих нужд, а я – его возможностей. Мне нравилось работать с этим умным и чутким человеком. Позже, уже в Свердловске, я несколько раз его видел и даже думал подойти – напомнить о нашей совместной работе. Но так и не решился. А вдруг он скажет: «Нет, что-то я Вас не помню». К большим людям лезть с напоминаниями о себе неприятно.
В январе 1920 года мы с молодой женой получили отдельную комнату в доме купца Астраханова. Страшно мерзли – не было дров, спали под ватным одеялом, положив сверху мой полушубок. У Симы из зимней одежды был только ватный жакет – приданое слабоватое. Она поступила в Саратовский университет, и питались мы все больше «по-студенчески». Да еще к нам на хлеба напросился один из наших интендантов – Панах, грек по национальности. Он часто ездил в командировки и привозил то арбузного меду, то кукурузы. Один раз притащил какой-то то ли окорок, то ли заднюю ногу – барана, не то козла или собаки. Сима ее приготовила, и когда мы с Панахом пришли обедать, гордо заявила: «У меня сегодня жареная нога Панаха». Мы, конечно, забеспокоились: я от того, что греческих ног не едал, а он испугался за «свою» конечность. Сима всегда отличалась энергией и изобретательностью, ухитряясь сытно и вкусно кормить, даже когда продукты добывались с большим трудом. То, что наши дети выросли здоровыми, грамотными и умными, – исключительно ее заслуга. Жили мы с молодой женой дружно. На прилагаемой фотокарточке – мы оба в октябре 1919 года.
В Саратове мы часто ходили в театры – оперный и драматический. У нас, у отдела снабжения, были в них свои ложи. Видели там знаменитого Слонова[119], по-моему, совершенно неповторимого, уникального драматического артиста. Нигде и никогда больше я не встречал такой замечательной игры. В опере слушали Мухтарову[120], которая была особенно хороша в роли Кармен.
В марте 1920 года по указанию ЦК партии и правительства был образован штаб помощника главнокомандующего (помглавкома) по Сибири с центром в Омске. Этим помглавкомом, а, значит, и командующим Восточным фронтом стал Шорин. Насколько этот фронт был велик, видно из того, что на наше довольствие поставили 600 тысяч человек. Костяком управления Восточным фронтом Шорин сделал своих сослуживцев по штабу Кавказского фронта во главе с Афанасьевым. Взял и нас, снабженцев. Сам Шорин отправился в Омск на особом поезде, а мне поручил доставить туда штабное имущество и личные вещи сотрудников. Выделили мне отряд охраны, три классных вагона, несколько грузовых и теплушку с походной кухней. Ехали мы, правду сказать, тесновато – у меня одного, как начальника эшелона, было персональное купе, остальные спали вповалку на нарах. Тем не менее, почти на каждой остановке приходилось отбиваться от желающих забраться в вагон или на крышу. Питались сносно – выручала походная кухня. Как известно, 1920 год выдался необычайно засушливым. На Урале горели леса. Через уральский хребет ехали в сплошном коридоре пожарищ. Особенно жутко это выглядело по ночам. Горели мосты, и мы сутками стояли, ожидая, пока подлатают очередной мост или нас направят в объезд. До Омска добрались только к концу мая.
Свободного жилья там, как водится, не оказалось, и мы долго жили в своем поезде – в тупике на берегу Иртыша. Нас поразила омская пыль, которую наносило из киргизских степей, – следствие все той же засухи. Днем на машине ездили по городу с включенными фарами, в белом на улице появиться было нельзя – одежда тут же становилась серого цвета. Я из палатки сшил себе пыльник. Освежали только вечерние купания в Иртыше. Еду мы готовили около вагонов на костре, продукты выменивали на рынке на одежду и обувь, когда позволяло время, я ловил рыбу. То немногое, что нам выдавали в виде пайка, часто бывало совсем несъедобным. Однажды, получив пайковое масло и приняв его за льняное или подсолнечное, два моих сотрудника на костре нажарили себе оладьев. Наелись «от пуза» и тут же ослепли – масло оказалось рыжиковым. Сидят, хлопают глазами и спрашивают друг дружку: «Ты меня видишь?». Мы с женой услышали этот странный диалог, перепугались и позвали фельдшера. Тот сказал, что слепота – естественная реакция на рыжиковое масло и скоро пройдет. Это нас успокоило. И действительно, скоро зрение к обоим вернулось. Мы потом долго смеялись над ними – нет-нет, да ввернем про «покушали маслица».
После разгрома колчаковской армии много пленного офицерья Троцкий[121] натолкал в штаб сибирского помглавкома. В Омске меня поставили во главе хозяйственного отделения одного из отделов штаба армии. Моим прямым начальником был бывший генерал-лейтенант Иванов. Так вот, этого Иванова вскоре отозвали в Киев, где он, как контрреволюционер, был расстрелян ЧК. О настроениях подобной публики говорит и такой факт: на одном из популярных тогда религиозных диспутов, который проходил в штабе помглавкома в присутствии почти всех его сотрудников, аплодисменты сорвал не наш антирелигиозный оратор, а омский архиерей. Мы, коммунисты, не думали сдаваться, но ситуацию спас неожиданно появившийся член Сибревкома Емельян Ярославский[122] – замечательный специалист по антирелигиозной пропаганде. Только он вышел на трибуну, офицерье и попов во главе с архиереем как ветром сдуло. Ну и говорил же он! Его речь была покрыта громом аплодисментов, и от слов архиерея ничего не осталось. В дальнейшем Ярославского мы частенько приглашали на такие диспуты, и он всегда охотно откликался.
Ярославский прославился и как обвинитель на процессе палача рабочих и крестьян барона Унгерна[123], который проходил в Новосибирске, тогда – Ново-Николаевске. Как он гонял этого барона, в какое дурацкое положение его ставил! Каким идиотом и трусом выглядел этот палач, вешатель бедняков, истязатель женщин, детей и стариков! Трибунал, председателем которого был наш уфимский боевик Опарин, приговорил Унгерна к расстрелу.
В 1920 году в омских железно дорожных мастерских судили бывших министров колчаковского правительства. Мы увидели жалкие фигурки, съежившиеся под тяжестью речей общественного обвинителя Гойбарха[124]. Каялись во всех своих грехах, просили простить, поскольку-де не ведали, что творили. Насколько помню, никто из них к расстрелу приговорен не был – все получили тюремные сроки. Сравнивая эти процессы с теми, в которых участвовал сам, я не мог не заметить разницы в поведении подсудимых. Как гордо и бесстрашно смотрели мы в глаза нашим судьям, зная, что боремся за правду, за народ, за Родину! И как подавлены, жалки были они.
После отзыва генерала Иванова моим начальником был назначен Попов[125] – тоже колчаковский генерал-лейтенант. В моем отделении, которое ведало вещевым, продовольственным, артиллерийским, инженерным и финансовым снабжением, работали бывший генерал-артиллерист Беклемишев, генерал-финансист Попов (однофамилец упомянутого), снабженец по фамилии Пин и другие крупные специалисты. Конечно, было непросто работать с такими подчиненными. Они были грамотны, а мы – нет, но все-таки справлялись. К тому времени я уже был опытным снабженцем-руководителем и всякие Беклемишевы с толку сбить меня не могли. Но зато работали мы, конечно, много! В аппарате помглавкома проводили и большую политическую работу– регулярно читали лекции на политические темы, доклады о текущем моменте.
При мне Попов-«второй» был тихим и скромным старичком, который все ходил на заиртышские озера ловить карасей. Но в прежние времена он служил в штабе Казанского военного округа и хорошо знал Сандецкого[126] – обвинителя на процессах уфимских боевиков. Попов мне рассказывал, что этот Сандецкий очень боялся мести со стороны наших боевиков, что стало для меня новостью.
Летом того же 1920 года омские чекисты раскрыли большой офицерский заговор. О нем я узнал непосредственно от Петра Гузакова, уполномоченного ВЧК по Сибири, а также от наших бывших уфимских боевиков, которые работали в его управлении. Я часто у них бывал. По этому делу ЧК арестовала около 30 колчаковских офицеров, захватила список участников намеченного восстания и план их действий. Согласно этому плану, Шорин и все его подчиненные вплоть до начальников отделений штаба подлежали расстрелу без суда и следствия. Та же участь ждала и всех коммунистов без исключения. Таким образом, меня расстреляли бы и как коммуниста, и как начальника отделения. Начштаба Афанасьева заговорщики планировали взять в заложники, а всех колчаковских генералов, работавших у него, – расстрелять как изменников. Узнав об этом, мой начальник Попов сетовал, что попал между молотом и наковальней – ЧК, которая угрожает арестом, и бывшими сослуживцами, которые готовились его расстрелять. Я, как председатель партийной ячейки, ему ответил: «Что посеешь, то и пожнешь. Надо держаться одного берега. Вас мы пощадили, дали Вам работу, вот и работайте честно, и никакая Чека Вас не тронет. За добросовестный труд советская власть не наказывает, а награждает».
Летом 1920 года в Омск на баржах начали привозить дрова, которые мы выгружали на субботниках. Эти субботники организовывал и проводил я. Осложняло дело то, что дрова заготовляли в горельниках и они приходили все в саже. Те, кого я ставил на работу в трюм, выбрасывали поленья на палубу, а остальные по двум цепочкам передавали на берег. Дело спорилось. Сам я летал везде, где плохо шло – по большей части сидел в трюме. «Бывшие», которые вынужденно являлись на субботник, работали брезгливо, старались взять полешко двумя пальчиками. Но баржу за вечер мы, тем не менее, выгружали. Из трюма вылезали грязные, как черти, и сразу шли мыться в Иртыш.
За время нашей вагонно-бивуачной жизни в нашей семье произошло два неприятных события. Сначала заболела корью младшая сестра Симы Ирина, которая приехала к нам в Омск и работала у меня делопроизводителем. Заразила жену та тоже слегла. На улице жарко и сухо, в вагоне – духота, обе мои больные мечутся в бреду. Лекарств нет, врач советует больным лежать (!). Вот я за ними обеими и ухаживал, пока сам не заболел малярией. За неимением хинина доктор лечил меня подсолнечными каплями, и, несмотря ни на что, все мы выздоровели!
Другое происшествие связано с добычей продуктов. Этим занималась моя жена, которая ездила на заиртышский базар. Взяла она однажды утром какие-то свои тряпки на обмен и отправилась. Мы с Ирой пошли на работу, навстречу идет поезд-«кукушка», на котором должна приехать Сима, а за ним и сама она – бледная, губы дрожат. Прошла мимо молча. Поняв, что что-то неладно, я отправился вслед, и она рассказала, что, садясь в поезд, сорвалась со ступеньки, поезд пошел, ее зацепило и потащило. Хорошо, дело кончилось порванной кофточкой и содранной кожей на спине. А могло быть намного хуже!
Только в конце августа 1920 года нам, наконец, выделили комнату в городе. В сентябре меня назначили заместителем начальника снабжения войск Сибири. Мой начальник, беспартийный латыш H.A. Варят, был вроде сибирского наместника по снабженческой части, а я его заместителем. В моем подчинении находились административное управление и мастерские, а ключевыми управлениями – интендантским, артиллерийским и инженерным – ведал сам Варят. Комиссаром при нас был назначен Василий Иванович Смирнов, член партии с 1915 года. Работали мы так: я вставал в 6 утра, брал бутерброд и уезжал на работу. Там пил чай. Домой возвращался в 6 вечера. После шел на какое-нибудь заседание или собрание. К вечеру страшно уставал и читать бумаги уже не было сил. Их мне зачитывала жена, а я, лежа, диктовал резолюции. Иногда удавалось выбраться в театр, в котором у нас была своя ложа. Это был настоящий отдых и огромное удовольствие – театр был хороший, с сильным актерским составом. Как-то зимой там проездом с Дальнего Востока выступал М.И. Калинин[127]. Я был рядом и его речь слышал от слова до слова.
Вся зима 1920–1921 г. прошла в инспектировании артиллерийских, интендантских и инженерных складов. Помню, по пороховому хранилищу мы ходили в особых тапочках. Варят со Смирновым надолго уезжали в Москву, оставляя меня и за начальника, и за комиссара. Тогда работать приходилось до глубокой ночи и было уже не до театров. Почти ежедневно ездил с докладами в Сибревком, а тут еще ишимское кулацкое восстание, для подавления которого пришлось срочно формировать и обмундировывать части.
Однажды, уезжая в командировку, Варят распорядился не показывать в отчетности 50 тысяч комплектов зимнего обмундирования – иначе, мол, Шорин его раздаст, и на зиму ничего не останется. Я так и сделал, хотя части, идущие на фронт, продолжал снабжать, как полагается. Между тем, Шорин донес в Москву, что зимней формы у него нет, и когда Варят вернулся из командировки, влепил ему выговор за бездеятельность. Но еще больше взбесило Шорина, когда Варят доложил об имеющихся 50 тысячах комплектов – он решил, что это я его обманул. Вызвал к себе, снова грозил расстрелом, объявил месяц ареста. Инцидент был исчерпан, когда мы от имени Шорина направили что-то вроде покаянной телеграммы в Генштаб. С тех пор ни на какие хитроумные комбинации Варята я уже не соглашался, и больше с Шориным у меня недоразумений не возникало. Под арестом я, конечно, не сидел.
С осени я изредка отправлялся на охоту, порой вместе с женой. Ходили за Иртыш, на озера. Дичи добывали немного – не было собаки. Бывало, придешь домой мокрый по самую шею, но без уток. Однажды выехали с друзьями на гуся далеко за Иртыш. Снова вернулись ни с чем, что вызвало гнев и подозрения жен. В оправдание я представил супруге приятеля, которого звали Василием Михайловичем, такой доклад:
«Уважаемая Вера Оттовна! Разрешите Вам доложить о результатах нашей охоты и о том, как она проходила. Приехав в деревню, мы прежде всего сходили в баню. После ели уху, выпили около четверти водки, ибо закон категорически запрещает есть уху "всухую". Потом пошли на охоту. На другой день было то же: ели уху, пили водку и охотились. Затем поехали домой. Лошадьми правил я. Гикнул на них по-башкирски и они понесли. Кто был потрезвее, успел спрыгнуть с телеги, а Василий Михайлович этого сделать не мог, пока не вылетел автоматически, а за ним и остальные. Когда я, свернув с дороги, оглянулся, в телеге никого уже не было. Разнуздав лошадей, я вернулся за своими охотниками и водрузил их на телегу не без сопротивления с их стороны. По пути заехали в наше подсобное хозяйство, закусили и допили "горючее". Больше чрезвычайных происшествий не было. Наши трофеи: одна шальная утка, два грача и собака. Приехав, вымылись в ванне и в урочный час отправились на работу».
Мой рапорт, представленный в лицах, вызвал у слушателей гомерический хохот. Вера Оттовна, конечно, сразу оттаяла. После примирения с женой Василий Михайлович подошел ко мне, поцеловал и говорит: «Иван Петрович, ей-богу, в Вас пропадает талант очень большого артиста. Спасибо за мир, который Вы принесли нам с Верунькой». Потом этот мой «рапорт» все долго вспоминали.
Между тем, мне поручались все более сложные и ответственные задания. Ездил в Красноярск инспектировать тамошний ВОХР[128], а заодно переманить в штаб Шорина группу ценных работников. Несмотря на сопротивление местных властей, то и другое сделать мне удалось. В 1921 году поехал главным квартирьером в Ново-Николаевск готовить переезд туда штаба помглавкома. Это оказалось непросто – после колчаковцев город оказался сплошь заражен сыпным тифом. В свое время мне рассказывали, что после ухода Колчака весь путь от Челябинска до Омска был забит вагонами, полными трупов умерших от тифа. Примерно то же я увидел и здесь. Квартал за кварталом тянулись тифозные дома, помеченные белыми крестами. Свободных незараженных помещений практически не было, и пришлось проводить срочную массовую дезинфекцию и ремонт. Управились в три недели, и новый помглавком, бывший генерал Петин[129], остался нами доволен.
Вскоре я получил назначение в Москву заместителем начальника только что образованного Управления снабжения трудовых частей Республики. Начальником Управления был тот же Варят. Омичи уговаривали остаться, но меня тянуло в столицу – хотелось учиться. В Сибири я прошел партийную чистку и, променяв напоследок на омском базаре полушубок на несколько пудов крупчатки и бидон топленого масла, в октябре 1921 года мы уехали. Жену я завез к родителям в Сарапул, а сам поехал дальше – в Москву. Поселили меня, по тогдашним меркам, роскошно – в двух комнатах на Большой Ордынке, но новое место работы мне совсем не понравилось. А тут как раз посыпались новые предложения – одно заманчивее другого. Варят сразу отправил меня в командировку в Казань, а оттуда, благо недалеко, я на пару дней наведался в Сарапул. Секретарь тамошнего укома стал уговаривать перейти на советскую работу, обещал отправить на учебу. Вернувшись в Москву, я узнал, что меня разыскивает Главный штаб для назначения начальником снабжения Западного фронта. Панах начал «сватать» меня в заместители начальника Административного управления Главного штаба, а мой давний знакомый по штабу Кавказского фронта Дейч[130], ставший одним из начальников Военно-хозяйственной академии, зазывал учиться в свою академию в Петроград и даже выслал путевку.
А тут еще недоразумения по партийной линии и прочие, уже семейные, неприятности. Как я уже сказал, чистку я прошел еще в Ново-Николаевске, но новый партбилет до отъезда в Москву получить не успел. Поскольку чистка заканчивалась, в московском райкоме от меня срочно потребовали представить новые рекомендации, и я без труда нашел троих знакомых коммунистов, членов партии с января 1917 года. Но с этого же времени стал отсчитываться и мой партстаж. Только в 1931 году, когда я представил в ЦК соответствующие рекомендации и были наведены справки в жандармских архивах, мое членство в партии с 1906 года удалось восстановить.
Между тем, Варят снова отправил меня в командировку в Сарапул, где я узнал об обыске у жены и ее родителей. Причина была нелепа – ГПУ захотело вернуть мануфактуру, которой Лесоотдел незадолго перед тем премировал своих работников, включая моего тестя. Но во время обыска конфисковали мою охотничью двустволку и браунинг жены, мой «свадебный» подарок. Пришлось мне идти в ГПУ выручать свое оружие. Ружье вернули, а браунинг «не нашли», он якобы куда-то исчез. Тогда это было возможно. В Сарапуле я принял решение перейти на работу в местный Совет. Таким образом, с 1 января 1922 года я перешел на гражданскую работу и вплоть до 1941 года, то есть почти на 20 лет, порвал с военной службой. О том, на что я променял крупную работу в Красной армии, расскажу в следующей части, если когда-нибудь ее напишу.
Часть вторая
И вся-то наша жизнь есть борьба!
Из Песни красных кавалеристовПо правде говоря, вначале я не собирался продолжать свой автобиографический очерк. Но директор свердловского Института истории КПСС просил меня вспомнить восстановительный период, районирование и коллективизацию сельского хозяйства, – описать работу на хозяйственном фронте солдата партии, бывшего подпольщика.
Когда садишься за мемуары, невольно вспоминаешь молодые годы. Как бы тяжелы они ни были, они вспоминаются с ностальгической грустью. Помню, как в 1907 году старичок из уголовных, который обслуживал нас, политических заключенных, по вечерам в тюремном коридоре пел: «Липа вековая над рекой стоит», да так, что его тенорок за душу хватал. Когда думаешь о далеком прошлом, то плохое, тяжелое редко приходит в голову, а вспоминаешь хорошее, вроде этой песни.
В то же время, как поется в другой песне, «и вся-то наша жизнь есть борьба!» – жизнь большевиков-ленинцев. Начиная с 1903 года, со своего II-го съезда, наша партия все время напряженно отстаивала свои идеалы, боролась за чистоту своих рядов. А враги у нее были многочисленные и сильные. В 1905 году партия уже вела борьбу и с самодержавием, и с либералами, да и с меньшевиками. А времена царской реакции, времена подполья, когда на свет вылезли уклонисты в виде «ликвидаторов», «отзовистов», «ультиматистов», богоискателей[131]! Мало того, приходилось вести борьбу с эсерами, анархистами, бундовцами и т. д., которые везде кричали, что и они против монархии, и работать среди разноплеменного населения. Например, на Урале башкиры, татары, марийцы, чуваши, представители других национальностей враждовали между собой, враждовали и с русскими. Всегда нашей партии было тяжело, нелегко ей сейчас и не будет до тех пор, пока нашу страну и страны народной демократии окружают враждебные нам капиталистические государства.
На советской работе
Итак, в начале 1922 года я покинул военную службу и перешел в распоряжение сарапульского уездного комитета партии. Секретарем укома был рабочий Матвеичев – тихий, скромный, умный человек. Но остальная уездная верхушка была совсем иного склада. Председатель уисполкома, бывший бухгалтер Яковлев, как и его начальник Отдела управления Хромов, были политически неграмотными пьяницами. В уисполкоме всем заправлял секретарь, бывший волостной писарь Пересторонин – малорослый человечек в огромной папахе и в таких же подшитых валенках. Целыми днями он только и делал, что плевал на гербовую печать, прикладывая ее к пропускам мешочников и спекулянтов. Во главе уездного здравоохранения стоял бывший сапожник Пономарев, народным образованием руководил бывший портной Трофимюк. Когда оба были смещены, Пономарев пошел по кооперативной части, а Трофимюк превратился в специалиста по гужевому транспорту – стал заведовать городским обозом из 25 полудохлых одров.
Мне Матвеичев предложил место Хромова в Отделе управления, но я предпочел должность заведующего Орготделом, которому были подчинены все волостные исполкомы – хотелось узнать работу низового советского аппарата, и об этом выборе не пожалел. Вскоре я столкнулся с такой рутиной и безобразиями, подрывавшими авторитет советской власти, что заменил многих председателей волисполкомов. По прежним меркам, для меня этот пост был мелковат, и спустя несколько месяцев меня-таки назначили заведующим Отдела управления, которому подчинялись не только уездные органы власти, но и городская милиция. Вскоре и на других местах появились новые люди. Секретарем укома приехал партийный работник, бывший подпольщик Сенько; уездным здравоохранением стал ведать бывший фельдшер Морозов, тоже старый партиец; заведующим народным образованием назначили бывшего учителя – коммуниста; завгоркомхозом стал Лука Андреевич Ситников, бывший матрос[132]. Яковлева убрали, и пока вновь назначенный на этот пост мотовилихинский рабочий и старый большевик Тиунов[133] добирался к нам, я несколько месяцев исполнял обязанности «предрика» – председателя уездного исполкома.
В то голодное время нас кормила АРА[134] – американцы. Один раз ко мне заехал их представитель, молодой фабрикант из Нью-Йорка, с переводчиком из наших «бывших». Явился проверить, как мы кормим голодающих американскими продуктами. Дал я ему провожатого, и он поехал по сельским столовым, и там в присутствии председателя уездного исполкома в кровь избил своего переводчика за какую-то провинность. В 1923 году приехали уже двое проверяющих, тоже фабриканты. Эти ликвидировали свои базы и потребовали созвать граждан Сарапула. Мы собрали народ в клубе. Представитель АРА начал восхвалять отзывчивость и гуманность американцев, а председатель местного профсоюза, не стерпев, заговорил о том, как они на черном рынке скупали по дешевке золото и драгоценности и отправляли к себе в Америку. Словом, приезжали не кормить голодающих, а спекулировать. Что тут началось! Американцы ругались, грозились пожаловаться самому Ленину. Но мы их напоили коньячком, да так, что до пролетки их пришлось нести уже на руках. На это они из-за своего сухого закона были падки. В общем, никто, видимо, на нас так и не пожаловался.
Из-за голода зима 1921–1922 г. выдалась особенно тяжелой. В Сарапул толпами валили голодающие крестьяне – татары, башкиры, чуваши, черемисы, русские – многие тут же попадали в больницу или умирали прямо на улице. У нас была специальная подвода с большим ящиком, возница по утрам собирал трупы и увозил их на кладбище. Было несколько случаев холеры, от которой в 1922 году умер и мой тесть. Так мы и не узнали, где он ее подцепил.
Я, будучи зав. отделом управления уездом – зам. предрика, получал в месяц одного соленого судака и пуд овса или ржаной муки. Учитывая пайки жены и родственников, жили мы еще сносно. Тем более, что в 1922 году у нас появилась корова, сенокос и грядки с овощами. Другим было много хуже.
К 1922 году Сарапул по сравнению с 1918 годом сильно обветшал – почти все заборы пошли на дрова, дома годами не ремонтировались, многие пустовали – хозяева бежали с белыми. Грязь была непролазная, доходило до оползней. Из-за голода люди бродили словно тени. Одни кулаки процветали, наживаясь на спекуляции хлебом. Интересно, что когда наши хлебозаготовители объявляли, что готовы заплатить больше назначенной крестьянами цены, те им не верили и хлеб придерживали. Для разрешения текущих потребностей городского хозяйства приходилось идти на риск. Как-то Новиков, начальник милиции, пожаловался мне на отсутствие овса – милиционеры были готовы сами его заготовить, но ни земли, ни семян, ни инвентаря у них не было. Подумали мы, и я дал указание волисполкомам засеять по полдесятины овса, а убрать его в счет трудгужповинности. Так и сделали, к осени милицейская конюшня была обеспечена овсом. Узнав об этом, уком хотел было меня отругать, но Новиков меня отстоял, превознеся до небес мою находчивость и политическую смелость.
С началом нэпа[135] сарапульские магазины ожили – как по щучьему велению в них появились сибирская мука, астраханская рыба, мясо из Средней Азии, мануфактура, обувь. Откуда только у нэпманов что бралось! Сами их лавки, разграбленные и разгромленные за годы гражданской войны, мгновенно приобрели приличный вид, а ведь для этого требовались дефицитные стекло, железо, краска, тес. Как нам рассказывал один из сарапульских воротил, денег у них почти не было, но они быстро восстановили свои прежние связи и получали товар «на слово» – в кредит У наших же кооператоров – ни денег, ни товара, ни кредита, ни связей, ни торговых кадров, ни опыта. Один из наших кооператоров, например, закупил на Нижегородской ярмарке под вексель вагон игрушек, которые, конечно, никто не покупал. Влепили ему выговор по партийной линии, тем дело и кончилось. Вот с чего мы начали борьбу с нэпом под лозунгом Ленина «кто кого».
Я был членом налоговой комиссии, и мы облагали нэпманов по такому примерно принципу: «шерсть стричь, но не с кожей, пусть отрастает до следующей стрижки». В каждом конкретном случае приходилось решать – закроет или не закроет нэпман торговлю после уплаты налога. Если не выдержит– снижали обложение. Не лучше было и в местной промышленности. В Сарапуле с государственным кожевенным заводом конкурировал такой же частный, Кривцова. На нашем было 120 конторских служащих, а у Кривцова – 2. Я по этому поводу даже в «Правду» писал и в местную газету «Красное Прикамье». И вот результат: Кривцов продавал обувь дешевле нашей и качеством лучше. Так мы начинали жизнь по линии промышленности. Со временем, однако, Кривцов свое заведение закрыл, так как не мог больше доставать сырье «по блату», а наш завод стал снабжаться более планово. Постепенно окрепла и наша кооперация. В торговле нэпманы действовали еще несколько лет и кредитовались госбанком вплоть до 1927 года.
В 1922 году в Сарапуле по ночам было опасно – орудовали как заезжие «гастролеры», прибывавшие по Каме или по железной дороге, так и свои бандиты. Все еще много было и дезертиров. После заседаний, которые, как правило, заканчивались глубокой ночью, домой мы всегда возвращались вооруженными. Наводить порядок мы начали с чистки аппарата милиции. Комиссия вычистила пьяниц, а также милиционеров из семей торговцев и кулаков. Среди бандитов встречались «матросы»-инвалиды, якобы пострадавшие в борьбе за советскую власть. «Братишки» нападали даже на государственные учреждения. Один такой безногий однажды явился ко мне на службу с требованием денег, и когда я ему отказал, сделал вид, что упал в обморок. В присутствии военкома я распорядился, чтобы секретарь его выпроводил, после чего «борец за советскую власть» как ни в чем ни бывало встал и молча отправился восвояси.
Мы решили с бандитизмом покончить. По ночам вместе с милицией, уездным ГПУ («политбюро») и военкомом стали устраивать облавы, проверять документы. Местных жителей, конечно, тут же отпускали, а всех подозрительный задерживали. Буквально через пару месяцев в городе стало спокойно. Так мы бандитам нашарахали, что даже пермская, казанская и екатеринбургская «братва» стали обходить Сарапул стороной. Дезертиров мы вылавливали путем повальных обысков по окраинам – вытаскивали их из бань, чердаков, из подполий.
В общем, по сравнению с руководящей работой в Красной армии, должность мне досталась «веселенькая». По старой военной привычке, я часто приказывал, а не давал распоряжения, как принято «на гражданке», на чем не раз «спотыкался». Впрочем, народ меня, как правило, понимал и поддерживал. В том же 1922 году пришлось создавать отряд в 200 бойцов для подавления кулацкого башкирского восстания в районе Янаула. Так что приходилось заниматься и чисто военной работой. Подавлял это восстание батальон ЧОН[136], членом штаба которого я состоял. Насколько помню, в 1924 году этот батальон расформировали за ненадобностью.
Большим нашим бичом было самогоноварение. Водкой государство тогда не торговало, и чтобы чем-то ее заменить, народ варил квас, делал брагу, гнал самогон, на который уходило много хлеба. Особенно по этой части отличались удмурты, у которых самогон был чем-то вроде священного напитка, который пили даже дети. Их старики и сегодня пить водку считают грехом. Сколько мы бесед проводили о вреде для государства самогоноварения! А нам отвечали: «Какое вам дело, ведь мы гоним из своего хлеба. Куда хотим, туда его и деваем!». Что тут скажешь? Конфисковывали аппараты, спрятанные в банях, овинах, в лесу, в сараях. Но разве их все найдешь! Бывало, вечером перед каким-нибудь праздником по деревне стелется дымок с характерным запахом, а на другой день все село гуляет. Сунешься конфисковывать аппараты – убьют. Один раз накануне праздника милиционеры попытались, так их загнали в избу, дом окружили и не выпускали, пока мы, отряд коммунистов, не приехали на подмогу Воспользовавшись случаем, мы конфисковали тогда много аппаратов, но, как выяснилось, у самогонщиков имелись резервные.
Районирование, восстановление местной промышленности, на хлебозаготовках и коллективизации
В 1923 году партия и правительство приняли решение об изменении административного деления нашей страны – о создании вместо уездов и губерний районов и областей. Осенью этого года было дано указание образовать несколько опытных районов, один из которых, по предложению Пермского губкома партии, должен был появиться в Сарапульском уезде. Выполнять это поручение на месте доверили мне, выдав на все мероприятие 4 тысячи рублей. Пока я доехал до села Каракулина, намеченного как центр нового района, эти деньги из-за инфляции наполовину потеряли в цене. В итоге мне хватило расплатиться только с аппаратом волисполкома, с учителями и персоналом местной больницы.
Опыта районирования ни у меня, ни у других уездных руководителей не было никакого, и мы с секретарем партийного укома и его сотрудниками ломали голову, с какого конца приступить к делу. Начали с приведения в порядок нового райцентра – дали названия улицам и организовали их уборку, присвоили домам номера и т. д. Одновременно стали формировать аппарат райисполкома – подыскали бухгалтера, делопроизводителя, секретаря, инспектора и даже юриста. Вот этот-то юрист принес мне однажды проект нашего «обязательного постановления». У меня этот курьезный документ сохранился, и я приведу его здесь дословно и целиком:
«Ввиду того, что, как на улице, в театрах, на вечерах и сходах, как взрослые, так и молодежь ведут себя крайне небрежно. Молодежь занимается толканием друг друга, бросанием шапок с товарищей; слышатся, как от взрослых, так и молодежи, площадная брань, неуместные свисты, крики, безприличное табакокурение, привязанность к женскому персоналу, что для почетного, присвоенного всем революцией звания "граждане", что прежде давалось только интеллигенции, каковая не должна была выходить, под судебной ответственностью, из присвоенных рамок – крайне низко и позорно. Граждане этим званием причислены к среде интеллигенции, а потому должны себя вести по этому пути. Это наблюдается и с учащимися, как в стенах, так и вне стен. В массе развилась, сильно, проституция и венерические болезни, что вносит в семейство и общество раздоры, ревности, разводы, пьянство. Все это тяжко отражается на психологии детей, рода и общества. Плохой пример для молодежи. Молодежь шляется безо всякой цели, повсюночно. Устраиваются вечерки, как в тесных избушках, только для интимных проделок; между тем, как деньги за вечерку тащат от родителей последний фунт хлеба или кудели. Вежливость, сдержанность и гигиена отсутствуют. Масса держит себя, часто, в полной бездеятельности, отчего темнота, отсталость и бедность. Мужчины и женщины знают свое сельскохозяйственное дело, и порядок домашнего и кухонного обихода. Саморазвития нет.
Для предупреждения этого и направления движения по пути цивилизации необходимо, из каждого члена общества и члена семьи, вывести исстари вкравшиеся, где на почве религии, где на почве темноты, а где и наследственности, все недочеты. Что можно только организованным, под страхом ответственности порядком.
На основании вышеизложенного Каракулинский райисполком ПОСТАНОВИЛ:
Взрослых – трудоспособных и молодежь как мужского, так и женского персонала, разбить на группы, на каковых составить именные списки. С каждой группой пройти определенную программу, в беседах, по воспитанию согласно требований семейной и общественной жизни. В школах, в приютах, театрах и сходах соответствующей администрации всякие опущения прекратить. Где можно устраивать соответствующие спектакли с определенной целью и предварительно разъяснять причину постановки той пьесы. Бесцельных пьес быть не должно.
Для каждой группы, или один для всех, в обществе выделить дом, где ввести прохождение краткого курса по сельскому хозяйству, где бы научились обходиться правильно с землей, лугами, скотом, птицей и проч.
Для молодежи ввести уроки танцев, музыки, чтение лекций по самообразованию, дабы, хотя приучить их к домашнему и общественному порядку. Обязательно ввести обращение друг к другу на "Вы" и по имени и отчеству или добавления к фамилии "товарищ" или "гражданин".
Ввести прохождение молодежью гимнастики, легкой атлетики, футбольного и прочего спорта и игр.
Для предупреждения семейного разврата, болезней и нищеты всем ученым силам и местной администрации установить порайонно наблюдение за каждым семейством – каждым домиком, где контролируя и находя недостатки и получая жалобы сообщать соответствующей власти для сведения и налаживания жизни.
Все ученые со светом в руках стремитесь ближе к деревне, ближе к темным углам.
Для проведения в жизнь настоящего постановления возлагается обязанность на сельсоветы с комячейками и школьных работников, а так же и на местную милицию в принудительном порядке и о чем сельсоветам ежемесячно давать райисполкому отчеты.
Предрик
Секретарь
Составил юрисконсульт Пономарев
22/ХП-23 г.».
Конечно, подписывать такой «шедевр» я не стал. Но потом этот Пономарев мне здорово помог при составлении плана озеленения Каракулина. Жаль, что мой преемник на посту предрика положил его «под сукно» – с лесничеством о саженцах я уже договорился.
Работа по организации опытного района заключалась в ликвидации волисполкомов, в подготовке и проведении выборов членов новых сельсоветов и делегатов первого районного съезда Советов. Все мы, руководители вновь образованного района, жили в одном доме и до глубокой ночи обсуждали возникавшие вопросы. Много ездили по деревням. Созывали крестьян на сходы, знакомились с людьми, обсуждали самые разные темы, советовались. На опыте этих бесед мы убеждались в мудрости нашей партии, которая всегда находится в тесной связи с трудящимися массами. Попутно занимались проблемами местных школ и больниц. До нашего приезда в Каракулине, не говоря уже о районе, не было врача, не хватало учителей. Но к 1 декабря 1923 года, сроку окончания организации района, весь школьный и медицинский персонал вновь созданного района был полностью укомплектован.
Выборы в сельсоветы и на районный съезд Советов мы также провели в срок. Съезд (он состоялся в конце ноября) мне запомнился тем, что свой отчетный доклад я делал более трех часов. Был я избран на окружной съезд Советов, в Сарапул. Делегаты настаивали, чтобы я вошел и в состав президиума райисполкома, но им сказали, что я предназначаюсь для другой работы, в округе. Таким образом, с формированием опытного района мы справились. Но чего нам это стоило! Сколько дней и ночей было проведено на бесконечных совещаниях и заседаниях, в дороге – под дождем, в грязи. Потом мне этот опыт очень пригодился на работе в окружном исполкоме. Еще до конца 1923 года состоялся и первый окружной съезд Советов; многие его делегаты, как и я, недавно демобилизовались. В своем докладе я рассказывал о том, как проходила организация района. Самое главное, говорил я, не терять связи с середняцко-бедняцкой массой. Съезд принял решение сформировать окружной советский аппарат до сельсоветов включительно.
Чем только не приходилось тогда заниматься! Прибегает однажды к нам в райисполком местный судья за советом – к чему присудить парня по иску его любовницы на алименты, если он в качестве свидетелей привел двух своих приятелей, которые утверждают, что якобы тоже сожительствовали с истицей. Кто-то из нас предложил: поскольку, судя по показаниям, отцом ребенка мог быть любой из этих троих, пусть все они алименты и платят. Так судья и постановил. Алименты тогда составляли 3 рубля в месяц – сумма внушительная, если учесть, что пуд овса стоил 30 копеек. В общем, и сама истица, и все женщины в зале остались приговором очень довольны, а приятели ответчика, выйдя из суда, его избили. Когда я рассказал об этом случае в Сарапуле, наш суд назвали «Шемякиным», но решение отменять не стали.
Другой пример. Как-то Печенкин, начальник районной милиции, мне пожаловался на отсутствие средств на зарплату милиционерам. У меня денег тоже не было, и я посоветовал ему, взяв с собой фельдшера, отправиться на базар и оштрафовать недобросовестных торговцев. В ближайший базарный день Печенкин так и поступил. Наштрафовал столько, что хватило на зарплату и милиционерам, и даже учителю. Вот так это не вполне законное (в плане расходования средств) мероприятие и кончилось.
По бедности много забавного случалось на спектаклях в нашем клубе – то керосиновая лампа закоптит в момент объяснений героев в любви, то занавес не захочет закрываться, и актеры вынуждены продолжать игру. Грешно смеяться, но порой забавлял меня и наш главный милиционер Печенкин. Был он кривой и носил протез. Мало того, что эта стекляшка по цвету отличалась от его глаза, она еще и постоянно выпадала. Однажды ночью случился пожар, мы оба выскочили из дома, а печенкинский глаз возьми, да выпади. На улице темно, грязь, фонаря у нас не было. Я побежал на пожар, а Печенкин остался шарить в луже. Прибежал, когда мы все уже залили и осталось только растащить бревна. Весь в грязи, но глаз в кулаке. Доложил: «Нашел проклятого!».
За неимением профессионального театра любительские спектакли и концерты устраивались и в Сарапуле. Выступали случайно оказавшиеся в городе певцы, муж и жена, и врач Николай Иванович Лушников, которого все звали «Коля-бас». Костюмов, конечно, не было. Помню, наш плановик представлял князя из «Русалки» в… подряснике и был в этом наряде похож на беременную женщину Под его скрипучие рулады публика покатывалась со смеху.
«Коля-бас» был колоритной фигурой – даже зимой жил в неотапливаемом мезонине, спал под одной простыней на топчане без подушки и матраца, круглый год ходил в летней одежде и по утрам купался – специально нанимал человека поддерживать в готовности прорубь на речке Сарапулке. Говорил, что зимой в воде «греется». Как-то в ледоход на Каме разлегся в одних трусах на льдине и проплыл вдоль берега на глазах у изумленных горожан. Потом сполз с льдины как морж, доплыл до берега, оделся и как ни в чем ни бывало отправился по своим делам. Потом объяснил, что этот спектакль устроил, чтобы быстрее распространить талоны в пользу детских учреждений – объявил на базаре, что тот, кто их у него купит, увидит его лежащим на льдине. Талоны у него мигом расхватали. Позже, будучи в командировке в Москве, купался в полынье у Замоскворецкого моста против Кремля, что даже попало в кинохронику (он потом нам ее показывал). Народу поглазеть на него и там собралось полным-полно. Когда я с ним встретился через много лет, в 1939 году, он уже был женат и зимой не купался. Только тогда я узнал, что этими купаниями он лечил туберкулез. Теперь, говорит, легкие зарубцевались и залезать в холодную воду не только нет нужды, но и опасно – вдруг схватишь воспаление легких!
В Сарапуле мы жили рядом с большим липовым садом. Во время цветения лип или летом после дождя в этом саду, бывало, не надышишься, настолько воздух в нем был чист и свеж. Как и раньше, в свободное время я рыбачил и охотился. За утро набивал уток штук по 20–30. Около Каракулина на одном из камских плесов останавливались стаи перелетных гусей, и местные охотники забивали их десятками – огонь вели из хорошо замаскированных укрытий, и это, конечно, была не охота, а варварское истребление дичи. Потом нагружали битой птицей лодки, прицеплялись к проходящим пароходам и на буксире приходили в Сарапул. Там гусей солили, коптили и продавили по дешевке. Мне такая «охота» напоминала ловлю уток сетью (как было в Березове) и никогда не привлекала.
По воскресеньям уезжал рыбачить с ночевкой на острова. В глубоких местах у Старцевой горы близ Сарапула водилась по-настоящему крупная рыба. Помню, какой-то старичок принес оттуда восьмипудового «белужонка» – тот запутался в мережку. В другой раз белуга чуть не уволокла на глубину две лодки вместе с сетью и рыбаками – тем пришлось спешно обрубать веревки. Снасть исчезла бесследно. Был случай, когда белуга утащила купальщика на глазах его брата – по его словам, когда брат закричал, вода вокруг него кипела как в котле, и тот только булькнул. Потом это место спасатели проходили и неводом, и кошками, но тело мальчика (помню его фамилию – Изергин) так и не нашли.
Как я уже говорил, первый окружной съезд Советов постановил сформировать советский аппарат округа сверху донизу. За решение этой задачи мы и взялись. Нам в помощь прислали толковых опытных людей. Председателем окружного исполкома стал Сергей Николаевич Жилинский[137], член партии с 1903 года. Насколько я знаю, умер он в Москве от сыпного тифа после командировки в Афганистан. Его заместителем и начальником планового отдела назначили В.А. Норкина, который, как и Жилинский, имел высшее образование и до приезда в Сарапул работал заместителем директора одного НИИ. Потом его перевели в Москву, где он недавно и умер. Были и другие крупные работники, и, надо сказать, работа пошла хорошо. Мы часто встречались с рабочими кожевенного завода – прямо в цехах проводили собрания, разного рода совещания, иногда устраивали и концерты. Летом 1924 года, по заданию окружкома, на собрании сарапульской интеллигенции я делал доклад о том, что есть Советская власть. Говорили, что выступил хорошо – логично, доходчиво.
Никаких троцкистских или иных антипартийных группировок у нас не было.
На съезде меня, «опытного организатора района», избрали в Президиум окружного исполкома, а там назначили секретарем. В моем подчинении находился организационный отдел, задача которого заключалась в создании районных советских аппаратов. Вот тут-то мне и пригодился опыт, приобретенный в Каракулине, – ко мне как к «энциклопедии» по оргвопросам коллеги часто обращались за советом. Недавно, в 1953 году, один из них, Александр Михайлович Быстрицкий, вспоминая нашу совместную работу в Сарапуле, заметил, что в окрисполкоме обо мне говорили: «Раз Павлов сказал, значит, так и будет». Пишу это не для похвальбы – никаких особых талантов за собой не знаю. Хочу лишь подчеркнуть, как много мы тогда работали и старались это делать как можно добросовестнее.
Бывало, во время очередного заседания разболится голова, выйдешь в приемную, примешь пирамидону, полежишь на диване несколько минут– и дальше заседать. Придя домой, все мы, руководители округа, как правило, работали еще до 2-3-х часов ночи – писали доклады, отвечали на письма и т. д. Бывало, заработаешься и звонишь председателю в четвертом часу утра – всегда выяснялось, что он тоже еще не ложился. Однажды пришел вечером домой и от переутомления свалился. Позвали доктора, тот велел отлежаться и отоспаться. Только лег, звонит председатель и просит срочно отправиться на окружную конференцию учителей и сделать там доклад по бюджетным вопросам. Делать нечего, взял портфель и пошел на конференцию, а доктор за мной. Докладывал я весь в поту, от слабости меня качало, и доктор готовился меня подхватить, если я начну падать. Хотя я говорил, как в тумане, доклад, говорят, удался, никто из слушателей моего состояния не заметил. Но и то правда, что окружной бюджет я знал почти наизусть.
Очень тяжело мы пережили смерть В.И. Ленина. В то воскресенье я был дома, вдруг звонят и приглашают зайти в редакцию газеты «Красное Прикамье». Прихожу. В комнате сидят члены бюро окружкома и весь президиум окрисполкома, у некоторых на глазах слезы. Спрашиваю: «Что случилось?». Жилинский глухим голосом отвечает: «Ленин умер». У меня ноги подкосились. В день похорон мы провели большой траурный митинг, на трибуне стоял портрет Ленина – говорят, он и сегодня висит в зале Сарапульского горсовета. В момент опускания тела в Мавзолей, мы, как и вся страна, салютовали. Подходили к нам и служители церкви с просьбой проводить вождя колокольным звоном. Мы посоветовались и им отказали. Придя домой после этого митинга, я (теперь об этом уже можно сказать) рыдал как ребенок – до того были взвинчены нервы. И не я один. Секретарь окружкома, как и я, видавший виды бывший подпольщик, плакал, когда к нему с соболезнованиями пришла делегация рабочих-кожевников.
А, между тем, дел по службе все прибывало. По случаю болезни – как потом выяснилось, неизлечимой – зампреда, курировавшего окружное здравоохранение, его обязанности возложили на меня. Возни с этим окрздравом было много – больницы требовали ремонта, не доставало ни персонала, ни медикаментов, да и заведовал им бывший фельдшер Первушин – человек необузданный, персонаж эпохи военного коммунизма. Высокий, худой и страшноватый внешне, на службе он не расставался с наганом, а когда ему советовали его снять, отвечал своим хриплым басом, что все врачи – контрреволюционеры, и без нагана заставить их работать невозможно. Сам он медицины и докторов не признавал и лечился исключительно баней, водкой и редькой с квасом. Насилу мы от этого «кадра» избавились – перевели в Тобольск, а новым заведующим окрздравом назначили врача H.H. Муарского. Среди прочих дел довелось мне и закрывать больничную церковь – ее здание переоборудовали в лабораторию.
Конечно, мы продолжали много ездить по районам, проводили там партийные конференции, совещания по вопросам советского строительства, в общем – вели политико-массовую работу. Иногда приходилось сталкиваться с неожиданными ситуациями. В Воткинске, куда мы выезжали целой бригадой, ко мне подошел не старый еще мужчина и сообщил, что со времен гражданской войны числится «расстрелянным» и не может получить документы. Оказалось, что расстреливали его белогвардейцы, о его смерти сообщили и семье, но он чудом выжил.
Следующим шагом после создания окружного советского аппарата стало восстановление местной промышленности, которая, если не считать кожевенного завода, находилась в плачевном состоянии. Крупорушка, мельница, канатный, винокуренный, кирпичный, маслобойный и другие сарапульские заводы стояли не ремонтированными и без сырья. Облегчало нашу задачу только то, что рабочие и другой персонал оставались на местах. Во главе вновь созданного промкомбината сначала поставили человека малограмотного и безынициативного, а в конце 1924 года– меня. Проработал я на этом посту ровно год – до конца 1925 года.
Оборотных средств я не получил никаких и начал с того, что стал реализовывать ненужное сырье, а нужное заготовлять на кредиты Госбанка и Сельхозбанка. Особенно большую помощь мне оказывали управляющий отделением Госбанка Тазавин и Норкин, как председатель окрплана. Аппарат своего промкомбината мне удалось укомплектовать очень хорошими работниками: моим заместителем (а потом и преемником) стал Н.Г Бурнашев, главбухом – Кожевников, заведующим производственной частью – Н.Г. Тепляков. Благодаря всему этому, уже к середине 1925 года нам удалось запустить старые сарапульские предприятия и даже создать новые – пивоварню и завод фруктовых вод. Баланс промкомбината перевалил за миллион рублей, и мы за свой счет отремонтировали с десяток многоквартирных домов для рабочих. После этого от желающих работать на наших предприятиях не стало отбоя.
Работали мы так. Ежедневно в 6 утра я верхом объезжал заводы, а в 9 начинался мой рабочий день в управлении, который длился по 10–12 часов. В 8–9 вечера я собирал своих руководителей, мы подводили итоги дня и намечали планы на завтра. Трудные участки – «проталкивать» учет векселей в Госбанке или за помощью в окрплан – я, как и подобает командиру, старался брать на себя. И так изо дня в день. Каковы же были результаты нашей напряженной работы? На 1 января 1926 года промкомбинат дал чистой прибыли 125 тысяч рублей и имел более 40 тысяч рублей оборотных средств. Все заводы были восстановлены и работали с полной нагрузкой. Посещая их, мы встречались и беседовали не только с заводской администрацией, но и с рабочими у станка. Эти беседы много давали и нам, и самим рабочим. Мы возвращались в управление, нагруженными всякими проектами, советами и т. п., рабочие же узнавали от нас о наших планах, достижениях и опыте соседей.
В ноябре 1925 года, по решению Уралобкома, меня назначили управляющим сарапульским отделением Промбанка. Но сарапульский окружком с решением обкома не согласился и выдвинул мою кандидатуру на должность председателя окрплана вместо Норкина, которого перевели предокрисполкома в Ирбит Управляющий же областной конторой Промбанка, узнав об этом, провел через обком мой перевод в Челябинск – на должность тамошнего управляющего Промбанком. Так я, не имея почти никакого представления о банковских операциях, надолго превратился в «советского банкира».
Уезжали мы в Челябинск из Сарапула в июне 1926 года с грустью. Здесь я воевал в гражданскую войну, здесь же нашел себе жену и обзавелся двумя детьми, много сил и труда вложил в создание уездных органов советской власти и в городское хозяйство. К тому времени окончательно рухнула и моя давняя мечта о продолжении образования. Как я уже рассказывал, зазывая меня на работу в Сарапул, секретарь укома твердо обещал мне путевку на учебу, но его преемник, Сенько, заявил, что меня «заменить некем», а учиться поедет «свободный Кабанов». Сейчас Кабанов[138] министр внешней торговли СССР – вырос человек. Ну, а я… Когда вышло правительственное постановление о том, что в советские вузы принимают только до 35 лет, мне стукнуло уже 36. В общем, с мечтой о высшем образовании мне пришлось распроститься.
Материально в Челябинске мы стали жить лучше – здесь по «партмаксимуму» я получал уже 64 рубля в месяц против 51 рубля в Сарапуле. Но на новом месте мне не нравилось. Хотя Челябинское отделение Промбанка было относительно крупным, работать там было скучно – местной промышленности в городе было мало, а имевшиеся предприятия давно функционировали. Не привык я и к отсутствию общественной работы, а ее не было – в Челябинске меня никто не знал. Кое-как прожили мы здесь 9 месяцев, и я попросился в Пермь, где было самое крупное в области отделение Промбанка – с 5-миллионным балансом.
В Перми пошла совсем другая жизнь и в профессиональном, и в общественном плане. Работа здесь была уже не сарапульского масштаба – Пермский округ был несравнимо крупнее и промышленно более развит, начиная с самой Перми, бывшего губернского города. Здешнее отделение Промбанка кредитовало крупные заводы– Лысьвенские, Чусовские, Добрянские. Из частников мы давали кредиты торговцам – частной промышленности к тому времени уже не было, а кустарей кредитовали мелкие кредитные кассы. Меня избрали в президиумы Пермского горсовета и окружного исполкома, сделали членом ревизионной комиссии окружного комитета партии. Всего мы прожили в Перми два года.
Как управляющий пермского отделения Промбанка, летом 1928 года я вошел в бригаду по хлебозаготовкам. В то время с хлебом было плохо, а между тем разворачивалась индустриализация, вступила в действие первая пятилетка. Кулаки припрятали огромные запасы зерна, и вот нас пятерых послали в два-три района этот хлеб выкачивать. В окружкоме мы получили директиву: хлеб у кулаков добыть во что бы то ни стало, применять любые средства, но так, чтобы не вызывать восстаний.
По приезде в каждое село мы первым делом собирали коммунистов и комсомольцев, бедноту и советский актив. От них узнавали настроения крестьян, а также имена держателей хлеба. Затем вызывали таких в сельсовет (беседы с ними почти всегда проходили ночью) и предлагали сдать зерно добровольно. Если кулак зарывал хлеб в землю (об этом мы, как правило, узнавали от соседей), его судили. На таких «процессах» я выступал в роли общественного обвинителя, и меня прозвали «прокурором». Подолгу и основательно беседовали с середняками – объясняли, сколько зерна надо сдать, а сколько можно оставить себе. После этого середняки, как правило, сдавали хлеб добровольно. Кулаки же – всегда под большим нажимом, нередко оказывая физическое сопротивление. Один из них встретил наших комсомольцев с дубиной в руках. Те разозлились, усадили его в телегу, рядом положили распоротую перину и так и повезли, всего в пуху. Этого кулака в селе не любили, называли «живодером», и потому симпатии сельчан были на нашей стороне. Мы, конечно, пожурили комсомольцев за допущенный «перегиб», но после ночной беседы в сельсовете этот кулак хлеб сдал, и много.
Радио тогда в деревне не было, и я несколько раз выступал перед крестьянами с докладами о текущем моменте. Народу всегда собиралось много. Говорил я, наверное, неплохо, и мои доклады проходили очень оживленно. Всегда подводил к тому, что чтобы укрепить наш советский строй, требуется индустриализация страны, а ее без хлеба не проведешь – рабочих надо кормить. Значит, задача крестьян – сеять больше хлеба и овощей и снабжать ими наше государство. Только в этом случае мы сможем устоять под натиском мировой буржуазии. В общем, спустя три недели мы «победителями» вернулись в Пермь.
Вторая моя крупная командировка была на Чусовской завод. Здесь мне предстояло подробно ознакомиться с состоянием дел прежде, чем открывать заводу новое, более широкое финансирование. Завод я обследовал детально, включая быт рабочих. Меня неприятно поразила пелена едкого дыма, которая день и ночь застилала город, – с непривычки было даже трудно дышать. Завод работал на древесном угле, который обжигался тут же, в печах, они-то и давали этот дым. Сейчас там углеобжигательных печей нет, их еще до Великой Отечественной войны перенесли в горы, подальше от города. Но заводской дым по-прежнему отравляет воздух.
В конце 1928 года по решению Уралобкома меня назначили начальником финансового управления округа. В Уральской области Пермский округ имел самый крупный бюджет. Но кроме финансов приходилось и руководить хлебозаготовками, и проводить выборы в сельсоветы, и распространять тиражи сельскохозяйственного займа, в общем – почти постоянно ездить по районам. Раза два в неделю мы устраивали и своеобразные телефонные «конференции» – соединяли телефоны сельсоветов с телефонами соответствующего райкома и райисполкома и заслушивали доклады уполномоченных. Наутро выезжали в сельсоветы, в которых требовалось наше присутствие. Часто приходилось ездить и на машиностроительные заводы – Очёрский, Павловский.
Распространять облигации займа и разыгрывать тираж мы отправились в райцентр – большое село Ильинское. В докладе на пленуме райисполкома в присутствии всех председателей сельсоветов я рассказал о деятельности окрисполкома, говорил и о грядущей коллективизации сельского хозяйства. Тут же образовали тиражную комиссию. По договоренности с райкомом партии, большой колонной местных рабочих с духовым оркестром мы двинулись на базарную площадь на митинг, на котором мне снова пришлось выступать – на этот раз о международном положении и, кратко, о смысле и значении займа. В заключение пригласил всех в районный клуб на тираж и на покупку облигаций займа. Все три дня кампании клуб был переполнен. Особенно оживленную реакцию вызывали выигрыши по облигациям и получение денег. Позднее секретарь райкома докладывал на бюро окружкома о «блестяще» проведенном тираже. Как мне рассказывали, ильинские рабочие тоже остались очень довольны этим невиданным ими прежде праздником.
В марте 1929 года, по решению того же Уралобкома, меня перевели в другой, Верхнекамский, округ на ту же должность руководителя финансового управления. Перевод из Перми в Соликамск выглядел ссылкой, и я отправился за разъяснениями в обком. Здесь узнал, что в Верхнекамском округе намечается строительство огромного химического предприятия и потому меняется весь состав так называемой «двадцатки ЦК». Новых руководителей подбирают особенно тщательно. В Соликамск мы с семьей выехали в конце марта уже не на санях, а на колесах, приехали на место, а там – зима в разгаре. Сам Соликамск по сравнению с Пермью выглядел деревней, только несметное количество церквей указывало на то, что это все-таки город. Не понравилось нам поначалу и в отведенном нам доме – холодно, сыро, неуютно.
Но планы нового строительства выглядели впечатляюще. Кроме химкомбината в Березове намечалось возведение калийного треста, нескольких новых угольных шахт, плотины на реке Вишере с последующим соединением ее с Печорой в единую водную систему. Одновременно предстояло возвести целые поселки и даже города для рабочих. На это тоже были выделены огромные средства, привлечена масса рабочих рук. Велись крупные лесозаготовки, причем часть леса вывозилась за пределы округа. В общем, стала понятной его нужда в сильных и энергичных руководителях.
Окрисполком возглавил Александр Николаевич Михалевский, бывший руководитель Нижнетагильского окрфо, а до того учитель. Я его знал еще по Перми как человека политически грамотного, вдумчивого, осмотрительного. Его жена, тоже бывшая учительница, заведовала отделом в окружкоме партии. Наша семья близко сошлась с Михалевскими и их четырьмя детьми. Сам Михалевский после Соликамска работал в Златоусте, в Челябинске, но в 1932 году, когда Уральскую область разделили на четыре новых – Пермскую, Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую, я потерял его из вида. Его жена, будучи заведующей отделом школ обкома партии, в начале 1930-х годов умерла в Свердловске от разрыва сердца.
Заместителем Михалевского был Механошин – человек по виду тихий, скромный, но дело знавший. Окружным сельским хозяйством неплохо руководил Беляшов, ответственным секретарем стал бывший окружной милицейский начальник по фамилии Заразилов. Определенно на своем месте был и председатель горсовета Буров – активный, солидный, обожал давать директивы. Но вот с руководством орготдела Соликамскому окрисполкому не повезло – его заведующий Поляков был высок ростом, но недалек умом. Как огня боялся Михалевского, который часто его отчитывал, а больше всего на свете любил лузгать семечки, сгрызая их мешками прямо на рабочем месте.
Среди инструкторов окрисполкома запомнился один бывший председатель Чердынского уисполкома – не буду называть его фамилию. Рассказывали, что в годы разгула нэпа чердынские купцы – а они там были богатые, промышляли лесом и рыбой – пригласили его на бал. Изрядно нагрузившись спиртным, наш предрик вообразил себя рыцарем и решил выпить шампанского из туфельки своей дамы. А туфля была не первой свежести, прямо скажем – дрянь была туфля. Но он выпил. Когда об этом узнали в уездном парткоме, за связь с нэпманами его сняли с работы и исключили из партии. Так он и попал к нам в инструкторы.
В целом руководители окрисполкома были сильными, политически грамотными, подготовленными работниками. Неплохо был укомплектован и окружком. Но, повторяю, сам город производил удручающее впечатление. На другой день после приезда, побродив по Соликамску, мы с женой сели на какую-то изгородь и призадумались, как будем жить в таком захолустье. А это была настоящая глушь – как-то ночью напротив нашего дома волки задрали козу и собаку, по городу скакали белки, в пяти километрах от Соликамска медведи нападали на домашний скот. Однако со временем мы пообвыкли и даже полюбили здешние леса. Так что в 1930 году покидали Соликамск с сожалением.
Соликамск был городок маленький, но с большим, еще дострогановским, прошлым и множеством исторических памятников, включая церкви. Кстати, именно по причине исторической ценности нам разрешили взорвать только одну из них. На месте, где сейчас стоит Березовский химкомбинат, было сплошное болото, там мы стреляли куликов. Прежде, чем начать строительство, всю площадку пришлось засыпать многометровым слоем глины и песка.
Аппарат окрфо был хороший, и работать мне было не трудно, тем более, что бюджет Соликамского округа по своему объему значительно уступал пермскому. С января 1930 года в нашем округе началась коллективизация, и окружком назначил меня своим уполномоченным в Усольском районе. В райцентре, древнем городе Усолье, еще работали старинные, на «деревянном ходу», солеварни. Задача перед нами, уполномоченными, была поставлена двоякая: во-первых, объединить карликовые колхозы в более крупные и, во-вторых, вовлечь в них единоличников-середняков и бедняков. Мы с секретарем райкома собрали колхозников трех сельсоветов в селе Пыскор, что в 12 км от Усолья. Сами жители этого села занимались больше не сельским хозяйством, а кустарными промыслами – сапожным, плотницким, смологонным. Докладчиком поставили представителя окружного сельхозуправления агронома Сапожникова, который неожиданно начал призывать слушателей немедленно образовать коммуну. Сапожников был беспартийным и, как выяснилось, действовал по собственному почину. Тогда я взял слово и сказал колхозникам, что партия стоит за коммуну, но к ней надо подготовиться, изучить людей, способы лучшего ведения коллективного хозяйства, узнать друг друга и только тогда говорить о коммуне; а сейчас давайте создадим настоящий, работоспособный, крупный колхоз. Колхозники со мной согласились, выбрали новое правление, а многие единоличники, присутствовавшие на собрании, тут же записались в колхоз. Вновь избранное правление приступило к подготовке дворов для объединяемого домашнего скота, а мы вернулись в Усолье.
Наутро меня по телефону вызвали на бюро окружкома, и уже днем я был в Соликамске. Пришел домой, открыл «Правду», а там – знаменитая статья Сталина «Головокружение от успехов», которая, как известно, отрезвила многих Сапожниковых. Обсудив вечером эту статью на бюро, мы получили приказ тут же, ночью, выехать по районам. Выходим из окружкома, а Михалевский мне и говорит: «А знаешь, зачем тебя вызывали?». Я, естественно, не знал. «Чтобы исключить из партии, а, может быть, и арестовать за то, что ты пошел против коммуны. Тебя спасла статья тов. Сталина». Говорит, а сам смеется. Я ответил, что в таком случае надо было бы исключать в первую очередь самого тов. Сталина!
Утром уже в Усолье мне сообщили, что в Пыскоре бунт. Секретарь райкома предложил немедленно направить туда милицейский отряд, но я сказал, что поеду один, поскольку милиция только все испортит. Подъезжаю на розвальнях к клубу, на улице шумит толпа – ищут председателя правления, чтобы выписаться из колхоза, весь обобществленный накануне скот уже разобрали по домам. Председателя сельсовета, усольского рабочего-выдвиженца, малость побили, и он тоже спрятался. Едва я вышел, мой возница нахлестал лошадь и рванул обратно в Усолье. Спокойно подхожу к толпе, спрашиваю: «Что за шум?». В ответ сразу несколько голосов спрашивает, читал ли я статью Сталина, суют мне в нос газету, галдят: «Не желаем быть в колхозе!». Я предложил поговорить в клубе и пошел туда, остальные двинулись за мной.
Скоро в клубе яблоку негде было упасть, я послал за колхозным начальством, пришел и секретарь партячейки. Я напомнил крестьянам их недавние разговоры о коммуне и сказал: «Что тов. Сталин говорит в своей статье? Только ли о том, чтобы вступать в колхозы добровольно? А вы прочтите статью до конца и увидите, что он, говоря о добровольности, также призывает вас идти в колхоз, ибо в нем ваше спасение от нищеты. Колхоз сделает вас зажиточными, вы сможете применять технику для лучшей обработки земли. Вы кричали, что не желаете быть в колхозе. Зачем кричать? Идите к председателю, вот он – в президиуме, и возьмите обратно свои заявления. Неправда, будто вас в колхоз гнали силой, вы ему сами приносили свои заявления. Но имейте в виду, партия вас зовет в колхоз – в нем ваше будущее и будущее ваших детей. Колхоз нищим не будет никогда, а богатым – обязательно, это сила, которая уничтожит нужду, голод и темноту. В общем, решайте сами. Митинг на этом заканчиваем, и, чтобы не терять время в разговорах, идите и думайте, где вам быть – в колхозе или вне его».
В зале была такая напряженная тишина, что было слышно людское дыхание. После моих слов крестьяне долго сидели молча, выступать никто не захотел. Все вышли из клуба, и многие пошли не к председателю колхоза забирать заявления, а домой. Когда все разошлись, секретарь ячейки мне и говорит: «А я смотрел, в какое окошко сигануть, когда тебя начнут бить, а что тебя будут бить, я не сомневался». Помолчал и добавил: «Ну и ну! Вот у кого надо учиться руководить массами!».
Потом я ездил по другим сельсоветам агитировать за колхозы. Вернулся в Пыскор. На колхозном собрании, в перерыв, походит ко мне одна крестьянка и говорит: «Тов. Павлов, зачем ты нас мучаешь? Скажи: идти мне с мужиком в колхоз или нет. Ночью мой муж дрыхнет, а я не сплю, лежу и все думаю». Я ответил: «Чужим умом жить не надо, но я, конечно, советую идти в колхоз, как на собрании и говорил. Вы, видать, люди честные, вдумчивые и в колхозе будете полезны. Идите, там ваше место». И они вступили в колхоз. Как-то они живут теперь и помнят ли меня и мой совет? Неделю спустя нас, уполномоченных, снова вызвали на бюро окружкома для доклада о ходе коллективизации. Вызвали и секретарей райкомов. Оказалось, что в моем районе 25 % населения вступило в колхозы, а в других районах– 2–5%, максимум 10 %. И это несмотря на то, что у меня в районе было много кустарей и рабочих деревенских кустарных солеварен, которые в колхозы не вступали. Думаю, что секрет прост: крестьяне, часто сталкиваясь с рабочими, с производством, были более развиты и быстрее разбирались в политике партии в области коллективизации сельского хозяйства.
Перегибов же в деле коллективизации, как и писал тов. Сталин, было очень много. Так, руководители некоторых районов Уральской области, даже не посоветовавшись с населением, объявляли о создании больших крестьянских коммун. Одной такой коммуне-«гиганту» в Краснополянском районе в местной печати пели хвалебные гимны, «Уральский рабочий» помещал о ней восторженные статьи. Председатель тамошнего райисполкома говорил мне, что, организовав коммуну в масштабе всего района, они теперь ставят вопрос о ликвидации аппарата советской власти. Вот до какого идиотского вывода договорились! Секретарь Новозаимковского райкома Денисов сутками «беседовал» с единоличниками об их вступлении в колхоз. Чтобы «беседа» шла непрерывно, попеременно сменялся со своим заворготделом. Доведенные ими до остервенения крестьяне убегали в Тюмень.
В Шадринском районе у не желавших вступать в колхоз мазали заборы дегтем или вывешивали на воротах красный фонарь, что в первом случае означало, что здесь живет распутная женщина, в во втором – являлось обозначением дома терпимости. Осенью 1932 года в Туринском районе комсомольцы в рамках кампании по озеленению самовольно засадили молодыми деревцами только что вспаханную целину. Крестьяне возмутились и прогнали парней с пашни, а посаженные деревья выбросили. Ребята перепугались, прибежали в сельсовет с вестью, что в селе восстание. Председатель сельсовета и члены партячейки, не разобравшись, удрали в соседний район и сообщили о происшествии в обком и облисполком. Там не поверили и отправили в село не вооруженный отряд, а комиссию, которая по пути встретила целую депутацию. Крестьяне им заявили буквально следующее: «Едем за советской властью, которая от нас сбежала. Мы ее не трогали, а малость поучили комсомольцев, чтобы они не совались не в свое дело». Сколько было хохоту, когда на облисполкоме докладывали об этом происшествии – я при этом присутствовал. Но если говорить серьезно, послушайся мы в свое время в Пыскоре агронома Сапожникова и организуй коммуну, дело действительно могло кончиться восстанием.
Так вот, статья тов. Сталина отрезвила многих таких «активистов», которые еще и подзуживали – мол, карликовый колхоз – «могила колхозного строя», надо создавать «гиганты» (своими ушами слышал такие призывы в Соликамске от врага народа Кабакова). Тех же, вроде меня, кто пошел против таких «гигантов», в первое время сажали в тюрьму как изменников. Как я уже писал, та же участь ожидала и меня.
Как известно, осенью 1930 года округа были ликвидированы и нас, двадцатку ЦК партии, направили на укрепление районов. Меня назначили заведовать финансами в Новозаимковский район, за Ялуторовском – в места, где я при царизме отбывал ссылку. На мой вопрос, что это за район, один из руководителей областных финансов сообщил: «Район хороший, сплошь кулацкий и бандитский, поработать тебе есть где». Видимо, не случайно, что перед отъездом в добавление к своему браунингу в ГПУ я получил еще и наган. Поехал один, без семьи. Перевез, когда нашел более или менее подходящее жилье.
Ново-Заимка оказалась захолустьем почище Соликамска. В то, что мы когда-то жили в «самой» Перми, уже как-то и не верилось. Осенью, в распутицу, когда на улицах была непролазная грязь, на работу приходилось добираться в охотничьих сапогах. Зимой тяжело переболел гриппом – в основном на ногах, валяться в постели некогда было. Жену, маленьких детей и старуху-мать привез в Ново-Заимку в пургу, почему-то ночью. Нашими хозяевами были старик со старухой. Он – бывший крупный возчик, водил обозы в Иркутск, обратным ходом доставлял в Тюмень китайский чай. Уезжал осенью, зимником, возвращался ближе к весне. Много рассказывал о своих дорожных приключениях – и как в пургу в 50-градусный мороз замерзал, и как встречался с бродягами, беглыми каторжанами и медведями. Как «гулял» в Иркутске даже с француженками. Занятный был старик, высокий, могучий. В бане парился до одури, хотя ему в то время было около 80 лет. Как я потом узнал, он, как бывший кулак, поддерживал связи с кулаками соседних деревень, и потому там с неслыханной быстротой узнали о моем приезде. Жена видела, как с нашими хозяевами постоянно шептались какие-то пришлые люди, а после старики приставали к ней и к матери с расспросами о том, что я думаю делать и каков я характером. Пытались ей всучить взятку в виде утки, гуся, еще каких-то продуктов.
Но какой же шум поднялся, когда я стал облагать кулаков в индивидуальном порядке! Дело в том, что к моему приезду в районе было обложено всего 39 кулацких хозяйств – намного меньше, чем их было на самом деле. Я действовал законно – на основании письма Совнаркома РСФСР о массовом недообложении индивидуальным налогом зажиточных крестьян. После этого моим домашним не стало житья – их осаждали старики, старухи, молодые, все жаловались на мою жестокость и бессердечие, угрожали расправой, говорили жене: «Он, ведь, у тебя часто ездит по деревням один, долго ли до греха, вдруг подшибут». Соседи перестали продавать нам молоко, хлеб, муку, нечем стало кормить наших малышей. В общем, жили от базара до базара, пока не обзавелись коровой, курами и огородом.
Пришлось поменять и жилье. Жена подыскала пустующий кулацкий дом, его быстро отремонтировали, и мы туда переселились. Однажды прибегает ко мне на работу дочурка вся в слезах и кричит: «Папа, иди скорее домой, у нас пожар!». Бегу домой, в комнатах полно дыму который идет откуда-то из-под печки. Бросаюсь в подвал, вижу там тлеющую балку, заливаю ее водой. Выяснилось, что печники, которые перекладывали при ремонте печь, не позаботились изолировать ее даже песком, и когда ее затопили, угли стали проваливаться в щели и зажгли и пол, и половую балку. Этих горе-печников потом пытались найти, но тщетно. Я понял, что это была месть со стороны кулаков, и сообщил об этом в районное ГПУ. Тем дело и кончилось. Потом печь нам переложили уже по всем правилам.
Сверх ранее обложенных 39 кулацких хозяйств я, по общему счету, обложил еще 100. На меня посыпались жалобы в Свердловск и даже в Москву, но все затребованные по этому случаю дела были решены в мою пользу – материал был оформлен правильно, и Свердловское облфо его утвердило. Местное кулачье ждало подходящего случая, чтобы отомстить. Все это понимали, и когда мы в одном из близлежащих к райцентру сел устроили выездную сессию президиума райисполкома, член сельсовета, у которого мы остановились, отправился на заседание с берданкой в руках. На наши недоумения он ответил, что членам сельсовета вечером без оружия ходить нельзя: «Зашибут из-за угла». И это было в конце 1930 года, на 14-й год советской власти!
Тем не менее, заседание прошло хорошо, народу в сельсовет набилось полным-полно, задавали много разных вопросов, звали приехать еще. Но ситуацию в этом селе мы без внимания не оставили, и скоро там арестовали группу бандитов, которые убивали колхозных активистов. Троих из них расстреляли, остальные получили по 10 лет тюрьмы. После этого в этом селе стало тихо. Я много ездил по деревням, но ни разу на меня никто не напал. Правда, в те времена мы путешествовали с наганами.
Кампания по коллективизации шла своим чередом. Единоличников мы обычно собирали в сельсовете и ночь напролет с ними беседовали, призывая вступать в колхоз. К сожалению, примеров благополучной колхозной жизни в нашем распоряжении было мало. Часто колхозный скот плохо кормили и он подыхал с голоду, работу в поле колхозники старались заменить разговорами в правлении, под шумок уводили на дворы своих бывших коров и лошадей.
В мае 1931 года всех выявленных и обложенных мною кулаков высылали на север. Мне было поручено произвести аресты в селе Старая Заимка в 4-х км от Новой. Приехал туда ночью, собрав партийцев и комсомольцев, разослал их по кулацким домам с приказом свезти арестованных в сельсовет. На этот раз их выселяли без семей на лесозаготовки близ Тюмени. Правда, ко многим потом семьи переселились сами. Когда выселяемых сажали на подводы, поднялся страшный гвалт, их жены бросались на меня с кулаками. Разместили их в новозаимковской церкви и потом партиями, по нарядам, отправляли дальше. Много их там было, но как-то странно смирно они себя вели: не грозили, не ругались, а только спрашивали, далеко ли их «угонят». Мы отвечали что знали. Оставшиеся подкулачники попытались сжечь здание райкома, но сгорели только амбары.
В общем, выселение прошло без драк и скандалов. Далее последовала кампания по реализации имущества всех одиннадцати церквей района, к тому времени закрытых. Церковные здания использовались как ссыпные пункты, клубы, библиотеки, а церковное имущество валялось где попало – в подвалах, амбарах и т. д. С санкции райкома и райисполкома я приказал свезти все это в район для реализации. Потянулись в Ново-Заимку обозы с церковными книгами, утварью, коврами, одеяниями. Начальник райотдела ГПУ прибежал ко мне бледный, шумит: «Вы тут у меня восстание устроите», отправился жаловаться в райком. Там ему все объяснили, и он успокоился, но когда началась реализация церковных ковров, стал требовать их для своего учреждения. Хорошо, что я поставил самих строгих инспекторов. Сообща мы не дали ни одного ковра ни райкому, ни райисполкому, ни ГПУ. Все упаковали в ящики и отправили в Москву, в ГУМ, куда, по распоряжению наркомфина, раньше отправляли ковры и ризы из Соликамска и Сарапула. Позолоченные серебряные оклады с икон содрали и сдали в Госбанк, а сами иконы сожгли. Прочее имущество продали с торгов на местном базаре, и деньги сдали в бюджет. Вскоре из ГУМа пришло 10 тысяч рублей, которые пошли на зарплату районным учителям и врачам. Потом выяснилось, что наш район был единственным в области, который не имел задолженности по зарплатам бюджетникам.
В июле 1931 года в рамках кампании по укрупнению районов Новозаимковский был ликвидирован, я сдал дела и уехал в Тюмень на должность заведующего городскими финансами.
В заключение рассказа о Ново-Заимке хотел бы кратко сказать о других руководителях района. Секретарь райкома Денисов, в прошлом рабочий, член партии с 1917 года, окончил комвуз; хорошо говорил, но от бюро до бюро почти ничего не делал, больше пил либо у себя на квартире, либо уезжая в одно из соседних крупных сел. Под пару ему, в смысле выпить, был заворг Пономарев, который при этом был безграмотен и говорить совершенно не умел. Зайцев, секретарь райкома комсомола, был хорошим, серьезным работником – сейчас он лектор Свердловского обкома партии. Председателем райисполкома состоял бывший рабочий Широков, член партии с 1917 года, земельным отделом руководил Кеткин. Работники райисполкома были сильнее сотрудников райкома партии, и потому работали мы совершенно самостоятельно. В сельсоветах, как правило, постоянно сидели уполномоченные. Случалось, что в один сельсовет из района съезжалось сразу несколько уполномоченных – по заготовке хлеба, конопли, кожи, по сдаче молока и даже ягод и грибов – бывали и такие! Заключат договор за полгода вперед и уедут, а договор останется на бумаге. Сколько раз мы разгоняли по домам этих бездельников!
Аппарат тюменского горфо состоял из опытных сотрудников, с которыми мне легко работалось. Однако у меня появились большие проблемы со здоровьем, которые, фактически, положили конец моему дальнейшему служебному росту. Нижняя правая часть живота начала меня беспокоить еще в 1927 году. Пермский эскулап (теперь профессор) диагносцировал раздражение слепой кишки и прописал растирания и прогревания. Боль прошла, казалось, что я вылечился, но спустя четыре года случился новый приступ, и уже тюменский врач посоветовал повторить прежний способ лечения. На этот раз появились адские боли, а температура резко скакнула вверх. Только тогда опытный хирург A.B. Сушков определил у меня гнойный аппендицит, который, конечно, ни в коем случае не следовало ни греть, ни растирать. Этот же хирург вскоре меня и прооперировал. Выкачал из меня пару стаканов гноя, но сам отросток найти и извлечь не сумел, уверял, что он сам рассосется. Но на деле образовался инфильтрат, который периодически воспалялся, и меня снова и снова оперировали. Все эти годы у меня в животе был гнойный мешок, который мог лопнуть в любую минуту и меня сгубить. Боль не покидала меня ни на минуту, я даже как-то с ней свыкся.
За эти 11 лет, с 1931 по 1942 год, я перенес 14 операций, и все были гнойными. В начале 1940-х годов я покрылся волдырями, врач-дерматолог определил начало заражения крови, вызванное частыми гнойными воспалениями. Я был на краю гибели, и директор свердловской больницы М.И. Карамышев предложил сделать радикальную операцию. И вот 15 июля 1942 года меня в очередной раз прооперировали. Хирург, профессор Ратнер[139], нашел и извлек наполненный гноем отросток, но, подбираясь к нему, разрезал крупный кровеносный сосуд, и я чуть не погиб. Карамышев потом мне говорил, что я «перешагнул через могилу». Когда я уже в палате пришел в себя, Ратнер меня осмотрел и попросил пошевелить пальцами правой ноги. Я пошевелил. Убедившись, что пальцы действуют, он сказал: «Ну, хорошо, все в порядке, отросток выбросили. Теперь больше операций не будет. Будете здоровы».
Впрочем, я несколько забежал вперед. Вернусь к Тюмени.
Основным недостатком работы здешнего горфо было то, что он был занят городскими проблемами и мало внимания уделял деревне. Между тем, райсовета в городе не было, и Тюменский горсовет одновременно руководил и районом. В общем, мне пришлось повторить свой новозаимковский опыт индивидуального обложения кулаков. В феврале 1932 года началась очередная хлебозаготовительная кампания. В противовес нам кулаки организовали молотьбу так, чтобы в мякину уходило как можно больше хлеба. Узнав об этом, мы начали повторно провеивать мякину. Идешь, бывало, по полю по пояс в снегу, находишь кучу мякины, берешь на ладонь, сдуваешь пыль, и на ладони остается зерно. Мы тогда очень много отыскали хлеба, припрятанного от нас таким путем. Конечно, это вызывало у кулаков лютую злобу против нас. Там же, в Тюмени, несмотря на противодействие Наркомпроса, я снес церковь, стоявшую на берегу реки Туры. Наркомпрос ее охранял как какую-то редкость, но нам легко удалось доказать необходимость ее ликвидации.
Служба советским «банкиром»
Аппарат тюменского горкома партии состоял из людей политически грамотных. Первым секретарем был Азволинский[140] – выпускник комвуза, человек работоспособный, часто бывал на заводах и хорошо знал положение дел на них. Но в деревню он ездить не любил и там не бывал. Так же к сельским проблемам относился и второй секретарь (он же заворг) Кузьмин. Таким образом, сельским хозяйством вплотную занимался лишь горсовет, причем не его председатель, человек малограмотный и боявшийся деревни как огня, а его заместитель. Вот именно на эту должность меня и назначили в феврале 1932 года, одновременно избрав в бюро тюменского горкома партии. Но 3 мая меня телеграммой вызвали в Свердловск, чтобы объявить о новом назначении – начальником уральского областного управления гострудсберкасс. Приятели предупреждали, что начальники этого управления больше двух недель не задерживаются, и потому не советовали выписывать из Тюмени семью. Я же проработал на этой должности до 1934 года, то есть два с половиной года, имея в своем подчинении более 200 сберкасс и свыше 2,5 тысячи сотрудников.
На своих заместителей по управлению я мог положиться и первым делом взялся за проверку рядовых работников, имея в виду реализацию займа как основную операцию сберкасс в ближайшее время. Этого требовала и партия. Нам предстояло технически подготовить сберкассы к приему денег, выдаче облигаций, обеспечить их подписными листами и всем необходимым. А ведь свердловскому областному управлению подчинялись даже северные Березов и Обдорск, где я когда-то был в ссылке. И туда надо было своевременно забросить все необходимое для займа. Приходилось много передвигаться по области – в одиночку и в группах, пешком и на лошадях. Часто выступал с докладами. Имея в виду проблемы с аппендицитом, считаю, что выжил тогда лишь чудом.
В районных сберкассах часто случались растраты и хищения. Мы ввели строжайшую проверку вновь принимаемых сотрудников, особенно кассиров. Но не всегда этот «заслон» срабатывал. Помню, в одну из челябинских сберкасс кассиром устроился некий гражданин, всегда работавший в кепке. Документы у него были в порядке, и эта странность поначалу не вызвала подозрений. Но спустя какое-то время кассир исчез, а вместе с ним 10 тысяч рублей и облигации на крупную сумму. Понятно, начальник сберкассы заявил о пропаже в милицию и в НКВД. Вскоре его вызывают и просят опознать совершенно обритого человека, а потом его же, но уже в кепке и в гриме – с накладными волосами, усами и бородой. И только во втором случае начальник сберкассы узнал своего беглого кассира.
За время моей работы начальником управления мы навели основательный порядок, и растрат стало намного меньше. Поэтому, уходя из сберкассы в 1934 году, я мог со спокойной совестью сказать, что поработал много и результативно. Меня не хотели отпускать, в Москве считали «энтузиастом» сберегательного дела, поскольку я не только работал практически, но и часто писал по этим вопросам в центральных и областных газетах. Однако вновь подвело здоровье, и в 1934 году после очередной тяжелой операции я был вынужден уйти. Моим новым местом работы стал свердловский областной коммунальный банк – «комбанк». Обком настаивал, чтобы я занял кресло его управляющего, но для такой ответственной работы я все еще слишком плохо себя чувствовал и согласился на место заместителя управляющего.
Домашние проблемы усугубили дело. Осенью 1933 года у жены обнаружился туберкулез позвоночника и она слегла на десять месяцев. Совершенно ослепла мать. Чтобы ухаживать за ними и за тремя детьми – а им тогда было от 7 до 12 лет – пришлось нанять домработницу, и это при моей зарплате в 500 рублей! Хотя мне удавалось кое-что экономить из командировочных, чтобы прокормиться, приходилось распродавать одежду и вообще все, что можно было продать. Помню, Петр Петрович Ермаков, секретарь нашего Общества старых большевиков, случайно узнав о моем бедственном положении, сначала отругал меня за молчание, а потом выдал чек на 400 рублей. Это оказалось очень кстати – в тот момент денег в семье не было совсем.
В комбанк я перешел в разгар борьбы с вредителями и диверсантами. В качестве примера их деятельности приведу ситуацию со строительством школ, которая сложилась в Свердловской области в 1936 году. Всего к началу учебного года в области планировалось возвести примерно 80 школ – 30 в городе и около 50-ти в области. Чтобы сорвать эти планы, вредители, засевшие в обкоме партии и в облисполкоме, всячески затягивали дело – то не давали стройматериалы или деньги из бюджета, то браковали смету или проект, то перебрасывали рабочих на «более ответственные» стройки. В письме нашему старому знакомому, председателю Совнаркома РСФСР Сулимову мы с управляющим комбанка Матюшиным, описав ход школьного строительства, прямо заявили о вредительстве и просили его вмешаться. Но вместо этого Сулимов переправил наше письмо Кабакову, махровому врагу партии и советского государства. Тот вызвал нас обоих на президиум облисполкома, на котором нас всячески ругали и высмеивали, особенно меня, как бывшего подпольщика. С заседания мы вышли как оплеванные. Но своего мы все-таки добились – с тех пор строительство школ стало обеспечиваться всем необходимым и к началу учебного года все они были готовы. Мы, конечно, рисковали головой, идя наперекор вредителям, и я до сих пор удивляюсь, как они оставили нас в живых.
Вообще, это было страшное время, тяжело его вспоминать. Все были как в лихорадке. В самом деле, куда можно было обратиться, если ты обнаруживал вредительство? Даже в обкоме партии и во многих наркоматах, как потом выяснилось, засели враги. Только к самому Сталину, но и его окружали разные Ягоды[141], да Берии[142], которые могли тебя арестовать, а то и убить, как в свое время они поступили с Кедровым[143].
Заместителем управляющего комбанка я проработал до конца 1937 года, затем на год стал управляющим, но в конце 1938 года, перенеся две тяжелых операции, ушел на прежнюю должность и оставался на ней до 1940 года. Никаких нареканий по работе не имел. Много времени и сил тратил на общественную работу – в банке руководил кружком по изучению истории партии, кружком пропагандистов при Ленинском райкоме партии, состоял членом его пленума и до 1946 года членом ревизионной комиссии горкома. Кроме того, ко мне на дом приходили учителя по математике, истории и географии. В общем, раньше 3–4 утра ложиться спать удавалось редко.
В заключение скажу несколько слов о работниках нашего банка. Управляющий Матюшин происходил из семьи рабочего Брянских заводов, в прошлом и сам был рабочим. По окончании финансового института был назначен управляющим Нижнє-Тагильского отделения Госбанка. В общем, грамотный, подготовленный, толковый руководитель. Однако был неразборчив в знакомствах и равнодушен к общественной работе. В 1937 году его даже на год исключали из партии за связь с врагами народа и понизили в должности – именно в это время управлял банком я. После Матюшин работал в Москве, где и умер.
Отделами нашего банка заведовали Шеин, Ваулин, Коновалов, Петров, Кудряшов и другие крупные банковские деятели. Они продолжают работать и сейчас, причем Кудряшов вот уже 15 лет служит управляющим, а трое других, Ваулин, Петров и Коновалов, награждены орденами Ленина за 30-летнюю безупречную работу в банковской системе. Мы взяли на работу в банк и обучили много молодежи – Коныпина, который потом стал управляющим Свердловским торговым банком, Алабушева – ныне заведующего отделом банка; другие выросли до старших бухгалтеров, заведующих группами. Не удивительно, что в центральном аппарате комбанка наш считался одним из лучших.
В январе 1940 года Свердловский обком партии сменил весь состав областного отдела искусств, для наведения финансового порядка в котором пригласили меня. С собой на новое место я взял Якова Марковича Иофе, одного из самых строгих своих инспекторов. С ним-то мы и начали наводить порядок в свердловских театрах, в первую очередь, – в областных. Работа предстояла немалая – в театральном финансовом хозяйстве было много приписок, неразберихи. Так, в большинстве театров нагрузка артистов составляла всего 40–50 %. Отдельные артисты могли месяцами не выходить на сцену, все это время продолжая получать высокую зарплату – как, например, актриса Токарева из Свердловского драматического театра[144]. Я даже поднял вопрос о ней в обкоме, но дирекция театра заявила, что Токарева незаменима в роли горьковской «Матери», и вопрос так и остался открытым.
Очень кропотливой и ответственной работой стала перетарификация актерского состава и финансовые ревизии театров. Особенно осложняли дело непомерные амбиции самих актеров. Любой рядовой актер в душе считал себя, как минимум, очень способным, действительно способный – большим талантом, а сколько-нибудь талантливый – непременно гением сцены. Иофе установил, что «гении» не только получают тысяч по пять рублей в месяц, но и остаются должны своим театрам крупные суммы – до 10 тысяч рублей и даже больше. С этим мы повели упорную борьбу и в течение 1940 года всю задолженность такого рода ликвидировали.
Наводить финансовый порядок в областных союзах скульпторов и живописцев тоже выпало мне. Утверждая скульптуры и картины к выпуску на рынок, я старался браковать лубочные, псевдоисторические и вообще малохудожественные произведения. Порой их авторы жаловались на меня в обком, но, как правило, безрезультатно. Позже художники звали меня возглавить их областной Союз, но я от этой почетной должности категорически отказался. Накануне войны недолго проработал заместителем управляющего областного промышленного банка, а через неделю после ее начала, 30 июня 1941 года, меня призвали в армию – на должность старшего помощника начальника Отдела интендантского управления штаба Уральского военного округа.
В годы Великой Отечественной войны. Смерть И.В. Сталина
Не вижу смысла подробно говорить о работе штаба Уральского военного округа в 1941–1945 годах – историк найдет на этот счет достаточно материалов в архивах Министерства обороны. Поделюсь воспоминаниям о том, что видел собственными глазами.
Всем известно, что, как и в гражданскую войну, в годы Великой Отечественной войны на карту был поставлен вопрос, быть или не быть советской власти, даже более того – быть или не быть свободной и суверенной России вообще. Вся страна стала единым военным лагерем, все, включая тыловые округа, работали для фронта. В этих условиях деятельность нашего штаба была поставлена на боевую линию, и мы работали с утра до глубокой ночи, часто ночуя на рабочем месте. Бывало, дежуришь по штабу, вдруг в 5 утра звонок из Москвы – маршал Ворошилов[145] вызывает такого-то генерала. Находишь его, и после разговора со Ставкой тот спешно вылетает в Москву.
Как и все тогда в тылу, питались мы скудно. Получив по карточкам суп, жижу обычно съедали как первое блюдо, а гущу уже без хлеба доедали как второе. Потом пили чай без сахара. На ужин нам обычно давали отварную кету с картошкой. Съев картошку, из кеты я делал бутерброд и дома потихоньку клал жене в карман – она и этого в пайке не получала. Утром, уже на работе, она этим бутербродом завтракала. Так мы питались до конца 1943 года. Сколько тогда болело дистрофией! Среди нас, военных, такой режим выдерживали только те, у кого семьи были небольшими. Если же детей было много, практически весь паек уносился домой. Один офицер нашего отдела иногда приносил на работу кое-что из овощей. В такие дни часов в 5 вечера у нас объявлялся «редькин час» и мы эту редьку ели с солью без хлеба, запивая горячей водой. Свой пайковый хлеб этот офицер сушил и относил домой детям. От недоедания и переутомления наши офицеры в буквальном смысле падали и попадали в госпиталь.
Несмотря на такие нечеловеческие условия, партийная работа в штабе не прекращалась. В сентябре 1941 года меня избрали секретарем парторганизации нашего управления. Каждый понедельник мы устраивали политинформации, дважды в месяц проводили партийные собрания – низовой и первичной парторганизации поочередно. Докладчики-политинформаторы у меня были сильные – бывшие работники обкома профсоюзов, директора трестов, инженеры. Думаю, что во многом благодаря этому настрой в управлении был бодрым и даже в период наших военных неудач никто из нас не сомневался в конечной победе. Наша главная служебная задача заключалась в снабжении вновь сформированных частей перед их отправкой на фронт. Несмотря на огромное напряжение и отчаянно плохое питание, свою задачу мы выполняли точно и в срок.
Как и у многих моих сослуживцев, мой старший сын Артемий ушел добровольцем на фронт, дочь и младший сын работали в колхозе, жена тоже часто уезжала в командировки по деревням. В начале 1942 года я не выходил из больниц до тех пор, пока летом этого года, как я уже писал, мне не сделали радикальную операцию. В тот момент жену снова отправили парторгом в колхоз, а потом на лесозаготовки, откуда привезли лежачей – дал о себе знать незалеченный туберкулез позвоночника.
23 февраля 1943 года под Старой Руссой наш сын погиб. Погиб как герой, во время наступления своего штурмового лыжного батальона. Мы очень его любили, он был хороший, умный и духовно чистый мальчик. Переживали его гибель долго и очень тяжело. Чтобы отомстить за сына, я стал проситься на фронт, но меня не пустили, сказав: «не глупи, старик, его не вернешь». И сейчас, 11 лет спустя, мне трудно писать о нем, моем любимом Темке. До сих пор не могу читать его писем с фронта. Вечная слава моему мальчику-герою!
Писал он нам регулярно и аккуратно, а тут вдруг замолчал. Одно наше письмо вернулось с карандашной пометкой «У». Мы готовились к худшему, зная, какие тяжелые бои идут под Старой Руссой. Как-то я шел на дежурство в штаб округа, меня догнала дочь Ира. Плача, подала похоронку. Оказывается, она два дня прятала от нас эту страшную бумажку. Я прочел и с большим трудом дошел до штаба. Сидя ночью в управлении штаба, все думал о своем Темке. Смотрю в окно, а он стоит на тротуаре и улыбается мне так ласково, как он всегда улыбался. Что со мной было! Как шальной метался по кабинету! Чуть не сошел с ума от горя! Я и домой наутро возвращался вместе с ним, моим Темой.
Страшную новость жене я сообщил через несколько дней. Она прочитала извещение и рухнула на кровать. Мы очень любили своих детей, хорошие они у нас, и смерть одного из них нас глубоко ранила. И когда 23 февраля в приказе министра обороны, как всегда, звучит фраза: «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу Родину!», мы с женой встаем, обнявшись, перед портретом сына и плачем. И ничего поделать с собой не можем.
Вскоре, в мае 1943 года, с танковым Уральским корпусом ушла добровольцем на фронт и дочь Ирина[146]. Пробыв на передовой полтора года, домой она вернулась в пробитых осколками сапогах, больная. Осенью 1943 года в армию ушел и младший сын Борис. Проводив его на вокзал, мы как-то осиротели.
Так мы с женой и пережили войну. Тяжело работали, да и дома было не весело. Ждали писем от детей, и когда их долго не было, волновались.
В сентябре 1944 года меня выбрали в партийную комиссию штаба округа, а в феврале 1950 года – в окружной партком. С ноября 1944 года я стал работать начальником Отдела фондового имущества штаба округа, впоследствии переименованного в Отдел материальных фондов. Возглавлял я этот отдел почти десять лет, и за все эти годы не имел ни одного замечания, но очень много благодарностей[147]. Но, конечно, работа давалась не без труда. Как-то в конце апреля 1945 года на докладе у командующего, которому я был непосредственно подчинен, я, чтобы не упасть от слабости и головокружения, стоял, слегка опершись о стол. Заметив это, командующий (он знал, что я бывший подпольщик) вызвал начмеда и приказал немедленно отправить меня в Кисловодск. 7 мая я сел в московский поезд. Ночью 9-го мая кто-то вбегает в вагон с криком: «Товарищи, Германия капитулировала, вставайте!». Все, кто в чем спал, как горох посыпались с полок и бросились в коридор к репродукторам. Что тут началось! Люди аплодировали, смеялись, обнимались, плакали! На станциях наш вагон облепила масса народа – все ехали в Москву отмечать праздник. Так поезд и пришел, усыпанный поющими, ликующими, плачущими от радости людьми.
В Москве я решил остановиться у старого большевика Семена Варфоломеевича Иванова[148], которого давно знал. Как и я, он был боевиком, каторжанином. Метро в Москве тогда не работало, транспорт ходил плохо, и к нему в Харитоньевский переулок с вокзала я двинулся пешком. По дороге меня (я был в форме) останавливали совершенно незнакомые люди, жали руки, поздравляли с победой, женщины целовали. Еле я добрался до Иванова! Прямо в дверях мы расцеловались и оба расплакались. Мы, старые подпольщики-боевики!
Вечером все вместе отправились на Красную площадь. Народ шел туда лавиной. По пути догнали группу молодежи, которая несла на руках увешанного орденами инвалида. Сидя на плечах молодых людей, он широко улыбался и тоже плакал. Вот идет женщина с маленькой дочкой. Девочка спрашивает: «Мама, теперь всегда будет свет на улице?». Женщина объясняет, что дочь родилась в 1941 году и вечернего света еще не видела. Незнакомые люди обнимаются, целуются, поздравляют друг друга. Жена моего давнего друга Александра Лукича Налимова потом рассказывала, что, услышав непривычный шум, сначала подумала, что это воздушная тревога. Открыла окно и услышала: «Победа!». Накинув халат, босая выбежала на улицу, выхватила у кого-то красный флаг, не помня себя, полезла на крышу его закреплять. Не помню, говорит, как слезла с водосточной трубы, дома подхватила дочь и отправилась бродить по городу, не в силах усидеть дома. Уже в поезде по дороге в Кисловодск слышал рассказ дважды Героя Советского Союза летчика Покрышкина[149], как толпа, шедшая 9 мая на Красную площадь, вытащила его из служебной машины, и ну качать! Насилу, говорит, вырвался. Жена Серафима потом писала, что ее с победой приходили поздравлять и мои сослуживцы. Ее это внимание, конечно, очень тронуло.
После Кисловодска я чувствовал себя намного лучше, стал реже попадать в больницу, хотя и это случалось. Дальнейшая моя служба в армии ничем особенным не отличалась. После войны жена окончила педагогический и библиотечный институты, дочь – Свердловский университет, вступила в партию. Сын стал кандидатом в члены партии, окончил Военный институт иностранных языков, женился и уехал работать в Болгарию.
Выйдя в отставку, я продолжаю вести общественную работу – состою членом партийной комиссии Уральского военного округа, вхожу в Ученый совет Музея Я.М. Свердлова, работаю в Обществе старых большевиков, выступаю с лекциями и докладами на свердловском партийном и комсомольском активах, на сессиях Уральского филиала Академии наук.
В заключение поделюсь воспоминаниями еще об одном историческом событии – смерти И.В. Сталина. Утром 2-го марта 1953 года мне позвонила жена моего заместителя и прерывающимся от волнения голосом пересказала только что переданный по радио (у нас на работе радио не было) бюллетень о здоровье товарища Сталина – кровоизлияние в мозг. Как врач сказала, что надежд на спасение мало. Должно быть, у меня был очень удрученный вид, потому что ко мне с расспросами тут же бросились мои подчиненные. Я не мог говорить – перехватило горло. Часа два спустя поехал в штаб округа. Очевидно, люди уже знали о несчастье – и в трамвае, и на улице почти не было смеющихся лиц, все выглядели подавленными. 6 марта с утра по радио раздались тревожные позывные, мы с женой поняли, что случилось непоправимое. Заговорил Левитан. Сколько раз мы слышали его могучий голос во время войны, когда он зачитывал приказы тов. Сталина! А тут он говорил печально, с перерывами, надрывно – любимый вождь умер. Ошеломленный, я отправился на работу. По дороге – сплошь угрюмые лица, многие с мокрыми от слез глазами. На работе, чтобы подбодрить подчиненных, рассказал им о подпольной работе Сталина, о том, какой он был смелый, неутомимый революционер.
Потом поехал в штаб округа, а оттуда – на траурный митинг. Все стоя выслушали правительственное сообщение о смерти тов. Сталина, молча разошлись. Все эти дни прошли как в тумане. Горе так захлестнуло, что не хотелось ни о чем ни думать, ни говорить. По сравнению с происшедшим остальное казалось каким-то мелким, незначительным. В день похорон я отправился к своим старикам-подпольщикам. Похороны мы встретили стоя, тяжело было. Мы понимали, что в эти минуты весь мир стоит с поникшей головой.
Заменить Сталина, как заменить Маркса, Энгельса, Ленина, невозможно. Эти люди незаменимы. Можно продолжать лишь их дело, их учение, и нашей партии это под силу. С пути, по которому ее вел тов. Сталин, ее никто не собьет, и никто ее ничем не испугает, как бы этого ни хотелось нашим врагам. Думалось: нам тяжело, это верно, но горе нас не сломит. Пусть империалисты знают – Коммунистическая партия Советского Союза приведет нашу страну к коммунизму. Гибель же капитализма неизбежна – сто с лишним лет назад это доказал Маркс. Сталин умер, но его учение будет жить вечно[150].
Эпилог
Итак, «летопись окончена моя». Я описывал жизнь и работу старого большевика-подпольщика, рядового коммуниста, где бы он ни был, что бы ни делал. Старался рассказать то, что может пригодиться писателю или историку. Выполнил ли я эту задачу – не мне судить. Надеюсь, что моя история, история солдата армии, полководцем которой был Великий Ленин, будет интересна грядущим поколениям.
В заключение позволю себе немного пофантазировать.
На встречу нового, 2000-го, года собралась большая семья. Стол уставлен хорошими винами, в хрустальных вазах горками лежат фрукты, виноград, свежие ягоды из теплиц. На стенах – портреты вождей Коммунистической партии Советского Союза, живых и умерших. В простенке между телевизором и радиоприемником в рамках две фотографии – седого офицера и пожилой женщины. Стрелка часов подходит к 12 часам ночи. Все, молодые и пожилые, усаживаются за стол. По правую руку от хозяина дома сидит седая пара. Каждому уже под 80, но они выглядят бодро и свежо – оба крупные ученые. Слышится бой кремлевских курантов. Красивый мужчина лет 55-ти встает с бокалом шампанского в руке и начинает свою новогоднюю речь:
«Друзья мои! Мы собрались, чтобы встретить новый, 2000-й, год! Как всегда, мы будем подводить итоги, но только не года, как делали раньше, а целого столетия. Итоги двадцатого века!
Двадцатый век– век героической борьбы за лучшее будущее всего человечества. Прошу вас встать– я буду говорить о героях, отдавших все свои силы и саму жизнь за коммунизм, за тот строй, который сделал человека счастливым, свободным. Я говорю о старой большевистской гвардии, гвардии партии Ленина – Сталина, которую никогда не забудет история. Эти люди не знали, что такое страх, что такое личная жизнь. С молодых лет в их сердцах горела неугасимая любовь к Родине и ненависть к ее врагам. С мыслью о Родине, о борьбе за ее счастье шли они в тюрьму, в ссыпку, на каторгу и на смерть. Своей отвагой и честностью они изумляли даже врагов, трудящиеся восхищались ими и за ними шли. Партия большевиков повела рабочий класс и крестьянство на борьбу за социалистический строй, за коммунизм и, как видите, мы достигли желанной цели. На пороге нового тысячелетия первое слово мы должны сказать о Марксе, Энгельсе, Ленине и Сталине и об их старой гвардии. Мы горды тем, что одним из таких героев был наш дед и прадед. Поднимем же бокалы за наше прекрасное будущее и одновременно воздадим должное нашим славным предкам!».
Старушка посмотрела на фотографии на стене и, вынув из рукава платок, закрыла им глаза. Она плакала. Лица, на которые она смотрела, были ее отец и мать.
Перед отправкой на фронт. Уфа, март 1915 г.
На фронте. Зима 1915 г.
Дважды Георгиевский кавалер. Лето 1916 г.
Хозяйственный комитет 197-го полка. Председатель И.П. Павлов сидит слева. Лето 1917 г.
Участники совещания снабженцев войск Сибири. И.П. Павлов во втором ряду 4-й слева. Омск, сентябрь 1921 г.
И.П. Павлов с молодой женой С.Н. Павловой (Сосуновой). Саратов, октябрь 1919 г.
Родители С.Н. Павловой – Ольга Николаевна и Николай Филиппович Сосуновы. 1893 г.
И.П. и С.Н. Павловы. Сарапул, 1924 г.
С.Н. и И.П. Павловы с сыном Артемием (1923—1943) и дочерью Ириной (р. 1922). Сарапул, 1924 г.
И.П. и С.Н. Павловы с детьми – Ириной, Борисом (1926—1993) и Артемием. Свердловск, август 1932 г.
И.П. Павлов – заместитель управляющего Коммунального банка. Свердловск, 1936 г.
Ирина Николаевна Сосунова. 1940 г.
Артемий Павлов перед уходом на фронт. 1941 г.
Ирина Павлова на фронте. Зима 1943—1944 г.
Ирина Ивановна Руткевич с мужем Михаилом Николаевичем Руткевичем (1917—2009), член-корреспондентом АН СССР. Москва, 1984 г.
Здание штаба Уральского военного округа (фото 1980-х годов).
Дом старых большевиков в Свердловске, в котором жил И.П. Павлов (фото конца 1920-х годов)
И.П. Павлов. Свердловск, май 1947 г.
И.П. Павлов. Свердловск, ноябрь 1947 г.
И.П. Павлов с внуком Дмитрием (р. 1954). Дача под Тверью, май 1955 г.
И.П. Павлов на даче под Тверью, весна 1955 г.
С.Н. Павлова (третья слева) и И.П. Павлов (в центре) с внуками. Крайний справа – Б.И. Павлов, рядом его жена Т.В. Павлова (Селезнева, 1930—2009). Дача под Тверью, лето 1956 г.
Примечания
1
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 27.
(обратно)2
Мызгин Иван Михайлович (революционные псевдонимы «Волков», «Петруська») (1885–1971) – после окончания церковно-приходской школы работал кочегаром, грузчиком на Симском заводе. В 1904 г. включился в революционное движение. Осенью 1905 г. перешел на нелегальное положение, вступил в РСДРП (б). В 1906 г., возглавив боевую дружину, добывал оружие, боеприпасы, динамит; работал в мастерских по изготовлению взрывчатых материалов и бомб, организовывал побеги революционеров из тюрем и ссылок, вел революционную пропаганду. Зимой 1906/07 г. учился в нелегальных школах бомбистов в С.-Петербурге и Львове, перевозил в Россию оружие, закупленное в Бельгии. Подвергался арестам и обыскам, отбывал заключение в тюрьмах Уфы, Златоуста, Красноярска, Иркутска, неоднократно совершал побеги. В феврале 1914 г. вернулся на Южный Урал, где организовал типографию. Летом 1914 г. работал в Сибири в депо станции Зима, затем – в большевистском подполье на шахтах г. Черемхово, где в 1917 г. вошел в состав уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; назначен заместителем уездного комиссара по продовольствию. Вел подпольную пропагандистскую работу в тылу армии A.B. Колчака, дважды был приговорен к расстрелу колчаковской контрразведкой. Один из организаторов и участников вооруженного восстания черемховских рабочих. С 1920 г. председатель уездного (Заларинского) райпогребсоюза в Иркутской губернии, член бюро райкома РКП (б). В декабре 1941 г. иркутским крайкомом ВКП (б) направлен на Волховский фронт. В 1944 г. в связи с ухудшением здоровья переехал в Краснодарский край, в станице Динской работал директором пункта «Заготзерно». Автор воспоминаний о деятельности большевистских боевых дружин на Южном Урале: «Со взведенным курком» (М., 1964) и «Ни бог, ни царь и не герой» (Челябинск, 1979).
(обратно)3
Якутов Иван Степанович (1868–1907) – рабочий, активный участник революционного движения. С 1881 г. работал на заводах Уфы, Южного Урала, на железнодорожном транспорте. С 1890 г. в царской армии. В 1893–1902 гг. работал слесарем железнодорожных мастерских в Уфе, руководил марксистским кружком, был членом уфимской с.-д. группы, с 1901 г. член уфимского комитета РСДРП. В 1902–1903 гг. член омского, иркутского комитетов РСДРП, большевик. В 1905 г. был арестован в Иркутске, выслан в Уфу, в октябре 1905 г. освобожден по амнистии. В ноябре – декабре 1905 г. председатель «Уфимской республики». В 1906 г., скрываясь от полиции, переехал в Харьков, где стал секретарем местной партийной организации. 6 августа 1906 г. по доносу был вновь арестован, в октябре 1907 г. отправлен в Уфу, в тюрьме которой казнен.
(обратно)4
Гузаков Михаил Васильевич (1885–1908) – из семьи помощника лесничего Симского горного округа, революционер. По окончании ремесленной школы работал на Симском заводе. Участвовал в деятельности подпольных кружков, в 1903 г. один из организаторов забастовки рабочих Симского завода, в 1904 г. возглавил подпольную большевистскую группу, в 1905 г. создал заводскую боевую дружину. Как участник вооруженного восстания в Симе (сентябрь 1906 г.), в декабре 1907 г. был арестован в Уфе, повешен по приговору военного суда.
(обратно)5
Гузаков Павел Васильевич (1888 – около 1916) – младший брат М.В. Гузакова. По окончании церковно-приходской школы и горного училища (1905) работал на Аша-Балашевском заводе Уфимской губернии, член заводского комитета РСДРП. Арестован, как один из организаторов вооруженного восстания в Симе (сентябрь 1906 г.), осужден на 8 лет. Наказание отбывал сначала в уфимской тюрьме, затем – в тобольской (вместе с братом Петром) и нерчинской каторжных тюрьмах. Работал на строительстве Амурской железной дороги, бежал в Китай, откуда позднее перебрался в Париж. Работал на заводах, поддерживал связи с французскими социалистами. С началом Первой мировой войны ушел добровольцем на германский фронт, где в 1916 г. пропал без вести.
(обратно)6
Мясников Василий Никанорович (р. 1888) – рабочий из мещан Казанской губернии, член боевой рабочей дружины уфимской организации РСДРП (б). Арестован, погиб в заключении.
(обратно)7
Калинин Александр Михайлович (революционный псевдоним «Шурка») (1888–1912) – из уфимских мещан, сын портного. С 1906 г. один из руководителей боевой рабочей дружины уфимской организации РСДРП (б). Арестован в Уфе в декабре 1909 г. по делу об экспроприации на станции Миасс 1 октября 1908 г. Повешен в 1912 г. за убийство тюремного надзирателя при попытке совершить побег из челябинской тюрьмы летом 1910 г.
(обратно)8
Лаптев Александр Иванович (революционный псевдоним «Валентин») (р. 1891) – рабочий Симского завода из крестьян Уфимской губернии, член боевой дружины уфимской организации РСДРП (б). Совершив побег из уфимской тюрьмы, участвовал в миасской экспроприации 1909 г.
(обратно)9
Кадомцев Иван Самуилович (1884–1918) – из семьи чиновника. По окончании гимназии в 1900 г. включился в революционную борьбу. С 1902 г. член РСДРП, большевик, с 1905 г. член уфимского комитета РСДРП (б); с 1906 г., по решению екатеринбургской областной конференции РСДРП (б), руководитель рабочих боевых дружин на Южном и Среднем Урале. Делегат 1-й Всероссийской конференции военно-боевых организаций большевиков (Таммерфорс, декабрь 1905 г.), на которой выступил с докладом. Организовал доставку и лично участвовал в транспортировке оружия из-за границы в Россию. С 1908 г. – в эмиграции (в Швейцарии и Франции). Осенью 1917 г. участник штурма Кремля, член московского Совета, занимался формированием красногвардейских отрядов. В конце 1917 г. вернулся в Уфу, вошел в состав губернского боевого штаба, принимал участие в национализации предприятий. Скончался от воспаления легких.
(обратно)10
Кадомцев Михаил Самуилович (1886–1918) – младший брат И.С. Кадомцева. За участие в революционном движении исключен из Симбирского кадетского корпуса. С 1905 г. член РСДРП (б), организатор партийных боевых дружин. В первый раз был арестован в 1906 г., приговорен к 3 годам заключения. Затем в эмиграции, по возвращении из которой был вновь арестован и приговорен к смертной казни, замененной на вечную каторгу. Отбывал срок в тобольской каторжной тюрьме, освобожден Февральской революцией. Активный участник октябрьского переворота. Весной 1918 г. командовал отрядом, направленным на борьбу с войсками А.И. Дутова, затем командующий всеми отрядами, действовавшими против этого атамана на Западном участке. Погиб в бою с чехословаками.
(обратно)11
Языково – село, в настоящее время районный центр Республики Башкортостан. Расположено на р. Кармасан, в 70 км к западу от Уфы. Основано крестьянами помещика П.А. Бабкина на землях, купленных в 1792 г. у башкир Каршинской волости Уфимского уезда, под названием Новоселки-Кармасан. В 1795 г. насчитывало девять дворов с населением в 36 человек. В начале XIX в. село перешло помещикам Языковым, в конце XIX в. – графам Толстым. Современное название село носит с 1843 г. В середине XIX в. оно насчитывало 76 дворов с населением 566 человек; имелись церковь, училище, обдирка, четыре мельницы; действовало волостное правление. В 1906 г. в селе зафиксированы церковь, земская школа, фельдшерский пункт, кредитное товарищество, почтовое отделение, винная, пивная и три бакалейные лавки, пять мельниц; проводились ярмарки. В начале XX в. в его состав вошел хутор Языковский.
(обратно)12
Толстой Александр Петрович (р. 1863) – граф, российский политический деятель. В 1882 г. окончил Симбирскую гимназию, в 1887 г. – естественный факультет Казанского университета. Поселился в Уфимской губернии, занимался сельским хозяйством. В течение 9 лет служил по выборам участковым мировым судьей. С 1887 г. уездный земский гласный, затем земский начальник, почетный мировой судья. В 1907 г. избран в III Государственную думу. Входил во фракцию прогрессистов. Член ЦК этой партии. В 1912 г. избран в члены Государственного совета от уфимского земства. Во время Первой мировой войны уполномоченный Главного комитета Всероссийского союза помощи больным и раненым воинам. После Февральской революции 1917 г. участвовал в работе Государственного совещания в Москве.
(обратно)13
«Нива» – популярный еженедельник, выходивший в петербургском издательстве А.Ф. Маркса в 1869–1918 гг. Позиционировался как журнал для семейного чтения и был ориентирован, главным образом, на буржуазного и мещанского читателя; публиковал литературные произведения, исторические и научно-популярные очерки, репродукции и гравюры, фотографии.
(обратно)14
Салтыкова («Салтычиха») Дарья Николаевна (1730–1801) – помещица, получившая известность как изощренная садистка, убийца более сотни своих крепостных. Решением Сената и императрицы Екатерины II была лишена дворянства и приговорена к пожизненному заключению в монастырской тюрьме, где и умерла.
(обратно)15
Помещик Ноздрёв – персонаж поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души».
(обратно)16
В оригинале: «Положим, крестьянский ребенок свободно // Растет, не учась ничему // Но вырастет он, если Богу угодно, // А сгибнуть ничто не мешает ему».
(обратно)17
Богданович Николай Модестович (1856–1903) – из семьи крупного военного деятеля. По окончании Петербургского университета товарищ прокурора Петербургского окружного суда (1879), с 1887 г. ломжинский, рижский вице-губернатор, с 1890 г. тобольский, в 1896–1903 гг. уфимский губернатор. По его приказу для разгона забастовки рабочих златоустовского завода была применена военная сила. Убит членом Боевой организации партии социалистов-революционеров Е.О. Дулебовым в Ушаковском парке Уфы по приговору ЦК ПСЕ.
(обратно)18
Куроки Тамэмото (1844–1923) – японский генерал, граф. Участник японо-китайской войны (1894–1895). В годы русско-японской войны 1904–1905 гг. командующий 1-й армией, которая действовала в Корее.
(обратно)19
Кадомцев Эразм Самуилович (1881–1965) – старший брат Ивана и Михаила Кадомцевых. Окончил Оренбургский кадетский корпус и Павловское военное училище. В революционном движении с 1896 г. С 1901 г. член РСДРП, большевик.
Участник русско-японской войны и революции 1905–1907 гг. В 1906 г. вместе с братьями организовал боевую организацию уфимского комитета большевиков, был начальником ее штаба, обучал боевиков военному делу и ведению партизанской борьбы. Неоднократно избирался в состав уфимского комитета большевистской партии. С марта 1906 г. член военно-боевого центра при большевистском ЦК, организатор центральной инструкторской школы в Петербурге. Делегат Таммерфорсской конференции большевистских военно-боевых организаций (декабрь 1905 г.), которая одобрила деятельность уральских боевиков и рекомендовала их опыт к всероссийскому распространению. В 1909–1914 гг. в эмиграции; по возвращении в Россию вел антивоенную агитацию среди солдат. После Февральской революции один из руководителей военной организации уфимского комитета РСДРП (б), после октябрьского переворота активный участник установления в регионе власти большевиков, в начале 1918 г. начальник Уфимского губернского штаба боевых дружин. В июле 1918 г. смещен с этого поста за противодействие формированию регулярной Красной армии. В дальнейшем на ответственной военной, партийной и хозяйственной работе.
(обратно)20
Мавринский Иван Леонтьевич (революционный псевдоним «Иван») (р. 1885) – сын фельдшера, уроженец Самарской губернии. Член РСДРП с 1902 г., большевик, неоднократно арестовывался. В 1905 г., будучи освобожден по амнистии, возглавил боевую рабочую дружину уфимской организации РСДРП (б). Затем на партийной работе в Петербурге и в Самарской губернии. Арестован в г. Балашове в 1907 г., за принадлежность к РСДРП (б) и участие в ее боевой деятельности в 1910 г. военным судом приговорен к 8 годам каторги.
(обратно)21
Мыльников Игнатий Павлович – рабочий из уфимских мещан, член боевой рабочей дружины уфимской организации РСДРП (б), участник ее боевых операций. В 1908 г административно сослан в Вологодскую губернию. Был привлечен в качестве обвиняемого по делу миасской экспроприации 1909 г., но по суду оправдан и административно сослан в Архангельскую губернию. Освобожден после Февральской революции, в годы Гражданской войны – начальник районной милиции в Уфе.
(обратно)22
Алексакин Василий Максимович (революционный псевдоним «Аркадий») (ум. 1933) – крестьянин Городищенского уезда Уфимской губернии, член боевой рабочей дружины уфимской организации РСДРП (б), участник экспроприации на станции Миасс 1909 г. В 1910 г. военно-окружным судом приговорен к смертной казни, замененной на пожизненную каторгу. Освобожден после Февральской революции. В 1917–1918 гг. инспектор уфимской тюрьмы, затем на подпольной работе в тылу армии A.B. Колчака.
(обратно)23
Имеются в виду муж и жена Черепановы – Сергей Александрович (революционный псевдоним «Лука», 1881–1918) и Мария («Алексеевна»).
(обратно)24
Зенцов Петр Иванович (революционный псевдоним «Захар») (1889–1920) – из крестьян Осинского уезда Пермской губернии, рабочий-токарь. Член РСДРП с 1905 г., большевик. Входил в боевую рабочую дружину уфимской организации РСДРП (б), участник экспроприации на станции Миасс 1909 г. В 1910 г. военно-окружным судом приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой, которую отбывал в Александровском каторжном централе. Вернулся в Уфу после Февральской революции. В 1917 г. работал заместителем начальника уфимской милиции, был избран в исполком уфимского Совета. С марта 1918 г. по декабрь 1919 г. (с перерывами) председатель уфимской губЧека, в 1920 г. председатель уральской областной ЧК, затем – пятигорской окружной ЧК. Убит выстрелом из-за угла.
(обратно)25
Ермолаев Андрей Сергеевич (революционный псевдоним «Шпингалет») (1891–1923) – златоустовский рабочий из крестьян, член боевой рабочей дружины уфимской организации РСДРП (б), участник экспроприации на станции Миасс в 1909 г. В 1918 г. председатель уфимской губЧека, затем начальник Особого отдела (контрразведки) 2-й армии.
(обратно)26
Коковихин Михаил Николаевич (1883–1965) – военный и партийный деятель. Из крестьянской семьи. С 1897 г. работал на золотых приисках, с 1903 г. на Миньярском заводе. Член РСДРП с 1903 г., большевик. В 1904 г. был призван в армию, один из организаторов июльского (1906) восстания солдат брестского гарнизона. Эмигрировал, окончил болонскую школу пропагандистов. В 1911 г. вернулся в Россию, был арестован, сослан в Архангельскую губернию. С 1914 г. служил в армии. После Февральской революции – член корпусного комитета, исполкома солдатского комитета Особой армии, заместитель председателя ревкома Юго-Западного фронта. Вернувшись в Миньяр, был избран председателем симского окружного Совета рабочих депутатов, участник боев с А.И. Дутовым. Летом 1918 г. остался в тылу белых. Один из руководителей подпольных организаций и партизанского движения в Симском округе. В 1919 г. член президиума вятского губкома РКП (б), с 1920 г. председатель уфимского губисполкома, уральской областной контрольной комиссии РКП (б), заместитель наркома социального обеспечения РСФСР.
(обратно)27
Брюханов Николай Павлович (1878–1943) – партийный и государственный деятель. Из семьи землемера. Окончил Симбирскую гимназию, поступил в Московский университет (1898). Весной 1899 г. за участие в студенческих выступлениях был выслан из Москвы. Член РСДРП с 1902 г., большевик, участник революции 1905–1907 гг. С 1906 г. член партийного комитета в Уфе, основатель и редактор газеты «Уфимский рабочий». После Февральской революции член уфимского комитета РСДРП, председатель уфимского Совета. В октябре 1917 г. работал в уфимском губревкоме, с 1918 г. в Москве в Наркомпроде. Член Совета обороны, председатель Особой продкомиссии Восточного фронта, один из инициаторов создания комбедов. С сентября 1920 г. начальник Главного управления по снабжению продовольствием Красной армии и Красного флота. В феврале 1921 г. нарком продовольствия, член Совета труда и обороны. В 1924–1930 гг. заместитель наркома, нарком финансов СССР. В дальнейшем работал в Наркомснабе СССР. Репрессирован. Посмертно реабилитирован.
(обратно)28
Алексеев Владимир Ильич (революционный псевдоним «Черный») (р. 1887) – сын уфимского 2-й гильдии купца, торговца медом И.П. Алексеева. Учился в гимназии, в 1905 г. вступил в РСДРП, большевик, после 1917 г. меньшевик. Один из руководителей уфимской боевой рабочей дружины РСДРП (б), ее кассир, участник ряда ее боевых операций, включая миасскую экспроприацию 1909 г. В 1910 г. военно-окружным судом приговорен к смертной казни, замененной на бессрочную каторгу. Освобожден Февральской революцией.
(обратно)29
Красин Леонид Борисович (1870–1926) – партийный и государственный деятель, дипломат. Член РСДРП с 1890 г, большевик, в 1905–1907 гг. руководитель боевой технической группы при большевистском ЦК, в 1907–1912 гг. кандидат в члены ЦК РСДРП. В 1918–1920 гг. член президиума ВСНХ, нарком торговли и промышленности РСФСР и председатель Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной армии. В 1919–1920 гг. нарком путей сообщения, в 1920–1923 гг. нарком внешней торговли.
(обратно)30
Андреев Григорий Васильевич (р. 1889) – уфимский мещанин, молочный брат A.M. Калинина. Член боевой рабочей дружины уфимской организации РСДРП (б). В 1910 г. по подозрению к принадлежности к этой боевой дружине административно выслан в Тобольскую губернию. В годы Первой мировой войны в эмиграции (в Париже).
(обратно)31
Мячин Константин Алексеевич (революционные псевдонимы «Николай» и «Андрей») (1886–1938) – из крестьян Оренбургского уезда, уфимский рабочий. Член РСДРП с 1905 г., большевик. Один из создателей боевой рабочей дружины уфимской организации РСДРП (б), участник и руководитель ряда произведенных ею экспроприации, в том числе миасской 1909 г. Сумел избежать ареста (скрылся, отстреливаясь от полиции), захваченные в ходе ее средства вывез в Западную Европу. С 1909 по 1917 г. в эмиграции, встречался на Капри с М. Горьким, в Финляндии жил на даче писателя Леонида Андреева, бывал в Париже, Брюсселе, где работал электромонтером. По данным Заграничной агентуры Департамента полиции, неоднократно нелегально приезжал в Петербург, Киев, Уфу. Легально вернулся в Россию после Февральской революции, делегат уральского съезда Советов в Екатеринбурге, уфимской губернской партконференции, II Всероссийского съезда Советов. В ходе октябрьского переворота член петроградской ВРК, с декабря 1917 по январь 1918 г. (под именем В.В. Яковлева) заместитель председателя ВЧК. В апреле 1918 г. по поручению ВЦИК возглавил отряд, который перевозил царскую семью из Тобольска в Екатеринбург (о чем подробнее см. ниже). С июня 1918 г. командующий 2-й армией РККА, в октябре 1918 г. перешел на сторону Комуча. В ноябре 1918 г. арестован правительством A.B. Колчака, в начале 1919 г., будучи отпущен под подписку, бежал в Китай. С 1922 г. под фамилией Стоянович работал в советском консульстве в Шанхае, в 1927 г. вернулся в СССР. Был арестован и осужден Коллегией ОГПУ на 10 лет за измену, наказание отбывал в Соловецком и Беломорско-Балтийском ИТЛ. В 1933 г. за «самоотверженный» труд досрочно освобожден и до 1937 г. работал в органах ГУЛАГа в Сибири. В 1938 г. был вновь арестован и вскоре расстрелян.
(обратно)32
Кийков Алексей Алексеевич (1873–1931) – юрист, историк революционного движения в России. По окончании юридического факультета Петербургского университета с 1898 г. работал в Томске – присяжным поверенным, юрисконсультом. Как член РСДРП, подвергался арестам и ссылкам. В 1917 г. комиссар по судебным делам уфимского губернского комитета партии, председатель губернской судебно-следственной комиссии, в феврале – марте 1919 г. сотрудник уфимского губревкома. В 1919–1920 гг. юрисконсульт кооперативных союзов Омска и Томска. С 1920 г. сотрудник Наркомата юстиции, с 1926 г. на научной и преподавательской работе. И.П. Павлов имеет в виду книгу A.A. Кийкова «Из былого Урала: материалы к истории революционного движения на южном Урале и Приуралье (1905–1916 гг.)» (Уфа, 1923).
(обратно)33
По жандармским сведениям, после этого эпизода одной из революционных кличек К. Мячина стала «Тормоз».
(обратно)34
Речь идет о «второй» миасской экспроприации, проведенной в августе 1909 г., подробнее о которой см. ниже.
(обратно)35
Терентьев Василий Львович (революционный псевдоним «Иван») (р. 1891) – крестьянин Мензелинского уезда Уфимской губернии. По окончании в 1907 г. уфимского городского училища служил письмоводителем в канцелярии участкового пристава В.А. Ошурко, по заданию которого установил связи с местной большевистской организацией. Сначала снабжал боевиков паспортами, в начале 1908 г. вступил в уфимскую организацию РСДРП (б), а в августе того же года – и в ее боевую дружину. Принимал участие в первой (октябрь 1908 г.) и второй (август 1909 г.) миасских экспроприациях. На следствии дал откровенные показания. В 1910 г. военно-окружным судом в Челябинске приговорен к смертной казни, замененной на пожизненную каторгу. Протокол его допроса от 7 сентября 1909 г.
(обратно)36
Накоряков Николай Никандрович (революционный псевдоним «Назар Уральский») (1881–1970) – партийный работник, публицист, книгоиздатель. Член РСДРП с 1901 г., в 1903–1915 гг. большевик. Работал пропагандистом на Юге, в Поволжье и на Урале. Делегат IV и V съездов РСДРП. В 1908 г. выслан в Сибирь, в 1911–1917 гг. в эмиграции. В 1919–1920 гг. состоял в белой армии, с 1922 г. директор издательства «Международная книга». В 1925 г. был вновь принят в ВКП (б), в 1930–1937 гг. возглавлял Государственное издательство художественной литературы.
(обратно)37
Васильев Илья Петрович (р. 1885) – рабочий из мещан г. Уфы. С лета 1906 г. член боевой рабочей дружины уфимской организации РСДРП (б). Арестован в 1907 г., административно сослан в Тобольскую губернию, из ссылки бежал. После нового ареста в декабре 1909 г. дал откровенные показания, указав, в частности, на Петра Подоксёнова, как на убийцу агента полиции Зеленецкого (об этом см. ниже), а также на сотрудников бомбовой мастерской, включая мемуариста, ликвидированной в сентябре 1907 г. Протокол допроса И.П. Васильева в Уфимском ГЖУ от 14 декабря 1909 г. см.: Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 102 ДП ОО. 1909. Оп. 239. Д. 5. Ч. 65. Л. 61–62.
(обратно)38
Густомесов Владимир Петрович (1888–1941) – сын инженера, большевик. В 1907 г член боевой рабочей дружины уфимской организации РСДРП (б). Арестован по делу бомбовой мастерской на Приютской улице Уфы, в 1910 г. Казанской судебной палатой приговорен к 4 годам каторги. После 1917 г. работал бухгалтером в Саратове. В январе 1941 г. арестован по обвинению в антисоветской агитации, административно сослан на 5 лет в Казахстан, где и умер. Реабилитирован в 1957 г.
(обратно)39
Подоксёнов Петр Иванович (р. 1886) – рабочий из мещан г. Уфы, член боевой рабочей дружины уфимской организации РСДРП (б). «Исполнитель» двух политических убийств в Уфе в 1907 г. Арестован в 1907 г. по делу бомбовой мастерской в Уфе, приговорен к каторжным работам.
(обратно)40
По агентурным сведениям Пермского районного охранного отделения, часть похищенных тогда браунингов уфимские большевики впоследствии «продали другим организациям, как-то анархистам, социал-революционерам, оставшаяся же часть находилась в заведывании у нескольких лиц, а именно: Константина Мячина (кличка „Николай“), Тимофея Кривова (кличка „Граф“), Александра Калинина и ныне умершего Евгения Касанчича». – ГА РФ. Ф. 102. ДП 00. 1910. Оп. 240. Д. 5. Ч. 86. Л. Б, 18 об. (Сводка агентурных сведений по Уфимской губ. по РСДРП за апрель 1910 г. Составлена при Пермском районном охранном отделении).
(обратно)41
Ямзин Лев Никифорович (1858–1930) – с 1879 г. уездный писарь, с 1890-х годов чиновник Тобольского полицейского управления, в 1907–1917 гг. Березовский уездный исправник. В 1917 г. арестован, но, по ходатайству бывших ссыльных революционеров, вскоре освобожден. В 1920-е годы работал счетоводом рыбтреста в Обдорске (современном Салехарде).
(обратно)42
Ямзин Иван Львович (1882–1934) – сын Л.Н. Ямзина. В 1900 г. окончил тобольскую гимназию ив 1910 г. юридический факультет Киевского университета. В студенческие годы участник социал-демократического движения. В 1912–1914 гг. чиновник Главного управления землеустройства и земледелия, с 1914 г. на научной и преподавательской работе. Профессор (1922), в 1922–1926 гг. заместитель директора НИИ землеустройства и переселения (Москва), в последние годы жизни работал в центральных плановых учреждениях.
(обратно)43
Самарово – старинное ямщицкое село (основано в 1637 г.) на правом берегу Иртыша, ныне район г. Ханты-Мансийска.
(обратно)44
Речь идет о «большой» миасской экспроприации – ограблении железнодорожной станции Миасс Самаро-Златоустовской железной дороги, совершенном в ночь на 26 августа 1909 г. Убив четырех человек и тяжело ранив еще десятерых, боевики похитили золота в слитках на сумму 27 450 руб. и несколько банковских мешков с деньгами на общую сумму 60 тысяч руб., всего, таким образом, – на сумму 87 450 руб. План операции разработал Иван Кадомцев, а руководил ею Константин Мячин. Хотя, как будет показано ниже, в деле этого «экса» была замешана полицейская провокация, начальник Самарского жандармского полицейского управления железных дорог по горячим следам доложил директору Департамента полиции, что «ни от Пермского или Саратовского районных охранных отделений, ни от Уфимского или Оренбургского Губернских жандармских управлений ни ко мне, ни к подведомственным мне начальникам отделений не поступало никаких сведений или предупреждений о подготовлявшемся где-либо вблизи пределов вверенного мне Управления какого-либо нападения или ограбления». В том же донесении жандармский полковник предположил, что «экс» совершили «социалисты-революционеры-большевики для приобретения средств на поддержание школы революционеров на острове Капри, каковая, будто бы, пользуется поддержкой и даже руководительством проживающего на Капри Максима Горького». Директор Департамента саркастически отозвался об осведомленности жандармских властей. – ГА РФ. Ф. 102. ДП 00. 1909. Оп. 239. Д. 319. Л. 25–25 об. (Донесение начальника Самарского ЖПУ железных дорог полковника Левандовского директору Департамента полиции. Самара, 15 сентября 1909 г. № 918 с резолюцией директора Департамента). В свою очередь, участник «экса» «откровенник» В.Л. Терентьев сообщил следствию, что эта группа экспроприаторов «составляла совершенно самостоятельную Уральскую Боевую организацию РСДРП», которая образовалась «из остатков челябинского, пермского, златоустевского и уфимского сообществ», разгромленных в 1907 г. Целью Уральской БО «являлось вооруженное восстание в России», средства на которое и должны были дать этот и другие запланированные «эксы». «На эти средства, – утверждал далее Терентьев, – должны были жить и обучаться военному делу члены нашей организации, число которых мы рассчитывали довести до 50-ти человек, а затем эти 50 должны были разъехаться по России и на местах вести пропаганду» с тем, чтобы после перебраться на остров Капри – «учиться в инструкторской школе, подготовляющей офицеров для вооруженного восстания». – Там же. Л. 101–101 об.
(обратно)45
Ефремов Михаил Иванович (1886–1969) – партийный, советский деятель. Член РСДРП с 1905 г., большевик. С 1906 г. работал на Урале – в Симском горнозаводском округе, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге. Член Екатеринбургского комитета РСДРП, в 1907 г. – Совета уральских боевых дружин. Вместе с K.A. Мячиным в октябре 1908 г. организовал первую миасскую экспроприацию, был арестован и в 1911 г. приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Заключение отбывал в тобольском каторжном централе и ярославской каторжной тюрьме. Освобожден после Февральской революции, в январе 1918 г. организатор и первый председатель екатеринбургской губЧека. Затем – на ответственной партийной, чекистской и военной работе.
(обратно)46
До этого, по агентурным сведениям Казанского ГЖУ, Калинин, «находясь в Челябинской тюрьме, предлагал неоднократно тюремной администрации значительную сумму денег (до 30 000 руб.) за устройство ему побега, перевода для той же цели в другую, менее надежную тюрьму или же помещения его в больницу, откуда он мог бы совершить побег». – ГА РФ. Ф. 102 ДП ОО. 1909. Оп. 239. Д. 319. Прод. Л. 34–34 об. (Донесение начальника Казанского ГЖУ в Департамент полиции. Секретно. Казань, 22 августа 1911 г. № 9174).
(обратно)47
Это были: С. Меклер, сестры Тарасовы (Вера, Любовь и Екатерина), А. Хрущева, У. Брашна и В. Сидоркина. Пятеро из них были судом оправданы.
(обратно)48
Токарев Владимир Евгеньевич (революционный псевдоним «Дипломат») – уфимский мещанин, член боевой дружины уфимской организации РСДРП (б). По состоянию здоровья в боевых вылазках участия не принимал, занимался разведкой и наведением необходимых справок (откуда и кличка).
(обратно)49
Поскольку Челябинск территориально входил в Казанский военный округ, этот процесс вел Казанский воєнно-окружной суд в составе председателя генерал-майора Владислава Викентьевича Погосского (р. 1859), военных судей подполковников Кржыжановского и Млодзяновского и помощника военного прокурора капитана Мельникова.
(обратно)50
Паровоз был пущен стрелочником под откос на разъезде Тургояк недалеко от станции Миасс. Если бы этого сделано не было, он неминуемо врезался бы в пассажирский Сибирский экспресс, к тому времени подошедший к станции Миасс.
(обратно)51
Однопартийцы-участники «экса» ввели мемуариста в заблуждение. Судя по показаниям свидетелей, ворвавшись в станционные помещения, боевики немедленно открыли шквальный огонь, которым сразу же были убиты либо тяжело ранены находившиеся там стражники и сторожа. В помощника начальника станции Афанасьева Мячин стрелял позже.
(обратно)52
Соколов Николай Дмитриевич (1870–1928) – адвокат, политический и государственный деятель. Участник революционного движения с середины 1890-х годов. В 1898 г. выслан в Ревель по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В начале XX в. выступал защитником в военных судах Митавы и Риги, по делу петербургского Совета рабочих депутатов, военной организации РСДРП и на других политических процессах. Активный участник Февральской революции – как секретарь исполкома Петросовета явился одним из авторов и редакторов «Приказа № 1», положившего начало распаду российской армии. Входил в состав Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства по делам бывших царских министров. После прихода к власти большевиков работал юрисконсультом в различных советских учреждениях.
(обратно)53
Керенский Александр Федорович (1881–1970) – адвокат, политический и государственный деятель, член партии эсеров. С 1915 г. лидер фракции трудовиков IV Государственной думы. В первом составе Временного правительства министр юстиции, затем военный и морской министр, с 8 июля 1917 г. министр-председатель, с 30 августа верховный главнокомандующий. С 1918 г. в эмиграции.
(обратно)54
Кашинский Петр Моисеевич (р. 1866) – адвокат. Из семьи священника. Выпускник юридического факультета Московского университета. Участник революционного движения с середины 1890-х годов. К адвокатской практике приступил после отбытия ссылки – в Петербурге в 1897 г. выступил защитником на ряде политических процессов.
(обратно)55
Турутин Степан Григорьевич – адвокат, юрисконсульт социал-демократической фракции III Государственной думы. В 1905 г. большевик, затем меньшевик. На описываемом процессе защищал мемуариста, «совершенно», по жандармскому отчету его «обеляя».
(обратно)56
Защитников по назначению было двое – Тупкин и Евреинов.
(обратно)57
Гузаков Петр Васильевич (1889–1944) – младший брат Михаила и Павла Гузаковых. Член РСДРП с 1905 г., большевик, входил в южноуральские боевые рабочие дружины РСДРП (б). В 1906–1909 гг. находился в тюрьме, из заключения бежал. В 1909–1911 гг. в эмиграции, в 1912 г. вернулся в Россию и был сослан в Сибирь. С ноября 1917 г. военный комиссар Симского горнозаводского округа, в апреле – мае 1918 г. фактический руководитель отряда, перевозившего Николая II и часть его семьи из Тобольска в Екатеринбург (об этом подробнее см. ниже). С середины 1918 г. помощник командующего 2-й армией РККА, впоследствии на руководящей чекистской работе в Омске, Уфе (1920–1921) и Курске (1922–1923). В 1923–1924 гг. секретарь Курского обкома РКП (б), в 1924–1927 гг. управляющий делами ЦК ВКП (б).
(обратно)58
Поведение Калинина становится еще более удивительным, если учесть, что на первом же допросе в декабре 1909 г. он дал откровенные показания, поименно назвав членов боевой дружины, начальником которой он состоял, и сообщив детали и обстоятельства дёмского и «браунингового» «эксов» 1906–1907 гг. В числе прочих участников этих предприятий Калинин указал и на «административно высланного рабочего Ивана Павлова». – ГА РФ. Ф. 102 ДП 00. 1909. Оп. 239. Д. 5. Ч. 65. Л. 59–60 (Протокол допроса A.M. Калинина в Уфимском ГЖУ 23 декабря 1909 г.). Судя по всему, ни сам Павлов, ни его сопроцессники об откровенных показаниях своего бывшего начальника так никогда и не узнали.
(обратно)59
Мемуарист либо не уловил интригу процесса, либо (что скорее) о ней намеренно умолчал, оберегая чистоту партийных «риз». Заключалась она в том, что «откровенник» Терентьев, изменив свои прежние показания, заявил на суде, что вступил в боевую дружину и принял участие в двух ее «эксах» с ведома и одобрения своего полицейского начальника Ошурко. Таким образом, обе миасские экспроприации – 1908 и 1909 гг. – приобретали характер полицейской провокации. Вызванный в качестве свидетеля, Ошурко в суд не явился, что, по жандармскому отчету, «произвело крайне неблагоприятное впечатление на судей и дало в руки защитников большой козырь». – Там же. Д. 319. Л. 259 об. (Донесение начальника Пермского ГЖУ директору Департамента полиции. Сов. секретно. Пермь, 12 октября 1910 г. № 2371). Департамент полиции усмотрел было в описанных Терентьевым действиях Ошурко «признаки преступления по службе», но уфимский губернатор это обвинение категорически отверг. В своих письменных объяснениях сам Ошурко службу в своей канцелярии Терентьева отрицал, утверждая, что познакомился с ним только после ареста последнего 5 сентября 1909 г. – Там же. Д. 319. Прод. Л. 4 (Объяснение Ошурко советнику уфимского губернского правления от 25 февраля 1911 г.).
(обратно)60
Согласно жандармскому отчету, в своем последнем слове Терентьев «сознался в ложном, якобы, оговоре всех сидящих на скамье подсудимых, сделанном под диктовку и по указанию Ошурко… называл себя „Ванькой-Каином“, „предателем“ и трагическим театральным тоном просил смерти, которой заслужил». – Там же. Л. 264 об.
(обратно)61
Мемуарист неточен: к смертной казни были приговорены Зенцов, Алексеев, Андрон Юрьев, Ермолаев, Терентьев, Никифор Козлов и Алексакин, причем вскоре командующий Казанским военным округом всем им смертную казнь, по ходатайству того же суда, заменил бессрочной каторгой.
Козлов Никифор Иванович (революционный псевдоним «Захар») (р. 1890) – рабочий из мещан г. Стерлитамака, член уфимской боевой рабочей дружины РСДРП (б), участник экспроприации на станции Миасс 1909 г. Чудинов Дмитрий Михайлович (революционный псевдоним «Касьян») (1890–1964) – рабочий-большевик, член уфимской боевой организации РСДРП (б), участник экспроприации на станции Миасс 1909 г. По суду получил 15 лет каторги. Весной 1918 г. принимал участие в операции по перевозке царской семьи из Тобольска в Екатеринбург. Затем – заместитель председателя уфимской губЧека, после Гражданской войны – на ответственной хозяйственной работе в Уфе. Юрьев Андрон Федорович (революционный псевдоним «Антип») (р. 1890) – крестьянин Уфимского уезда, член боевой дружины уфимской организации РСДРП (б), участник миасского «экса» 1909 г.
(обратно)62
Меклер Шейна (Софья) Еремеевна (революционный псевдоним «Чертенок») (р. 1890) – из мещан г. Новгород-Северска, секретарь уфимской боевой дружины РСДРП (б). В 1910 г. была приговорена к вечной ссылке на поселение с лишением всех прав с ходатайством суда о замене ссылки двумя годами крепости.
(обратно)63
Тарасова Екатерина Михайловна (р. 1885) – мещанка г. Саратова, старшая из сестер Тарасовых, член уфимской и миньярской боевых организаций РСДРП (б).
(обратно)64
Сулимов Даниил Егорович (1890–1937) – советский, партийный деятель. Из семьи рабочего. Участник революции 1905–1907 гг., член РСДРП с 1905 г., большевик. Подвергался арестам, совершил побег из-под стражи. После Февральской революции член глазовского комитета РСДРП (б), заместитель председателя гарнизонного Совета. В 1917 г. вернулся в Миньяр, был избран председателем миньярского и членом симского окружного Советов. Участник октябрьских событий в Петрограде, после прихода к власти большевиков политработник 5-й армии. С сентября 1919 г. председатель челябинского ревкома, губсовнархоза, губкома РКП (б), правления заводов Урала. С 1921 г. член Уральского бюро ЦК РКП (б), Уральского бюро ВЦСПС, в 1923–1926 гг. председатель Уральского облисполкома, в 1926–1930 гг. секретарь уральского обкома ВКП (б), член Оргбюро ЦК ВКП (б). В 1930–1937 гг. председатель Совнаркома РСФСР. В 1937 г арестован и в ноябре того же года расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.
(обратно)65
Бухартовский Генрих Генрихович – дворянин польского происхождения, в 1903–1911 гг. уфимский полицеймейстер. Активист трезвеннического движения в Уфе, владелец «дома Бухартовских» – одного из памятников уфимской архитектуры конца XIX в.
(обратно)66
Ошурко Василий Акимович – государственную службу начинал как волостной писарь, затем околоточный надзиратель. В начале XX в. пристав 4-го полицейского участка Уфы, затем начальник городского Сыскного отделения. В 1916 г. полицеймейстер г. Ельца, в 1917 г. – Орла. После Февральской революции арестован, из-под ареста бежал на юг к А.И. Деникину. После разгрома белых армий в 1920 г. скрывался на Кавказе, работал в совнархозе Пятигорска. Арестован и расстрелян в 1924 г.
(обратно)67
Кривов Тимофей Степанович (революционные псевдонимы «Граф» и «Инженер») (1886–1966) – государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1966). Из крестьян Мелекесского уезда Самарской губернии, в 1897 г. окончил церковно-приходское училище. Член РСДРП с 1905 г., большевик. Работал слесарем, сельским учителем. Член боевой рабочей дружины уфимского комитета РСДРП (б), участник экспроприации на станции Миасс в 1909 г. В 1911 г. приговорен к бессрочной каторге, освобожден после Февральской революции. С 1920 г. секретарь Уральского бюро ЦК РКП (б), затем сотрудник ЦКК ВКП (б), с середины 1930-х годов заместитель наркома финансов РСФСР, кандидат в члены ЦК ВКП (б).
(обратно)68
Правильно: Касанчич Евгений Федорович, сын штабс-капитана. Умер в марте 1910 г.
(обратно)69
Действительно, Т.И. Шаширин был арестован в Челябинске 19 февраля 1910 г.
(обратно)70
Судя по полицейскому протоколу, у И.П. Павлова при аресте были найдены паспорта на ими крестьян Василия Ерошкина и Евсея Дмитриевича Махальникова.
(обратно)71
Об этом аресте мемуариста начальник Уфимского губернского жандармского управления полковник H.A. Красногорский известил своего коллегу в Тобольске следующей реляцией от 16 марта 1910 г.: «Административно высланный из Уфимской губернии в 1907 г. за принадлежность к группе анархистов-коммунистов и изготовление взрывчатых снарядов, крестьянин Уфимской губернии и уезда, Новоселовской волости села Языкова Иван Петров ПАВЛОВ 29 сентября 1909 г. из места ссылки гор. Березова Тобольской губ. скрылся и 5 сего марта задержан в г. Челябинске. Ввиду имеющихся во вверенном мне Управлении сведений о том, что Павлов до своей высылки из Уфимской губернии состоял в числе членов боевой дружины уфимской социал-демократической организации, принимал участие [в] различных ограблениях, имевших место в пределах Уфимской губернии, Павлов впредь до распоряжения судебных властей заключен под стражу в Уфимскую тюрьму». – ГА РФ. Ф. 102 ДП 00. 1909. Оп. 239. Д. 319. Л. 176. Спустя месяц тот же жандармский полковник уведомил Департамент полиции, что судебный следователь по важнейшим делам Троицкого окружного суда привлекает И.П. Павлова в качестве обвиняемого по делу ограбления станции Миасс в августе 1909 г. – Там же. Л. 194.
(обратно)72
В бумагах Департамента полиции сохранилось секретное донесение начальника Уфимского ГЖУ, в котором констатировалось, что местожительство крестьянина села Языкова «Ивана Петрова ПАВЛОВА, входившего в состав местной боевой дружины соц. – дем. и известного под кличкой „Ванька Белый“», жандармским властям неизвестно и «по установке такового за Павловым будет установлено наблюдение». – ГА РФ. Ф. 102 ДП 00. 1912. Оп. 242. Д. 5. Ч. 86. Л. Б, 9–9 об. (Личное, совершенно секретное донесение начальника Уфимского ГЖУ полковника Иванова директору Департамента полиции. Уфа, 10 февраля 1912 г. № 28).
(обратно)73
Правильно: «Коропачинский». Коропачинский Петр Флегонтович (1865–1947) – общественный и государственный деятель. Из дворян, окончил Горный институт. С 1890 г. работал в бирском и белебеевском мировых судах, в 1894 г. в златоустовском уездном по крестьянским делам присутствии. С 1894 г. член, в 1898–1901 гг. председатель златоустовской уездной земской управы. В 1905–1917 гг. председатель уфимской уездной земской управы, одновременно член уфимской городской думы, с 1914 г. уполномоченный Министерства земледелия по закупке хлеба для армии и председатель Особого совещания по обеспечению продовольствием населения Уфимской губернии. В марте – июне 1917 г. комиссар Временного правительства по Уфимской губернии. В 1918–1919 гг. работал в правительстве A.B. Колчака. С 1920 г. в эмиграции.
(обратно)74
Арцыбушев Василий Петрович (революционный псевдоним «Дед Маркс») (1857–1917) – из дворян Курской губернии, участник революционного движения с 1870-х годов. Как народник, неоднократно ссылался. В 1900-е годы социал-демократ, «искровец», партийную работу вел в Уфе и в Самаре, один из руководителей местных комитетов РСДРП (б). С 1911 г. постоянно жил в Уфе, работал секретарем местной биржи. После Февральской революции член уфимского комитета РСДРП (б) и уфимского Совета. Умер от тифа.
(обратно)75
Толстой Петр Петрович (1870–1918) – граф, общественный и политический деятель, младший брат А.П. Толстого. По окончании физико-математического факультета Московского университета некоторое время жил в родовом имении жены, селе Языково Уфимской губернии. Благодаря его усилиям, местным земством в селе был построен Народный дом, проведен телефон до Уфы и других пунктов уезда. Впоследствии переехал в Уфу, где владел типографией. Вступил в конституционно-демократическую партию, на два трехлетия избирался гласным тетюшского уездного земства Казанской губернии; с 1903 г. состоял гласным уфимского уездного и губернского земства, был членом губернской земской управы, почетным мировым судьей Уфимского уезда. В 1906 г. избран депутатом I Государственной думы от Уфимской губернии. За подписание Выборгского воззвания был осужден к трем месяцам тюрьмы. В 1907 г. основал газету «Вестник Уфы», с 1915 г. издавал газету «Уфимская жизнь» (закрыта уфимским ревкомом в апреле 1918 г. как «рупор контрреволюции»). В 1917 г. выдвигался партией к.-д. кандидатом на выборах в Учредительное собрание, председатель уфимского губернского комитета партии. В числе нескольких десятков выдающихся горожан 17 июня 1918 г. был арестован в качестве заложника и увезен из Уфы. В конце июля все заложники были расстреляны, тела сброшены в воду.
(обратно)76
Фионин Иван Яковлевич (1889–1938) – военный, советский деятель. Арестован в 1936 г. по обвинению в контрреволюционной троцкистской деятельности и в 1938 г. расстрелян. Реабилитирован в 1960 г.
(обратно)77
Богданов Александр Александрович (Малиновский) (1873–1928) – партийный деятель, врач, философ, экономист. Член РСДРП, в 1896–1909 гг. большевик, с 1905 г. член ЦК партии. Руководитель группы «Вперед». С 1918 г. один из идеологов Пролеткульта, с 1926 г. организатор и директор Института переливания крови; погиб, производя на себе опыт.
(обратно)78
Крыленко Николай Васильевич (1885–1938) – государственный, партийный и военный деятель. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета и юридический – Харьковского. Член РСДРП с 1904 г., большевик. С 1914 г. в эмиграции. По возвращении в Россию мобилизован в армию, служил прапорщиком. В октябре 1917 г. член Военно-революционного комитета Петросовета. Вошел в состав первого советского правительства, глава народного комиссариата по военным и морским делам, до марта 1918 г. Верховный главнокомандующий. Затем председатель ревтрибунала при ВЦИК, заместитель наркома юстиции РСФСР, член ЦКК ВКП (б), ВЦИК и ЦИК СССР. 1 февраля 1938 г. арестован, 29 июля приговорен к смертной казни и в тот же день расстрелян. Реабилитирован в 1955 г.
(обратно)79
Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) – политический деятель, монархист. Создатель «Союза русского народа», а после его раскола в 1908 г. – «Русского народного союза имени Михаила Архангела». Получил известность своими выступлениями во II, III и IV Государственных думах. После Февральской революции выступил против Временного правительства.
(обратно)80
Марков Николай Евгеньевич (Марков 2-й) (1866–1945) – политический деятель, монархист. С октября 1905 г. один из лидеров черносотенцев в Курске, организатор «Партии народного порядка», в 1907 г. вошедшей в «Союз русского народа», член его ЦК. Депутат III и IV Государственных дум, стоял во главе фракции крайне правых.
(обратно)81
Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) – политический и общественный деятель, один из организаторов «Союза 17 октября» и член его ЦК. В 1906–1907 гг. член Госсовета по выборам от екатеринославского земства. Депутат III Государственной думы, 22 марта 1911 г. сменил А.И. Гучкова на посту ее председателя. После Февральской революции 1917 г. избран председателем Временного комитета Государственной думы, от имени которого вел по телеграфу переговоры со Ставкой, завершившиеся отречением Николая II и созданием Временного правительства. Находился на посту председателя Думы вплоть до ее роспуска.
(обратно)82
Родичев Федор Измаилович (1854–1933) – политический и общественный деятель, член кадетской партии. Депутат I–IV Государственной дум от Тверской губернии, считался одним из лучших кадетских ораторов. После Февральской революции, в марте – мае 1917 г. комиссар Временного правительства по делам Финляндии, выступал против ее свободного отделения от России. Входил в состав Чрезвычайной следственной комиссии.
(обратно)83
Чхеидзе Николай Семенович (1864–1926) – политический и государственный деятель, с 1898 г. член РСДРП, меньшевик. Участник революции 1905–1907 гг. в Грузии. В 1907 г. был избран от Тифлисской губернии депутатом III Государственной думы. В IV Государственной думе возглавлял меньшевистскую фракцию. В 1917 г. стал первым председателем петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, был членом Временного комитета Государственной думы, был избран председателем ВЦИК.
(обратно)84
Суриц Яков Захарович (1882–1952) – государственный деятель, дипломат. Окончил реальное училище, учился на философском факультете Берлинского университета. С 1902 г. принимал участие в революционном движении. Несколько раз был арестован царскими властями, неоднократно отбывал тюремное заключение, в 1907 г. был сослан в Тобольскую губернию, где пробыл до 1910 г. В 1918–1947 гг. на дипломатической работе – возглавлял советские миссии в Дании, в Афганистане, затем в Норвегии, Турции, Германии, Франции, в 1946–1947 гг. чрезвычайный и полномочный посол СССР в Бразилии.
(обратно)85
Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1959) – политический и государственный деятель, в РСДРП с 1903 г., меньшевик. Депутат II Государственной думы от Кутаисской губернии, председатель социал-демократической фракции. В 1907 г. осужден на каторгу, в 1913 г. выпущен на поселение в Иркутской губернии. Освобожден в 1917 г. Член исполкома петроградского Совета. Министр Временного правительства, делегат I Всероссийского съезда Советов, заместитель председателя ВЦИК.
(обратно)86
Коллонтай Александра Михайловна (1872–1952) – партийный и государственный деятель, дипломат. В революционном движении с 1890-х годов, с 1906 г. примыкала к меньшевикам. С 1907 г. в эмиграции. В марте 1917 г. вернулась в Россию и вошла в состав Петросовета от большевиков. В июле 1917 г. в числе других большевиков арестована, но скоро освобождена. С октября 1917 г. нарком государственного призрения, с 1923 г. на дипломатической работе.
(обратно)87
Дан Федор Ильич (1871–1947) – политический и государственный деятель, меньшевик с 1903 г. В 1896 г. член руководства «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. После Февральской революции один из лидеров РСДРП (м), член президиума Петросовета и Президиума ВЦИК.
(обратно)88
Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) – политический и государственный деятель, один из идеологов и лидеров партии социалистов-революционеров, бессменный член ее ЦК. С 1908 г. в эмиграции. После Февральской революции, вернувшись в Россию, был избран членом бюро и товарищем председателя президиума исполкома Петросовета, членом ВЦИК. В мае – августе 1917 г. министр земледелия Временного правительства.
(обратно)89
Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – политический и государственный деятель, один из лидеров кадетской партии. Депутат III и IV Государственных дум, бессменный председатель кадетской фракции. Ведущий публицист партии, редактор ее газеты «Речь». 27 февраля 1917 г. вошел в состав Временного комитета Государственной думы. Со 2 марта по 1 мая 1917 г. министр иностранных дел Временного правительства, когда и получил прозвище «Дарданелльского» за приверженность внешнеполитическому курсу царского правительства.
(обратно)90
Имеются в виду инспирированные большевиками события 3–5 июля в Петрограде – вооруженные антиправительственные демонстрации солдат, матросов и рабочих под лозунгом «Вся власть Советам!». Временное правительство объявило столицу на военном положении, и в ночь на 5 июля в Петроград были введены верные правительству войска. За разоружением восставших частей последовали массовые аресты, были разгромлены редакция газеты «Правда», ее типография, другие помещения, занятые большевистским руководством. 6 июля правительство отдало приказ об аресте В.И. Ленина, который был вынужден перейти на нелегальное положение.
(обратно)91
Гайдамаки в данном случае – военизированные формирования в составе вооруженных сил Украинской Народной Республики, сформированные СВ. Петлюрой в декабре 1917 г.
(обратно)92
Токарев Никифор Леонтьевич (1891–1917) – крестьянин Уфимского уезда, член боевой рабочей дружины уфимской организации РСДРП (б), участник миасской экспроприации 1909 г.
(обратно)93
Салов И.Φ. – симский рабочий, большевик.
(обратно)94
Ныне Тукмак-Каран.
(обратно)95
Подвойский Николай Ильич (1880–1948) – военный и государственный деятель, член РСДРП с 1901 г., большевик. После Февральской революции председатель Всероссийского бюро военных организаций при ЦК РСДРП (б), один из руководителей петроградского ВРК. После Октября – нарком по военным делам, один из организаторов Красной армии. В 1918 г. председатель Высшей военной инспекции РККА. В мае – июне с группой работников объезжал Урал, организуя фронтовые соединения и формирования войск. С сентября 1918 г. член Реввоенсовета Республики, нарком по военным и морским делам Украинской ССР. В 1919–1927 гг. начальник Всеобуча и ЧОН. Затем находился на партийной работе.
(обратно)96
Очерк написан в конце 1951 г.
(обратно)97
Быков Павел Михайлович (1888–1953) – государственный деятель, член РСДРП с 1902 г., большевик. Участник революции 1905–1907 гг., после которой работал в Златоусте, Казани и Екатеринбурге. После ареста до 1911 г. находился в ссылке в Архангельской губернии. После Февральской революции был избран председателем екатеринбургского Совета солдатских депутатов, входил в уральский областной Совет. В октябре 1917 г. член Президиума ВЦИК, с лета 1919 г. председатель городского Совета в Екатеринбурге. С конца 1921 г. – на руководящей работе в сфере книгоиздательства. Об убийстве семьи Романовых Быков писал неоднократно – в сборнике «Рабочая революция на Урале. Эпизоды и факты» (Екатеринбург, 1921) и в выдержавшей несколько изданий книге «Последние дни Романовых» (Свердловск, 1926; М.; Л., 1930).
(обратно)98
Ермаков Петр Захарович (1884–1952) – член РСДРП с 1906 г., большевик. После Февральской революции сформировал на Верх-Исетском заводе дружину. Участвовал в октябрьских событиях, затем – в борьбе с войсками атамана А.И. Дутова, в июне 1918 г. – в подавлении антибольшевистских восстаний на Верх-Исетском заводе и в Невьянске. В июле 1918 г. привлекался к ликвидации царской семьи. После окончания Гражданской войны работал инспектором уральских лагерей, лично участвовал в расстрелах репрессированных. Комендантом дома Ипатьева не состоял. Сначала этот пост занимал чекист АД. Авдеев, а с 4 июля 1918 г. – его коллега Я.М. Юровский.
(обратно)99
Хохряков Павел Данилович (1893–1918) – бывший матрос Балтийского флота из крестьян, член РСДРП с 1916 г., большевик. С октября 1917 г. начальник штаба красной гвардии Екатеринбурга, в 1918 г. заместитель председателя екатеринбургской губЧека. Погиб в бою.
(обратно)100
Текст мандата, написанного Свердловым собственноручно: «Дорогие товарищи! Сегодня по прямому проводу предупреждаю вас о поездке к вам подателя т. Яковлева. Вы поручите ему перевезти Николая на Урал. Наше мнение пока находиться ему в Екатеринбурге. Решите сами, устроить ли его в тюрьме или приспособить какой-либо особняк. Без нашего прямого указания никуда не увозите. […] Задача Яковлева доставить Николая в Екатеринбург живым и сдать или председателю Белобородову или Голощёкину. Яковлеву даны самые точные и подробные инструкции. Все, что необходимо, сделайте. Сговоритесь о деталях с Яковлевым. С товарищеским приветом. Я. Свердлов. 9.IV. 1918 г.». – URL: wikipedia.org/wiki/Мячин Константин Алексеевич
(обратно)101
Датировку перемещений Мячина зимой– весной 1918 г. мемуарист приводит неточно, возможно – по причине перехода в тот период на «новый» календарь. Судя по дате мандата Свердлова, в первый раз в Уфу Яковлев-Мячин явился примерно в середине апреля 1918 г. по «новому» стилю (отъезд бывшего царя из Тобольска состоялся 13 (26) апреля). В Екатеринбург его «экспедиция» прибыла 17 (30) апреля, и следовательно, в Уфу он мог вернуться не ранее начала мая 1918 г. по «новому» стилю, или 20-х чисел апреля по «старому».
(обратно)102
Авдеев Александр Дмитриевич (1887–1947) – рабочий, член РСДРП с 1912 г., большевик. В 1917–1918 гг. работал в Екатеринбурге в органах ЧК, до 4 июля 1918 г. комендант дома Ипатьева («Дома особого назначения») в Екатеринбурге. Впоследствии на руководящей военной работе, член ЦКК РКП (б).
(обратно)103
Подобные подозрения у Авдеева могли возникнуть еще и потому, что Яковлев-Мячин свободно говорил на нескольких европейских языках (результат его многолетней эмиграции) и представлялся бывшим морским офицером, уволенным со службы по политическим мотивам.
(обратно)104
Сыромолотов Федор Федорович (1877–1949) – уральский рабочий, член РСДРП с 1897 г., большевик. В 1918 г. член екатеринбургского губкома партии и исполкома уральского Совета. Затем – на ответственной хозяйственной работе. Член ВЦИК.
(обратно)105
Блохин В.H. – подполковник, добровольно вступил в Красную армию. Член РКП (б). С 18 июля по 3 сентября 1918 г. командующий 2-й армией Восточного фронта.
(обратно)106
Имеется в виду ижевско-воткинское восстание, вспыхнувшее в августе 1918 г. под лозунгом «За Советы без большевиков». Активными участниками восстания стали рабочие ижевских, боткинских и сарапульских заводов. Восстание ликвидировано в ноябре 1918 г. силами двух стрелковых дивизий 2-й армии, Особой Вятской стрелковой дивизии, отряда особого назначения 3-й армии и Волжской флотилии под общим командованием В.А. Антонова-Овсеенко.
(обратно)107
Шорин Василий Иванович (1870–1938) – военный и государственный деятель. Участник русско-японской войны. Во время Первой мировой войны командовал батальоном и полком. Полковник с 1916 г. В сентябре 1918 г. в Вятке добровольно вступил в Красную армию и 8 сентября был назначен помощником командующего 2-й армией, а 28 сентября – и командующим. Один из руководителей подавления ижевско-воткинского восстания. С мая 1919 г. командовал Северной группой войск, с июля 1919 г. – Особой группой Южного фронта и Юго-Восточным фронтом, с января 1920 г. – Кавказским фронтом. С мая 1921 г. помощник главкома вооруженных сил Республики по Сибири, член Сибревкома. В 1921 г. руководил подавлением ишимского крестьянского восстания, затем – операцией по уничтожению войск барона Р.Ф. Унгерна фон Штернберга. В январе – ноябре 1922 г. командовал войсками Туркестанского фронта, в 1923–1925 гг. – Ленинградского военного округа. В 1925 г. уволен в запас по возрасту. Репрессирован. В 1956 г. реабилитирован.
(обратно)108
Афанасьев Федор Михайлович (1883–1935) – военный и государственный деятель. Окончил военное училище и Академию Генштаба. Участник русско-японской и Первой мировой войн. Полковник. С февраля 1918 г. в Красной армии. В июле – сентябре 1919 г. начальник штаба Северной группы войск Восточного фронта, в 1920 г. начальник штаба, исполняющий обязанности командующего Кавказским фронтом. С апреля 1920 г. начальник штаба помощника Главкома вооруженными силами по Сибири. В 1923 г. помощник начальника Военной академии РККА. С 1924 г. в отставке.
(обратно)109
Гусев Сергей Иванович (настоящее имя Драбкин Яков Давидович) (1874–1933) – военный и государственный деятель. Член РСДРП с 1896 г., большевик. Вел революционную работу в Киеве, Одессе, Петербурге, Москве, неоднократно арестовывался. После Февральской революции секретарь Петроградского Военно-революционного комитета, один из организаторов Красной гвардии. Активный участник октябрьского переворота. В 1918 г. член Реввоенсовета 2-й армии, в 1918–1919 гг. – Восточного фронта. В дальнейшем на военно-политической работе на Юго-Восточном, Кавказском, Юго-Западном, Южном, Туркестанском фронтах. С 1920 г. кандидат в члены ЦК РКП (б).
(обратно)110
Цюрупа Александр Дмитриевич (1870–1928) – партийный и государственный деятель. Член РСДРП с 1898 г., большевик. В 1905–1917 гг. работал в Уфе. С февраля 1918 г. нарком продовольствия. В годы Гражданской войны ведал заготовками и распределением продовольствия, действиями продотрядов. Инициатор создания комбедов и продразверстки.
(обратно)111
Свидерский Алексей Иванович (1878–1933) – партийный и государственный деятель. Участник революционного движения с 1898 г. В октябре 1899 г. арестован и выслан под надзор полиции в Уфимскую губернию. После Февральской революции один из руководителей губернской организации РСДРП, председатель Уфимского Совета рабочих и солдатских депутатов, активный участник свержения власти Временного правительства в Уфимской губернии. С марта 1918 г. член коллегии Наркомпрода.
(обратно)112
Чевырев (Чеверёв) Александр Михайлович (1887–1921) – уральский рабочий, большевик, в 1909 г. судился военно-полевым судом за участие в вооруженном восстании. В 1917 г. председатель военной секции уфимского Совета, командир миньярской боевой рабочей дружины, участник боев с атаманом А.И. Дутовым. С сентября 1918 г. командир полка в дивизии В.М. Азина, затем комдив.
(обратно)113
Азин Владимир Михайлович (Вольдемар Мартинович) (1895–1920) – военный деятель. С конца 1916 г. вольноопределяющийся, солдат отдельного саперного батальона. В 1917 г. участвовал в создании Красной гвардии, командир отряда латышских стрелков. В июле 1918 г. командовал Вятским батальоном на Восточном фронте, в августе – Арской армейской группой, занявшей Казань. С сентября 1918 г. начальник 2-й Сводной пехотной дивизии, в декабре – 28-й стрелковой дивизии 2-й армии. В феврале 1920 г. попал в плен и был казнен в станице Тихорецкая (ныне Фастовецкая).
(обратно)114
Штернберг Павел Карлович (1865–1920) – ученый, революционер. Окончил физико-математический факультет Московского университета. Член РСДРП с 1905 г., большевик. С 1914 г. профессор-астроном, с 1916 г. директор Московской обсерватории. С 1917 г. член Московского комитета РСДРП (б). В октябре 1917 г. был введен в Центральный штаб Красной гвардии и в московский Военно-революционный комитет. В сентябре 1918 г. – июне 1919 г. член Реввоенсовета 2-й армии, в октябре 1919 г. – январе 1920 г. член Реввоенсовета Восточного фронта.
(обратно)115
Рабоче-крестьянская инспекция (Рабкрин, РКИ) осуществляла государственный контролв. Создана в 1920 г., расформирована в 1934 г.
(обратно)116
Главой семейства, о котором идет речь, был Николай Филиппович Сосунов (1861 1922) – дворянин, статский советник, до 1917 г. смотритель казенных лесов в Вологодской губернии. Его жена – Ольга Николаевна Сосунова (в девичестве Теплоухова, 1869–1957) – учительница, дочь инженера, племянница «отца русского лесоведения» А.Е. Теплоухова, сына крепостного графов Строгановых. В семье Сосуновых было восемь детей – четыре сына и четыре дочери. Двое из сыновей – Константин (1893–1918) и Алексей (1895–1914) – погибли на фронтах Первой мировой войны (Алексей, профессиональный художник, ушел воевать добровольцем). Агроном, которого упоминает мемуарист, – это Николай Николаевич Сосунов (1897–1944), погиб в лагере. Старший сын Григорий Николаевич Сосунов (1891– около 1937) – журналист, писатель и поэт (литературные псевдонимы «Г. Вельский», «Лейтенант Грис»), в студенческие годы, как член партии социалистов-революционеров, бывал в ссылке, в годы Гражданской войны активный участник белого движения, также погиб в сталинском лагере. Упомянутую старшую дочь Сосуновых, члена коммунистической партии, звали Марией (р. 1889), медсестрой в санитарном поезде в годы Гражданской войны работала дочь Анна (р. 1899). Летом 1919 г. в Сарапуле И.П. Павлов познакомился с Ольгой Николаевной Сосуновой и ее младшими дочерями – Серафимой (1901–1974) и Ириной (1903–1992).
(обратно)117
107Шкуро Андрей Григорьевич (1887–1947) – из казачьей семьи, в годы Гражданской войны генерал, командир Кубанской казачьей бригады в армии А.И. Деникина, с мая 1919 г. командир конного корпуса.
(обратно)118
Шверник Николай Михайлович (1888–1970) – партийный и государственный деятель. С 1905 г. член РСДРП, большевик. В 1910–1911 гг. член правления Союза металлистов (Петербург). В 1917–1918 гг. председатель завкома Трубочного завода (Самара), затем председатель Трубочного райкома РКП (б), член самарского Совета. С октября 1917 г. председатель Всероссийского комитета рабочих артиллерийских заводов, с 1919 г. председатель Самарского горисполкома. В 1919–1921 гг. работал на руководящих постах в системе снабжения армий на Кавказе. В 1946–1953 гг. председатель Президиума Верховного совета СССР.
(обратно)119
Слонов Иван Артемьевич (1882–1945) – русский, советский актер. На сцене с 1903 г. В 1904–1906 гг. выступал в петербургских театрах, затем в провинциальных. С 1915 г. как актер и режиссер работал в Саратове. Впоследствии его имя было присвоено Саратовскому театральному училищу.
(обратно)120
Мухтарова Фатьма Саттаровна (1893–1972) – советская певица. В 1916 г. окончила Саратовскую консерваторию, с того же года солистка Оперы С. Зимина. В 1918–1919 гг. пела в Астрахани, Саратове. В 1923–1937 гг. выступала в Харькове, Киеве, Одессе, Баку.
(обратно)121
Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) – государственный, политический деятель. В социал-демократическом движении с 1896 г. Во время революции 1905–1907 гг. фактический руководитель петербургского Совета рабочих депутатов, редактор его «Известий». С июля 1917 г. большевик, с сентября 1917 г. председатель петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, один из руководителей октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. В 1917–1918 гг. нарком по иностранным делам; в 1918–1925 гг. нарком по военным делам, председатель Реввоенсовета Республики, один из создателей Красной армии. Его борьба с И.В. Сталиным за лидерство закончилось его исключением из партии и высылкой за границу в 1929 г. Убит в Мексике агентом НКВД.
(обратно)122
Ярославский Емельян Михайлович (настоящее имя Губельман Миней Израилевич) (1878–1943) – партийный и государственный деятель. Член РСДРП с 1898 г., большевик. Участник борьбы за захват большевиками власти в Москве, член ВРК, с 1918 г. комиссар Московского военного округа. С октября 1919 г. председатель пермского губернского комитета РКП (б), редактор губернской газеты «Красный Урал». С марта 1920 г. по 1921 г. член Сибирского бюро ЦК РКП (б). С 1921 г. секретарь ЦК РКП (б), председатель Всесоюзного общества старых большевиков и «Союза воинствующих безбожников».
(обратно)123
Унгерн фон Штернберг Роман Федорович (1886–1921) – барон. Окончив Павловское пехотное училище, служил хорунжим в Забайкальском казачьем войске. В 1913 г. вышел в отставку и отправился в Монголию. Участник Первой мировой войны. В 1917 г. направлен А.Ф. Керенским в Забайкалье для формирования добровольческих частей, в 1920 г. перешел монгольскую границу и в феврале 1921 г. захватил Ургу В мае 1921 г. с 10-тысячным отрядом вторгся на советскую территорию. Был разгромлен частями РККА, судим ревтрибуналом и по его приговору расстрелян.
(обратно)124
Гойхбарг Александр Григорьевич (1883–1962) – партийный и государственный деятель. Окончил юридический факультет Петербургского университета. С 1904 г член РСДРП, меньшевик. В 1918 г. работал в Наркомюсте – членом коллегии и заведующим Отделом кодификации и законодательных предположений. В 1919–1920 гг. член Сибревкома. С 1921 г. председатель Малого Совнаркома. В 1921 г выступал обвинителем на процессе колчаковских министров в Омске. В 1947 г был арестован по обвинению в антисоветской агитации, но судебно-психиатрической экспертизой признан невменяемым и от ответственности освобожден.
(обратно)125
Попов Виктор Лукич (р. 1864) – из духовного звания, уроженец Иркутска. В 1900 г окончил Николаевскую Академию Генерального штаба. Участник Первой мировой войны, генерал-майор (1916), начальник штаба дивизии, корпуса. В декабре 1917 г демобилизован. С 1919 г. главный начальник Усинско-Урянхайского края на территории, подконтрольной правительству A.B. Колчака, в Иркутске взят в плен, перешел на службу в РККА. В 1920 г. в штабе помглавкома по Сибири сначала начальник мобилизационного управления, с декабря – помощник начальника штаба.
(обратно)126
Сандецкий Александр Генрихович (1851–1918) – генерал от инфантерии, с 1906 г. командир гренадерского корпуса, в 1907–1917 гг. (с перерывом) командующий войсками Казанского военного округа. В этом качестве утверждал приговоры Казанского военно-окружного суда, включая упомянутый мемуаристом. После октябрьской революции был арестован ЧК, содержался в Таганской и Бутырской тюрьмах. Расстрелян в конце 1918 г.
(обратно)127
Калинин Михаил Иванович (1875–1946) – партийный и государственный деятель. Член РСДРП с 1898 г. С марта 1919 г. председатель ВЦИК, в декабре 1922 г. избран председателем ЦИК СССР, в 1938–1946 гг. председатель Президиума Верховного совета СССР.
(обратно)128
ВОХР – Войска внутренней охраны республики, созданные в мае 1919 г. для охраны государственных объектов, борьбы с вооруженными контрреволюционными выступлениями, изъятия хлебных излишков. В дальнейшем входили в состав войск НКВД и охраняли места лишения свободы.
(обратно)129
Петин Николай Николаевич (1876–1937) – кадровый офицер, участник Первой мировой войны. В 1918 г. вступил в Красную армию, возглавлял штабы 6-й армии, Западного, Южного и Юго-Западного фронтов. В 1921–1924 гг. командующий войсками Сибири и Западно-Сибирского военного округа. В 1924–1925 гг. инспектор военно-учебных заведений РККА. В 1928–1930 гг. заместитель начальника Главного управления РККА. В 1937 г. арестован, приговорен к смертной казни и расстрелян. В 1956 г. реабилитирован.
(обратно)130
Дейч Яков Абрамович (1898–1938) – комиссар госбезопасности 3-го ранга (1935). Член РСДРП (б) с ноября 1917 г. В 1918 г. сотрудник органов снабжения РККА, с января 1920 г. работал в управлении снабжения Северо-Кавказского военного округа, с мая 1920 г. в органах ВЧК. В 1930-е годы начальник секретариата НКВД СССР. Арестован в марте 1938 г., умер во время следствия.
(обратно)131
Богоискательство – философско-религиозное движение в среде русской интеллигенции конца XIX – начала XX в.
(обратно)132
Ситников Лука Андреевич (1893–1938) – в 1917–1918 гг. матрос Балтийского флота, большевик. В 1918–1923 гг. (с перерывами) руководитель сарапульского уездного совнархоза, затем на хозяйственной и партийной работе в Соликамске и Кунгуре, на железнодорожном транспорте в Москве. Арестован по обвинению во вредительстве в 1937 г., расстрелян в 1938 г. Реабилитирован в 1956 г.
(обратно)133
Тиунов Александр Александрович (р. 1883) – рабочий-токарь Мотовилихинского завода, член РСДРП с 1898 г., большевик. В 1921–1923 гг. председатель сарапульского уисполкома, с 1924 г. председатель сарапульского окружного исполкома Советов.
(обратно)134
ARA, American Relief Administration – «Американская администрация помощи», создана для оказания помощи европейским странам, пострадавшим в Первой мировой войне. В 1921 г. в связи с голодом в Поволжье деятельность «АРА» была разрешена и в советской России.
(обратно)135
НЭП (новая экономическая политика) – экономическая политика, проводившаяся в советской России и СССР в 1920-е годы. Главное содержание НЭПа – замена продразверстки продналогом в деревне, использование рынка и различных форм собственности, привлечение иностранного капитала в форме концессий, проведение денежной реформы.
(обратно)136
Части особого назначения (ЧОН) – «коммунистические дружины», «военно-партийные отряды», создававшиеся при заводских партийных ячейках, районных, городских, уездных и губернских комитетах партии на основании постановления ЦК РКП (б) от 17 апреля 1919 г. для оказания помощи органам советской власти в борьбе с контрреволюцией и несения караульной службы.
(обратно)137
Фези-Жилинский Сергей Николаевич (ум. 1933) – в 1918 г. один из руководителей Российской социал-демократической рабочей партии революционных интернационалистов, ответственный редактор газеты «Освобождение труда». В 1926 г. председатель исполкома челябинского окружного Совета, затем член президиума Госплана РСФСР.
(обратно)138
Кабанов Иван Григорьевич (1898–1972) – партийный и государственный деятель. С 1917 г. член РСДРП, большевик. В 1918 г. вступил в Красную армию. Участник Гражданской войны, комиссар. С 1922 г. на партийной работе. В 1928 г. окончил Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова. С 1937 г. нарком коммунального хозяйства РСФСР, с 1938 г. нарком пищевой промышленности СССР, в 1940–1941 гг. директор завода «Динамо». С 1941 г. нарком электропромышленности СССР. В 1953–1958 гг. министр внешней торговли СССР.
(обратно)139
Ратнер Лев Моисеевич (1886–1953) – хирург и онколог, доктор медицинских наук (1947), профессор (1941), в описываемое время заведующий кафедрой общей хирургии Свердловского медицинского института, консультант свердловских эвакогоспиталей.
(обратно)140
Азволинский Я.П. – большевик с 1917 г., в середине 1920-х годов секретарь Кустанайского горкома ВКП (б), делегат XIV съезда ВКП (б).
(обратно)141
Ягода Генрих Григорьевич (1891–1938) – партийный и государственный деятель. Член РСДРП с 1907 г., большевик. В 1917 г. вошел в Военную организацию РСДРП (б), участвовал в октябрьском перевороте в Петрограде. В Гражданскую войну состоял в Высшей военной инспекции РККА на Южном и Восточном фронтах. С 1919 г. член коллегии Наркомата внешней торговли, с 1920 г. – член Президиума ВЧК. С 1924 г. заместитель председателя ОГПУ, с 1935 г. – генеральный комиссар госбезопасности, в 1934–1936 гг. нарком внутренних дел СССР. В 1937 г. арестован, приговорен к расстрелу и в 1938 г. казнен.
(обратно)142
Берия Лаврентий Павлович (1899–1953) – партийный и государственный деятель. Член РСДРП с 1917 г., большевик. В 1921–1931 гг. работал в органах разведки и контрразведки, заместитель председателя Азербайджанской ЧК, председатель Грузинского и Закавказского ГПУ, представитель ОГПУ в ЗСФСР. С 1931 г. первый секретарь ЦК КП (б) Грузии, одновременно с 1932 г. – Закавказского крайкома и Тбилисского горкома партии. В 1938–1948 гг. и марте – июне 1953 г. нарком (министр) внутренних дел СССР, в 1941–1946 гг. заместитель Председателя СНК СССР. С 1946 г. заместитель Председателя, а в марте – июне 1953 г. первый заместитель Председателя Совмина СССР. 26 июня 1953 г. снят с постов и арестован. 23 декабря 1953 г. специальным судебным присутствием Верховного суда СССР приговорен к расстрелу и в тот же день расстрелян.
(обратно)143
Кедров Михаил Сергеевич (1878–1941) – государственный и партийный деятель. Член РСДРП с 1901 г., большевик. После Февральской революции 1917 г. член Военной организации при ЦК РСДРП (б), в 1917–1919 гг. член коллегии Наркомата по военным делам, в 1921–1924 гг. уполномоченный ВЧК по Каспию, председатель Каспийской морской ЧК. В 1924–1937 гг. работал на руководящих должностях в ВСНХ, Наркомздраве, Верховном суде СССР, Госплане СССР. С 1937 г. пенсионер. 16 апреля 1939 г. арестован, оправдан Военной коллегией Верховного суда СССР 9 июля 1941 г., но казнен в декабре того же года по личному указанию Л.П. Берии. Реабилитирован в 1956 г.
(обратно)144
Токарева Мария Александровна (1894–1964) – народная артистка РСФСР (1950), в 1931–1950 гг. актриса Свердловского, затем Ярославского драматических театров.
(обратно)145
Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) – военный и государственный деятель, Маршал Советского Союза (1935). В РСДРП с 1903 г., большевик. В 1917 г. председатель Луганского Совета и горкома партии, комиссар Петроградского Военно-революционного комитета, затем председатель Чрезвычайной комиссии по охране Петрограда. В 1918 г. в Красной Армии, с 1919 г. член реввоенсовета 1-й Конной армии, с 1921 г. командующий войсками Северо-Кавказского, с 1924 г. – Московского военных округов. С 1925 г. нарком по военным и морским делам, в 1934–1940 гг. нарком обороны СССР. В годы Великой Отечественной войны член Государственного комитета обороны, с 10 июля 1941 г. главнокомандующий войсками Северо-Западного направления, представитель Ставки по формированию войск (сентябрь 1941 г. – февраль 1942 г.), представитель Ставки Верховного Главнокомандования на Волховском фронте (февраль – сентябрь 1942 г.), главнокомандующий партизанским движением (сентябрь 1942 г. – май 1943 г.).
(обратно)146
И.И. Павлова (в замужестве Руткевич) работала в политотделе 197-й Свердловской танковой бригады 30-го Уральского Добровольческого танкового корпуса. В октябре 1943 г. 30-й корпус был преобразован в 10-й гвардейский.
(обратно)147
Мемуарист умолчал, что в эти годы через его руки на Урал в массовом порядке поступало трофейное оборудование и имущество из Германии, причем, в отличие от него самого, всегда подчеркнуто щепетильного в имущественных делах, некоторые его сослуживцы не выдержали возникшего искуса. В этом и заключается подтекст последней фразы.
(обратно)148
Иванов Семен Варфоломеевич (1880–1955) – из крестьян, плотник. Член РСДРП с 1904 г., большевик, член кронштадтского комитета РСДРП (б). В 1906 г. приговорен к 10 годам каторги, после отбытия которой выслан в Архангельскую губернию. Из ссылки бежал. В 1917 г. делегат II Всероссийской съезда Советов, в 1918 г. делегат Учредительного собрания, председатель смоленского губкома РКП (б). В дальнейшем на руководящей партийной и советской работе в Белоруссии и в горной промышленности СССР.
(обратно)149
Покрышкин Александр Иванович (1913–1985) – летчик-ас, трижды Герой Советского Союза, Маршал авиации (1972), второй по результативности пилот-истребитель среди летчиков антигитлеровской коалиции.
(обратно)150
Более подробно и взвешенно свое отношение к Сталину И.П. Павлов сформулировал после XX съезда КПСС в письмах директору Дома-музея Я.М. Свердлова А.Г. Деменевой, которые хранятся в фондах этого музея:
«О борьбе с культом… конечно, загубленных людей партии и народа не вернешь… суд присуждает к смертной казни убийцу, убивавшего одного человека. А тут столько убито людей и каких людей. Пусть это ошибка трагическая. Эту ошибку истязания не простить Сталину. И мы не имеем права прощать. Это позорная страница всей партии и, конечно, тяжело нам всем. Урок тяжелый, но учить его надо» (из письма от 20 апреля 1956 г.).
«Конец рукописи о культе личности переделывать не буду. Вы знаете, что я не очень был подвержен этому культу, но здесь дело особое. Во-первых, я писал это в 1953– 54 годах, а не теперь. Во-вторых, а это главное, я писал о том, что было в действительности. Тов. Хрущев в своей статье, которая напечатана в "Правде" в конце августа этого года… прямо говорит: "мы все плакали на похоронах Сталина". И это правда, плакали, в том числе плакал и я! Ведь кто знает, что было бы с Советской властью после смерти Ленина, если бы не твердая железная рука Сталина. Поэтому его заслуги перед страной огромны. Но ему история не простит уничтожения лучших людей нашей партии и народа. Его ошибка трагична» (из письма от 8 сентября 1957 г.).
(обратно)


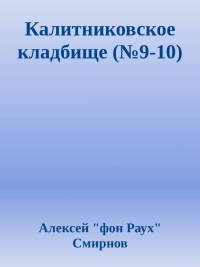
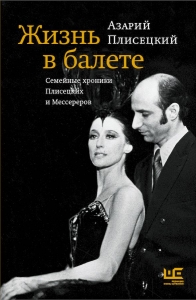

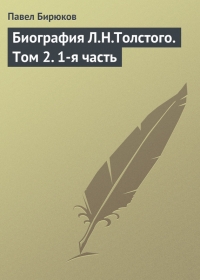
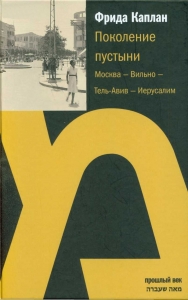
Комментарии к книге «Большевик, подпольщик, боевик. Воспоминания И. П. Павлова», Евгений Александрович Бурденков
Всего 0 комментариев