Таня Перес Дитя дорог (хроники 1941–1944)
Об авторе
Таня Перес родилась в Кишиневе, в Бесарабии (сегодняшняя Молдова). Ре6енком-подростком оказалась на оккупированной румынскими и немецкими войсками территории. Ее родители и ближайшие родственники погибли в Катастрофе. Но Тане, ценой невероятных испытаний, удалось не только выжить, но и сохранить человеческое достоинство. Девочка в 1944 году отправляется в Палестину. Она становится членом молодежной организации кибуц Эйн Шемер.
В Израиле Таня была среди основателей кибуца Гвулот в Негеве. Там она вышла замуж. После этого переехала в Иерусалим, где училась и занималась в самодеятельном театре. В 1956 году она была принята в труппу всемирно известного театра «Габима». В 1962 году она начала играть в Камерном театре.
В 1966 по приглашению правительства Берега Слоновой Кости Таня создает театр на французском языке (официальный язык в этой стране). В 1970 году она вернулась с мужем в Тель-Авив и начала заниматься живописью.
Предисловие
Для того чтобы вам стало ясно, в каких местах и в какой период все это произошло, я приведу далее некоторые исторические факты.
В 1917 году, во время Первой Мировой войны, румынские войска вступили в русскую провинцию, Бесарабию, которая находится западнее Украины, между Черным морем и реками Дунай, Прут и Днестр. Бесарабия находилась под румынской оккупацией до 1940-го года, когда был подписан договор немцев с русскими, который изменил дальнейшее развитие ситуации.
Только в конце июля 1939 г. Гитлер принимает решение о сближении с СССР. Еще до начала Второй Мировой войны, Адольф Гитлер одобрил территориальный раздел центральной Европы, Балтики и Финляндии между Германией и СССР. Таким образом, он «изменил» своей «поклоннице», Румынии. Был подписан «Договора о ненападении между Германией и СССР» или так называемый «Пакт Молотова – Риббентропа». Тем самым Гитлер хотел отсрочить начало войны с СССР до более удобного момента. С другой стороны Сталин, осознавая слабость Красной Армии, поддерживал этот договор, надеясь выиграть время для подготовки к войне.
В 1940-м году вошла красная армия в Бесарабию и Буковину, которая находится севернее. Буковина всегда находилась под австрийским влиянием, и до этого находилась в составе Западной Украины – куда и вернулась в наши дни.
Началась быстрая советизация. Создавались органы власти, местного управления, менялась система школьного образования. И, наконец, на улицах городов снова послышалась русская речь. Это очень радовало местных русских жителей, которые относились к румынским властям с отвращением.
Но все закончилось летом 1941-ого, когда Германия напала на СССР. Гитлер пообещал Румынии вернуть ей Бесарабию и Буковину с ее столицей Черновцы. Кроме этого он дал им «подарок»: огромную территорию междуречья Днестра и Буга и другие районы. Это не был подарок в прямом смысле этого слова, скорее это было «одалживание» территорий румынской армии, которая выполняла функции гарнизона, и в действительности должна будет управлять гражданами страны. Такое надежное правление дало Гитлеру возможность беспрепятственного продвижения на восток.
Румыния смогла за короткое время завладеть Одессой и районами рядом с ней. В то же время Красная армия в панике отступает. При отступлении армии из Кишинева, постаравшись вывезти из него всех жителей, город подожгли. Германские войска пронеслись по Кишиневу, как ураган, и устремились на восток, на Украину. Румынская армия получила захваченные территории в свое полное распоряжение.
И в этот раз румыны отнеслись к поставленной задаче с полной серьезностью. Они создали полувоенную сеть управления, и с энтузиазмом принялись за создание концентрационных лагерей для евреев. В этих концлагерях насчитывалось около ста тысяч человек. Румыны издевались над евреями и цыганами, отправляли их на каторжные работы, остальных просто убивали.
Убийство евреев в Бесарабии и Буковине продолжалось с 1941 года и до освобождения территорий Красной армией в 1944 году. Сотни тысяч евреев были убиты! И я была свидетельницей всего этого.
И я была свидетельницей всего этого.
1.
Я начну с конца августа 1941-го, когда немцы «поливали» мой город Кишинев своими плачущими и вопящими бомбами.
Я жила в этом городе с рождения. Дом был огромный, красивый, с большим двором и садом. Двор был полон растений и цветущих акаций. Воздух был наполнен прекрасным сладким запахом.
Рядом с моим окном был большой куст сирени, который вносил свою ноту в симфонию запахов. Я сидела на веранде и думала, что мне нужно сделать для того, чтобы ничего в моем мире не изменилось. Я слышала короткий разговор мамы и папы о том, что может произойти. Я поняла, что немцы напали на русских. До сих пор они не напали на нас, потому что у них был договор с румынскими властями. Румыны, скорей всего, хотели заполучить наш регион, Бесарабию. (Сейчас, когда я пишу эти страницы, это государство Молдова.) На протяжении недели мы слышали страшные звуки бомбардировок. Сирены громко звучали почти каждый час, и тогда мы все бежали в тот самый знаменитый подвал, о котором я еще расскажу. Этот подвал сыграл важную роль в моей жизни!
Я боялась. Очень боялась. Все боялись, вся семья. Нашей главной тревогой было: что делать дальше? Мне не известно, знали ли мама и папа, что нас ожидает. Верили ли они в то, что советская армия выдержит напор врага. В течение нескольких дней выяснилось, что Красная армия в панике отступает.
Моя семья почти никогда не была дома. Все бегали приводить в порядок разные дела. Прислуга разъехалась по деревням. Остались только няня и дядя Илья со своей семьей.
Я не помню ели ли мы. Наверно да, но не по распорядку. Страх был очень силен. Взрывы бомб оглушали. Я замирала на своем стуле на веранде.
По прошествии некоторого времени сирены перестали звучать, но издалека доносились голоса пушек. Советская армия начала отступать из города, вероятно оборона была разрушена. Иногда у наших ворот останавливались машины и грузовики с военными, которые нас звали присоединиться к ним и уехать из города. Часто они заходили во двор и умоляли нас бежать. То, что нет возможности избежать эвакуации, было понятно даже мне!!!
Я думала о Мишке, о моем верном друге, который жил по соседству. Я с ним познакомилась, когда мне было пять лет, и он стал моим лучшим другом. Какими умными были Мишка и его мать. Они уехали из Кишинева вовремя и спокойно. Они взяли с собой много вещей. Я размышляла: где сейчас Мишка? Кто знает, не погиб ли он во время бомбардировок?
Во дворе царило большое замешательство. Мои родители и бабушка бегали вокруг тети Рули и ее мужа Павла. Они ссорились, и моя семья пыталась их помирить. Выяснилось, что среди общей трагедии была и наша семейная драма. К моему большому сожалению и к моей огромной тревоге у нас в семье создалась безвыходная ситуация. Моя тетя Руля, сестра моей матери, бегала по саду в истерике и громко кричала, что она хочет умереть! Павел был с ней и умолял ее перестать волноваться. Он хотел, чтобы она поехала на восток с нами – с моей мамой, с бабушкой Гольдой и моим отцом. Дядя Павел был прекрасным человеком, с чувством юмора, красивым. Он играл на скрипке и в самом деле очень любил мою тетю Рулю. Но я поняла, что он также был волокитой, легкомысленным и не очень-то честным. Похоже, что дядя Павел страшно влюбился в какую-то женщину и не мог дать ей уехать без него, без защиты на просторы России во время жестокой войны.
Несмотря на мой юный возраст – мне было одиннадцать лет и несколько месяцев – эта история мне показалась очень глупой. Я не понимала, почему мы не собираем вещи, не забираемся в машину и не спасаемся вместе с армией! Все глупости о любви, разочаровании и ревности мне казались не достаточно важными. Мне хотелось, чтобы мы поскорее оттуда убрались. Мой отец вернулся и повторил бессчетное количество раз, что нужно спешить, спешить, спешить. Я тоже была в панике. Я не понимала, почему все остальные члены семьи заняты глупостями. Моя мама сочувствовала своей сестре, в полном понимании этого слова. Она ее обнимала, жалела ее и разговаривала с ней. Ничего не помогало. Тетя Руля была полна ревности, ненависти и обиды.
Моя мать очень любила свою сестру, но никогда и ни в чем с ней не соглашалась. Они были абсолютно разные. Моя мама была сдержанной, красивой и прекрасно воспитанной. Я никогда не видела, чтобы она во что-то вмешивалась и высказывала свое мнение. Но сейчас, в этом странном положении, она поддержала свою сестру, поняла ее и согласилась с ней. Тетя Руля была чувствительной, выделялась своей внешностью и поступками, и наверно не совсем рациональна.
Моя мать решала за нее. Она поддерживала ее, и сегодня мне кажется, что тогда, в ту секунду, было принято судьбоносное решение – не уезжать из дома. Остаться в Кишиневе. И никуда не двигаться.
Мама поила тетю Рулю водой, гладила ее по голове как ребенка.
– Мы ни в коем случае не оставим тебя – заявила она однозначно – мы не сдвинемся из дома! Немцы очень культурный народ, и ничего плохого с нами не случится!
Я помню лицо своего отца. Он был не согласен с таким решением, но молчал. По правде говоря, моя мама действительно не хотела оставлять наш прекрасный дом со всем имуществом, и присоединяться к сомнительным приключениям с советскими солдатами и превратиться в нищих беженцев. Бежать в неизвестность? Отец наверно знал больше нас. Он не согласился с мнением матери, но, не смотря на отсутствие здравого смысла в принятом решении, мы остались в нашем дворе.
Это было катастрофическое решение, но это мы осознали позже.
2.
Огонь, дым, удушье, так выглядел горящий город, и это было ужасно. Огонь лизал все и вся. Воздух был полон тяжелым дымом. Все прежние звуки затихли. Мы не слышим машин и грузовиков армии. Наверно начался конец. Папа взял все в свои руки. Он созвал всех нас и сказал:
– Возьмите немедленно все, что необходимо, немного еды и сейчас же вон отсюда. Сейчас же!
Мы собираем теплые вещи, несмотря на августовскую жару, пальто, сапоги, шарф и даже мою шерстяную шапочку, все, что было перед глазами. Моя няня собирает мои вещи, и мы выходим.
Мой большой пес, мой золотой сеттер, прилипает к моим ногам и поджимает хвост. Мы выходим на улицу за наши зеленые ворота, моя маленькая семья, моя дорогая няня и мой пес. Кошка моей мамы осталось дома, как и все остальные животные. Мы выходим за ворота, и идем по склону улицы. Огонь распространяется по обеим сторонам улицы. Невозможная жара. Искры летят над моей головой. Языки пламени быстро охватывают фасады и окна. От жары окна с шумом разбиваются вдребезги. Начинается ветер. Папа хватает меня за руку и тянет быстро, быстро вперед. Дядя Павел тащит свою жену с нами. Он ее не оставил. Мама, няня и бабушка кашляют, задыхаются, спотыкаются, но все-таки продолжают бежать. Одноэтажные дома выглядят прозрачными. Огонь превратил их в костры! Мы бежим все быстрее и быстрее. Вдруг площадь. Площадь полна людей. Истерика. Но есть больше воздуха, легче дышать. Все ищут всех. Вдруг я замечаю, что мой пес исчез! Я плачу.
– Папа, где он? Куда он исчез? Почему он меня оставил?!
– Собаки знают гораздо лучше нас, что делать. Он нашел лучшее укрытие.
Папа не сказал правду. Больше я никогда не видела своего пса.
С этого момента мы начали искать место жительства на юге города. Няня пока осталась с нами. Она очень нужна была моей бабушке.
Юг города. Несчастные домишки, беднота, грязь! Южная часть города была совершенно пуста. Кривые улицы, дома, покинутые и грязные свидетельствуют, кто там жил раньше. Как бы ни было, это население было умнее нас, они сумели удрать из этого города вместе с отступающими войсками.
Я чувствую внутренний холод и пустоту в сердце. Все время я вижу перед глазами мою собаку и белую мамину кошку. Где они? Я стараюсь преодолеть слезы и смотреть на вещи, как они есть. Я бегу по улицам. Я ищу пустой дом. Я нахожу!
– Идите скорее сюда! Сюда, сюда! Сюда!!! Осторожно, тут две ступеньки вниз. Бабушка осторожно, ты еще можешь сломать себе вторую ногу!
Бабушка наверно не была очень стара. Она все-таки сумела сломать себе ногу, несколько лет назад, когда она, по ее словам, преследовала «нахального» кота!
Из всей моей семьи оказалось, что она, моя бабушка, самая практичная и самая умная! Она сразу же начала находить места, раскладывать вещи и обживаться. Моя няня, забывая свой возраст, начинает помогать бабушке. Моя маленькая семья, папа, мама, бабушка и я, заходим в этот нищий запущенный домик. На столе была еда, грязные тарелки и чай был горячим. Все вещи этой семьи были там. Они были разбросаны на полу, диване на стульях. Было видно, что они оставили дом в страшной спешке. Страшная грязь, повсюду висит паутина. Тяжелый запах, чувствуется беднота и удушье.
– Когда все кончится, вернемся домой – говорит мама.
Я знаю, что мама не говорит правду, это никогда не случится, но я молчу, не хочу говорить то, что я думаю. Мы заняли этот дом, а по близости нашли свое место тетя Руля и ее муж.
Эту ночь мы провели в попытках привести дом в порядок. Мы решили не ложиться в кровати, потому что они были полны клопов. Мама спит на столе. Бабушка находит себе место на каком то диване, почему-то она решила, что на нем нет клопов. Я и папа спим на стульях. Мне это не мешает! О еде мы не думали, меня это не интересует.
На следующий день мы начали ходить по улицам, чтобы понять и увидеть, что происходит. Самолеты прекратили бомбардировку. Город был пуст. Царила тишина, очень странная тишина. Большое открытие! Наша улица полна детей. О, какая радость! Я знаю некоторых из них. Без того чтоб спросить позволения, мы начали бежать по улицам, чтобы увидеть, какая армия входит в город. Мы очень любопытны!
В моей памяти осталась фраза, которую кто-то сказал, наверное, мама: МЫ БЕЗДОМНЫЕ! Эта фраза преследует меня до сегодняшнего дня. Это правда, с тех пор у меня нет дома.
Наше пребывание в этой части города продолжилось несколько месяцев. Эта часть города была ограждена и превратилась в гетто. Румынские войска охраняли ворота и не позволяли нам пойти и посмотреть, что случилось с нашим домом. К нашему счастью молдаванские мужики приносили пищу, и потому что у моего папы еще были деньги, мы могли есть вдоволь. Я не помню, что мы ели.
Мама заболевает тифом. И о, чудо! Бабушка проявила себя очень хозяйственной. Она мыла маму, она сумела просунуть еду между ее сжатыми челюстями и поила ее горячим чаем. И посмотрите, какое чудо! Она говорила с ней ласковыми словами! Это было не обычно!
Моя тетя Руля и ее муж жили в другом доме. Вдруг на днях влетает дядя Павел и кричит – «вы не видели Рулю?!» – мы не понимаем, о чем он говорит. Спустя несколько дней мы узнаем, что румынские солдаты, которые считали себя полными хозяевами этого места, решили собрать триста двенадцать женщин. Они нашли красивейших женщин и привели их на холм возле реки. Они взяли с собой несколько здоровых и сильных евреев и потребовали, чтобы они выкопали глубокий ров. Они поставили женщин в прямую линию надо рвом и расстреляли их. Одна из этих женщин была моей красивой тетей Рулей. Мы узнали об этом от одного из этих евреев, которых заставили покрыть трупы землей. Один из них рассказал бабушке и папе что одна из этих женщин, и наверно, это была тетя Руля, подошла к нему и попросила сказать, что она ничего не боится, потому что она идет к своему папе! Мы сразу поняли, что это женщина была моя тетя Руля, это был ее стиль. Трудно было понять и освоится с мыслью, что эта красивая, темпераментная женщина убита! Расстреляна руками румынских жандармов по приказу немцев.
После этого несчастья моя мама потеряла дар речи, она только говорила простые слова: воду, горшок, холодно, жарко. Папа и я были в отчаянии, как и бабушка и, конечно, няня. Няня приходила к нам каждое утро из города, через посты румынских жандармов, ругая их беспощадно. Все последнее время она продолжала жить в своей маленькой квартире на заднем дворе нашего дома, которая к счастью не сгорела. Она рассказывала нам о дяде Илье и его семье, и обо всех животных, которые выжили. Я страшно завидую ей, она может вернуться в свой дом, где она прожила всю жизнь. Иногда я хотела присоединиться к ней, но папа не разрешал мне сделать и одного шага без него. Бабушка постоянно занималась мамой, варила обед, и, главное, старалась наводить порядок в доме. Странно было называть это место домом. Няня иногда приносила еду и лед, потому что в этом домишке нельзя было держать ничего больше нескольких часов, в нем не было погреба.
Няня и бабушка совершенно не походили друг на друга, ни с какой стороны! Няня была замечательная, очаровательная, хорошая, приятная, толстая и мягкая! Бабушка же была высокая, худая, твердая и властная женщина. Каждое утро она застегивала все пуговицы своей блузки до шеи даже в августе! Но, несмотря на это, она не отказывалась от тяжелых работ.
В первые три месяца после несчастья жизнь в нашей хижине начала казаться более упорядоченной. Я встретила много детей на улице. Мы играли с мальчиками и девочками, много смеялись и прыгали, и вместе с тем мы были в напряжении и страхе оттого, что нас ждет. Мы пробовали понять ситуацию по разным слухам, которые слышали от взрослых.
«Что будет? Что будет?!» – постоянно висела неизвестность над нашими головками. Наш страх был основан на слухах, которые расползались из дома в дом как ядовитые змеи.
– Убьют нас всех! Перебросят нас через Днестр. Посадят нас в тюрьму и лагеря.
– Изнасилуют всех женщин и девочек, а потом убьют.
– Не надо отсюда двигаться и надо сопротивляться!
Все, что я слышала на улице, я хранила в сердце и ничего не рассказывала семье. Папа выглядел озабоченным. Почти не разговаривал. Большую часть времени он неподвижно сидел и думал. Я не знаю, о чем он думал. Болезнь мамы, смерть тети и потеря дорогой работы, он был профессором на медицинском факультете университета, он преподавал мертвые языки, греческий и латынь. По профессии он был адвокатом и врачом. Иногда он подходил к постели мамы, поправлял ей подушку, смотрел ей в глаза, клал свою руку на ее лоб, чтоб проверить температуру. Не было термометра. Все медицинские принадлежности папы остались позади. У папы было много инструментов, которые он держал дома и, разумеется, что он взял с собой только несколько необходимых лекарств, термометр разбился. Мама смотрела ему в глаза и что-то шептала. Он приближал ухо к ее губам, чтобы что-либо разобрать:
– Я вроде бы чувствую себя лучше.
– Ты выглядишь гораздо лучше. Ты, наверно, выздоравливаешь, – говорит папа.
Я стою у двери и говорю себе: они оба беспощадно врут.
3.
Спустя несколько месяцев, в середине дождливой и холодной осени, скорей всего это было в ноябре, нас решили перевезти на Украину. В гетто были разные слухи и разговоры, были попытки остаться в нем подольше и не выезжать. Я почти ничего не понимала. Решение сверху – наверно, из Бухареста, от самого Антонеску – перевезти всех евреев Кишинева и округи за Днестр, было судьбоносным и привело к уничтожению сотен тысяч человек.
Территория между Днестром и Бугом стала называться Транснистрия, туда нас и должны были отправить.
Мы вышли из Кишинева. Нас посадили на телеги, запряженные быками. Нас вывозили улицу за улицей. Многим в это время удалось бежать из гетто. Нам не удалось. Из-за болезни матери и бессилия бабушки.
Мы выходим на улицу, в конце улицы ждут несколько телег. Мы пытаемся посадить мою маму и бабушку на одну из них. Бабушка очень злится и кричит: «Куда мы едем? Зачем мы едем?» К ней подходит один из сопровождающих нас солдат с нагайкой в руках и говорит: «Замолчи! Заткни свой рот!», он взмахивает нагайкой над ее головой. Бабушка молчит. Она понимает.
Когда нам удалось посадить бабушку и маму, колонна двинулась в путь. Мы с папой плелись по грязи. Мы не видели дядю Павла. Это была длинная колонна. Крики. Плачь. Удары нагаек и выстрелы. Это продолжалось несколько дней. Мы не останавливались на ночь. Кто не выдерживал – оставался позади. Наша судьба была ясна. Папа заплатил извозчику, который вез маму и бабушку. Мы плелись позади. Я думаю, что мы вышли на реку Днестр только через несколько дней, голодные и избитые.
Река Днестр. Широкий мост. Нас снимают с телег. Приказывают продвигаться вперед. Грязь! Бабушка не может идти. Ее тащат. Снова нагайки, крики и выстрелы. Мы с трудом продвигаемся. Мама все-таки пытается идти. Переходим мост. Мы на Украине! Отсюда и до реки Буг простирается Транснистрия. Мы становимся в колонну. Телеги исчезли. Молдавские извозчики остались позади, не без вознаграждения – нам пришлось расстаться с деньгами, драгоценностями и мехами. Идем пешком.
Входим в город Рыбница. Колонна продвигается очень медленно. Моя бабушка не может идти. Моя мама иногда падает. Бабушка садится в грязь. Папа решает, что нам надо пройти на боковую улицу. Он наверно думает сбежать из колонны. Мы ищем укрытие. Приближаемся к пустым зданиям. Внутри сухо. Мы одни. Садимся около стены, накрываемся пальто и отдыхаем.
Прошли несколько часов. Может даже день и ночь. Мы двигаемся механически. Спим. Не разговариваем. Вдруг заходят несколько солдат. На самом деле это были жандармы.
– Что вы здесь делаете? Кто вам разрешил здесь быть?
Они еще не достали свои нагайки. Папа встает. Подходит к ним, засовывает руки карманы брюк, тем самым, показывая им, что есть «вознаграждение»… Они стоят и смотрят на него. Папа достает тысячу рублей. Они берут деньги и разрывают на мелкие клочья.
– Большевик! – они кричат и бьют нагайками – У нас есть наши деньги! Чего ты нам суешь свои проклятые русские деньги! Жид! Грязный!
Лицо моего отца закрыто. Мама плачет. Бабушка кричит:
– Принесите мне кипятка, чтобы сделать чай! Мне нужна чашка чая!
Мама тихо говорит:
– Она сошла с ума!
Папа облокачивается на стену. Его лицо бледное. Они смеются над бабушкой. И пинают ее. Она, страшно крича, проклинает их. Они бьют ее нагайками. Они хватают ее за руки и тянут наружу, как мешок с картошкой. Она продолжает кричать. Один бьет ее, второй копает яму. Она жутко кричит. Я смотрю. Они продолжают ее бить и копать яму. Они тянут ее в яму. Она кричит. Они кидают ее в яму. Она кричит. Они кидают на нее землю. Она кричит. Они закрывают ее землей, и она кричит. Я не плачу. Я не плачу. Бабушка больше не кричит.
Я возвращаюсь в пустой зал. Папа стоит рядом со стеной. Моя мама в обмороке. Я подхожу к ней и проверяю теплая ли она. Я думала, что она умерла. Нет, она не умерла, она потеряла сознание. Я сажусь рядом с ней, на место бабушки. Я вижу бабушкин маленький сверток. Открываю его. Нахожу баночку варенья. Нахожу ложку. Медленно ем варенье. Ложечку за ложечкой. Я не плачу. Я смотрю на маму и на папу. Мама в обмороке. Папа молчит. Что-то внутри меня замерло.
4.
Я ничего не знаю. Как мы попали в колонну, и что с нами случилось после смерти бабушки. Куда нас вели? Папа дал деньги украинским крестьянам, которые оказались не такими грабителями, как молдаване, и не отвергали русские деньги. Папа «позаботился» о них. Они подняли меня и маму на телегу. Ночевали мы в старых колхозных амбарах. Когда советские солдаты отступали, украинские крестьяне спешили забрать из колхозных помещений животных и сельскохозяйственные инструменты. А теперь румыны превратили эти пустующие помещения в наши ночлежки.
Было трудно достать еду. Мы мало ели. Пока что нас не били. Мама была безразлична к происходящему. Она совсем не разговаривала. Папа все время что-то делал. Он искал все, что нам было необходимо: воду, еду и теплый угол. На дорогах расстреливали тех, кто отставал. Других били нагайками. Люди оставляли своих детей в снегу. Своими глазами я видела, как молодая женщина, которая несла ребенка, упала несколько раз и не могла идти дальше. Ее ударили по затылку, солдат схватил младенца и кинул его в снег подальше от нее. Женщина продолжила идти и больше не оборачивалась. Снег сыпал без перерыва. Он покрыл грязь, было легче идти. Снег шел днем и ночью.
Декабрь на Украине. Было очень холодно. Мама была одета в два пальто. Мне кажется, что на мне было тоже два. На папе была меховая, серая шуба, которая когда-то была очень красивой. Еды не было. Мы продвигались от склада к складу. Каждый день от одного колхоза к другому. Мы спали под навесами, в которых раньше были животные, и в пустых амбарах. Папа был уставшим. В один вечер, в полнолуние, я увидела, что он поседел. Он не был похож на моего папу, которого я знала. Он был очень слаб. Мой папа, всемогущий папа, изменился.
Что-то внутри меня сломалось. Моя мама больше не была моей мамой, она была равнодушной. Ее глаза почти всегда были закрыты. Папа тоже не был похож сам на себя. Он тяжело дышал, и иногда я слышала, как он вздыхает. Где мой чудесный папа, сильный, поддерживающий? Где он? Он был очень слаб. В одну из ночей он снял свою шубу и накрыл мою маму. Он вытащил из кармана сверток с драгоценностями и поцеловал маму в лоб. Он поцеловал меня. Я у него ничего не спросила. Я знала. Мой папа вышел в черную, безлунную ночь, в снег. Послышался выстрел. Мой папа был мертв.
На следующее утро я искала его тело, но не нашла. Было много тел. Некоторые из них я перевернула, чтобы увидеть их лица. Я не нашла папу. Это был его конец.
Прошли не менее трех месяцев с тех пор, как мы перешли Днестр.
Пришел конец и моей маме. Моя красивая мама очень постарела. Она была очень уставшей и оторванной от действительности. Ее движения были механическими. Мы сделали все, что было нужно. Я держала ее за руку и тянула ее за собой. Однажды мы проходили через деревню – Нестоито, как мне стало известно позже – я вытащила мою маму из колонны в маленький переулочек. Мы шли медленно-медленно. Очень медленно. С обеих сторон были заборы и маленькие, типично украинские домики. Позже мне стало известно, что в этой деревушке жили цыгане, которых туда «заселили». Советские власти не примирились с кочевничеством цыган и с их образом жизни. Они решили, что цыгане должны быть как и все советские граждане и должны жить в домах. Я думаю, что это был долгий и болезненный процесс, но на первый взгляд эти люди жили так же, как и остальные украинцы.
Мы с мамой продвигаемся по середине дороги, и вдруг распахивается окно с правой стороны улицы и оттуда показывается женская голова. «Смотри, смотри, девочка и старуха идут по дороге». Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть, где девочка и где старуха. Улица пуста. Вдруг я понимаю. Девочка и старуха – мы! С двух сторон улицы лают собаки. Я очень люблю собак. На меня никогда не лаяли собаки. Я подхожу к забору. Я пытаюсь погладить пса, который подходит и нюхает мою руку. Мама сидит в снегу с закрытыми глазами. Она рада, что долгий поход закончился. Ошейник собаки пристегнут цепью к проволоке, которая натянута вокруг дома. Пес большой и красивый. До того как мы подошли, он лаял, но сейчас я глажу его по голове. Он издает дружелюбные звуки. Я тебя люблю, пес! Я приближаю к нему свое лицо. Он меня лижет по носу. Я смеюсь. Его язык горячий и шершавый. Я держу его голову в обеих руках и смотрю в его глаза. Вдруг человек, наблюдающий за нами, спрашивает меня по-русски:
– Что вы тут ищете? Что вам нужно?
– Не много, мы с мамой хотим переночевать у вас, если можно?
Мужик смотрит на меня, и я вижу что-то странное в его лице.
– Что ты сделала, что пес тебя полюбил?
– Я не знаю. Собаки меня любят, а я люблю их.
– Да, я вижу. Твоя мама спит или в обмороке?
– И то и другое. Моя мама очень устала. Помогите мне завести ее в дом.
Он поднимает маму и заводит ее в дом. Его жена стелет что-то около печи. Он укладывает маму. На печи лежит ребенок, девочка, укрыта двумя клетчатыми одеялами. Она спит. Очень тяжело дышит. Лицо у нее красное. Мужик ничего у меня не спрашивает и его жена тоже. Я сижу на лавке около стола. Кто-то, наверно его жена, приносит мне горячую кукурузную кашу. Это хорошо пахнет. Я пытаюсь покормить маму с ложечки. Она не хочет раскрыть рот. Я доедаю кашу. Мне приносят стакан молока. Мужик подходит ко мне, поднимает мой подбородок пальцем, смотрит мне в глаза…
– Я хочу знать, как тебя зовут?
– Меня зовут Татьяна.
– Что? – сказали они вместе – нашу дочь зовут Татьяна!
– Ваша дочь больна? Сколько ей лет?
– Ей одиннадцать и у нее тиф.
– Мне тоже одиннадцать.
Я уснула на лавке. Женщина сняла с меня пальто и постелила его на полу рядом с мамой. Я легла рядом с ней и положила руку маме под голову. Мама крепко спит, но когда почувствовала меня рядом, она проснулась. Она посмотрела на меня и сказала мне охрипшим голосом:
– Таточка, иди к Рае!
– Раи здесь нет.
Она закрыла глаза и сказала:
– Я тебе говорю – иди к Рае!
Я не поняла, почему мама попросила меня идти к тете Рае. Она прекрасно знала, что тетя Рая в Бухаресте. Я ее обняла и уснула. Утром я проснулась. Мамы нет рядом.
– Где мама?
– Твоя мама ушла в лучший мир, – сказала мне крестьянка – теперь ей не холодно. Ей не больно.
– Но где она?
– Мой муж отвез ее на санях в лес, там он выкопает ей… могилу. Возьми ее пальто. Оно ей больше не нужно.
Я держала пальто двумя руками. Длинное черное пальто.
– Ты не сможешь его носить. Даже мы, цыгане, не носим такие длинные вещи.
– Вы – цыгане?
– Да, мы цыгане. Мы недавно в деревне. Пытаемся привыкнуть.
– Мне надо уходить?
– Нет, нет. Не уходи никуда. Когда мой муж вернется, мы помолимся о душе твоей мамы. Потом мы тебя искупаем, отчистим тебя от вшей и оденем тебя в одежду нашей Тани.
– Зачем нужно менять одежду?
– У цыган есть поверье: если кто-нибудь болен, его нужно одеть в одежду здорового человека и тогда обоим будет удача.
Я не поняла, о чем она говорила.
– Я думаю, что сейчас тебе лучше сесть за стол и выпить стакан молока. Это поможет тебе. Я зажгу свечку для твоей мамы.
– Зажги три!
– Три? Зачем?
– Одну для бабушки, одну для папы и одну для мамы. И наверно надо и для меня…
– Нельзя так говорить! – она три раза перекрестилась – Нельзя! Ты говоришь глупости!
В тот же день меня помыли с мылом. Одели в одежду больной Тани. Повесили на шею цепочку с огромным крестом. Все вещи засунули в горячую печь, после того как вытащили оттуда угли. Кроме сапог конечно.
– Зачем вы это делаете? Все сгорит?
– Нет! Не сгорит! Все вши погибнут и их яйца тоже. Вещи будут как новые.
Меня охватило какое-то странное безразличие. Пустота. Я не плачу.
– Когда вы оденете Таню? Объясните мне, что происходит, когда мы меняемся одеждой?
Как раз зашел цыган и, услышав мой вопрос, ответил:
– Это для нее и для тебя! Вы обмениваетесь душами! Ей станет легче, и она выздоровеет, и тебе станет легче, и ты будешь, как новенькая!
– Таня выздоровеет?
– Она точно выздоровеет!
– А что будет со мной?
– Ты останешься здесь, пока не почувствуешь себя хорошо. А потом мы тебя отправим искать твою удачу, твоих людей.
Так и было. Через несколько дней, одетая в теплые вещи, с огромным крестом на шее и в валенках Тани, я стою в дверях. Я не спрашиваю, куда мне идти. Знаю, что мне нельзя оставаться там. Перед тем как я выхожу, мне объясняют, где я нахожусь, куда идти и что говорить. Ни в коем случае не ночевать в одном месте больше одной ночи. Не рассказывать много. Хранить язык за зубами.
Обнимаю их и целую Таню, она горит. Целую пса Жучку. Он облизывает меня с преданностью и любовью. Я вижу слезы на глазах цыгана и его жены. Перед тем как выйти я замечаю маленький узелок в углу. Я беру его и выхожу из ворот. Спасибо этой семье за то, что они мне сделали. Спасибо! Я вас не забуду!
Я иду медленно в сторону леса. В моей руке узелок и в нем драгоценности мамы и бабушки. Я его не открываю. Бросила его в снег. Я другая.
Конец моей семьи.
5.
Когда я родилась, Кишинев, был очень развит. Очень большой. Я бы сказала, как Тель-Авив, наверно. Я не знаю, как выглядел Тель-Авив тогда, но мне кажется, что примерно так же. Была николаевская архитектура и западная тоже, примерно как барокко, которое я встретила потом в Париже и в других европейских столицах. Улицы были очень широкими. Был трамвай. В детстве я видела много повозок с лошадьми и мало машин.
Я родилась в очень состоятельной семье. Мой дед экспортировал пшеницу и другие злаки. Дома постоянно говорили о «миллионах и вагонах». Я помню, как мой дедушка выходил на веранду и перед ним четыре еврея. Всегда евреи! Они держали в руках разные виды зерна, и говорили, с каких полей они были взяты. Дедушка брал в руки несколько зерен, перекатывал их между пальцами и спрашивал первого еврея:
– Сколько?
Ответ:
– Покупай!
Такими же были и остальные ответы. Но если ему не нравились зерна, дед делал рукой отрицательное движение, этого было достаточно чтобы понять ситуацию. После этого смешного процесса дедушка звал одного из них к себе в кабинет и давал ему нужную для покупки сумму. Это никогда не было в наличных, это было нечто наподобие чека, который был написан рукой деда: «прошу заплатить такому-то такую-то сумму», подпись, печать и название банка. Этого было достаточно.
Эта процедура была очень важной. Остальные ждали около ступенек, им подавали водку по поводу сделки. Водка подавалась на красивом блюде в сопровождении красивых и вкусных вещей, названия которых я никогда не знала. Эта церемония проводилась лично бабушкой, а не прислугой. У этого, наверно, была высшая степень важности – ведь разговор был о миллионах! В конце все переворачивали рюмки в горло, вытирали рот рукавом и издавали странный гортанный звук. Наверно это было нужно для питья водки. Потом дедушка звал мою маму в кабинет. Моя мама была правой рукой деда, и очень этим гордилась. Кабинет был святым местом. Я всегда старалась там быть, в основном из-за зеленой настольной лампы. Я до сих пор ищу такую зеленую лампу, как у деда, но не нахожу.
Разговоры с мамой были о делах. Я полагаю, что мама была очень горда, тем, что дедушка сделал ее своим доверенным лицом. Мой дедушка был очень тяжелым человеком, очень богатым, но, не смотря на это, не было лучшего человека во всем мире. Я его очень любила. Моя бабушка, напротив, не была особо приветливой.
Дом. Понятие «дом» навсегда осталось в моем понимании домом, в котором мы жили тогда. Мне не удобно говорить, но в том доме было двенадцать комнат. Это звучит смешно сегодня. В общем-то, мы были не большой семьей: дедушка, бабушка, папа, мама и я. У каждого была своя комната, кроме меня, потому что няня спала в моей комнате. Пес и кошка жили со мной. Оба. Белая кошка жила в гостиной около печки. Моя тетя Руля и дядя Павел жили в другом доме, который был рядом с нашим, в одном дворе. Их дом был тоже достаточно просторным. Было два двора. Один из них, на него выходили балконы дома, был полон цветов, деревьев и зелени. Во втором дворе были квартиры прислуги, известного дяди Ильи и его семьи и квартира няни. Она там никогда не жила, только наводила там порядок. Почти весь день и всю ночь она была со мной. В этом дворе была так же и конюшня, в ней были лошади и коляска, а позже из нее сделали гараж для автомобиля. Я вспоминаю красивые зеркала, которые доходили до потолка. Были вазы, рояль, паркет, большие окна, персидские ковры и старинная и очень красивая мебель. Сегодня я не уверенна, что это все было так же красиво, как я это описываю, но для меня это всегда будет символом дома и семьи. В этом дворе было так же много собак и кошек, за которыми я ухаживала. Папа всегда поддерживал мое желание ухаживать за животными, до сих пор я считаю это своей миссией. Каждому из этих животных чего-то не хватало. У одного не было хвоста, у другого ноги, уха или глаза. В моих глазах они все были самыми красивыми. Мой папа тоже ухаживал за животными. Мы их называли «наш зоопарк». Я думаю, что я унаследовала от папы свою безграничную любовь к животным.
Я хочу сказать еще кое-что про папу. Папа был большим человеком в моих глазах. В молодости он изучал юриспруденцию в Хайдельберге. После того как он вернулся в наш город, он должен был управлять со своим отцом сетью банков, которая была в нашем районе. По рассказам, он не согласился, потому что он считал банковское дело грабежом. После этого его отец запретил ему учить что-либо еще. Его мать спасла его тем, что отдала свои драгоценности, завязанные в носовой платок, и с их помощью он смог завершить обучение в университете Милана. Там он учился медицине. Когда он женился на моей маме, он уже был дипломированным врачом и лектором в университете. Мама была моложе его.
Папа очень любил музыку, в основном классическую. У нас были разные патефоны и граммофоны. Мама и папа разговаривали между собой на французском, чтобы я не поняла. Достаточная причина для меня сразу же выучить французский! Но у нас в доме было место и для итальянского, в основном из-за опер. Большинство опер были на итальянском. Папа пел, а мама играла на рояле, по-видимому, неплохо. Тетя Руля была более музыкальна. Она лучше играла на рояле и пела намного лучше. Ее шаловливый муж аккомпанировал на скрипке. Я ненавидела это! У меня получалось играть на рояле только гаммы: до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Это был предел моих возможностей.
Но я прекрасно умела рисовать. Я рисовала чем только можно, даже углем и мелом, на полу веранды и на стенах дома. Меня без конца ругали. Результат был положительным. Папа понял мои стремления и повел меня к своему другу, который жил в деревушке художников за городом. В деревне были и животные. Был особенный вид, который служил темой для рисунков. Большинство художников в деревне были взрослыми, носили рубахи-толстовки и подвязывались веревочным поясом. Отращивали бороды, разговаривали басом и были очень милы. Мне очень понравилось там рисовать, хотя меня ограничили, к моему сожалению, изображением кустов.
Однажды, когда я попросила разрешение нарисовать курицу, мне сказали что это категорически запрещено. Мне сказали, что только на следующий год я смогу начать рисовать курицу. Результатом было то, что я пробралась в хлев и стала рисовать там и курицу и корову! Мне кажется, что курица вышла гораздо больше, чем корова. Я спрятала рисунок среди кустов, и к моему несчастью пошел дождь. Дождь размазал корову по курице. Хотя к моему ужасу рисунок уцелел и как доказательство моего греха был принесен на обсуждение художников. Друг моего папы меня сильно отругал, сопровождая свою речь рассказами о перспективе и пропорции. У меня взяло немного времени справиться и с этим. Я всегда краснею, когда думаю о маленькой корове и огромной курице.
Детская история… я не знаю насколько это все важно.
6.
Я возвращаюсь немного назад. В тот момент, когда я стою в лесу и у меня в руках папин платок, в котором находятся все брильянты, серьги и жемчуга мамы и бабушки. Все, что было важно и любимо для них. Я взмахнула рукой и бросила это подальше от меня. Как можно дальше, чтобы не захотелось забрать это назад. Я чувствовала, как будто бы я опозорила мою семью. Я поняла, что если меня поймают со всеми этими вещами, то сразу поймут, откуда я и кто я. Даже не поможет деревенская одежда бедной цыганки Тани.
Вокруг все сияет белизной. Снег, снег, снег. Как было приятно ходить в теплых валенках. Валенки были и легкие и теплые, это меня удивило, когда я их увидела в первый раз, они мне показались деревянными. Несмотря на тот ад, который остался позади, я почувствовала облегчение! Дорога была длинной, но не скучной. Несмотря на холод, к моему удивлению, птицы щебетали, как будто зимы и не было. Вдруг мне показалось, что какое-то маленькое животное проскочило между деревьями, но не подождало меня и убежало. Иногда я засыпала, садилась возле дерева и засыпала. Не знаю, сколько времени прошло. Много времени. Очень много.
Когда я вышла из леса, через день или два, вдруг увидела поле. Широкое кукурузное поле, после сбора урожая. Почему-то земля была голая, без единого следа снега. Я прохожу между сухими рядами кукурузы. К моему величайшему сожалению я не нахожу ни единого кочана. Наверно все было давно собранно. Вдруг мои валенки меня подводят. Очень тяжело ходить в них по промерзлой земле. Я устаю. Вдруг собачий лай! Останавливаюсь. Вижу, что я подхожу к поселению. Передо мной появились четыре собаки. Каждая из них с меня ростом.
Я была очень маленькая для моего возраста, собаки прыгнули на меня и опрокинули. Я не испугалась. Они меня лизали, и я их гладила. Я счастлива.
Они такие теплые и их мех такой мягкий. Мне не приходит в голову, что они могут причинить мне вред. Издали я слышу ужасные крики. Кто-то старческим голосом кричит и зовет собак назад и ругает их всякими именами.
– Ай-ай-ай, – он кричит.
Я лежу и дышу, как он орет во всю глотку:
– Я вас убью! Теперь вы начали убивать детей! – вдруг он останавливается и видит, что я хохочу.
– Вставай девочка! Они тебя не обидели?
– Нет! – я отвечаю. – Не трогайте их!
Дед был вооружен палкой. Этот дед был старый, но очень симпатичный! Его домик был особенный, не похожий ни на что другое. Дед говорил по-русски, а не по-украински. Он усадил меня у печки, снял валенки, он увидел мои совершенно голые ножки и поцокал языком. Ушел куда-то и вернулся с кружкой горячего молока и огромным куском горячего хлеба и… с маслом и медом!!! Трудно было открыть рот и откусить кусок. Это был очень толстый кусок! Но теперь я его одолеваю! Дед смотрит на меня с умилением и говорит:
– Прямо из печки, – и улыбается.
Вдруг я начинаю плакать. Дед спрашивает:
– Папа и мама?
– Нету… и бабушка … и тетя. Все!
Я продолжаю плакать.
– Успокойся девочка. Я буду с тобой, сколько я смогу.
Мне кажется, что я была долгое время у этого деда. Его домик стоял на поляне, совершенно одинокий. В округе не было никакого жилья. У моего деда не было ни птицы, ни коровы. Даже козы не было! Только пасека – довольно большая. Книги! Необыкновенно! Вся русская классика! Все, что я видела дома! Я хватаю книгу, лезу на печь и упиваюсь чтением.
Заболела желтухой! Меня тошнит и болит голова. Дедушка заходит и смотрит на меня.
– Ты желта как лимон!
– Меня тошнит и жарко, наверно температура. У тебя есть термометр?
– Ничего не нужно. Есть лекарство! – отвечает дед. – Мед! Мед! Мед! Мед без хлеба! Мед с хлебом! Мед! Мед!
– Почему не молоко? Где молоко?
– Нельзя молоко. Печень не любит молоко!
– Пока это пройдет, я смогу читать сколько угодно? Правда?
«Никогда я больше не буду есть мед», – сказала я себе.
– Пошли на пасеку. Я тебе покажу пчел.
– Я ненавижу насекомых! Я боюсь пчел!
– Перестань! Я открываю! Посмотри во внутрь.
– Я ничего не вижу через решетку.
– Ты увидишь! Ты увидишь.
– А!.. А! Это империя! Это просто сумасшествие! Мое почтение! А зачем они мучаются и работают так тяжело? Только для того чтобы упитать эту толстую бездельницу – их королеву!
– И что еще интересно, что после всего этого, они умирают с голоду!
– Это не справедливо! Я не согласна! Надо им давать еду отдельно!
– Когда они едят, они становятся очень тяжелыми и больше не могут собирать пыльцу.
– Я абсолютно не согласна с этим порядком.
– Но это мировой порядок. Ничего нельзя сделать против мирового порядка. Так это.
Я никогда не слышала имени этого деда. Я его называла дедом. Хорошим дедом. Милым дедом. Толстым, немного сгорбленным. Лицо у деда красное?!
– Дедушка, почему твой нос красный?
– Это от водки. Зимой надо греться водкой. Каждое утро я опрокидываю рюмку в горло и сразу же превращаюсь в крепкого и здорового человека!
– Ты знаешь, дедушка, что у моего деда была такая же любовь? И он тоже опрокидывал рюмку в горло каждый раз, когда он чувствовал себя слабым. Я очень любила своего деда, и тебя я тоже обожаю.
– Ты меня любишь, потому что я вылечил тебя от желтухи.
– Нет! Я тебя люблю, потому что у тебя чудесные собаки!
Дед усмехнулся и погладил меня по голове.
Прошло несколько дней или недель. Вдруг я слышу голоса.
– А… Женщины пришли с деревни покупать мед. Зайди во вторую комнату и спрячься.
Во второй комнате не было отопления. Эта комната служила холодильником. Там стояло молоко, мясо, масло и овощи. Там был особый запах – запах жира, сало висело на крючках, вбитых в потолок. Я понимаю, что все это добро тайно приходит из деревни. Это вместо денег. Женщины приносят все это и берут мед, который продают в деревне. Денег тогда не было, это обменный товар. Женщины говорили очень громко.
Вдруг я слышу мое имя! Страшно боюсь! Сердце бьется, и я уже вижу себя заново выброшенной на снег!
Дед заходит и говорит:
– Идем назад, в ту комнату, я тебе дам еду, и ты должна отсюда уйти как можно быстрее. Эти женщины слышали о тебе и это очень плохо. Я тебе покажу, как идти, чтобы не наткнуться на деревню.
– Дедушка, я не хочу тебя оставлять. Я хочу остаться здесь.
– Маленькая моя… это опасно. Очень опасно. Женщины рассказали, что румынские солдаты появились в деревне и делают везде обыски. Они могут тебя найти. Я не думаю, что ты должна остаться здесь. Нет другого выхода. Я тебя проведу до леса. Я тебе объясню, как продолжить.
– Я знаю этих румын. Это солдаты, не полицейские. Они ничего мне не сделают. А почему они должны мне сделать что-то плохое?
Я хотела произвести впечатление, что я не боюсь румын.
– Нет, солнышко, – говорит дед. – Ты их не знаешь. Они очень жестокие. Они входят в деревню, проходят из дома в дом и убивают всех и вся, что им не понравилось. Видят корову – режут ее. Они режут гусей, кур. Они беспощадны! Они оставляют после себя полную разруху. Не дай Бог кто-нибудь оказывает сопротивление. Он кончен.
Мне пришлось уйти. Дед снабдил меня большим количеством съедобного. Даже маленькую бутылочку самогона, которую он сам сделал.
– Я не могу пить водку!
– Знай, что это хорошо помогает, когда очень холодно. Сделай один глоток, только один. И ты увидишь, что это поможет тебе шагать дальше. Не забудь мед. Он хорош от всех болезней.
Я крепко обняла дедушку, поцеловала всех собак.
Я ушла.
7.
И вот я снова в дороге. Я хожу гораздо легче, чем раньше. Я привыкаю к морозу, и это мне даже нравится! Я иду даже днем, без какого-либо страха. Украина под снежным покровом – красавица! Не хватает саней с колокольчиками. Вспоминаю «коробочку» из книги Гоголя «мертвые души». Еще, будучи маленькой девочкой, я читала Гоголя, и в особенности его смешные рассказы. Я обожала Гоголя. Белый снежный покров серебрится. Солнце светит ярко, скрип снега под ногами. Этот скрип я буду помнить всю жизнь. Воздух холодный изумительный и чистейший вдруг приносит запах дыма, издалека вызывая надежду, что кто-то где-то живет. Я думаю о дедушке, который дал мне горячий хлеб с медом. Сейчас же я чувствую голод. Вытаскиваю хлеб с медом, который он дал мне в дорогу, сосредоточенно жую его с огромным удовольствием.
Какой сладкий дедушка! Не забуду этих огромных собак, с которыми я любила спать. Когда ты спишь с собаками, тебе ничего не снится. Сны. Сны. Я начинаю думать о моем городе. Об Александровской улице, широкой и красивой, о том, как я иду между папой и мамой, которые держат меня за руки. Я чувствую, как их любовь течет у меня в жилах. Я вижу в моем воображении наш красивый двор, весь белый. И дядя Илья собирает лопатой снег возле зеленых ворот.
– Не трогайте, пожалуйста, не трогайте снег!
– Быстро домой! Еще простудишься! Будешь больна! Плохая девочка.
После всех этих эпитетов он прыскает смехом, бросает лопату, и щипает меня за щеку.
Я хочу, чтоб все это вернулось. Я хочу, чтоб все это вернулось! Мечты! Мечты…
Перед вечером я увидела заборы и крыши домов. Первый дом в деревне очень красивый, покрашенный забор, большая собака на цепи, которая была приделана к проволоке, протянутой вокруг дома. Обычная картина, в этом доме была совершенно новая красная черепичная крыша!!! Это очень странно, обычно все дома покрыты соломой. Мне захотелось зайти в этот дом, красивый дом, красивая собака, не лает. Я открываю калитку, замечательная калитка, зеленая, вдруг я вижу, что женщина приближается ко мне и спрашивает:
– Что ты хочешь девочка?
Женщина выглядит городской. На ней нет обычного платка и ее губы подведены красной помадой.
– Что ты хочешь, девочка?
– Я хочу немного обогреться, может быть, чашку чая, если можно.
– Откуда ты идешь и куда? – спрашивает она немного жестким тоном.
– Я иду из другой деревни. И продолжаю искать мою тетю, которая живет в одной из ближайших деревень. Понятия не имею, где она находится.
– Как же ты ищешь тетку, если даже не знаешь, где она находится?
– Посмотрите, пожалуйста, мои родители были убиты во время бомбежки, я знаю, что тетя жила тут, в ваших краях. Я не знаю названия этих мест.
– А как ты попала сюда?
– Просто так. Из деревни в деревню. У вас красивый дом!
– Как тебя зовут.
– Татьяна.
Вдруг я вижу, что ее лицо страшно побледнело. Она меня хватает за плечи и шепчет:
– Ты должна удрать отсюда как можно скорее! Мой муж – собака-полицай!
Эта женщина страшно напугана. Я не отвечаю. Голос позади меня спрашивает:
– Откуда этот гаденыш?
Я поворачиваюсь назад, смотрю ему в глаза:
– Я не гаденыш! Я Татьяна! Я хожу по деревням и ищу свою тетку. Почему вы меня оскорбляете?
Я вижу на его рукаве ленту со свастикой. В его руках маленькая нагайка, которая за секунду перед этим была у него на поясе. Выражение его лица не совсем приятное. Женщина, которая стоит за мной обнимает меня и держит меня за плечи.
– Ты не тронешь головки этого ребенка. Она под нашей крышей. Раз в жизни не будь собакой!
Он посторонился. Сквозь зубы он процедил:
– Я забуду тебя. Я забуду твое существование. А ты – обращаясь к своей жене – перестань быть «хорошей душой». Я тебе покажу, что стоит твое золотое сердце!
Я не жду, чтобы узнать продолжение разговора. В миг я пробегаю деревню! Я выбежала из деревни и только тогда остановилась и свободно вздохнула.
8.
Я иду только в лунную ночь. Из одной деревни в другую, из одной хаты в другую я рассказываю истории о себе, о семье, отвечая на вопросы хороших людей, у которых я останавливаюсь на ночь или на день. В каждом доме я рассказываю другую историю. Мне просто скучно было рассказывать одну и ту же историю. Это было очень глупо с моей стороны, как будто бы в каждой деревне я другая Таня. В разных домах, где меня приютили люди на ночь, я греюсь и ем то, что мне дают. Никто не видит во мне еврейского ребенка: светлые косички, короткий носик, круглое личико, все это помогает. Принимают меня с любовью. Они разделяют со мной их скудную пищу. Это не просто! Их основная еда ограничивается картошкой, почти всегда замерзшей, которую они выкапывают в промерзших полях. Они умеют из этой картошки гнать водку, которую называют самогоном. Этот процесс довольно сложный. Сначала пекут эту картошку в огромной печи и дистиллируют это в специальном аппарате, очень красивом и очень сложном. Водка очень нужна для того, чтобы поддерживать настроение этих несчастных людей, голодных и находящихся в постоянном страхе.
Однажды я попала к очень хорошим людям, которые попросили меня помочь им в очень простом деле, подоить корову! Но это не все: надо поставить молоко в холодную комнату, вытащить хлеб из печки особой лопатой и подвинуть горшок с борщом, то есть подвинуть горшок в переднюю часть печки. Показывают мне этот «инструмент», которым я должна воспользоваться для решения этой задачи.
– Ты же знаешь, этим вынимают хлеб в пекарне.
Я вдохнула очень глубоко и, конечно, без разговоров согласилась. На следующий день рано утром еще было темно, вся семья ушла на поле копать картошку из-под снега, и это они должны были делать весь день. Я осталась дома, чтобы сделать «мелочи» которые меня попросили. Я понятия не имею, как это делать! Я городская девочка! Для меня доить корову это страшный сон! Мне даже не приходит в голову, как я сумею выполнить эту задачу! Решение пало на выполнение самой тяжелой задачи – доение коровы! Беру ведро. Беру маленькую скамеечку, на которой я должна сидеть. Ставлю скамеечку на место, под корову. Начинаю с ней разговор, глажу ее по носу. Она смотрит на меня с большим удивлением, она не выражает никакого сопротивления. Я сажусь на скамеечку, ставлю ведро на нужное место, но что делать сейчас? Корова повернула голову, и посмотрела на меня вопросительным знаком. Я ей говорю:
– Сейчас, сейчас. Подожди.
Глажу ее вымя, очень мягко, чтоб не болело. Но молоко не выходит. Она опять поворачивает голову ко мне и спрашивает: «Ну, что дальше?» Я понимаю. Тяну ее за вымя, не очень сильно. А, какое счастье – капает молоко!!! Я тяну немножко сильнее – вышло больше. Этой корове, как и мне, было тяжело трудиться, наверное, больше двух часов. Несмотря на ее невероятное терпение, она начала двигать задними ногами, и показывать некоторую нервозность. По-видимому, эта игра ей не совсем понравилась. Я испугалась, что она может ногой перевернуть ведро, и тогда все кончено. Я решила рассказать ей сказку – она выслушала. Осторожно подвинула ведро, встала потихоньку со скамеечки. Потянула ведро как можно дальше от задней ноги. Вдруг появилась новая проблема: как я перенесу ведро из хлева, я никак не могу перенести это в холодную комнату. Я не могу поднять его. Я тяну ведро очень осторожно. Потянуть ведро по скользкому снегу было легче. Прошел час. Ведро у дверей!
Теперь новая задача: в последний момент, когда я попробовала поднять ведро чтобы перешагнуть порог, ручка ведра порезала мне руку. Я кричу, собака сейчас же отвечает, и часть молока вылилась на ступеньку. У меня есть гениальный ответ на это. Я зову собаку, она сразу же является, все понимает, вытягивает розовый язык и все кончается хорошо.
Запах свежего молока сводит меня с ума. Я не буду наливать себе молока, я не воровка! Ай, ай, ай! Борщ! Как я его подвину? Деревянная лопата слишком тяжелая, я могу перевернуть горшок! Я думаю. Вдруг идея. Беру три полотенца, обворачиваю правую руку в полотенце, медленно и спокойно тащу его за ручку. Ужасная жара. Берет много времени. Кончено! Ни одной капли не упало! Я не попробовала борщ. Невозможно. Моя совесть мне не дает. И кроме этого я не знала, где ложки, и не посмела искать.
А теперь третья задача – почти невозможная. Опять лопата. Я знаю, что не получится. Я не буду трогать лопату.
Колоссальная, новая идея. Я беру половник, который весит у печки. Опять беру полотенце в правую руку. Хватаю половник снизу, а его верхняя согнутая часть помогает мне подтащить противень, на котором лежит хлеб. Медленно, медленно, медленно, я тащу противень. Какое счастье – хлеб стоит на месте. Все сделано. Хлеб и борщ стоят как солдаты впереди печки, все будет горячим, когда люди придут с работы, а я иду спать. Я ложусь на печку, стараюсь заснуть. Очень тяжело заснуть на пустой живот, и вдруг, о счастье, наши мужики возвращаются с картошкой, запах которой сразу заполняет избу. Они счастливы. Все в порядке. Женщина спрашивает меня:
– Ты уже ела?
– Еще нет, – отвечаю я.
С очень странной для меня легкостью они поставили тяжеленный горшок на стол. Каждый член семьи получил деревянную ложку и начал хлебать борщ. Они брали большие куски хлеба и макали его с удовольствием в горшке. Я не смела. Хозяин посмотрел на меня с жалостью. Принес тарелку, отрезал кусок хлеба и дал мне ложку:
– Зачем это? – спросили дети. – Она принцесса?
Я молчу. Хозяин дома решил меня защитить:
– Как вы не видите, что эта маленькая девочка очень стесняется. А главное – это наша гостья!
Я прошла экзамен! Я там осталась на несколько дней. Мне было очень приятно быть в этом доме. Чудные, прекрасные люди!
9.
Я продолжила путь. И вдруг по дороге я понимаю, что я ушла в сторону от дороги. Я вижу, что больше нет электрических столбов, которые указывают мне путь. Я теряюсь. Страшно. Очень страшно. Идти не трудно, но куда?! Передо мной стелется ровное белое поле, монотонное, без какого-либо знака, за который можно ухватиться взглядом. После нескольких часов пути я вижу что-то темное вдалеке передо мной, но понятия не имею, что это такое. Я приближаюсь к заборам и продвигаюсь вовнутрь. Я попала в колхозный хлев, оттуда вывели всех животных, румынские войска угнали их на убой. Там были открытые сооружения с полками, на которых раньше хранили зерно. К моему удивлению, на этих полках было много сена. Я вскарабкалась наверх по лестнице, это было очень высоко, прямо под крышу, моя одежда была тяжелой и мокрой. Танины валенки превратились в тесто, а потом замерзли. Там было тепло. Я закапываюсь в совершенно сухое сено и засыпаю.
Под утро я просыпаюсь от холода и от запаха керосина, которым мазали мне волосы вчера для уничтожения вшей. Я не была особенно голодной, но все-таки я откусила кусочек хлеба с салом, который мне дали перед моим уходом. Жуя этот кусок хлеба, я подумала об этой чудесной семье, которую мне пришлось оставить позади. Я очень сожалела, что необходимо было их оставить. Это было нужно для их личной безопасности. Типичная украинская семья, люди довольно молодые – 30, 40, а может быть и 50 лет. Дети не умеют определять возраст! У родителей и бабушки было определенное образование, они учились в школе. Начальная советская школа – это пять-семь лет учебы. Такие школы были в каждой деревне и местечке. Многие не учились дальше. Но некоторые оканчивали и десятилетку, а кое-кто попадал в университеты и высшие школы. В ближних городах было мало учеников из деревни. Эти люди были довольно грубоватые, но на мое счастье отнеслись ко мне с большой теплотой. Иногда я даже видела слезинку в уголках глаз хозяйки.
Но что делать с моей шапочкой? Я носила теплую красную шапочку, еще купленную в Кишиневе и завязанная под подбородком. Моя хозяйка попросила меня заменить эту шапочку платком. Я не хочу отказываться от последней вещи из моего прошлого существования. Я не хотела отказываться от памяти о моем папе, который говорил:
– Моя красная шапочка, мой любимый, маленький гномик.
Я сохранила шапочку. Когда я была там, наверху, я вдруг поняла, что эта шапочка очень опасна. Ее можно увидеть издалека на фоне белого снега. Моя красная шапочка может меня выдать! Эти хорошие люди дали мне свою старую одежду. Все эти вещи были разных цветов, я их не помню. Со слезами я зарыла мою красную шапочку в сено. И решилась расстаться с ней совсем. Было очень тяжело. Я надеваю одну из тряпок на голову и продолжаю жевать мой кусок хлеба. Слезы текут. Хлеб очень сухой. Нет воды. И нет вокруг снега, который можно было бы взять в рот вместо воды. Вдруг я слышу странные звуки.
Отряд румынских солдат в их типичных шапках похожих на вареники входят во двор. Они тащат молодую женщину на середину двора. Девушка кричит дикими криками. Я смотрю сверху и вижу всю сцену. Девушка была очень молода. Может 15-16 лет. Они ее притащили за руки прямо на середину двора. Она была одета только в блузку и юбку, на ней не было ничего теплого. Я не понимаю, почему они так мучают ее? Они ссорятся между собой, оставляют в стороне оружие и бросаются на нее один за другим. Когда они ее насилуют, она страшно кричит, а они ее бьют и ругают. Это продолжается долгое время. Пока ее крики не начинают ослабевать. Ругательства прекратились, но «действие» продолжается! Эта картина возвращалась ко мне много-много лет. Только по прошествии многого времени, я поняла, что они делали. Девушка умерла, а они продолжали насиловать ее, пока все «члены общества» не получили свое. Они орали:
– Теперь я! Теперь я!
Они насиловали труп. Все, до последнего солдата.… К ее счастью, она скончалась, и больше ничего не чувствовала. Я не знаю, откуда они ее приволокли.
Когда они закончили это «действо» то схватили ее за тонкие ручки. И потащили со двора. Ее широкая черная юбка заметала следы крови, которые тело оставляло за собой. Все кончилось, наступила тишина. На земле в снегу остались следы тяжелой армейской обуви. Место, где лежала эта бедная девочка, было помечено красной кровью на белом снегу. Что делать? Что остается делать? Спать. Я засыпаю.
На следующий день я услышала, как телеги приближаются к амбару и голоса, но на этот раз на русском и на украинском. Телеги были загружены, но я не видела чем. Я не хотела, чтобы меня там видели. Я проскользнула к лестнице и потеряла платок, который был у меня на голове. Я тут же поднялась назад и стала искать свою красную шапочку, иначе я бы замерзла. Я проскользнула еще раз, по той простой причине, что не могла спуститься по-другому. Валенки цыганки Тани были тяжелыми, жесткими. Вдобавок ко всему они были мокрые насквозь. Я должна была оттуда убежать как можно скорее. Я вышла из других ворот двора, чтобы не встретится с теми, кто собирался туда зайти. Я продолжила свой путь на восток почти бегом. Я ориентировалась по солнцу. Я вновь увидела электрические столбы по краю дороги. Дорога не была дорогой. Она была испещрена следами колес от телег. Следующая остановка была в маленькой деревушке с несколькими домами. Когда я подошла туда, я поняла, что там живут совершенно другие люди. Я их боялась. Они разговаривали на молдавском языке, на румынском наречии. Там было огромное количество солдат, которые ходили вокруг домов. Они, по всей видимости, остановились в деревне. Мне пришлось обойти деревню. Это было крайне сложно. Дальше я шла по снегу. Я не знаю, сколько прошло времени. Солнце садилось очень рано. Я слышала голоса пьяных парней, которые пели и ругались. Они прошли передо мной, обошли меня сзади – я не могла сбежать. Я испугалась. Мои ноги дрожали. Это мой конец. Они меня схватили, распахнули мое пальто и оторвали все пуговицы. Они увидели огромный железный крест, крест цыганки Тани, который висел у меня на шее.
– Она не наша! Она жидовка!
– А что с этим крестом на ее шее? – спросил один из них – может она не еврейка?
Я молчала. Я не хотела с ними разговаривать. Мой русский акцент меня выдаст. Я сказала:
– Нет. Нет, нет, нет…
– Что будем с ней делать?
– Давайте перетащим ее в конюшню.
– А если она не жидовка, тогда что?
– Ну и что… она и так сдохнет.
Они меня оттащили в дальнюю конюшню. Около ее стен лежали трупы и умирающие люди. Мне ясно, что это конец. Отсюда я не уйду. Я очень ослабла. Меня кинули посередине и ушли. Я спала или потеряла сознание.
Я проснулась, услышав разговор на украинском и идише. Я боялась раскрыть глаза. Я слушала разговор:
– Эта девочка еще жива. Разденем ее?
Произошло совещание на идише. Двое мужчин в сапогах и двое молодых парней решили, что мне не нужны мои валенки, потому что я и так должна умереть. Они проверили мои валенки, один сверху, а другой снизу, и решили, что они достаточно хороши и забрали их. Это были расхитители трупов. Молодой парень стянул одеяло с одного из трупов и накрыл мои ноги. У него было «золотое сердце». Позже уже я поняла, что это жестокое время научило их не обращать внимания ни на что, что вызывает жалость. Каждый должен быть сам за себя. Это принцип.
То, что только что произошло, было ужасным. Я посмотрела направо. Ряд трупов лежит около стены. Наполовину раздетые. Слева целая семья спит, а может быть, умерла. Вся эта семья умерла, я поняла это потому, как вши ползали у них по лицам. Вдруг я вижу девочку, очень близко ко мне, в такой же шапочке гномика, но синего цвета. Я знаю, кто это. Я не помню, как ее зовут. Я собрала немного снега и решила кинуть его в нее.
– Тата, – она сказала, открывая большие синие глаза – Тата, это ты? Я Вера. Я сидела справа от тебя в школе. С Галей. Ты меня не помнишь?
Я удивилась. Невозможно было узнать Веру. Она стала другой.
– Верочка? Где твои мама и папа?
Она опустила голову и сказала:
– Они не умерли. Они тут рядом со мной. И я тоже.
– Давай спать, завтра поговорим.
Вдруг мне показалось, что я стану через несколько часов такой же, как Верочка. Ученица гимназии двенадцати лет. Верочка была в порядке. Всегда в порядке. Ничем не отличалась. Жаль. Мы уснули.
Прошло много времени. Сколько – я не знаю. День, ночь еще день, неделя. Я не знаю. К моему счастью, я все время спала. Верочка не говорила. Я тоже. Снился мой родной дом: лето, акация цветет. Сладкий запах стоит в воздухе. Мишка и я, мой дорогой друг из соседнего двора, стоим у моих знаменитых зеленых ворот. Мы ведем разговор, серьезный разговор. Я помню эту картину, когда Мишка мне заявил, что он и его мама вскоре уедут в Казахстан. Я плачу.
– Не уезжай в Казахстан, Мишка! Зачем тебе? Останься тут.
– Мама говорит, что надо удалиться скорее отсюда. Будет воина.
– Никакой войны не будет, – говорю я, – все в порядке.
– Ты не понимаешь. Ты маленькая дурочка!
Мишка всегда меня обижал, мне это совершенно не мешала любить его «колоссальной» любовью! Моя первая любовь, Мишка!
– Ты не понимаешь!
Я видела во сне наш подвал. Наш таинственный подвал, в котором хранили всю еду, все покупки и в особенности соленые огурцы. Вино и все остальное меня не интересовало.
Мишка о них ничего не знал! У Мишки были часы его папы в виде луковицы на золотой цепи. Он страшно гордился своими часами. Игра была в том, что тот, кто сходил по лестнице, она была очень крутая, должен был сидеть определенное время, а часы были у того, кто был наверху. Было очень важно, очень, очень важно, как можно дальше сидеть внутри, не плакать и не боятся, тот, кто оставался наверху, держал часы в руках. У меня было преимущество, я великолепно видела в темноте и обожала соленые огурцы. Я вскарабкивалась на бочку, засовывала руку по локоть и лопала соленые огурцы. Мишка орет на дворе:
– Тата, что с тобой?
Я отвечаю очень серьезно, чтобы он не понял, что я кушаю:
– Я тут смотрю на все. Сейчас я приду. Не бойся.
Я всегда побеждала Мишку, он страшно боялся темноты. Два кусочка шоколада всегда попадали в мой рот. Бедный Мишка никогда не видел бочку с солеными огурцами! Это все было очень приятно, но сейчас холодно, очень холодно, и я тоскую по Мишке. Я вижу моего золотого сеттера, моего песика. Он пришел меня согреть и вымыть мне лицо. Я открываю глаза, никого нет! Вдруг я вижу маму в зеленом платье, бальном платье! На ее шее жемчуг. На ее красивых руках брильянтовые кольца. Она ласкает мое лицо.
– Папа и я вернемся скоро. Спи спокойно в своей кроватке.
Вдруг я слышу пианино. Мама играет, и тетя Руля поет.
Раньше я ненавидела это пианино, а теперь я мечтаю о нем.
Мишка орет во весь голос:
– Есть тут кто-то живой?!
Голос Мишки прямо в моих ушах! Я открываю глаза и вижу мальчика с раскосыми глазами и желтоватым лицом. Монгольский тип смотрит прямо мне в глаза, жует пирог и держит большой кусок в руке.
– Мишка, это не ты. Что ты тут делаешь?
– Я Мишка-узбек, проснись! Как тебя зовут, девочка?
– Татьяна, – заявляю я. – всегда Татьяна!
– Татьяна, вставай, я тебе дам еду.
– Оставь меня в покое. Я не могу встать. Я не хочу! Оставь меня, уходи отсюда! Я не хочу есть. Я скоро умру.
– Дура! – орет Мишка мне в ухо.
Я проснулась.
– Дурак, ты не видишь, что я наполовину мертвая?
– Это мы еще посмотрим.
Этот странный Мишка сует мне в рот кусок пирога наполненный чем-то желтым. Я не могу жевать, не могу глотать. Рот мой сух, а горло опухло. Я все выплевываю.
– Хочешь воды?
– Воды! Воды!
Этот новый Мишка взял несколько кусков дерева, старые вещи и немного бумаги и сделал маленький костер. Взял валявшуюся неподалеку жестяную коробку старую и помятую. Наполнил ее снегом и нагрел на костре. Приблизил к моим губам, я обожглась. Он открыл мне рот двумя пальцами и прямо в горло влил мне горячую жидкость. В моем теле горячая волна. Необыкновенное чувство счастья широко открываю глаза. Я его вижу. Он улыбается, белые зубы, я тоже.
– Прекрасно, Татьяна, – говорит этот странный монгольский Мишка. Он полон гордости за свой успех.
Он меня кормил, как птичку, маленькими кусочками прямо в рот. А потом заставил меня пить еще воду из жестянки.
– Попей еще немного!
– Мои руки замерзли, и я не могу держать жестянку.
– Тебе нужно в больницу!
– Тебя действительно зовут Мишка?
– Меня зовут иначе, но в армии меня называли Мишка-узбек… Мое имя ты никогда не сможешь одолеть!
– Тебе сколько лет?
– Семнадцать. Я большой.
– Ты можешь быть другим Мишкой? – дурацки спросила я.
– Никогда я не могу быть другим.
– Почему ты меня кормишь?
– Не знаю. Пирог был большой, я поискал кого-нибудь разделить его с ним. Этот пирог был большой, очень большой.
– Кушай ты то, что осталось. Я все равно не могу глотать.
Мы сидим долго. Мишка осматривает мои руки и ноги. Он решил, что они совершенно отморожены. Нашел много тряпок, разорвал их на полосы и завернул мне ноги «как в армии».
– Так.
– Зачем ты это делаешь?
– Ты обязательно должна дойти до больницы. Ты тут совсем не можешь оставаться.
– Как? Я совсем не могу ходить!
– Дура, – радостно сообщил мне Мишка, – ты все можешь! Все! Не спи и следи, когда взойдет луна. Выйди из ворот и иди прямо. Найди столбы, электрические столбы, понимаешь. В стороне дороги. Ты совсем не такая дура, как ты кажешься, ты понимаешь?
– А куда я дойду?
– В большую деревню, городок, который называется Любашевка.
– А что там?
– Больница, большая больница, пойми, больница. Я сам лежал там с тифом. Они меня вылечили. У тебя много вшей, тебе обязательно нужно туда попасть.
Я пощупала свои волосы и ничего не почувствовала, мои руки были совершенно отморожены.
– А ты, почему был в больнице?
– Удрал из плена.
– А ты сейчас куда?
– На восток! На восток!
– А почему?
– Там есть леса.
– Ну и что?
– В стороне реки Буг много лесов. В лесах – партизаны. Я к ним иду!
– Я тоже хочу туда! Возьми меня с собой.
– А я тебя не возьму! Ты больна и ты малютка, я не буду умирать из-за тебя.
У нас обоих слезы на глазах. Он погладил меня по щеке. Оставил мне еще кусок пирога и исчез. Он исчез за открытыми воротами и пропал в слеплящем свете зимнего солнца.
Я повернулась налево к Верочке. Моя милая одноклассница. Я ее спрашиваю:
– Ты видела и слышала все?
– Я все видела и слышала, – говорит Верочка, – но я не знала, что есть такие люди, как этот мальчик. Я на твоем месте никуда бы не пошла. Лучше всего спи. Смотри сны как в кино, это чудно, а потом умираешь и все.
– Скажи, может, ты пойдешь со мной ночью?
– Не знаю, может быть. Разбуди меня, если я усну, перед тем как ты уйдешь.
Я старалась не засыпать. Ночь упала рано. Я посмотрела на Веру и крикнула. Она мне не ответила. На сей раз, этот сон был роковой. Вера, хорошая, симпатичная, милая девочка! Верочка уснула. На сей раз навсегда.
Я собрала свои тряпки, поправила свой портянки. Было трудно, мои пальцы меня не слушались. Встала и вышла на холодную зимнюю дорогу, покрытую серебристым снегом и освещенную полной луной. Я иду с большим трудом и очень осторожно, боюсь, что мои портянки могут развязаться. Я хромаю по сугробам. Не чувствуя ног. Не чувствую рук тоже. Узелок, который у меня был в руках, исчез. Вдруг колокольчики! Сани с колокольчиками! На санях лежат укрытые шубами два немецких офицера, а лошадка бодрая бежит. Не могу убежать, нет сил. Останавливаюсь. Кучер спрашивает меня и смеется:
– Куда ты, красная шапочка, куда?
– В больницу.
– А почему?
– Папа и мама уехали, поезд разбомбили, а я осталась одна. А сейчас не могу ходить, замерзла.
Я слышу себя и удивляюсь, насколько я равнодушна. Я стала такой, как Вера, по дороге в другое место. Немецкие офицеры остановили сани и говорят по-немецки:
– Дас ист айн кляйнес метхен. Вогин гейст ду? (Это маленькая девочка. Куда ты идешь?)
– Нах дем шпиталь – в больницу.
Оба офицера остановили кучера, сошли и смотрят мне прямо в глаза. Они были очень расстроены.
– Дас метхен шприхт дойч. (Эта девочка говорит по-немецки.)
– О, йа! О, йа! – отвечает другой.
– Ком, ком, – зовет он меня.
Мне начали задавать разные вопросы, посадили меня в сани, укрыли меховыми шубами. Их страшно интересовало, почему я говорю на немецком.
– Как это так хорошо ты говоришь по-немецки?
– Их бин айн фолькс дойче. (Я родилась немкой.)
Это была одна из моих уловок, которым я научилась, когда пряталась в деревнях. На Украине было много немцев, которые остались со времен первой мировой воины. Они создали там прекрасные деревни. В советский период их деревни не становились колхозами. Эти люди были очень верующими и находчивыми. Когда началась война между Германией и СССР, Сталин решил выслать в Сибирь, чтобы они не стали «пятой колонной». Их посадили на поезда и силой перевезли в Сибирь, где, как я узнала позже, часть из них исчезла. Их дети бродили по снегу, по бездорожью, в точности так же, как еврейские дети, покинутые родителями, и дети цыган, которые потеряли своих родителей. Так много разных детей-сирот!
Если вернуться к моей истории – мне было ясно, что моя няня немка сумела засунуть мне в голову несколько выражений, которые мне так помогли. Потом были слезы. Немцы начали рассказывать друг другу о своих, и они не знают, живы ли они, потому что почта не ходит. Меня это все не интересовало, я хотела спать. Меня накрыли мехом и говорили обо мне, как о ком-то, кого не существует.
– Куда отвезем эту девочку? – спрашивали они себя и кучера.
– В больницу? Куда?!
– Девочка вот-вот умрет. Отвезите ее в больницу.
Этот диалог бегло продолжался с обеих сторон. Я спала. Сани остановились. С меня сняли мех, и я начала дрожать от холода. Я увидела красивые деревянные ворота и большой колокол рядом.
– Это церковь?
– Нет, – ответил мне кучер. – Это больница. Зачем тебе нужна церковь?
Высокий офицер громко позвонил в колокол. Ночь, все спят. Слабый свет в боковом окне. Второй офицер спустился и ударил прикладом автомата по двери, готовый выломать замок. Вдруг вся их мягкость исчезла. Я увидела, что они настоящие немецкие офицеры. Я почти потеряла сознание. Дверь открылась. Жуткими криками они сообщили медсестре, что у них есть больная немецкая девочка, и что они приедут завтра ее проведать. Если ее не найдут, то сожгут больницу. Меня переводят в приемную, укутав меня овчиной. На стене я увидела календарь. Число: 29 декабря 1941. Два дня до нового года.
– Что будем делать с немецким гаденышем?
– Оставим ее здесь на ночь, к утру замерзнет.
Я лежала на деревянной лавке. Смотрела на число на календаре. На трубе под календарем выросла сосулька, которая когда-то была водой. Она выглядела как рог, который вырос из крана.
– Но они сказали, что вернутся и сожгут больницу. Это не шутка. Мы можем потерять больницу, если они вернуться.
– Да ну, они не вернуться! Что им до этой девочки? Она и так наполовину мертва.
Несмотря на то, что мои глаза были открыты и ясны, они решили, что я не выживу. Они собрали свой инструмент, которым перед этим пользовались, и положили его на поднос. Я поднялась с лавки и прокричала:
– Я не немка. Я не немка! Я настоящая русская девочка! Мои родители пропали. Не оставляйте меня! Позаботьтесь обо мне. Я вам помогу. Я знаю много языков.
– Как тебя зовут?
Две потрясенные медсестры смотрели на меня, сняли с меня красную шапочку, увидели мои светлые волосы, коротенький носик, круглые, широко раскрытые от волнения глаза. Их сердца наполнились жалостью.
– Как тебя зовут, девочка? – спросила одна из сестер, совершенно потрясенная.
– Татьяна Петренко, – я ей ответила звонким голосом.
У меня в классе была девочка с таким именем. Я не знаю, что с ней случилось.
Я поступила в больницу. Моя судьба определилась.
10.
Больница спит. Не слышно ни звука. Сестры решили перевезти меня в родильную палату. Они объяснили мне, что это единственная отапливаемая комната в больнице. Они уложили меня в кровать без матраса и без подушки. Не вижу, где я нахожусь. Нет света. Вдруг они входят с горящей свечой. Все очень странно. Они меня не раздели, только укрыли овечьей шкурой, которую оставили мне немецкие офицеры. Они поспорили между собой, зажечь ли керосиновую печурку. Зажгли. Уснула.
Я просыпаюсь, комната полна света. Возле меня стоит светловолосая красавица в белом халате. У нее на шее стетоскоп. Две сестры рассказывают ей всю историю моего прибытия и все детали в полный голос. Говорят по-украински. Я понимаю каждое слово. Врач говорит:
– Я буду говорить с тобой по-русски. Как тебя зовут, девочка?
– Татьяна Петренко, – декламирую я.
В моих ушах еще звучит голос настоящей Тани Петренко, когда она себя представляла в классе.
– Я Людмила Александровна. Сколько тебе лет?
– Я большая.
– Я вижу. Ты очень большая! Как же ты попала в такую беду?
Я опять декламирую свой старый рассказ: мои родители погибли в бомбежке, когда они сели в поезд, который уничтожила бомбежка. А я осталась на перроне одна (никто до сих пор не возражал против моего рассказа)
– Вы меня оставите здесь?
– Конечно! Пока ты не будешь совершенно здоровой.
Людмила Александровна выходит и начинается «главная чистка»! Сестры меня моют, бреют мне голову, дают мне горшок. Моют меня горячей водой и стиральным мылом. Они меня сажают на стул, завернутой в полотенце. Приносят матрас, белые простыни и подушку. Начинаю плакать. Белые простыни. Вспоминаю свою кроватку.
– Не реветь! Сейчас будем смотреть твои ноги.
– Это больно!
– Ничего не больно! Мы тебе намажем ноги жиром.
– Замерзла до костей!
– Я не уверенна, что это останется.
– А если останется, так что?!
– Нет… русская девочка из Бесарабии… ты не видишь! Говорит на очень правильном русском языке… наверно из богатых?!
Я понимаю, что моя судьба решена. Не будет у меня пальцев ни на руках, ни на ногах. Боюсь этих сестер. Они ведут себя хладнокровно, но я думаю, что они видят во мне новую тягость к их тяжелым заданиям, которые они выполняли до сих пор.
Не задаю никаких вопросов! Благодарю сестер за все, что они для меня сделали. Слезы текут сами по себе из глаз.
– Перестань нас благодарить! Мы заботимся обо всех наших больных, а ты одна из них. Не реветь. Сейчас принесем тебе суп.
Когда они выходят, я понимаю, что в жизни этих людей нет привычки к вежливости. Я себе говорю, что лучше поменьше разговаривать. Так я попала в больницу!
На следующий день рано утром я слышу дикие крики! Привезли роженицу и положили ее на кровать у окна. Это, наверно, роженица, о которой мне говорили вчера. Роженица была красная, как свекла, толстая, одетая в теплую крестьянскую одежду. Я понимаю, что произойдет. Понятия не имею, как это будет, я очень, очень хочу понять, что будет происходить. Вместе с роженицей вошла целая гурьба женщин, они тоже орут во все голоса. Это для того, чтобы ее успокоить! Раздевают ее и кладут на кровать, я стараюсь исчезнуть под одеялом. Я не хочу, чтобы они видели, что я вижу. Роды были очень длинные. Сначала комната опустела. Осталась только акушерка, которая без конца орала всякие нежные слова, крестилась и молилась! Она тоже была красная и потная. Вдруг я слышу дикий и страшный крик! Новый крик! Сладкий крик! Есть ребенок! Акушерка повернулась ко мне и увидела, что я выпрямилась и оперлась на локоть. Она увидела, что я вижу весь процесс, который происходит за моей спиной. Но она не сердится.
– Молись, девочка, молись. Во весь голос молись, чтобы все прошло нормально.
Я вспоминаю молитвы, которым меня учила моя дорогая няня. «Отче наш» известная молитва в христианской церкви.
– Твоя молитва помогает! Ребенок совершенно здоров! Ой! Это не мальчик! Это девочка!
Мне показалось, что есть нотка сожаления в ее голосе.
Дверь раскрывается, все бабы влетают в комнату с криками и плачем. Узлы открываются. Эти таинственные узлы интересовали меня с самого начала, я поняла, что там вещи, о которых я могла только мечтать. Из узлов появляются всякие яства приготовленные для этой цели. Могу сказать, что эта сцена мне очень-очень нравится! Акушерка во весь голос возвещает:
– Она! Она, эта маленькая девочка спасла все! Эта малютка спасла все! Она молилась за здоровье роженицы. Поздравьте ее!
Результат этих слов был очень положительным. Сейчас же на моем животе появились всякие яства, которые трудно было удержать моими отмороженными пальцами! Первый раз, после того как я оставила свой Кишинев я наелась досыта и вкусно.
Я заметила, что даже в тяжелые времена у крестьян есть запасы на черный день. И не забыть счастливых и хороших дней, когда часть этих запасов доставалась и мне.
Мое положение очень значительно укрепилось – я попала в «общество». Сестры стали относиться ко мне с большим терпением. Много времени прошло, пока они привыкли к моей «странной личности». Я была и маленькая и большая сразу. Например, меня страшно интересовало все, что происходит в больнице. Это абсолютно не похоже на поведение других детей.
В этой больнице было два врача. Одну из них звали Софья Федоровна. Она была милая симпатичная и умная женщина. Софья Федоровна управляла администрацией больницы. Другой врач, Людмила Александровна занималась больными и лечила каждого больного. Еще были шесть медсестер. Две из них были очень симпатичные. Они особенно помогали мне и ухаживали за мной во время болезни и выздоровления. Акушерка не входила в персонал больницы. Ее приглашали отдельно сами роженицы. Она была очень популярна и сыграла важную роль в моей жизни из-за своей крайней набожности. Скользкая была баба! Кроме этого она рождала во меня чувство страха. Я понимаю, что она может допросить меня насчет моей семьи и моего дома. Но я делала все, чтобы не вызывать у нее сомнений. Она начала меня учить разным молитвам, которые я пока что не знала.
Кроме акушерки очень важной персоной был заведующий хозяйством. Он решал нашу судьбу: например будет ли суп, будет ли стирка, когда и кому будут греть комнаты, и даже когда откроются окна больницы в конце зимы. Мне кажется, что он был доносчик и даже вор! Один раз утром ко мне вошла Людмила Александровна:
– Как ты себя чувствуешь, девуля?
– Замечательно, спасибо!
Я увидела, что она мне не верит.
– Ты наверно думаешь о твоей маме.
– Да, я думаю об обоих, и о папе. Я много думаю о моей семье.
– Ты уверенна, что все были убиты?
– Я видела. Мне больно говорить об этом. А у вас есть дети?
– У меня дочка. Зовут ее Элли. Она меньше тебя, по-моему, на два года. Она очень хорошенькая девочка.
– А где отец дочки?
– Доктор Пелявский, мой муж, он был главврач этой больницы. Его взяли в армию еще в начале войны.
– А муж Софьи Федоровны тоже врач? Они оба вместе в армии?
– Да, он тоже врач. И я надеюсь, что они находятся вместе.
– Сколько времени прошло с тех пор?
– С той минуты, когда вспыхнула война. В 1941-ом году. Скажи, что случилось с твоим домом и остальной твоей семьей?
– Был огромный пожар, весь город сгорел, и все наше сгорело.
– Я понимаю.
Когда она говорила «я понимаю», мне было ясно, что она ничего не будет спрашивать. Так она заканчивала разговор и переходила на другую тему.
– У меня есть к тебе маленькая просьба, – она продолжила. – Знаешь ли ты румынский?
– Я училась румынскому языку, почти пять лет. Нас заставляли учиться румынскому языку. Я учила материал дома и сдавала каждые пол года экзамен в школе.
– Значит, ты хорошо понимаешь румынский?
– Я могу немножко говорить. Я хорошо знаю грамматику, но моя большущая проблема – я не знаю счет! Всегда я списывала у своей соседки за партой.
– Это не важно. Ты сможешь помочь мне с этим языком? Ты научишь меня некоторым фразам на румынском и как писать официальные документы для власти? Очень важно, чтобы было довольно грамотно.
– Всему, что мне известно, я могу вас научить. Для чего вам это нужно?
– У меня есть больные румыны. Солдаты. Раненые.
– Румыны тоже воюют?
Людмила Александровна смеется.
– Нет, нет. Они не воюют. Они ранены по другим причинам, в основном пьянство и драки.
– Хорошо, я могу вас научить правильно писать, правильно говорить, но я не знаю, как составлять официальные бумаги. Я никогда не писала официальные документы.
– Мне хватит того, что ты говоришь. Когда ты хочешь провести первый урок, госпожа учительница?
– Даже сегодня или завтра, когда вам удобно.
– Хорошо, завтра в двенадцать с половиной я у тебя.
– Принесите тетрадь, карандаш и ластик.
– Зачем ластик?
– Так надо!
– Я могу тебе еще кое-что предложить. Сделаем торговый обмен.
– Что такое торговый обмен? – я спросила.
– Я не могу тебе заплатить деньгами за твою работу, потому что тебе не нужны деньги. Я могу вознаградить тебя едой. Скажи, ты завтракала?
– Нет. У вас нет завтрака.
– Правильно, правильно. Это как раз то, что я хотела сделать. Завтра утром моя дочь, Элли, принесет тебе завтрак. Моя мама приготовит его специально для тебя.
– Спасибо. Я буду очень рада. Но у меня есть еще одна просьба, простите, если это невозможно.
– Что ты хочешь, девочка? Скажи, я очень хочу услышать.
– Я хочу чашку чая…
Людмила Александровна брызгает смехом.
– Я тоже хочу чашку чая! У нас уже год нет чая. Мы пьем чай из морковки смешанной со свеклой. Такая странная смесь.
– Я знаю. В деревне Ясиново меня научили это делать это очень вкусно, почти как чай.
– Это то, что ты получишь каждый день, даже два раза в день. Но знай, что ты должна будешь часто ходить по маленькому. Сейчас мне надо бежать.
После того как она ушла, я думала о том, что сделала фатальную ошибку. Я произнесла название деревни Ясиново. Я надеюсь, что она забудет это. А может быть, не заметила?
На следующее утро я проснулась в восемь часов. Я знала, что это именно восемь, потому что я видела через открытую дверь большие круглые часы, которые висели в коридоре перед моими глазами. Двери были всегда открыты. Часы висели над календарем, а под ним был маленький стол и два стула. Дежурные сестры сидели там. Вдруг я вижу, что в дверях стоит светловолосая девочка с изумительно голубыми глазами. У нее были точно такие же косички как у меня, только тоньше. Мои косички выпали из рук сестры, которая меня побрила. И теперь вдруг мне стало стыдно. В руке девочка держала довольно интересный узел. Это была белоснежная салфетка, в которой находилась большая тарелка и на ней… замечательный завтрак. Салфетка была так завязана, что у нее «были» ослиные уши. Без единого слова она поставила это произведение на круглый стульчик, который был всегда в моем распоряжении.
– Спасибо, Элли.
– Не мне! Моей бабушке. Она приготовила это. Когда кончишь, отдай сестре тарелку и салфетку.
Она не попрощалась со мной, и вышла так же, как вошла, кусок льда. Странно, подумала я, почему она меня ненавидит?!
Начала развязывать узел, и это было очень трудно. Мои пальцы не слушались, но зубы помогли. В этом узле я нашла изумительный завтрак, настоящий, пахучий завтрак, как дома! К сожалению, мне трудно было употреблять мои пальцы вместо вилки и ложки, но я съела все. Я была счастлива в этот день, когда Людмила Александровна училась у меня румынскому языку и была мной очень довольна. Я следила за тем, чтобы слова были правильно написаны латинскими буквами. До сего дня я себя спрашиваю, как я могла учить эту изумительную женщину, я, несчастная, маленькая девочка! Она относилась ко мне с любовью и с уважением. Ее я не забуду до последнего дня моей жизни!
11.
Дни проходили один за другим. Один похож на другой. Между важными событиями: прибытие роженицы, конечно, акушерки, и даже иногда врачей. Все сопровождалось горами еды, которая, конечно, появлялась и на моем маленьком столике. Мне было очень нелегко из-за этого бесконечного лежания. Тяжело об этом говорить, но из-за беспорядка в желудке (отсутствие, а потом внезапное изобилие еды), очень часто мне нужен был горшок. Я вела безнадежную войну с сестрами. Я просила их, чтобы они оставили мне горшочек в кровати, чтобы я могла сама этим заняться. Между прочим, этот горшочек назывался живописным именем – подсов.
– Ты не сможешь это сделать и ты запачкаешь все вокруг!!!
Но мое упрямство и бесконечные просьбы помогли в конце концов. Людмила Александровна, мой большой друг и моя «ученица», моя главная Людмила Александровна сдалась. Она позволила мне держать подсов рядом с моим одеялом. Но вначале я показала, как тащу его к себе и как я держу его рукой, которая не совсем еще зажила. Может быть, эти подробности не совсем приятны для глаза и для слуха, но они составляют важную главу в моих больничных переживаниях и вообще в моих ежедневных страданиях.
Еда появлялась не регулярно. Были дни, когда было много еды, а в другие только жидкий суп с овсянкой. Элли иногда забывала приходить! Никогда я не рассказывала об этом Людмиле Александровне, не хотела создавать неприятности в ее семье. Вообще я могу сказать, что я делала большие усилия для того, чтобы скрыть свои мысли и выводы от других. Я была девочкой с улыбкой на губах, даже смеялась. Все относились ко мне хорошо. Комната отапливалась только тогда, когда там были роженицы. А когда их не было царил в ней ужасный холод. В больнице экономили керосин, и поэтому печка переходила в коридор напротив меня. Сестры ставили на нее чайник с водой и часто наливали и мне стакан «чая».
Роженицы приходили и уходили. Акушерка меня очень баловала. Как будто все было замечательно, но ночи были ужасно тяжелые. Настолько тяжелые, что я просто боялась заснуть. Страх мой заключался в том, что я могла крикнуть или сказать что-нибудь, что приведет к разоблачению моего настоящего происхождения. Чтоб не заснуть, я просила сестер принести мне книги для чтения и маленькую свечку. Когда сестры открыли мою слабость к чтению, они поняли, что можно мне «закрыть рот» на долгое время, и таким образом избавиться от моих постоянных требований. Книги были на чердаке в огромных кучах! Их бросили на чердак, когда началась воина. Главврач приказал спрятать все книги, которые находились в больнице. Сестры все время жаловались на пыль, которая покрывала книги, и на то, что их заставляли ее убирать, от чего они беспрерывно чихали.
– Из-за тебя я чихаю десять раз подряд!
Я жалобно прошу прощения. Книги были выбраны не по их содержанию, а по их местоположению на чердаке и по их близости к входу на чердак. Там стояла лестница. Сестра Поплавская, которая была назначена главной «литераторшей» больницы, согласилась залезть на чердак, но ни за что не заходить во внутрь и искать для меня книги. Все, что находилось близко к входу, было тяжелое и толстое, появлялись у меня. Мне было тяжело держать книгу на животе и перелистывать. Иногда я ставила книгу на грудь близко к глазам, это было очень тяжело, но несмотря на это я смогла читать все, от русской классики и поэзии до книг, которые выражали политические идеи, например, Маркс, Энгельс и Ленин. Сталин не был близок к входу, поэтому я его не читала.
Румынские солдаты, которые сопровождали врача, чтобы я переводила для нее их жалобы и болезни. Они были в восторге от моих читательских возможностей. Они не умели читать по-русски, таким образом они не знали, какие «опасные» книги находятся у них перед глазами. Они смотрели на меня и говорили:
– Эта девочка такая умница. Читает такие большие книги, просто такие… – так они показывали пальцами насколько эти книги большие и толстые.
Я делала все, что меня просила Людмила Александровна, и переводила все их болячки на русский язык. Солдаты были в восторге от моих колоссальных способностей понимать, что они рассказывают. Одно ясно, что я ничего не понимала, о чем они говорят! Я только повторяла их фразы. А Людмила Александровна объясняла мне, о чем идет речь. Правда, меня это абсолютно не интересовало. Мое единственное желание было избавиться от них как можно скорее. Несмотря на их улыбки, я их очень боялась. В моем воображении я видела, как они направляют оружие прямо мне в сердце. В эти дни была большая суматоха в больнице. Сестры и докторши страшно боялись этих пациентов. Они не знали их и боялись, это была армия захватчиков. Для меня это была почти ежедневная работа. По ночам я разрешала себе спать только тогда, когда не было роженицы в комнате.
Я должна признаться, что была еще одна возможность времяпровождения, которая помогла мне скоротать эти ночи – мыши! Я заметила, что крошки моего хлеба, которые падали на пол, были очень привлекательны для мышей и мышат. Посреди ночи, когда свечка доживает свои последние минуты, почти в темноте, появляются несколько мышей. Осторожно и постепенно они подходят к крошкам, смотрят на меня с опаской, когда им кажется что все нормально, они собирают крошки и едят. Я их не гнала. Со временем они начали приводить свои семейства, а я начала собирать крошки, чтобы им было легче их найти. Хлеб, который давали нам в больнице, рассыпался очень хорошо, потому, что в него не клали всех нужных ингредиентов. На маленьком круглом стуле я специально оставляла крошки, они легко вскарабкивались на стул, и таким образом я могла их лучше разглядеть. Иногда я насыпала несколько крошек себе на одеяло, чтоб лучше увидеть этих животных. Я никогда не чувствовала никакого отвращения к этим существам. Я нашла их очень симпатичными, в особенности когда один малютка встал перед моими глазами и помыл себе нос обоими лапками. Самое малейшее движение – даже дыхание – их пугало до смерти. В одну секунду они исчезали, не оставляя и следа. Иногда заходила женщина, которая мыла полы, и постоянно жаловалась, что на полу много мышиного помета.
– Надо насыпать тут отраву, – кричала она.
– Конечно, – отвечала я.
Эта угроза никогда не исполнилась. Когда была роженица, все много двигались и кричали – не было и следа мышей, так что угроза отравы отодвигалась далеко и даже была забыта. Никому я не рассказывала о моем времяпрепровождении, странном в глазах многих! Я знала, что получу выговор, и убьют всех маленьких существ, которые превратились в моих ближайших друзей по ночам. В течение дня я иногда засыпала, несмотря на весь шум больницы и рожениц. Правда, эти звуки были невыносимы.
Ночи со своей стороны были тоже ужасны. Когда я погружалась с сон, после того как гасла свеча, я попадала в совершенно другой мир. Я видела себя гуляющей по главной улице нашего города, с моим папой, рука в руке. Мой папа всегда носил серый костюм, серую шляпу, и его волосы были тоже серые, он рано посидел. В одной руке он держал мою руку, а в другой свою трость, очень красивую. Трость нужна была ему не для того, чтобы помогать ему ходить, а только представляла собой аксессуар одежды серьезных и важных людей! Я задавала вопросы:
– Почему солнце днем, а ночью луна?
Папа объясняет.
– Папа, почему лето и зима?
Папа объясняет.
– Почему наш пес не захотел идти с нами гулять?
Папа объясняет психологию пса.
– Почему, мы любим ходить пешком, а не ездить в карете?
Папа объясняет.
Вот мы идем. Я слышу стук трости по асфальту. Вдруг все меняется. Я держу папу за руку, но нет трости, нет асфальта, а под ногами слякоть и грязь, слякоть и грязь, слякоть и грязь… мои ноги тонут глубоко в грязи, я не могу их вытащить, папа помогает мне, но его ноги тоже тонут и прилипают к земле. Мы видим перед нами телегу, где сидит мама. Вдруг я вижу, что мама почти падает. Она все время нас ищет. Я кричу:
– Мама, мама! – она не слышит. Она продолжает искать. Я слышу ее голос:
– Тата, Таточка!
Вдруг я ничего не слышу. Папа исчез. Я одна в грязи. Я стараюсь влезть на телегу. Я падаю в грязь. Я барахтаюсь в грязи и не могу вылезти. Я тону.
– Мама, мама! – я кричу.
Конвой продвигается. Я не могу достигнуть конвоя. Мои ноги прилипли к земле. Я просыпаюсь. Темнота. Коридор опустел. Я одна. Слабый свет исходит из коридора. Я смотрю вокруг. Слякоть исчезает, я в кровати. Я засыпаю опять. Вдруг та же картина, мы тонем в снегу. Мои галоши слезают с моих ног и остаются в снегу. Я иду, мои ноги замерзают. Я больше не чувствую ног. У меня уже нет ног. Я падаю. Я на обочине, между раздетыми трупами. Где папа? Я ищу его. Нет папы. Мама исчезла. Вдалеке бабушка. Ее бросают в могилу. Опять трупы. Я одна между трупами! Знакомый голос говорит мне:
– Пришло время просыпаться, соня! Я тебе принесла чай и даже хлеб. Я тебя убью, если ты накрошишь. Ты хочешь сначала подсов или хочешь помыть руки?
Ослепительный свет из окна! Как я счастлива!
12.
Ночи все еще были тяжелыми. Мышата, которые стали моими хорошими друзьями, боялись и перестали приходить и искать крошки на моем одеяле.
Было кое-что «приятное» – я начала счищать со своих пальцев сухую обмороженную кожу. Первые пальцы, которые я отчистила вместе с ногтями, были на правой руке, большой и указательный, что позволило мне держать мой кусок хлеба как все. Это было такое счастье видеть мои розовые пальцы, немного красноватые, с тоненькими ноготочками. Мне это казалось чудесным. Конечно, сестры меня ругали и говорили, чтобы я не смела снимать кожицу раньше времени потому, что это оставит следы на руках. Ничего меня не убеждало, и я продолжала.
Кошмары продолжились. В этот раз это было на фоне ужаса. Я боялась, что скажу что-нибудь во сне. Баня, которая была раз в неделю, приводила меня в большое смятение. Я очень стыдилась своего худого тела и страшной кожи. Я старалась смотреть в потолок во время того, как меня мыли. Сестры раздавали мне комплименты, не жалея моих ушей:
– Кожа да кости! Какой ужас!
– А чего ты хотела?! Голод, болезнь, одиночество…
– Но она ведь уже ест! Прошло уже пол года, за ней ухаживают! Так почему же ничего не меняется?!
– Что ты хочешь? Девочка растет, она вытянулась!
Я думаю о своей няне. О ее хороших руках, о ее любви ко мне. Иногда у меня катились слезы из глаз. Сестры этого не замечали. Я думаю, что сестры не были злыми, они просто говорили в слух то, что думали. Я не сердилась, но описание моей «наружности» было не особо приятным. Я утешалась лишь несколькими словами одобрения, которые мне сказали за то, что я съела всю еду из тарелки и что я с точностью смогла воспользоваться подсовом. Помните мои два отчищенных пальчика – мою гордость!
Вообще-то, после моего полугодового присутствия в больнице, сестры привязались ко мне. Даже очень меня любили. Что не мешало им кричать на меня при каждой возможности.
Людмила Александровна была очень довольна своим обучением. Однажды она даже попыталась поговорить с румынскими солдатами, и это у нее получилось. Она была очень собой горда.
Однажды в коридоре все переполошились. Это случилось незадолго до Пасхи. Роженицы приносили разноцветные яйца, чтобы раздать их сестрам и врачам. Это русская православная традиция. Когда я это все увидела, я вспомнила, что умею рисовать. Я сказала Людмиле Александровне, что с радостью разрисовала бы яйцо для нее, но у меня нет ни кисточки, ни красок. На следующее утро пришла «ледяная» Элли, не говоря ни слова положила на мой круглый стул коробку с акварельными красками, стакан с водой и даже тоненькую кисточку. Завтрак она поставила в другое место и сказала:
– Ты будешь есть только после того, как разрисуешь яйцо.
Я спросила ее, вареное ли яйцо.
– Конечно, глупая – холодно ответила она мне. – Ты можешь это проверить.
– Как? – спросила я.
– Даже этого ты не знаешь?! – сказала с презрением Элли.
– Нет – отвечаю.
– Возьми яйцо и покрути его на стуле.
– Тогда сними вещи, которые там лежат. Как я буду крутить его на этой поверхности? А если яйцо не сваренное, что тогда будет?
– Будет грязь – с победной улыбкой ответила она.
Я ее ненавидела. Я взяла яйцо двумя хорошими пальцами и с силой его раскрутила. Оно с легкостью завертелось.
– Ты видишь, что ты дура?! – сказала Элли.
Я не ответила. Она вышла не попрощавшись. Я лежала на кровати вся в слезах. Завтрак лежал далеко от меня. На кровати за моей головой. Коробка красок, кисточка и стакан с водой лежали на полу. «Я съем это яйцо» – сердито сказала я сама себе. Я была очень голодная. За день до этого роженица ушла, не оставив мне ничего съестного. Обеденный суп почему-то не пришел. Я была очень несчастна. Сестра Поплавская вошла в палату и стала страшно кричать:
– Кто это сделал? Почему все на полу?
Ее взгляд упал на меня, и она увидела мое смущение и горе.
– Танюша, бедная, не плачь. Это все злая Элли. Я ее знаю, я скажу ее маме.
– Нет, нет, нет! Ничего не говорите! Людмиле Александровне незачем об этом знать.
– Элли должна получить пару пощечин! – торжественно заявила мне сестра.
– Нет, пожалуйста, нет! Не надо, пожалуйста! Она мне отомстит.
– Ой, бедная Танюша! Как же ты умна! Насколько ты, малютка, умнее меня, взрослой.
До сегодняшнего дня у меня появляются слезы на глазах, когда я вспоминаю тот случай. Это был первый раз, с тех пор как я оказалась в больнице, когда эта медсестра проявила по отношению ко мне тепло и симпатию.
– Хочешь, я почищу тебе яйцо, куколка?
– Нет! Ни в коем случае! – я закричала, – я должна его разрисовать.
– Ты умеешь рисовать?
– Конечно, я училась у художника.
– Посмотрите-ка на нее!
– Что вы хотите, чтобы я нарисовала? Цветок?
– Да, я хочу красный цветок!
Я окунула кисточку в воду, взяла красную краску, и в тот же момент появился цветок.
– Ой, ты – настоящая художница!
– Что еще?
– Святую Марию! – сказала она с сомнением.
– Я не могу, у меня нет иконы.
– А, я понимаю. А Иисуса на кресте ты можешь нарисовать из головы?
– Я попробую.
– Но если не получится хорошо, не порть яйцо.
– Нет, его можно просто помыть, и рисовать заново, когда оно высохнет.
Иисус вышел немного кривым, из-за волнения.
– Отлично! Теперь нарисуй два цветка и ленту.
Я выполнила просьбу. Яйцо было готово.
– Смотрите!
Две сестры вошли в комнату и были удивлены моими успехами.
– Эта девочка просто поразительна! – сказала одна другой, не скрывая от меня своего удивления.
– Но это не удержится! Возьмут яйцо в руки и все сотрется.
– Правильно, – сказала третья – надо покрыть лаком. Надо спросить у кладовщика, остался ли у нас еще лак.
Через несколько минут появился кладовщик. Он нес огромный распыляющий аппарат для лака.
– Это?! – прокричал он. – Это слишком маленькая вещь!
– Тогда распыляй с расстояния.
– Лак разбрызгается по полу!
– Ничего страшного! – сказала сестра – пол будет красивее!
Десятки, даже сотни яиц я раскрасила в этой больнице до того, как я выписалась.
В этой суматохе и удивлении вокруг яиц мне забыли принести еду. В коридоре послышались крики на немецком. Я сильно испугалась. И сестры тоже. Они выбежали в коридор и закрыли дверь. Я слышала, как кто-то бегает. Громкий и сердитый разговор на немецком. Смиренные голоса сестер. Врачей в больнице не было. Они обе уехали в центр, чтобы разобраться по поводу снабжения. Сестры не разговаривали на немецком и дрожали от страха. Я взяла колокольчик, который лежал около меня, и позвонила. В дверной щели появилось перепуганное лицо сестры Поплавской.
– Сейчас не время, привезли больных, похоже, что их солдаты без сознания… мы не знаем, что делать. Может, ты знаешь еще и немецкий?
Мое сердце бешено колотится. Набираюсь смелости и отвечаю:
– Немного. Приведите их ко мне, сейчас же.
Дверь открылась. Вошел высокий мужчина и начал что-то говорить. Я ничего не поняла.
– …лангзам, лангзам. Вас волен зи, бите? (Медленнее, медленнее. Что вы хотите, пожалуйста?)
– Ду шприхст доичь? (Ты говоришь по-немецки?)
– Айн вениг. (Немного.)
– Гут. (Хорошо.)
Из продолжения разговора, я поняла, что он хочет палаты и кровати для четырех тяжело больных, которых он привез прямо с поля битвы. По его виду я поняла, что он устал, голоден и то, что и он не очень-то здоров. Я улыбнулась, перевела в нескольких словах то, что он мне сказал. Я вспомнила о моей выдумке про то, что я «немка от рождения». Я сказала ему это. Широкая улыбка растянулась на его уставшем лице. Он ущипнул меня за щеку.
– Гут, гут. (Хорошо, хорошо.)
Он вышел.
Сестры взялись за дело еще до того, как я закончила переводить им наш разговор. Они молниеносно заправляли кровати, переводили больных. Сопровождающие солдаты не позволили им раздеть больных. Они сделали это сами.
– У нас нет пижам! – кричали сестры.
– Дайте им ваши халаты! – сказали они на немецком.
Я сразу же перевела. Сестры поняли и сняли с себя белые халаты. Стало тихо. Все ходили на цыпочках. Я тихо-тихо позвонила в свой колокольчик, и сразу же пришли послушать, что я хочу сказать. Я стала очень важной персоной.
На следующий день, после бессонной ночи, завтрак Элли остался на столе, вдали от меня. Я о нем забыла. Почти всю ночь мне снилось мое прибытие в больницу, девять месяцев назад. Я была привезена двумя расчувствовавшимися офицерами, которые превратились в животных через секунду. Все время я думала о них. Я вспомнила, что один из них был «оберлейтенант». Так к нему обращался второй. Всю ночь они мне снились. Кошмар. Утром прибыл двойной завтрак. Яйцо, покрытое лаком, осталось на полу. Я очень о нем заботилась. Элли запретили входить в больницу. Завтрак мне принесла сестра. После еды и питья морковного чая мое настроение заметно улучшилось. Мое яйцо было празднично перенесено на окно. Пока что я начала рисовать на других яйцах. Врач, начальница больницы, Софья Федоровна, пришла спросить меня, что сказали немцы. После моего рассказа, она решила меня красиво одеть. Мне выдали белый халат и носки на ноги. Мои ноги были коричневыми из-за корки, которая покрывала их. Это было не представительно. Мои руки закрыли перчатками. На мою голову повязали красивый платок, весь в цветах. Я была горда. Меня пересадили в кресло-каталку и перевезли в комнату больных немцев. Софья Федоровна сказала мне, что я должна представить ее как начальницу этой больницы. И спросить, что они от нас хотят. Когда я вошла, я очень удивилась, увидев перед собой молодых парней, почти детей, лежащих на кроватях в обморочном состоянии. Сержант мне улыбался.
– Цукер пупхен! – сказал он с радостью.
Я думаю, что это было выражение симпатии. Сладкая кукла, сахарная кукла. Я сразу же рассмеялась. Я объяснила ему, как могла, что у нас нет лекарств. «У нас», заметьте, «у нас». У нас нет еды, и эта болезнь очень тяжелая. Ее называют тиф.
Это было фатальной ошибкой. Они сразу же отскочили, и я увидела страх в их глазах. Доктора поняли, что мы допустили ошибку. Мне сказали, чтобы я им перевела, что если прибудут нужные лекарства, то все выздоровеют, и что это не настолько заразно, что нужно так бояться. Мне было сложно переводить. Было много слов, которых я не знала. Из-за того, что мой отец был врачом, некоторые понятия я слышала с рождения. Это облегчало мне задачу. Мой детский врач был немцем, и для того, чтобы я его не поняла, разговаривал у моей кровати с моим папой на латыни. Я быстро выучила такие понятия, как высокая температура, заразная болезнь, поражение печени.
Меня вернули в кровать, и с того дня я получила новую должность – одеваться, садиться в кресло, говорить с немцами и получать их приказы. Выражение «цукер пупхен» укоренилось у них, меня никогда не спрашивали, как меня зовут. К моему скудному меню прибавился шоколад! Я пришла к выводу, что они замечательные парни.
Это все происходило на протяжении нескольких месяцев, до того момента, как я тоже заболела тифом.
13.
Я лежала в кровати как «мешок с картошкой». Раньше я тоже не могла встать с кровати, но после тифа я стала гораздо слабее. Даже кормили меня с ложечки. Сестры обо мне очень заботились. Они разговаривали во весь голос возле меня и не скрывали своих мыслей. Они решили, что у меня немного шансов остаться в живых. Это было не очень «одобрительно»! Все, о чем они говорили, было сказано с любовью и заботой.
– Таня, Танюша, проснись! Выпей лекарство! Ну, открой уже рот!
– Это горько, не хочу!
– Открой рот! Я тебе говорю! Я тебе волью лекарство прямо в горло!
Я открываю рот вся в слезах, глотаю противное лекарство.
Я закрываю глаза, не хочу видеть еду. Та же унизительная процедура повторяется и с едой.
– Открыть рот! Проглотить все, что жидкое и противное!
– Меня сейчас вырвет! Дайте мне что-нибудь против рвоты.
– Не вырывать! Дыши глубоко-глубоко!
– Открой рот, термометр! Я должна стоять возле тебя?! Я теряю время с тобой!
Открываю рот. Хорошо, хорошо.
– Ого, у тебя 39 градусов! Ты понимаешь?
– Да, мой папа был врачом.
Я была как в тумане, но все-таки поняла, что сделала колоссальную глупость! Я не могла это поправить. Слышу шепот в коридоре и кроме всего я чувствую страх в животе. Думаю, что говорят обо мне! О чем был шепот в коридоре? Наверное, о моем заявлении, о папе. Температура поднялась. Я опять упала в забытье.
В один «прекрасный» день я почувствовала какое-то изменение в отношении ко мне, какую-то отдаленность! Вдруг, в одно утро, входят сестры с носилками и забирают меня из моей хорошей теплой комнаты в большую залу, где стояли семь голых кроватей. Там были очень большие окна. И ветер гулял там беспощадно. В окнах были трещины, и в этой зале был ледяной холод. Я ничего не спрашивала! Акушерка иногда заходила и рассказывала мне разные истории о боге, об Иисусе Христе и о христианской религии. Она боялась дотронуться до меня, но зато говорила без конца. Она мне объясняла, почему я должна лежать в этой палате. В мою прежнюю комнату прибыли две роженицы и из-за того, что я больна тифом, а это очень заразная болезнь, меня вынесли оттуда. Очень опасно для рожениц находится в моем присутствии. Она не переставала учить меня всяким христианским молитвам и как просить у бога, чтобы он меня помиловал за мои «большие грехи». Несмотря на то, что моя голова, полная всяких тяжелых мыслей, очень болела, я все-таки научилась молитвам. Когда она, в конце концов, убиралась, я спрашивала себя, почему это странное изменение? Не, думаю что это из-за тифа! Много вопросов в голове, много мыслей металось в моей голове. Мороз просачивался через окна беспрепятственно. Элли – знаменитая хрустальная дочка Людмилы Александровны – исчезла. Почему сестры заходят ко мне не часто. Почему окна разбиты. Даже Людмила Александровна появляется гораздо меньше.
Не знаю, сколько дней прошло, я нахожусь в полусознании. Вдруг Людмила Александровна заходит в комнату, в сопровождении мужчины, одетого в форму румынского офицера. Он ниже ее. Волосы черные. Его внешность была необычной. Нос его был очень длинный! Он мне напомнил кого-то, кого я уже когда-то видела. Сердцебиение. Он стоял вдалеке от моей кровати. Он меня боится, думаю. Людмила Александровна подходит ко мне кладет свою белую и нежную руку на мой лоб и говорит мне по-русски:
– Твоя температура упала. Ты можешь говорить по-румынски?
– Да, – шепчу я.
Человек подходит и смотрит на меня. Надевает белые перчатки, вынимает лупу и приказывает широко открыть глаза. Он смотрит на мои зрачки. После этого вынимает стетоскоп, нагибается и слушает мои легкие и сердце.
– Есть свист. Астма.
Я перевожу на русский.
– Это не ново, – заявляет Людмила Александровна по-румынски.
Этот офицер посмотрел на нее, сказал по-румынски очень быстро что-то, что я не могла понять.
– Перевод! – она говорит мне.
Я отрицательно машу головой, чтобы показать, что я ничего не поняла.
– «Лангзам»! – медленно, – говорю ему с надеждой, что сам поймет. Я не знала этого слова по-румынски. Он радостно улыбается.
– Эта девочка больна хронической астмой!
– Таня, – говорит Людмила Александровна, – скажи ему, что твой папа был врачом.
– Мой отец был врачом.
– А откуда ты знаешь румынский язык?
– Я училась в школе! – стараюсь, чтобы мой язык не был очень правильным.
– Как тебя зовут? – он спрашивает.
– Татьяна Петренко, – отвечаю я звонким голосом.
– Это твое настоящее имя? – он спрашивает по-румынски.
Замешательство.
– Конечно, как же иначе?!
Он улыбнулся и назвал себя. Он старается говорить мне сладкие слова, которые звучат в моих ушах неправдой. Я беру себя в руки, улыбаюсь и отвечаю:
– Доктор, мне очень тяжело говорить, я очень больна. Когда я выздоровею, то расскажу вам все.
Врач улыбается:
– Теперь ты говоришь!
Оба выходят из комнаты. Вздохнула свободно. Что случилось с Людмилой Александровной? Она мне не принесла питья и выглядит взволнованной. Мне кажется, что она очень боится этого человека. Когда дверь за ними закрылась, я услышала «громкий шепот». Открывается маленькая скважина в двери и сестра Поплавская просовывает свою голову:
– Они ушли? Можно зайти?
– Заходите, заходите, у меня ужасная жажда! У меня сухо во рту. И еще я хочу подсов.
Сестра радостно расхохоталась:
– Ты выздоравливаешь! Ты говоришь!
Другая сестра прибежала с горшком и знаменитым чаем. Поменяли мне простыни быстро и эффективно.
– Я умираю?
– А попочка твоя холодная?
– Я думаю, что нет. Я не посмотрела!
– Ну, так нет, не умираешь!
Успокаиваюсь. Когда все процедуры кончились, сестра села на мою кровать.
– Вам нельзя сидеть на моей кровати.
– Перестань болтать глупости! Кто этот человек?
– Понятия не имею.
– Как это ты не знаешь, ты же с ним разговаривала?
– Он выглядит врачом…
– Это я сама поняла. Он, наверно, будет главным врачом больницы?! Людмила Александровна боится его до смерти!
– Я не заметила, что она боится.
– Ты можешь себе представить, что он будет начальником этой больницы? Он же жид!
– Что вдруг, не жид! Почему жид?
Мое сердце перестает биться.
– Дурочка! Я видела на его рукаве!
– Что вы видели на его рукаве?
– Желтую звезду. Правда, маленькую, но желтую звезду!
– Так что? – отвечаю и чувствую, что я начинаю дрожать. – А что такое желтая звезда, что она означает? Это звание?
– Ты не знаешь, что это такое? Это постыдный знак! Это принесли сюда немцы, чтоб они сгорели!
Мне было приятно слышать этот эпитет. Понимаю, что она хорошо поняла всю историю. До сих пор не нашла у нее кроме доброго сердца никаких других качеств.
– Почему вы думаете, что эта желтая звезда показывает такие вещи?
– Как, ты это не знаешь? У вас в Кишиневе не было жидов?
– Были, но их не называли жидами, а просто евреями.
– Ты из «лучших» людей! Видно. Наверно, богатая. Папа был врач!
– Так что? Быть врачом означает, что ты хороший?
– Кто учится в университете? Кто вообще учится? Тот, кто имеет воспитание!
– Моя мама не была врачом, но у нее было воспитание. Вы не врач, но у вас есть воспитание.
– Конечно, у меня воспитание! Что за вопрос?! Я училась десять лет и читала все книги, и Петя тоже.
– Кто такой Петя?
– А-а-а! Ты много потеряла! Ты обязана, знать кто такой Петя! Петя он мой сын! Мой единственный сын. Он большой. Ему минуло пятнадцать. Он тяжело работает. Я скажу ему, чтобы он пришел тебя навестить.
– Нельзя ему, из-за тифа!
– Дурочка! Через неделю у тебя не будет никакого тифа и ты вернешься в родильную палату.
– Я очень рада. Я думала, что вы меня выбросили сюда, чтоб я замерзла.
– Что ты говоришь, глупая девочка. Просто не было другого места!
– Были роженицы?
– Были и еще как! Что, ты не слышала криков?
– Нечего не слышала. Ветер так выл за окнами, я ничего другого не слышала. И кроме этого я все время хочу спать. Когда вы будете меня мыть?
– Через неделю!
– Ой, почему, почему? Так долго? Через неделю? Я хочу сейчас!
– Тут очень холодно. Ты еще простудишься! Мы не хотим воспаления легких, кроме всего! Ты держись. Тебя ждет то, что тебя очень обрадует!
Сердцебиение.
– Это что такое? – спрашиваю с подозрением.
– Ты увидишь!
– Нет, скажите мне, скажите!
– У тебя отрасли волосы. Если нет вшей и гнид, оставим тебе твои волосы, и больше не будем брить.
– Никаких вшей у меня нет. А где живет этот румынский врач?
– Ого, ого! Целую квартиру ему дали! Ему дали! Ты должна видеть своими глазами, сколько коробок с едой он привез, сколько чемоданов с вещами. Наверно, там и лекарства. И все это для него.
– Что за лекарства?
– Наверно, такие, каких у нас нет! И кроме всего он боится, что у нас нечего есть!
– Он прав, у нас нечего есть.
– Теперь еще хуже, Таня, гораздо хуже. Нет у нас совсем денег.
– Скажите, а есть у него печки?
– Ого, ого! В каждой комнате печка и все печки горят в тоже время. Чтобы он не простудился, этот жид!
– Перестаньте с этим дурацким словом, это противно!
– Никогда ты не слышала этого слова? Ты уже большая.
– А может быть и слышала, но не заметила.
– А какой он? – обратилась снова с вопросами. – А это что за человек?
– Как я знаю?! Он выглядит не менее испуганным, чем вы из-за него.
– Людмила Александровна ходит за ним, как маленькая собачка за хозяином! И даже наша главная Софья Федоровна, то же самое!
– Я думаю, что вы ошибаетесь. Она великолепно справляется. А сколько времени он тут?
– Четыре дня. Он сует свой нос повсюду!
– Он был в кладовой?
– Ясно, первым долгом. Ведь он румын!
– Он говорил с ним, ну, с кладовщиком?
– Подлец, удрал, испугался.
– А что, кладовая была пуста?
– Всегда она пуста. Там все «усохло».
– А что значит усохло?
– Он так говорит, подлец. Мыло исчезает – усохло. Сало исчезает – усохло. Мука исчезает – рассыпалась. Ну, ты понимаешь, что значит усохло.
– А он что сказал?
– Я не слышала, но сестра Вера говорит, что он орал и потребовал наполнить кладовую как можно скорее всем, что нужно для больных.
– Но у нас нет денег! – говорю я.
– Не бойся, не волнуйся, он и румын и жид! Деньги будут!
– Вы знаете, я вдруг проголодалась.
– Здравствуйте мои родичи! Слава богу! Ребенок голоден! – она меня целует. – Нет больше тифа!
Она выбегает, чтобы принести мне еду. Через час являются все. Три сестры, Софья Федоровна – главная, и Людмила Александровна за ней. Все они появляются с полными тарелками, питье и конфеты!!!
– Все это оставили тебе роженицы, они о тебе знают во всех деревнях вокруг, и они хотят возместить тебе за потерю родителей и тяжелую болезнь. А кроме всего не забывай, что теперь пасха и ты обязана начать рисовать на яйцах!
– Надо чтоб были яйца!
– Не бойся, на каждое яйцо, которое они принесут, одно будет для тебя.
– Я вижу себя погребенную под грудой яиц!– я смеюсь и плачу.
– Не надо преувеличивать, – говорит Софья Федоровна. – Пока я тут главная, я не верю, что могут быть груды яиц в каком-нибудь месте!
– Вы знаете, я так вас всех люблю. Вы теперь моя семья.
– А у тебя была большая семья? – спрашивает Вера.
Первый раз меня спрашивают о моей семье. Я молчу, а слезы текут у меня из глаз. Это первые слезы, которые я себе позволила после смерти родителей и бабушки.
– Не большая, но любимая. Пусть будет им земля пухом!
Сестры и врачи перекрестились и тоже уронили слезу.
14.
Рассказ еще не закончился. Он, в общем, только начался. Во всей больнице была суматоха. Все говорили о румынском враче. Не знали, кто он такой, но все верили, что его присутствие очень странное и очень опасное. Я смотрела на его лицо, когда старалась перевести для него слова Людмилы Александровны. Казалось, что он тоже очень стеснен. Этому человеку, наверно, было под сорок. Так я его видела, и казалось, что он никогда в своей жизни не попадал в такую ситуацию: играть роль румынского офицера с большими правами, в совершенно незнакомом ему мире, очень неясном и иногда подозрительном. Подозрение витало над его головой, в особенности в глазах сестер и Людмилы Александровны. Сегодня я уверена: больше всего, что он просто умирал от страха.
На его рукаве видна издалека, выделяясь, желтая звезда! Эта звезда была знакома мне, я не могла связать это с чем-то особенным. Наверно, я видела эту звезду на рукавах евреев в гетто Кишинева, но не имела понятия, что она из себя представляет. Этот человек интересовался всем, что происходило в больнице. Он задавал бесконечное количество вопросов о политических убеждениях персонала, и самое смешное, почему нет мужчин. Кладовщик не был в его глазах мужчиной! Людмила Александровна не совсем смогла ответить ему и обратилась ко мне по-русски:
– Танюшка, сформулируй этот ответ, пожалуйста, элегантнее.
Я старалась стушевать все, что она хотела, чтобы осталось в тумане. Например, то, что персонал думает о румынской армии и вообще об их власти. Он все-таки настаивал, чтоб ему объяснили, каким образом исчезают медицинские инструменты, пища больных и дрова для отопления. Ясно, что я не могла ответить на эти вопросы, а Людмиле Александровне было очень тяжело сказать мне, что передать ему.
Почти каждое утро входил этот врач в мою палату и мешал мне кушать мою скудную трапезу, которую приносила Элли. Мне было очень стыдно и неприятно есть в его присутствие моими отмороженными руками. Я его ненавидела за его отсутствие чувствительности и его грубый характер, например, залезать в жизнь больной девочки и морочить ей голову каждый божий день. Именно во время этого несчастного завтрака, единственной еды, которая была у этого ребенка. Он засыпал меня вопросами, на которые я не могла ему ответить, потому что у меня не было и малейшего понятия, о чем он говорит. А самое ужасное, он клал знаменитую тарелку хрустальной Элли мне на живот, тщательно вытирал мой стол-стул своим белейшим платком и усаживался там очень комфортабельно и давал мне понять, что он никогда оттуда не уйдет. Я со своей стороны очень хотела избавиться от него и главное, чтобы он дал мне возможность спокойно позавтракать. И кроме всего этого мне было очень важно, чтобы сестры не думали, что у меня с ним какие-то тайные разговоры. Я попросила сестру, чтобы она сказала ему, что мне нужен горшок, чтобы выбросить его из комнаты.
– Ты действительно хочешь горшок или это театр? – спросила меня она.
– Конечно театр. Я хочу, чтобы он ушел!
– Что он хочет знать?
– Все!
– О чем?
– Обо мне, о вас, о кладовщике, кто крадет, кто не крадет, как работают врачи, кто из пациентов приходит и откуда деньги в больнице.
– А как ты отвечаешь?
– Понятия не имею. Что я могу сказать? Абсолютно ничего не знаю! Вытащите его отсюда. Скажите ему что-нибудь… ну… например… что вы хотите переменить мне белье, например… что я должна получить укол.
– О нет, нет, нет, нет. Ни за что не укол! Он захочет тебе сделать укол сам и тогда мы погибли.
– Сестра Поплавская, я вас умоляю! Я устала, я голодна, я его ненавижу!
Странно – говорю себе сама, он ничего не чувствует, он ничего не видит. То, что мы абсолютно не хотим с ним разговаривать? Вдруг я все понимаю, наверно он послан шпионить за нами. Кровь застывает в моих венах.
Перед вечером, когда зажгли свет в больнице, свечи и керосиновые лампы, потому что электричество пока не работало – открывается дверь и золотая головка моей красивой Людмилы Александровны появляется на пороге с чудной улыбкой на губах:
– Можно зайти, Танечка?
– Да, да, заходите. Я вам все расскажу, я все знаю! Он шпион! Настоящий шпион! Армия послала его шпионить за вами и за Софьей Федоровной.
– Я не понимаю зачем, какая цель?
– Я не знаю что за цель, но мне совершенно ясно, что его послала армия посмотреть, что происходит у «нас» в больнице. Я понимаю, он думает, что мы продаем оборудование и лекарства в нашу личную пользу.
– Это даже очень прозрачно, но все-таки это еще не оправдывает его постоянное пребывание здесь? Кроме всех этих разговоров он даже не подходит к больным. Я думаю, что он боится заразиться.
– Трус, – я возвещаю. – Жалкий трус! Я больше не буду с ним разговаривать.
– Наоборот, Таня. Начни задавать ему разные вопросы о нем. О его семье, о его детях, о его происхождении.
– Вы хотите, чтоб я шпионила за ним?
– Давай не будем называть это громкими именами, но все-таки да, что-то в этом роде.
– Понимаю намек! Понимаю! Я буду Шерлоком Холмсом! – торжественно заявляю я.
Людмила Александровна брызнула смехом:
– Ты что-то особенное, моя девочка. Я знала, что можно на тебя положиться.
Она поцеловала меня в лоб и вышла из комнаты.
Однажды вечером, после традиционного чая, морковного чая с куском черного хлеба, заходит врач в мою комнату – не было роженицы – и спрашивает:
– Как ты думаешь насчет пойти ко мне кушать коржики и пить настоящий чай?
– Вы смеетесь надо мной?! Такого не существует, настоящий чай и еще коржики! Я не видела коржиков с тех пор, как я оставила Кишинев.
– Ты из Бесарабии? Как ты сюда попала? А когда?
Я молчу. Через минуту я отвечаю:
– Я не помню когда, я не помню как. Я была больна. Была война, бомбы. Все умерли, папа, мама и бабушка, все умерли?
– Кто-то их убил?
Я взорвалась от смеха. Он меня спрашивает:
– Почему ты смеешься?
– Вы забыли, что вы говорили раньше, что вы мне обещали?
– Что? Что?
– Ну, чай и коржики!
Он смеется.
– Я виноват. Я принесу коляску и перевезу тебя в мою комнату, там тепло, приятно, и я спрошу тебя кое о чем.
– Хорошо, – говорю я.
Он завез коляску в его комнату, открыл дверь и тепло и запах папирос окружили меня и оставили меня в полном недоумении. Было что-то знакомое в этих запахах. Он знал, что я соглашусь придти к нему! На столе все было приготовлено с самого начала, красивая коробка с настоящим чаем, я помню эту коробку из дому, китайская коробка! Горячие коржики, запах коржиков! Кто это ему печет? На больничной кухне? Что за лесть? У меня рот полон слюны. Он мне наливает настоящий чай, и от запаха у меня кружится голова. Я смотрю на застеленный белоснежной скатертью стол, на тарелочки с цветочками! «Боже мой! – думаю я. – Боже мой! Что теперь делать?» Рот у меня полон слюны, я не хочу, чтобы он видел. Я глотаю слюну. Он наливает мне чай, я онемела. Чай кипит. Я обжигаю губы. Я боюсь, что стакан выпадет из моих несчастных пальцев, и это будет ужасный стыд. Лицо моей мамы появляется у меня перед глазами:
– Сиди прямо! Не хлюпай, когда ты пьешь! Перестань плакать!
Я знаю, что мама права, но я не могу перестать плакать.
– Ты еврейка, как и я, – говорит он. – Правда?
Я молчу, не могу говорить.
– Я объясню тебе, – говорит он. – Все евреи из Бесарабии были рассеяны, исчезли и в большем случае были убиты. Тысячи детей как ты замерзли в снегу. От меня ты не можешь ничего скрыть. Я тебе не сделаю ничего плохого. Я не открою ничего никому. Я офицер в румынской армии. Я поставлен быть военным врачом в этой больнице, и абсолютно ничего не понимаю, что мне надо тут делать. Я вижу, что все меня страшно боятся, но я не могу объяснить им то, что я тебе говорю. Ты очень маленькая девочка, но у тебя «старая голова». Ты понимаешь гораздо больше, чем девочка в твоем возрасте могла бы понять. Я оставляю свой секрет в твоих маленьких несчастных ручках. Верь мне, что я ничего плохого тебе не сделаю.
– Я вам не верю. Вы румын, еврей не может быть офицером! Нет такого! Мой папа был врачом, и он не был евреем, только мужем еврейки, и его не послали в больницу на Украине, его убили пулей! А вас, вас послали с тонной еды и всякими яствами сидеть в несчастной больнице главным, офицером оккупации. Терроризировать нас и шпионить за этими несчастными людьми. Я их люблю!
Я кончила говорить с чувством победы. Человек сидел с опущенной головой с несчастным выражением лица, его чай остыл.
– Девочка – говорит он, – не суди меня так скоро. Это правда, что все эти роли я должен исполнить в этой больнице, но у меня нет никакого желания шпионить за этими несчастными людьми.
– Они засадят вам пулю в голову, если вы скажите им, то, что вы говорите мне.
– Да, – отвечает он. – Да. Кроме всего этого я еврей, и это ужасно! Я не знаю, как я вылезу из этого положения.
– Это ваше дело, – говорю. – Верните меня в мою кровать и скорее.
– Хорошо, а что с чаем и с коржиками?
– Как-нибудь в другой раз, – и мое сердце сжимается от жалости к потерянным коржикам.
– Я согласен, – говорит он. – Верну тебя в кровать, но никому не рассказывай о содержании этого разговора.
– Что за секрет, – говорю я. – У вас же на рукаве желтая звезда, все видели это.
– Я знаю, я надеялся, что они не поймут.
Я решила пойти на компромисс. Я понимаю, что надо с ним заключить договор. Что сказать и что не говорить, не смотря на презрение, которое я чувствовала. Оглядываясь назад, я вижу, что была маленькой перепуганной девочкой, которая пыталась справиться со своим жалким положением с помощью героических теорий, которыми полна литература. В сущности, я не поняла, как я должна себя вести. Результат был – дерзость. Румынский врач мне показался убогим, с его коржиками, с его настоящим чаем. Он меня не удивил, наоборот. Я все-таки хочу избавиться от него.
– Я тебя отвезу к твоей кроватке, в твою комнату, но я все-таки прошу тебя ничего никому не рассказывать о нашей беседе. Я сохраню твой секрет.
– У меня нет никаких секретов! Все, что вы говорите о себе, это ваше личное дело, то, что я говорю о моих делах, это мое, все! Вы согласны?
После некоторого колебания, он говорит:
– Я согласен.
Он протягивает мне руку и спрашивает:
– Друзья?
Я молчу.
Он отвозит меня в мою комнату и закрывает дверь тихо-тихо. После этого я плакала всю ночь.
15.
Прошло много дней. Доктор ко мне не заходил, только главврач проведывала меня несколько раз, чтобы посмотреть на состояние моих рук и ног. Я ее очень уважала и видела, что она находится под давлением.
– Как состояние моих ног!– спросила я. – Я могу уже ходить?
– Смотри, Таня, снаружи еще холодно, ветер и грязь. Не стоит туда выходить. Так что лежи в кровати, пока нет необходимости вставать.
Мое сердце сильно забилось. Я поняла, что что-то происходит за кулисами.
– Вас спрашивали власти о надобности содержания меня в больнице? И вообще интересуются моей судьбой и мною?
Она смутилась, и я замечаю, что ей не удобно. Я почувствовала волну тошноты, и сердце продолжало сильно биться.
– Да,– сказала она с сомнением. – Они хотели с тобой поговорить.
– Так почему они не поговорили?
– Они поговорили, но с румынским доктором. Сейчас связь с ними проходит только через него.
– Я уже не должна переводить?
– Пока он здесь, ты можешь быть спокойна.
– В каком смысле?
– Таня, ты задаешь слишком много вопросов! Пока ты в этой кровати, я отвечаю за тебя!
– Спасибо, но разве нет больше больных солдат?
– Есть. Но «он» о них заботится,– когда говорят о румынском враче, всегда употребляют только «он». – Скажи мне, Таня, ты с ним разговаривала?
– Да, он отвез меня в свою комнату, дал мне настоящий чай и даже коржики!
– Прекрасно! Я рада, что хотя бы он добр к тебе. Он рассказал тебе что-нибудь о себе?
– Нет, нет.
– Он сказал тебе, что он еврей?
Софья Федоровна не использовала слово жид.
– Почти нет, потому что я и не спрашивала.
– Что ты думаешь об этом человеке?
– Ничего особенного, он военный врач.
– Он добрый? Он приятный?
– Я знаю? Я не ела его коржики.
– Почему? Они не были вкусные? Мы выпекли их в нашей пекарне для него.
– У вас есть пекарня? – я спросила с возмущением. – И хлеб вы печете?
– Да, и хлеб.
– Тогда почему он так крошится?
– Ты не поймешь. Это зависит от составляющих. Сколько муки и сколько отрубей кладут в хлеб.
– Но, Софья Федоровна, почему кладут отруби в хлеб?
– Таня! Сейчас мы учим урок про хлеб?
– Хорошо, хорошо. Недостаточно муки.
Я вижу, что она теряет терпение и хочет закончить разговор, спрашиваю ее прямой вопрос:
– Софья Федоровна, куда я пойду, когда смогу ходить?
– О, до этого еще много времени. Не волнуйся. Все хотят взять тебя домой.
Она погладила меня по голове и ушла. Я поняла, что перешла все границы. У меня была сильная тошнота.
Через несколько дней, когда прибыла роженица в сопровождении заботы, криков и молитв акушерки, опять стало интересно. Снова появились сопровождающие, связки с горячей хорошей едой. Запахи наполнили нашу маленькую комнатку. Рождение, скорей всего, очень важное дело. Все было очень интересно. Снова обогрели комнату. Мне кажется, что был апрель. Снег почти полностью растаял. Украинская грязь захватила дороги. Все, кто входили в нашу комнату, снимали свой сапоги около внешней двери для того, чтобы не запачкать пол. Сестры заявляли, что комната «стерильная».
Вдруг что-то случилось в коридоре. Крики.
– Куда поместим маленькую девочку? Куда?
– В родильную?
– Может в большую комнату?
– Ни в коем случае не в большую, она там замерзнет. Там всегда только тиф. Это комната заразных болезней, ты разве этого не знаешь?
Голос главной, Софьи Федоровны, тихий и властный.
– Успокойтесь! Переведите ее в комнату Тани.
«А!– сказала я себе.– Какая прелесть! Здесь будет девочка!»
Акушерка стояла в двери, вся красная, потная, взволнованная и кричит:
– Маленькая четырехлетняя девочка, какая сладкая девочка. Поставим тут кровать, рядом с Танечкой, чтобы она смогла за ней приглядывать.
Меня сделали сиделкой, сказала я себе с гордостью.
Принесли кровать, белые простыни. Большая редкость: почти все белье было темно-серого цвета. «Он», наверно, не давал мыло для стирки. Вносят маленькую девочку, очень маленькую, всю в рыжих кудряшках. Ее кладут под одеяло и говорят:
– Все что тебе будет нужно, говори Тане.
По ее взгляду, я понимаю, что эта маленькая девочка в ужасе. Она не понимает, что ей говорят. Ситуация начала усложнятся. В это время из комнаты вывели людей, потому что акушерка делала знаки, наверно, опасные – приближаются роды. Я стала большим специалистом в этом. Крики роженицы и гораздо более убедительные крики акушерки. Все это пугало крошку. Она начала плакать. Сразу же рядом с ней села одна из женщин, которые находились в комнате, и обняла ее. Девочка начала успокаиваться. Я начинаю плакать. Это были слезы ревности.
После того как новорожденный вышел на свет божий, он взорвался ужасными криками, сопровождаемыми счастливым смехом всего окружения.
– Поздравляем! Поздравляем!
Целуют роженицу, новорожденного, забывают маленькую девочку и, конечно же, и меня. Счастье всех участников представления измерялось громкостью криков, которые сопровождали роды. Все это было мне знакомо и уже не интересно. Свертки, белые с «ушками», распространяли сводящие с ума запахи. Мой рот наполнился слюной. Эти запахи мне знакомы с кухни моей бабушки. Моя бабушка дирижировала приготовлением еды в нашем доме.
Мое внимание сосредоточилось на лице малышки. Рыженькая. Большие карие глаза. Маленький носик и круглый рот. Малюсенькие ручки, покрытые коричневой коркой, так знакомой мне. Слава богу, что я от них совершенно избавилась. Кажется, ее руки замерзли, так же как и мои. Вопрос, где это произошло и когда? Похоже, что эта девочка пришла не из Бессарабских колонн, а из какого-то местного изгнания. Прошло много времени с тех пор, как нас выгнали. С тех пор прошло два рождества, а теперь уже Пасха. Интересно, снег и иней не хотели нас оставлять. Эта девочка, наверно, замерзла после Рождества, но она была в каком-то другом месте. Вопрос только, в каком?
Сопровождающие роженицу, наконец, вышли из комнаты, и акушерка положила младенца в маленькую коляску с подушками. Пришла очередь малышки! Сестры вошли вдвоем: сестра Поплавская и Вера. Обе сочувственно всплакнули, гладили крошку по голове и спросили:
– Как тебя зовут? Как тебя зовут?
Они заслоняли ее лицо так, что я не могла его видеть, но слышала тонкий и звонкий голосок.
– А-ню-та!
Всеобщее восхищение.
– Анюта! Анюта! – повторяли сестры и целовали ее.
Вдруг неожиданность.
– Я не евр-р-р-рейка! – говорит Анюта.
Гортанный звук «ррр». Катастрофа. Происхождение Анюты ясно. Я превратилась в каменный столб. Настоящая катастрофа. Как мы это переживем?!
Я испугалась! Очень испугалась. Сразу же подумала, что со мной случится в создавшейся ситуации. Я сказала себе: в этой больнице теперь три еврея: я, румынский доктор, а теперь еще и эта рыженькая девочка в веснушках. Маленькая куколка. Где она была до этого? Похоже, что и она мерзла в снегах. Ее маленькие сладкие ручки были покрыты сухой коркой кожи, которая отпадет со временем. Это так трудно – использовать одеревеневшие руки. Я это испытала на себе. Я избавилась от этих корочек только месяц назад или два. Мои руки в хорошем состоянии. Я могу рисовать, писать и держать вилку. Но, самое важное, это то, что я могу переворачивать листы в бесконечных книгах. Я читала днем и ночью. Кстати, румынский врач тоже принес мне книгу. Он считал, что эта книга подходит мне по возрасту. Было довольно сложно читать ее из-за языка. Вообще я считала себя взрослой, потому что читала только взрослые книги. Книги, которые приходили ко мне с больничного чердака, были очень разные. Например: история русской революции; Достоевский – собрание сочинений; Золя – собрание сочинений; Бальзак – собрание сочинений. Впечатляет, нет? Очень разнообразная тематика. Их литературную глубину не всегда я могла понять. В общем-то, у меня такое впечатление, что бесконечное чтение на протяжении более чем года что-то таки сделала. Я училась думать, размышлять, становилась не по возрасту развитой девочкой.
Я думала, что румынскому врачу надо посмотреть крошку, а я смогу спросить его, как можно скрыть ее происхождение. Несмотря на то, что я не выносила доктора из-за его двуличности. Он верен врагу и себе как еврей? Мои суждения слишком резки. Хорошо или плохо. Середины нет! Я знаю, что он разберет ситуацию лучше, чем я. Так что делать? Я позвала сестру Поплавскую, мою большую подругу, специалиста по сплетням. Я посоветовалась с ней по поводу Анюты.
– Что делать? Спросить доктора или нет?
– Да, надо спросить этого жида, что делать с малышкой, чтобы полицаи не утащили ее сразу в гетто. Там она не выживет.
– А…
Гром посреди ясного неба! Есть гетто в Любашевке? Что такое гетто?
– Гетто – это немецкое слово. Я не знаю, что это означает. Это что-то похожее на тюрьму. Ой-ой-ой какая тюрьма. Любашевка почти город. Скажем, очень большая деревня. В этой тюрьме только жиды.
– Вы их видели?
– Не дай бог! Я не видела таких вещей и не хочу!
– Так что вы думаете? Спрашивать его или нет? Да? Нет?
– Спроси его. Этот жид очень любопытный! Он все знает. Кроме того, малютка из его породы. Тоже маленькая жидовка.
– Хорошо. Скажите ему, что я прошу его зайти ко мне. У меня есть несколько вопросов.
Когда она вышла, я подумала, что со мной произойдет, если они узнают, что я тоже маленькая жидовка. Дверь открылась, и румынский врач вошел во всей красе, в мундире и с широкой улыбкой. Он подошел к маленькой девочке, потрепал ее за щеку, сказал ей что-то на румынском и вытащил из кармана конфету, как я и думала.
– Какая прекрасная малышка! Теперь у тебя есть новая подруга. Ты довольна?
Я не знала, что ответить. Теперь я боялась за нас обеих. Сестра Поплавская «приклеилась к его хвосту» и слушала все, что он говорил. Понятно, что нам нельзя было говорить. Даже на румынском могли проскочить опасные для меня слова, пища для размышлений для этой сестры-сплетницы. Румынский врач сразу понял ситуацию. Он не идиот, подумала я. Весь в улыбках, он вытащил стетоскоп и проверил грудь крохи.
– В легких ничего нет, – сказал мне. – Сердце в порядке. Через месяц-два можно будет отправить ее домой.
Я не знала, что и сказать. В присутствии сестры я не хотела говорить ему, что девочка еврейка, то, что было всем очевидно с того момента, как она открыла свой сладкий ротик и стала перекатывать «р-р-р-р-р..». Что делать? Как ему намекнуть?
Вдруг меня осенило:
– Ты знаешь, – сказала по-румынски. – Эта девочка похожа на тебя.
– Чего? Она ведь рыжая, а я черный!
– Но она из той же расы.
– А, это серьезная проблема. Об этом надо подумать.
Слово «раса» видимо было знакомо сестре. Она посмотрела на меня, улыбнулась и подмигнула.
– Понимающий – поймет! – сказала она по-русски.
Все время разговора девочка лежала на кровати с широко раскрытыми глазами.
– Сколько тебе лет? – спросила сестра.
– Мне четы-р-р-р-е.
– Большая и красивая девочка! – сказала сестра и поцеловала ее.
Доброе сердце было у сестры Поплавской.
– Знаешь, Танечка, ты уже можешь прогуляться вокруг нашего города. Скажи ему. Скажи ему сейчас, что тебе уже можно выехать в коляске, но не сходить с нее, и посмотреть все, что ты хочешь.
Акушерка вернулась с коляской. Она слышала последнее предложение сестры.
– Замечательно! Прекрасно! Скажи, скажи ему, что я покажу тебе нашу красивую церковь! Ты сможешь помолиться за здравие малютки! Ты уже выздоравливаешь, слава богу! Ты обязана, помолится богу и поблагодарить его за то, что ты уже можешь ходить.
– Я еще никуда не выхожу! Софья Федоровна сказала, что мне еще нельзя.
– А-а-а… – сказала сестра. – Софья Федоровна знает, что говорит. Она главная.
Румынский врач посмотрел на меня и подмигнул. Я испугалась. Что он имел в виду? Он знает? Он уверен, что я тоже? Он принесет нам беду!
На следующее утро Анюта заинтересовалась мной, но в основном ее заинтересовала Элли и сверток с завтраком. Это выражалось в одном единственном, но очень значащем слове: яйцо!
– Я хочу яйцо!
Элли встала напротив ее кровати, посмотрела на нас своим холодным серым взглядом и сказала:
– Боже мой, еще один рот, который надо кормить! До каких пор будет продолжаться это издевательство? Вы что думаете, что я ваша прислуга?
Помолчав секунду, я решила:
– Элли, не надо ничего приносить завтра, и вообще не надо. Спасибо тебе, ты можешь идти.
– Спасибо тебе! – сказала Элли, и вышла, хлопнув дверью.
Анюта почти все время спала, и просыпалась только тогда, когда просила позвать сестру.
– Таня, пи-пи!
Или:
– Таня, хлеб!
Так это продолжалось несколько недель. Я привыкла к Анюте. Она была удивительно умная. Она умела молчать. Не говорить опасных вещей. Ее чувства были очень обостренны, как у маленького звереныша. Я спрашивала себя, знакомить ли ее с мышатами. Я думала, что это может быть ей очень интересно, но я боялась, что она испугается и закричит, сестры обнаружат мышат и отравят их. Еще одна забота!
После нескольких недель совместного проживания, я начала очень симпатизировать малышке. Я видела, что и она меня любит. Однажды она сказала:
– Таня, у тебя есть сестра?
– Нет!
– Я буду твоей сестрой, чтобы тебе не было скучно!
Это очень тронуло меня. Мне кажется, что и я привязалась к Анюте.
Доктор часто заходил проверить дыхание, принося с собой конфеты для нас обеих. Моя астма усилилась. Во время приступов он делал мне укол. Ингаляторов не было, никто и не знал об их существовании. Лечение астмы – единственное – заключалось в ведении сосудорасширяющих препаратов. Тяжело поверить, но я каждый раз слышала слово «адреналин». Это объясняет сумасшедшее сердцебиение, которое появлялось после укола. Дыхание освобождалось и настроение поднималось. Я прекрасно дышала! Доктор подчеркивал, что эти уколы его имущество. Он говорил это, как будто ожидал, что я его поблагодарю. Я ничего не сказала. Людмила Александровна и Софья Федоровна знали о моей астме, но их способы были очень примитивные: взять бумажный пакет, заполнить воздухом, вдохнуть весь воздух и снова его наполнить. Снова и снова. У меня не очень получалось это сделать. Я полюбила уколы адреналина, несмотря на сердцебиение. Но после этого я не могла заснуть всю ночь.
Однажды я начала плакать. Я хотела спать, но не могла. Сестра разбудила доктора. Все же было преимущество в том, что он жил в больнице. Доктор пришел с другим уколом и сказал:
– Это морфий! Это тоже мое!
– Я теперь засну?
– Сама увидишь! – говорил он победным голосом.
И действительно! Так и было, но мои просьбы морфия участились. После морфия мир казался прекрасным. Когда остальные врачи узнали о процедурах румынского доктора, они запретили ему давать мне эти препараты. Он очень обиделся, потому что ставили под сомнение его врачебные способности. Тогда в картину вошла хорошая и добродетельная акушерка. Когда она услышала от сестер, что мне дают от астмы, она, конечно же, помолилась шестнадцать раз, перекрестилась пятьдесят, и в следующий раз принесла мне сушеную траву, которую давали мне пить как чай. О чудо – астма пропала на какое-то время.
Чтобы как-то компенсировать обиду румынского доктора – как это поменять его чудесное лечение какими-то «вонючими травами», как он называл народные лекарства, – было единогласно решено, что меня надо вывезти на коляске на свежий воздух. Они решили обратиться к доктору за помощью.
– Девочка не дышит! Она должна дышать воздухом! – говорили они.
Обе были одного мнения. Людмила Александровна попросила доктора запрячь свою коляску. Армия предоставила ему коляску и кучера. Они предложили доктору прокатить меня за городом и ни в коем случае не в городе. Он полностью согласился. Я очень боялась этого момента.
В одно утро зашел в палату доктор и победно заявил:
– Я приведу коляску. Скажи сестрам, чтобы они тебя одели в твои теплые вещи. Я беру тебя на прогулку!
Он позвал сестер и попросил меня перевести им его слова. Сестры посчитали эту идею прекрасной.
– Таня, – сказала сестра Поплавская. – Он дурак, дурак, но у него есть сердце, есть!
Оказалось, что кроме железного креста Тани, все вещи были сожжены в тот день, когда я поступила в больницу, перед прошлым рождеством. Все было полно вшей, грязное и порванное. Обуви не было.
– Не страшно, – сказали добрые женщины. – За час мы оденем тебя, как куклу.
Одна принесла теплое пальто, заполненное ватой. На ноги нашли закрытые туфли, очень большие для меня. Внутрь положили вату, для того чтобы я смогла наступать. Теплое и чистое нижнее белье принесли из кладовой. Вот я, прекрасно одетая. Только шапки не было. Чтобы исправить ситуацию, мне сказали выйти в коридор и подождать пока, кто-нибудь принесет мне головной платок, и я буду красивая.
Доктор ушел собираться, сестры исчезли, а я вышла в коридор. Первый раз за долгое время я стояла своими ногами на полу! Большое событие! Огромное! Какая прелесть! Я стою…
Я передвигаю правую ногу. Я передвигаю левую ногу. Держусь за ручку двери. Я дрожу, я открываю дверь. Повезло, что дверь близко. Дверь открывается. Коридор. Большие часы над столом сестер. Коридор пуст. Я держусь за стену, чтобы не упасть, ноги еще слабы. Очень слабы. Я смотрю в конец коридора. Напротив себя я вижу большую девочку, высокую, очень высокую. Кто это? Новенькая? Я понемногу продвигаюсь к ней, она идет ко мне. Это я! Как такое может быть?! Черные волосы! Но ведь у меня светлые! Боже, это я? Я волнуюсь, я шатаюсь. Я чувствую, что вот-вот упаду. Я пытаюсь удержаться за стену, но соскальзываю… Кто-то меня ловит сзади.
– Глупенькая, – говорит доктор. – Тебе нельзя выходить одной. Давай, садись в это кресло. Я пойду, приведу коляску.
– Доктор, – я кричу. – Я не хочу ехать!
Он меня не слышит. Выходит и сразу же возвращается с коляской. У меня нет времени убежать. Что же делать? Он аккуратно усаживает меня в коляску. Он одет в шинель и шапку. Я должна сказать, что он очень красив. Некуда бежать. Все потерянно.
– У меня нет головного платка! – я заявляю. – Подождем, пока принесут.
Он снимает свою меховую шапку и силой одевает ее на меня. Я утопаю в мехе. Он весело смеется. Все потерянно.
Вдруг за нами выбегает сестра Поплавская.
– Нашла! Нашла! Твоя красная шерстяная шапочка! Мы ее выстирали и сохранили. Она как новая. Сними эту глупость со своей головы! – кричит сестра.
Доктор понимает, в чем дело снимает этот ужас с моей головы. Он продолжает смеяться. Теперь и я смеюсь. И сестра смеется. Она завязывает мне шапочку под подбородком и говорит волшебную фразу:
– Ты красная шапочка!
Сразу же я вижу перед собой папу. Мы выходим, он меня поднимает и сажает в красивую повозку, почти такую же, как у моего деда. Доктор садится рядом со мной, обнимает меня левой рукой и говорит:
– Поехали!
Мы едем.
16.
Дорога, как всегда, полна грязи. Колеса коляски разбрызгивают грязь по сторонам. На нас тоже попадает. Доктор закрывает крышу коляски. Дождь. Я заворожена. Воздух. По обеим сторонам дороги все зеленое. Несмотря на холод, тут и там пробиваются белые цветы, названия которых я не знаю, между кустами, которые выпустили почки. Холмы. Чудесное небо. Немного облаков, немного солнца. Немного ветра. Все вместе. Мне тепло и хорошо. Как же красиво снаружи. Так бы и ехала без конца. Если бы у нас была такая коляска, когда мы вышли из Кишинева, то папа и мама были бы живы. Опять слезы.
– Почему ты плачешь? – спрашивает врач.
– Я не плачу.
– Тогда почему это мокрое?
– Из-за дождя – отвечаю я.
Мне кажется, что он понимает, что надо меня оставить в покое. Поездка не продолжается долго. Только два часа. Первые дома деревни показались издалека. Красные крыши.
– Это, конечно же, не деревня Нестоито, – я говорю.
– Почему ты так думаешь?
– В Нестоито живут цыгане, и у них нет денег на красные черепичные крыши.
– Откуда ты это знаешь?
– Естественно я знаю!
Кучер останавливается около дома и спрашивает у толстой женщины, которая кормит кур во дворе:
– Где живет цыган?
– Какой цыган? Здесь все цыгане.
Кучер меня спрашивает:
– Как его зовут?
– Я не знаю, его дочь зовут Таня.
– А, а. Я помню. Зимой к нему пришли старуха и эта девочка. Да, да. Петро. Петро. Я знаю кто это. Старуха там умерла.
– Моя мама не была старухой! – я заявляю.
– Но ты та девочка. Я помню тебя из-за шапочки.
Она объясняет кучеру дорогу. Я вся сжалась. Дорога вымощена камнями. Коляска подпрыгивает. Я полна страха. «Что будет если, цыганка Таня умерла?» – я спрашиваю себя. Она болела тифом.
– Подожди, подожди! – говорю я кучеру. – Помедленнее. Я хочу узнать дом.
Вообще-то я хотела увидеть издалека, может, Таня во дворе. Мы понемногу приближаемся.
Пес! Самый бедный дом во всей деревне с соломенной крышей. Я хочу спуститься с повозки и почти падаю. Доктор спрыгивает и поддерживает меня. Я тащу себя до забора.
– Пес! Он меня знает! Он меня облизывает!
– Пошли уже, пошли.
Доктор тянет меня за руку к входу. Я задерживаюсь. Пес рычит на врача. Доктор пугается. Пес лает. Открывается дверь. Быстро выходит женщина в длинном черном пальто. Пальто моей мамы. Женщина хлопает в ладоши.
– Ой, ой, ой! Это Таня! С румыном, ой, ой, ой. Она привела к нам румына. Что же она с нами сделала? Петро, Петро!
Мой цыган бежит ко мне, не обращая внимания на моего страшного спутника. Целует меня, обнимает. Я плачу. Он плачет. Женщина плачет. Мы все обнимаемся.
– Где Таня? Где ваша дочь? – я спрашиваю.
– Танька, Танька, Танька! – они кричат в один голос.
Она выходит ко мне. Красивая девочка с двумя черными до пояса косичками.
– Маленькая Танюша, – говорит она мне.
– Я не маленькая, – я заявляю. – Мне двенадцать!
– А мне тринадцать! – она говорит мне с гордостью.
– Но твой папа сказал, что тебе столько же, сколько мне.
Румынский офицер позабыт во дворе. Ничего не понимающий. Ко мне выбегают трое детей. Я спрашиваю:
– Где были дети, когда я тут была?
– А, – говорит жена цыгана. – Как она все помнит! Они все были у соседей, потому что Таня болела тифом.
Мы заходим в дом. Знакомый запах окружает меня. Хлеб в печи.
– О! – говорю я. – Хлеб в печи!
– Сейчас дадим тебе хлеба, маленькая Танюша.
Объятия и слезы. Кто-то вспоминает о румыне, оставленном во дворе. Когда он заходит, меня спрашивают по-русски:
– Кто этот страшный офицер?
– Он врач в больнице в Любашевке. Я все время была там. После того как я прошла несколько деревень, у меня замерзли ноги, совсем замерзли, и я не могла сдвинуться с кровати. Только сегодня утром я встала и вот я здесь!
– Но мы же тебе дали танины валенки?!
– У меня их украли.
Я им не рассказала весь ужас.
– Переведи мне, – говорит доктор.
– Потом. Вы говорите по-румынски? – я спрашиваю.
– Я хорошо знаю румынский, – говорит мне цыган.
– Тогда, пожалуйста, поговорите с ним на румынском, и скажи только, что я и моя мама тут были, когда Таня болела тифом, но не говори, откуда мы пришли.
– Он не знает?
– Он ничего не знает.
– Очень хорошо! Очень хорошо, прекрасно. Садитесь пить чай.
Мы садимся за стол. Сразу же появляются всякие угощения. Горячая мамалыга, круглая и желтая, вызывающая аппетит, сыр, масло, соленые огурцы и, конечно же, морковный чай. Я смотрю на доктора и говорю:
– Садись кушать с нами. Это хорошие люди, любящие.
– Я вижу, но я не голоден.
– Ничего подобного, – я говорю. – Сядь!
Цыган обращается к нему на румынском:
– Пожалуйста, садитесь, господин офицер.
Его усаживают во главе стола.
– А что с кучером, – я спрашиваю – бедный на улице.
– Я его позову, – говорит сын.
– Нет, – говорит офицер. – Он не будет есть со мной за одним столом!
– Тогда и я не буду есть! – говорю я.
Сын цыгана пронзил офицера черным взглядом и позвал кучера к празднику. Вместе с едой появилась домашняя водка, с особенным ароматом. Не достаточно очищенная, но водка.
– Наша Таня пьет водку, – говорит цыган. – А ты?
– Я? Нет.
– Почему?
– Я еще не завтракала.
– Сейчас же ешь!
Мы все выпили водки. За здоровье. Водка меня разогрела, и у меня стало приподнятое настроение. Я не помню точно разговор, который велся там, но они точно не говорили о происхождении моей мамы и меня. Дочка сидела рядом со мной, обнимала меня и гладила крест на моей шее.
– Это мой крест тебя спас, правда, Таня?
Мы обе плакали.
– Твой папа меня спас, – отвечаю я.
Вдруг цыган встает и говорит:
– У меня есть для тебя сувенир.
Он принес мне серебряную чайную ложечку, украшенную инициалами моей бабушки: «Г.О».
– Ты забыла здесь свой сверток, а в нем была пустая баночка и эта ложечка.
Опять слезы. Смерть моей бабушки. Варенье моей бабушки. Ложечка моей бабушки.
Доктор понял без слов.
Таня сняла кольцо со своего тоненького пальчика. Маленькое колечко, на котором было написано «Таня» и фамилия.
– Мне это подарил папа на день рождения, ты ведь не сердишься, папа?
– Конечно же нет! – сказал добрый цыган.
Кольцо еле-еле налезло на мои распухшие и больные пальцы. Оно осталось у меня на много лет.
После нескольких часов объятий, разговоров, водки и всех остальных прекрасных вещей, которые есть у этих прекрасных людей, доктор встает и говорит:
– Мне приходится забрать девочку назад в больницу.
– Мы будем тебя навещать, – сказал цыган. – Мы тебя не забудем.
Мне дали полбулки ароматного хлеба, прямо из печки, завернутого в газетную бумагу, для того, чтобы я раздала его сестрам и врачам в больнице.
– У вас нечего есть в больнице. Это свежий хлеб!
Было очень тяжело расставаться. Мы сели в коляску. Всю дорогу назад я проплакала. Офицер держал хлеб на коленях и молчал всю дорогу. Он понял. Он понял.
17.
Мы вернулись очень поздно. В больнице было темно.
– Что случилось? – спросил доктор.
– Раньше свет был, почему вдруг темнота?
Я посмотрела на него и увидела, что его лицо изменилось. Стало маской.
– Мы не сразу зайдем. Пошлем сначала кучера.
– Почему? Вы думаете, что что-то произошло?
Он поворачивается ко мне и говорит:
– Да. Я боюсь, что был обыск.
– Ищут меня?
– Может быть, тебя, а может быть, и меня.
Кучер постучал в большую дверь молотком, который висел рядом и закричал:
– Это мы! Откройте!
Толстая сестра Поплавская приоткрыла дверь, чтобы посмотреть, кто хочет войти.
– А! Это вы! Слава богу! Здесь была полиция.
– Зачем? – в один голос спросили мы с доктором, он на румынском, я на русском.
– Они искали вас и подумали, что вы сбежали. Что жид тебя украл.
– Они дураки – говорю я. – Откройте нам дверь.
Я обняла ее, а она меня.
– Замечательно то, что вы вернулись. Сейчас я сделаю горячий чай.
Несмотря на весну, было очень холодно вечером и ночью. Когда мы вошли, меня окружил запах закрытого места. Сестра понизила голос, чтобы доктор не услышал. Она забыла, что он не понимает русский.
– В полиции появился новый человек! Очень злой человек! Сатана!
Мы обе посмотрели на доктора. Он что-то почувствовал и сказал мне на румынском:
– Таня, я оставляю тебя в надежных руках.
И отправился в свою квартиру.
Сестра взяла меня подмышку и почти понесла меня до нашей комнатки, моей и рожениц. Маленькая Анюта спала сладким сном. На «столике»– стуле около моей кровати мерцала угасающая свеча. В комнате было душно и жарко. Я начала свистеть. Мое дыхание.
– Ой, опять астма! – сказала сестра. – Ложись в кровать, а я принесу тебе «твою таблетку».
Эти таблетки мне пожертвовал румынский доктор. Я легла на кровать и расплакалась горькими слезами. Я поняла, что меня подозревают. Я все поняла и испугалась. «Что со мной будет?» – спрашивала я себя. Я еще не могу хорошо ходить. Это будет мой конец.
Анюта проснулась.
– Я хочу пить.
Я протянула ей бутылку с водой. Это можно было сделать, не вставая с кровати. Проход был узким.
– Танюша, где ты была? Я все вр-р-ремя плакала.
– Я была у цыган.
– Я тоже была у цыган.
– Что? У каких цыган?
– Тихо! Нельзя, чтобы кто-нибудь узнал! Моя мама посадила меня около двери, прямо в снег, позвонила в колокол, который висел около ворот, и сбежала. Никто не вышел. Я заснула. Утром, на санях, приехали цыгане и нашли меня замерзшую. «Ой!» – они кричали. «Ой, ой, ой! Маленькая девочка, как тебя зовут?». Я сказала: «Анюта». – «Где твоя мама?» – «Убежала». – «Как убежала? Оставила тебя босую в снегу?! Подлая! Скотина! Даже звери такого не делают!»
А я молчала и плакала… но не рассказала им всего.
– Чего «всего»?
– Даже тебе нельзя знать!
– Почему? Почему? Расскажи мне!
– Нет, не расскажу. Даже если умру!
В это время вернулась сестра Поплавская и у нее в руке волшебная пилюля.
– Скорее глотай. Если разжуешь ее зубами, она подействует быстрее.
– Я не люблю эти румынские таблетки. Они действуют не так, как укол. И они совсем не румынские, они немецкие!
– Откуда вы знаете, госпожа всезнайка?
– Это просто – отвечаю я. – Я прочитала на коробке.
– Ой, Танечка! Ты такая умная. Где же нам, деревенским, до тебя!
Это было сказано в шутку, и этому предшествовал сочный поцелуй в щеку. Анюта открыла свои глазки и испугано спросила:
– Ты не задохнешься, Танечка?
– Нет.
В это время приступ усиливался.
– Позвони в колокольчик! – сказала Анюта.
– Не хочу. Я не хочу всех будить.
Я потушила свечу. Больница погрузилась в темноту.
На следующее утро, на рассвете, ко мне зашел румынский доктор. Он принес мне коробку настоящего чая и четыре коробки прекрасного румынского печения. Горе мне, горе! Я ведь не смогу открыть их своими руками. Среди «даров» была огромная колбаса, наполняющая нашу комнатку запахом, а мой рот слюной.
– Что случилось? – спросила я у доктора.
Он мне не ответил. Положил несколько пачек таблеток на мой стул между упаковок с маслом и кофе.
– Что случилось? – я продолжала спрашивать. – Что мне с этим делать?
– Съешь это. Мне это больше не нужно. Я возвращаюсь!
– Куда возвращаетесь?
– В Бухарест!
– Почему?
Он нагнулся ко мне и прошептал:
– Опасайся Плутоньера, командира роты, нового офицера. Он подозревает, что ты и Анюта еврейки. Он не хочет, чтобы еврей был офицером в христианской больнице. Он нас ненавидит!
Я молчала. Вдруг я поняла, что мой самый большой друг покидает меня, все подозрения по отношению к нему улетучились.
– Ты понял? – спрашиваю.
– Сразу же.
– Что же теперь делать?
– Ничего! Делай вид, что ничего не произошло. Я надеюсь, что вернут электричество в эту несчастную больницу.
– Людмила Александровна и Софья Федоровна знают, что вы уходите?
– Еще нет. Перед поездкой я с ними поговорю. Они не будут сожалеть. Я причинил им много проблем. Они меня тоже ненавидели.
– Неправда! Они вас не ненавидели!
– Ты маленькая и умная девочка, но есть вещи, которых ты еще не можешь понять. Все нас ненавидят.
– Почему?
– Я не знаю. Это издавна.
– В Бухаресте вас также унижали, как и в Кишиневе?
– Не совсем так, как у вас. Факт, что все евреи до сих пор еще там.
– Тогда возьмите меня с собой в вашу коляску.
– Я очень сожалею, это невозможно. Они подумают, что я тебя похитил, и убьют нас обоих. Ты даже не представляешь, насколько они плохие.
– Доктор, я представляю.
И первый раз я рассказала ему правду, которая душила меня. Я даже почти радовалась, что смогла раскрыть свою тайну.
– Они убили бабушку, подлые румыны.
– Они были полицаями?
– Да. Они забили ее до полусмерти и живьем закопали.
– Ты это видела?
– Да – просто ответила я.
– А мама и папа?
– Папа покончил с собой. А мама умерла у цыгана Петро.
– Это я понял. А как папа покончил с собой?
– Мы были в каком-то старом амбаре, много людей. Папа снял с себя пальто и вышел ночью на улицу. Я думаю, что он знал, что каждый, кто выйдет на улицу, будет расстрелян.
– Откуда ты знаешь, что он умер?
– Я слышала выстрелы, и он не вернулся. Мы поняли.
– Теперь скажи мне правду: ты дала цыгану Петро драгоценности твоей семьи или он сам их взял?
Кровь прилила к моему лицу.
– Как вы можете его подозревать?! Я выбросила все драгоценности в лесу в снег, чтобы никто их не нашел.
– Зачем ты сделала такую глупость?
– Вы не понимаете. Если бы у меня их нашли, то сразу бы все поняли и убили бы меня.
– Я действительно не знаю, что сказать.
– Ничего не говорите. Попрощайтесь с этими милыми врачами и идите своей дорогой. Я останусь здесь.
Он вышел. Дверь за ним закрылась, и я осталась еще более одинокая в этом месте.
18.
Еврейский доктор вышел из моей палаты сгорбленный. Как будто его ударили. Я его очень жалела. Сразу же ко мне вошли три медсестры во главе с моей толстой приятельницей, сестрой Поплавской. Град вопросов посыпался на меня без предупреждения.
– Он уезжает?
– Куда?
– Он оставил почти все вещи здесь?!
– Он собирается вернуться?
– Что он рассказывал?
– Его уволили?
– Ничего подобного! – ответила я. – Он получил перевод.
– Куда?
– Не знаю. Он мне не сказал. Но он мне сказал, что ему понравилось быть здесь, с вами. Что вы прекрасные работники и очень стараетесь. А особенно он говорил, насколько у вас золотое сердце.
– Он сказал тебе, что он жид?
– Почему вдруг? – вру я прямо в глаза – Он ничего мне об этом не говорил.
– Тогда что же он рассказывал?
– То, что он возвращается в свою Румынию. Что ему не нужны его вещи и что дома его ждут жена и дети.
– Бедный, бедный! – хором произнесли сестры – Это у него на лице написано. Все это заметили!
– Вы видите, – говорю я сестре Поплавской, – он – хороший человек. А вы мне не верили.
– Ну… я не думаю, что я так уж ошиблась. Он точно жид. Это понятно из-за его желтой звезды. Но мне это не важно. Жид он, не жид… чтоб только был здоров!
– Ой! Сколько еды он тебе оставил!
– Это не только для меня – отвечаю – возьмите все, что вам нужно и оставьте мне немного.
– Мы возьмем это и сохраним для тебя. Все, что попросишь, мы тебе принесем. Нельзя оставлять это на твоем «столике». Горе тебе, если Софья Федоровна увидит весь этот гастроном рядом с тобой.
С этими словами все исчезло.
Когда все вышли, я отвернулась и заплакала. Плакала из-за лицемерия добрых сестер, из-за человека, в котором я обнаружила своего друга и которого сразу же потеряла. Я плакала о шоколаде, чае и колбасе которые были так близко и исчезли.
На следующее утро все вернулось на круги своя. В десять часов утра зашла Элли с традиционным завтраком. Зашла, не здороваясь, и вышла, не прощаясь. От нее веяло жутким холодом. Анюта, которая до этого момента играла со своей тряпичной куклой, вернулась к жизни и попросила у меня что-нибудь поесть.
– Подойди и возьми сама. Ты уже можешь ходить.
– Ты не будешь сердиться, если я возьму то, что мне нравится?
– Ты можешь взять все.
Это Анюта и сделала. Она взяла все. Мне было все равно.
Вдруг шум! Несущийся издалека голос акушерки, с ее преувеличениями и глупостями, ворвался в нашу комнату. Она сама со своей важностью, ширью и полнотой, с красным носом и подозрительно румяными щеками зашла в палату. И за ней вся «свита»: роженица с огромным животом, ее подруги с корзинами еды, продуктов, воды и, конечно же, яиц. Будет весело, сказала я сама себе. Все возвращается вновь. Снова Пасха! и понятное дело – рисунки на яйцах!
Через некоторое время появились сестры, чтобы застелить для роженицы кровать.
– Нагрейте воду! Уже появились признаки!
– Сейчас! Сейчас! Не волнуйся! Еще есть время. Ты всегда спешишь. Таня отвернись к стене!
– Не бойтесь, я уже много раз это видела. Меня это не пугает. Наоборот, интересует.
– Какая девочка наша Танюша! Героиня! Это не просто девочка! Анюта, ну-ну, пошли скорее в коридор. Это не для твоих глаз.
– У вас есть конфета? – спрашивает Анюта.
– Конфету барышня хочет! Что вдруг конфету? Уже полтора года мы не видели конфет!
– Я видела! У румынского доктора! И вы забрали у Тани. Я видела! Я видела! Я видела!
– Эту малышку невозможно обмануть! Ну… пошли уже!
Я отворачиваюсь к стене как раз вовремя. Со стороны роженицы послышались жуткие крики и причитания, молитвы со стороны акушерки. Я уже знала распорядок. Я радовалась, что хотя бы что-то происходит в больнице и все внимание теперь сосредоточенно на роженице и, конечно, на младенце, который должен родиться. Я хотела, чтобы обо мне забыли и о румынском враче, который покинул меня. Почему мне все время хочется плакать? На самом деле мне просто было жалко себя. Нас. Брошенных детей, одиноких, голодных. О которых никто не думает. Нервирующая акушерка со своими вечными молитвами, перекрещиваниями, с глупыми выражениями, не прекращала мне надоедать.
– Прочитай «Отче наш»! Три раза прочитай! Ангел рождается! Торопись, Таня! Это зависит от тебя! Посмотри на эту прелесть! Какой он красивый! Какое счастье! Что это ты вдруг плачешь?
– От радости, от радости… – промямлила я, после того как прочитала молитву.
Акушерка ничего не почувствовала. Она продолжала хвалить роженицу, ее красоту, ее доброту и особенно младенца, который только что появился на свет.
Я себя плохо чувствую. Я фальшивлю. Я не люблю этого красного малыша, орущего малыша. Ни его кричащую мать. И особенно я ненавижу акушерку. Я знаю, чего она хочет. Она хочет соблазнить меня перейти жить к ней и стать ее дочерью. Это будущее пугает меня. По выражению лиц сестер и врачей, которые меня окружают, я вижу, что все согласны, что это наилучший вариант для меня. Мое сердце сжимается от ужаса. Что будет? Как я смогу ее терпеть? Что мне с ней делать? Красивое лицо моей мамы появляется перед моими глазами, и она мне говорит: «Соглашайся, соглашайся! Не думай о нас с папой. Мы уже давно умерли. Ты должна думать о будущем. Ты должна выжить!»
Мне тяжело. Мне очень тяжело.
«Папа, папа – говорю я себе, произнося молитву в десятый раз. – Папа, скажи, мне нужно врать? Забыть вас? Стать кем-то другим? Скажи мне, папа! Врать?»
«Да – отвечает папа. – Ты все время врешь. Ты уже не маленькая Тата. Ты – Таня Петренко. Таня Петренко смелая! Она борется за свою жизнь! Она строит свое будущее!»
«Папа, – говорю я, – ты и мама хотите, чтобы я стала девочкой этой лицемерной толстухи? Она хочет, чтобы я называла ее мамой! Как я могу?! Вы понимаете, что она от меня хочет?! Папа, мама, не оставляйте меня опять в чужих руках. Я прошу вас!»
Я снова плачу.
– Почему ты плачешь, малышка? Ты растрогалась? Святая! Святая!
Она обращается к матери этого куска мяса, которого она держит в руках:
– Я говорила тебе! Наша Таня святая! Знаешь, я возьму ее к себе домой, когда она выздоровеет. Я буду ее мамой! – заканчивает она с гордостью.
– Иди сюда, мне кажется, что у меня кровь пошла! Иди ко мне!
– Перестань заниматься этой больной девочкой! Держи ребенка! Я не хочу, чтобы она его трогала! Кто знает, какие у нее болезни!
Я отворачиваюсь к стене, единственный способ избавиться от этих людей.
Я тихо плачу.
19.
Обычное утро. Анюта спит. Я выползаю из комнаты. Держусь за стену. Я не могу держать равновесие. Но у меня есть туфли! С гордостью я говорю себе: у меня есть туфли!
Я подхожу к ванной комнате. Вода до боли холодная. Снаружи лето, а вода как лед. Может, мне это кажется? Я смотрю на свои пальцы. Они освободились от коричневой корки, но они красные и распухшие. Я сжимаю руку, подставляю ее под кран и брызгаю водой на лицо. Это приятно. Это приятно. У меня нет мыла, но оно мне не нужно. С чего это вдруг, мыло?
–Таня, Таня!
Голос моей няни.
– Лицо надо мыть с мылом! Сколько раз тебе повторять? Ты никогда не делаешь того, что тебе говорят.
Где ты, моя няня? Где ты?
Опять слезы. Что со мной происходит? Немного воды и я уже плачу как дура.
Я мокрая выхожу. Кран разбрызгал повсюду воду, и я стала мокрой.
– Что ты сделала? – говорит сестра Вера. – Что ты наделала? Зашла умыться и пролила воду на себя. У нас нет сменной одежды! Высохнешь так.
– Простите, сестра Вера. Может у вас есть полотенце?
– Ого! Полотенце барышне захотелось! Где я тебе найду полотенце? Мы давно уже забыли о таких вещах.
– Они тоже «усохли» в кладовой? – говорю я с большой наивностью. – И мыло «усохло», как говорит кладовщик?
Вера рассмеялась.
– Танечка, ты смешная! Ты все схватываешь! У нас все «усыхает» в кладовой.
– Вера, скажите, можно мне поговорить с Людмилой Александровной? Мне очень нужно с ней поговорить.
– О чем тебе с ней разговаривать? Ты сегодня очень важная.
– Вера, не смейтесь надо мной. Я хочу узнать, когда я должна покинуть больницу.
Вера изменилась в лице. Она стала серьезной.
– Я позову тебя – отвечает сестра несмотря мне в глаза.
Через час в палату зашла Людмила Александровна.
– Танечка, ты меня звала?
– Я хочу задать вам несколько вопросов. Это касается моего будущего.
Я посмотрела на роженицу, она смотрит на нас с интересом. Людмила Александровна понимает намек.
– Пойдем, девочка. Я отведу тебя в кабинет врачей. Там мы сможем посидеть в тишине, и я приготовлю тебе чай. Тот чай, который нам оставил офицер.
Мы выходим из комнаты. Людмила Александровна крепко меня обнимает и почти несет до кабинета врачей.
– Какая прелесть! Кресла, диваны, стеклянный шкаф с книгами! Как в кабинете моего папы! Знаете, Людмила Александровна, мой папа разрешал мне читать все книги, даже Эмиля Золя. Вы знаете, я все поняла. Я ничего у папы не спрашивала. Но я хотела с вами поговорить о другом. Я хотела спросить, когда вы меня выкинете из больницы, и куда я пойду? Я обязана идти к толстой акушерке?
Тишина.
– Я налью тебе чаю и дам печенье доброго доктора.
– Вы поняли, что он был хорошим? В начале вы думали, что он шпион.
– Нет, мы поговорили, и я поняла его шаткое положение.
– Он рассказал вам все? Про Бухарест? Про его детей? Он рассказал вам о том, что он хочет сбежать?
– Нет, такого он мне не говорил. Но я поняла это из вопросов, которые задавал начальник полиции. Ты знаешь, «Плутоньер», известный своими пышными усами.
– Доктор говорил с вами обо мне?
– Нет. Что вдруг о тебе? Он ничего о тебе не знает.
– Это хорошо. Знаете, он от страха может ляпнуть всякие глупости.
– Да я знаю, но это тебя не касалось. Ты выйдешь из больницы, когда сможешь как следует ходить. И твои руки перестанут тебе мешать. Я думаю, это произойдет в августе, ты согласна?
– Да – отвечаю. – Да. Я не могу оставаться в больнице навсегда. Но у меня есть проблема.
– Снова «проблема»?! Танюша, ты взрослеешь слишком быстро.
– Правда, я уже взрослая. Но куда я пойду?
– Танечка, мы отпустим тебя только в то место, где тебе будет хорошо. Мы не хотим, чтобы ты была от нас далеко. Мы любим тебя. Кроме этого, иногда ты нам понадобишься для перевода. Плутоньер спрашивал меня, сможешь ли ты придти в полицию, чтобы перевести ему некоторые бумаги.
– Людмила Александровна, как же я смогу ему перевести?! Я маленькая девочка, я не знаю важных и сложных слов. Я всего-то один год учила этот язык. Читать, писать и необходимые слова для ежедневного общения. Еще немного грамматики и все.
– Не скромничай. Я знаю, что ты знаешь намного больше этого.
–Но я не хочу идти в полицию. Я боюсь.
–Бояться нечего. Тебя там все любят.
– Но где я буду жить? Я не хочу идти к этой акушерке! Она глупая и красная. И она никогда не говорит правду. Она даже богу врет.
Людмила Александровна рассмеялась.
– Какое описание! Я преклоняюсь перед тобой. Ты всегда знаешь, как сказать то, что ты чувствуешь.
И шепотом добавила:
– Смотри, Танюша, я не могу взять тебя к себе, как бы я не хотела. Элли тебя очень не любит. Очень. Она ревнует. Ее отец на фронте, и она боится, что он погиб. Мы не получаю от него писем. Мы очень волнуемся. Я не хочу лишних ссор с Элли. У меня не получается убедить ее хорошо к тебе относиться. Она ревнует.
– Но это же смешно, завидовать мне. У меня ничего нет. У меня нет родителей, родственников, у меня почти нет ног. У нее есть мама, бабушка, теплый дом и горячая еда. А что у меня есть? Еда, которую она соизволяет приносить мне. Да и это делает с нескрываемой ненавистью. Еда, которую я делю с несчастной Анютой. Подумайте, какое же это соперничество? Я не хочу оставаться у вас навсегда, только до конца войны. В любом другом месте я буду несчастна. У меня есть идея! Вы можете устроить меня на должность переводчика в больнице?
Я заметила слезы в голубых глазах этой хорошей и доброй женщины.
– Ты слишком маленькая для такой важной должности. Никто не даст согласия. Мы, с Софьей Федоровной, говорили об этом и не раз. Ничего нельзя поделать. Есть только один выход… согласиться пойти к акушерке и позволить ей себя любить, как дочь. Она об этом мечтает. Девочка, перебори отвращение к этой милой женщине, которое ты испытываешь из-за ее грубости, наивности и ее желания, чтобы ты звала ее «мама». Я понимаю, что это тебе сложнее всего. У меня нечего больше добавить.
Я встаю со стула, отодвигаю чашку с чаем и печенье, и подхожу к двери, не проронив ни слова. Мне ясно, что я не смогу ее убедить. Она не может, не хочет неприятностей дома. Я стала для нее проблемой. Вообще-то, я и раньше об этом знала. Ее мама ни разу не зашла ко мне, чтобы познакомиться. Элли открыто выражала ненависть. До этого момента я игнорировала происходящее. Но теперь горькая правда жестоко хлестала меня по лицу. Я ушла. Я вышла, не отвечая на просьбу золотоволосой Людмилы Александровны. Я была очень обижена. Мое маленькое сердце билось от глубокой обиды. Это было почти также больно как смерть моей мамы, которая сбежала в свой вечный сон, чтобы избавиться от ответственности за меня.
Да. Так я тогда думала. Я согрешила. Согрешила, обвиняя мою маму. Согрешила, обвиняя хорошую Людмилу Александровну. Они обе бросили меня. Они глубоко ранили мою гордость. До сегодняшнего дня я чувствую, что папа хотел умереть, и именно поэтому вышел ночью из амбара, полного голодных, несчастных евреев. Он знал, что его расстреляют. Мой папа хотел умереть. Он изменил мне. Тоже самое с мамой – она хотела спать. Она хотела умереть!
Сегодня мне это все кажется ересью. Обвинять моих бедных родителей в измене?! Поэтому они умерли такой страшной смертью?! Нет! Нет! Я не права! С какой стати должна была эта добрая женщина, прекрасный врач, жертвуя миром своей семьи, привести в дом «троянского коня»?! Нарушать душевный покой своей мамы и дочки?! Сегодня я это понимаю. Сегодня, окажись я на ее месте, я поступила бы точно также. Сегодня, проходя по улице, я вижу мальчика, лежащего на тротуаре, бедного, одинокого, больного, просящего милостыню – и что я делаю для него?! Бросаю в его жестянку несколько монет?! Я хочу поднять его. Пригласить его домой. Накормить его. Отвести его к врачу. Я действительно хочу это сделать, но я не делаю. Почему? Почему?! От страха… от страха впутаться в неприятности. От страха нарушить мой жизненный покой. От страха перед неизвестным. Я этого не делаю. Но это сегодня. Маленькая Таня, преследуемая страхами, ужасом, жуткими картинами, встающими перед глазами. Та Таня, которую приютили хорошие люди, впустили в свои сердца, дали почувствовать, что она любима, что она нужна – и вдруг отказываются от нее. Это очень сложно понять в одиннадцать лет.
20.
Конец лета 1942-го. Я одета. Стою перед зеркалом в коридоре и смотрю на себя. Мне трудно поверить, что эта высокая, худая девочка, одетая в бедные, но чистые и аккуратные вещи – это я. Это летние вещи. Пальто цыганки Тани исчезло. Я спросила у сестры Павловской:
– Что я буду носить зимой?
– Что ты волнуешься за зиму?! Пока что жарко. Когда придет зима, мы тебе что-нибудь найдем. Мы же здесь, нет?!
Почему мне не понравился этот ответ. У меня было предчувствие, что придет зима и принесет с собой новые несчастья. Через час придет акушерка, чтобы забрать меня и отвести к себе домой. В конце концов, я сдалась. Согласилась. У меня не было другого выбора. Со мной уже все попрощались и дали мне маленькие подарки, чтобы я их помнила. Некоторые даже плакали. Доктора прощаться не пришли. Сестры говорят, что они заняты с вновь прибывшими больными.
– Ты будешь нас навещать, что ты волнуешься?! Это не далеко.
– Ты уже можешь ходить. Ты придешь пешком.
– У акушерки большой дом! Красивый! Отличный зеленый сад. У нее с голода не умрешь!
Все смеются. Все веселые. Я грустная.
– Что будет с Анютой? – спрашиваю.
– Не волнуйся, Анюта пока что остается в больнице.
Я вхожу попрощаться с Анютой. Я обнимаю ее. Я плачу. Она плачет.
– Таня. Таня. Таня. Не оставляй меня. Я не хочу быть одна. Моя мама меня оставила, и ты меня оставляешь. Что со мной будет?
Я стою в смятении. Спрашиваю себя, сколько же лет этой маленькой Анюте? Она говорит как взрослая. Я молчу. Я не знаю, что будет. Над нами сгустились черные тучи. Страх.
Одиннадцать часов. Лицемерная акушерка вплывает в больницу в облаке улыбок и поцелуев. Я не верю. Я не верю. Я не хочу идти к ней. Я ее ненавижу. Вдруг появляется Людмила Александровна. Она улыбается.
– Как хорошо! Ты начинаешь новую дорогу! Ты будешь счастлива. Тебе будет хорошо! Правда, Евдокия Ивановна?
Акушерка очень довольна тем, что смогла схватить меня в свои когти.
Боже, она собирается сделать из меня монашку. Что мне делать?
В сопровождении объятий и пожеланий мы выходим из стен больницы.
Я оборачиваюсь. Смотрю на здание, под крышей которого я была спасена от смерти и пережила много разнообразных событий. Здесь мне дали почувствовать, что я не одинока. За мной ухаживали, кормили меня даже тогда, когда не было еды. Я чувствовала, что это больше никогда не вернется. Никогда!
Мы пошли пешком. Мне было трудно. Акушерка, наконец, перестала говорить. Через час очень тяжелой, для меня, «прогулки», мы подошли к ее дому.
Дом был похож на все остальные дома. Но с черепичной крышей. Большой двор, справа курятник. Посреди двора стояла печь. На ней висели кастрюли и сковородки. Рядом стояли две скамейки.
– Здесь вы готовите?
– Да, летом.
– А где зимой?
– Как и все, в печке, которая стоит в центральной комнате. Ты тоже будешь готовить. Ты тоже, ты тоже. У меня ты не будешь бездельничать, как в больнице. Научишься работать! Подожди, вот придет зима, и ты увидишь! Ты всему у меня научишься!
Эти угрозы были сказаны с фальшивым смехом. Холод пробежал у меня по спине. Большая собака, похожая на волка, подошла ко мне. Положила лапы мне на плечи и стала лизать мне лицо. Я обняла ее.
– Хорошо, что ты здесь – говорю я псу. – Я не буду одна.
Акушерка рассмеялась.
– Какой же ты клоун! А я что? Никто?!
Я молчу. Вдруг я замечаю светловолосого мальчика выше меня на пол головы.
– А это кто? – спрашиваю.
– Это? Стасик. Стасик, подойди, познакомься с Таней. Не стесняйся.
Стасик стоял во дворе, далеко от меня. Склоняя голову, он недоверчиво смотрел на меня. Я подошла к нему, счастливая, что у меня есть с кем поговорить, и я не буду одна.
– Привет, Стасик. Я Таня. Давай дружить?
Стасик не ответил. Он стеснялся и совсем не был рад моему появлению.
– Вы познакомились? – сладеньким голосом сказала Евдокия Ивановна. – Стасик, разведи огонь в печке. Надо готовить суп.
Стасик, не отвечая, подбежал к печке и начал разжигать огонь. Он работал с большой точностью. По его плечам я заметила, что он боится хозяйки дома. Мы вошли в дом. Дом был прибран точно так же, как и другие дома. Большая комната, в которой печка и кровать рядом, напротив входа. По середине стоит большой и тяжелый стол. Рядом с ним две лавки. На правой стене полка с книгами. В левом окно, а под ним небольшая деревянная кровать.
– Ты будешь спать здесь, – заявила акушерка.
Я заметила, что ее тон стал другим. Теперь она раздавала приказы. Справа от входа были еще две комнаты. Одна из них была комната акушерки. Слева были «холодные комнаты». Там хранились молоко, овощи и разные продукты.
– Как хорошо, у вас есть книги. Я очень люблю книги.
– Я знаю. – Сказала акушерка. – Я знаю. Но здесь у тебя не будет времени читать. У меня тебе надо будет работать весь день, чтобы заслужить свой обед. У нас едят два раза в день. Утром пьем стакан молока и идем работать. В обед овощи и хлеб. И вечером, после работы, мы едим суп и идем спать.
– Это очень много, – говорю я, чтобы что-то сказать.
– Теперь отдыхай.
Улыбки исчезли. Она собрала кое-какие вещи и вышла, не сказав ни слова. Я слышала, как она кричит:
– Стасик, Стасик! Не теряй время! Ты поставил суп? Иди собирать огурцы! Когда я вернусь, мы их засолим.
Я лежала на предназначенной для меня кровати, смотрела в потолок и пыталась думать. В этом доме все чужое и неприятное, кроме пса, конечно же. Через некоторое время я встала и пошла в огород. Там я нашла Стасика, который срывал огурцы и клал их аккуратно в корзину.
– Помоги мне собирать. – Сказал он, не смотря на меня.
– Тогда у нас потом будет время посидеть дома и поговорить? Я хочу кое-что понять.
Я начала собирать. Проблема была в том, что нужно было стоять. Мне было тяжело. Каждый раз мне надо было садиться на землю и отдыхать. Стасик, наверно, понял мое положение и сказал:
– Уже достаточно огурцов. Хватит на десять банок. Ей больше не надо.
– Зачем она это делает? – спрашиваю.
– Она их продает. Люди у нее покупают. Она из всего извлекает выгоду. – Нахмурившись, говорит Стасик.
– Правда, что ты ее не любишь? Правда?
Стасик смеется.
– Не люблю?! Я ее ненавижу. Подлая ханжа! Делает вид, что она верит в бога. Делает вид, что она хорошая. Молится целыми днями и таскает меня в церковь.
– Тебя тоже она таскает?
– Ох! Целыми днями я торчу в этой церкви. И говорю молитвы, которые я ненавижу. Это не мои молитвы и церковь не моя.
– Что значит не твоя?
– Ты не христианин?
– Я больше христианин, чем многие! Я католик! У нас церковь – это церковь!
– Я ничего не понимаю. Каждая церковь – это церковь.
– Ты маленькая и глупая. Есть разные.
Я не верила своим ушам. Это странно. Попробую аккуратно спросить:
– Стасик, а что такое католик?
– Это как православный, но у нас другие праздники. Наши священники не женятся, как эти, с Украины, у которых жены и куча детей! Наши священники – святые.
– Что плохого в женитьбе?
– Ох! Садись уже, не стой, а то еще свалишься. Что за вопросы ты задаешь?! В какую церковь ты ходишь? В такую, как здесь?
Я была в смятении и не знала, что сказать.
– Я еще не была здесь в церкви. Не видела. В Кишиневе я ходила в церковь с няней каждое воскресенье. Было очень красиво. Священники пели низкими голосами и у них были бороды. Иконы были красивыми и блестящими. Был хороший запах.
– Ты не видела, что здесь. Тут все очень бедно. Румыны все украли, и мне рассказывали, что во время советского правления она вообще была закрыта. Иконы остались без своих украшений и вообще сложно разобрать образ. В воскресенье ты увидишь сама. Целый день будешь стоять на коленях и говорить «Отче наш».
– Поживем, увидим! – отвечаю. – Откуда у тебя другая церковь? И вообще, что ты тут делаешь?
– Ты не успела приехать, как уже меня допрашиваешь! – сердито сказал Стасик. – Пошли уже! Вставай! Пошли в дом. Я хочу пить.
Он зашел в дом, а я плелась сзади, с трудом передвигая ноги. Мы «дома». Мы сидим за столом. Стасик соизволил налить мне стакан воды.
– Скажи мне, откуда ты? – я не прекращаю спрашивать.
– Я – поляк! – сказал Стасик с гордостью и пронзил меня взглядом синим, как небо и холодным, как лед. – А ты откуда? Что такое Кишинев?
– Это мой родной город. Большой и красивый город.
– А-а-а… это тот город, который переходил из рук в руки. Сначала русские, потом противные румыны, потом опять русские и снова румыны, как и сейчас. Так что, ты румынка?
Я не знала, что сказать. Я была в смятении. Я не знала, что для Стасика лучше. Гадкие румыны или противные русские.
– Так кто ты? – нажимал Стасик.
– Я не знаю. Я думаю русская.
– Но ты говоришь на румынском так же, как они.
– Я учила румынский. Я должна была учить. Они заставляли всех детей учить язык и петь их военные песни.
– Их дети ходили в армию?
– Нет, это не было армией, но похоже. Подожди, я тебе объясню. Ты помнишь комсомол?
– Конечно, я помню. Было здорово. Мы пели песни, был двор, на котором мы тренировались и выступали. Мы читали стихи со сцены.
– Теперь ты понимаешь. Румыны делают то же самое, но противно и не здорово.
– Ты тоже делала?
– Нет, папа давал мне справку, что я больна.
– Ты получала наказания?
– И да, и нет.
– Ты смешно говоришь. Что значит «и да, и нет»?
– Стасик, ты поляк. В Польше все было по-другому. И это теперь не важно. Мы теперь в одной тарелке.
– Таня, теперь скажи мне правду, но только правду: где твои родители? Их убили?
– Да.
– Они их убили?
– Да.
– Ты осталась одна?
– Да. А ты?
– Я тоже. Я один. Пошли на двор, начнем солить огурцы и надо проверить суп.
Я поняла, что у нас со Стасиком общая беда. И мы не знаем, что нас ждет.
Мы вышли во двор.
21.
В первую ночь я не смогла уснуть. Стасик храпел на печке и не слышал мой плачь. К моему счастью, ведьма спала в соседней комнате за закрытой дверью.
Она появилась на заре, полная сил и энергии.
– Подъем, подъем! На работу! Лентяи! Вскипятите чайник! Будем пить чай. Не каждый день молоко! Стасик, слезай с печи! Таня, почему ты спишь в своей одежде? У тебя нет ночной сорочки?
– Нет, – отвечаю. – У меня нет.
– Почему в больнице тебе не дали?
Я молчу.
– Хорошо, я принесу тебе от хороших людей. Тебе что-нибудь пожертвуют. У меня в доме не спят в одежде. Умой лицо и руки. Покажи мне свою голову. У тебя есть расческа?
– Нет.
– Хорошо, я дам тебе мою расческу. Я не терплю вшей!
Она поставила меня на веранде. У нее была веранда!
– Наклони голову, чтобы вши не падали тебе на кофту… пока что ничего нет. Каждый день надо мыть голову, иначе не получишь еду! За каждую вшу – меньше еды! У тебя уже отрасли красивые волосы. Твое счастье, что они светлые! Как у Стасика.
Я не знала, что мои волосы посветлели. У меня не было зеркала.
– Ну, иди пить чай! Для начала, ты получишь еще кусок хлеба. Стасио, Стасио, отрежь и для себя кусок хлеба. Я люблю равенство.
Я заметила тонкую улыбку на лице моего товарища по несчастью. Как он себя ведет! С этой ведьмой надо научиться себя вести. Я тоже улыбалась.
– Спасибо, Евдокия Ивановна. Вы очень добры. – Говорю я.
– Хорошо, хорошо, девочка. – Сказала акушерка и намазала себе толстый кусок хлеба маслом. Она сразу же убрала масло в укромное место.
Стасик мне подмигнул и улыбнулся за ее спиной. Она наконец-то ушла, после долгих криков и разговоров. Мы остались одни. Сегодня идет дождь. Не надо идти в огород. Невозможно собирать огурцы в грязи.
– Таня, ты жидовка?
– С чего ты взял? А ты?
– Я ненавижу евреев! – объявил он с гордостью.
– Очень хорошо! – говорю. – Меня ты не будешь ненавидеть. Скажи, почему ты спрашиваешь меня такие глупые вопросы? Я похожа на жидовку?
Стасик пристально на меня посмотрел и сказал:
– Нет, не похожа.
– Я не ненавижу евреев. Почему ты их ненавидишь? Что они тебе сделали?
– В нашем городе все ненавидели евреев.
– Я не замечала. Я не видела такого до того, как не пришли румыны.
– А русские? – спросил Стасик. – Они не «мешали» евреям?
– С чего это? Никто не ненавидел евреев.
– Я не понимаю. Почему же тогда румыны убили твоих родителей? Почему?
– Бомбили город. Все бежали из домов. Город горел. Много людей собралось на площади. Пришли румынские солдаты и начали стрелять. Они убили всю мою семью, а я сбежала.
– А как ты попала на Украину?
– В колонах людей, которые пытались уйти подальше от румынской армии. Я попала в такую колону и замерзла. Немцы меня нашли на дороге и привезли меня в больницу Любошевки.
– Грустный рассказ.
– А ты?
– Похоже. Мы сели на поезд, чтобы уехать с русской армией. Поезд разбомбили и я остался один. Я скитался из деревни в деревню, из семьи в семью, так я попал к этой колдунье. Она крепко меня схватила и я решил остаться тут до конца войны.
– А как ты вернешься домой?
– Когда война закончится, ты тоже вернешься в Кишинев.
– Возможно, я не уверена.
– Никто ни в чем не уверен. Завтра вдруг может придти какой-нибудь полицай, украинская собака или румынская. И убить тебя или меня, а может даже и эту глупую старуху.
Я молчала. Я признаюсь, что не думала о такой возможности.
– Не грусти. – Сказал Стасик и улыбнулся мне в первый раз. – Пути господни неисповедимы.
– Правильно, пути человеческие тоже неисповедимы.
– А-а-а.. – сказал Стасик. – Ты стала наконец-то умной. Давай покушаем омлет.
– Омлет! – удивляюсь я. – Я не верю!
– Ты увидишь. Я давно уже храню их для особого случая. У меня есть свежий хлеб и масло. В момент я приготовлю тебе омлет.
Он перестал говорить, пристально на меня посмотрел и сказал:
– В конце концов, ты довольно приятная. И не такая уж глупая. Тебе положен омлет!
Омлет был прекрасным. Может потому, что это был первый омлет, который я ела за последние год и несколько месяцев. В дополнение, Стасик научил меня готовить борщ! Как хорошо! Борщ! Он попросил меня попробовать борщ и сказать достаточно ли соли.
– Я не кладу много соли, потому что соль на вес золота.
– Соль? А что с сахаром?
– То же самое. Но мука есть и яйца тоже. Завтра я приготовлю тебе оладьи!
– А если завтра ведьма придет раньше? Что будем делать?
– Положись на меня. – Говорит Стасик. – Я знаю ее расписание. Завтра она едет в другую деревню. Это займет много времени. Она вернется к вечеру. А может вообще не вернется, если роды затянутся.
– Стасик, я очень соскучилась по больнице. Там такие хорошие, люди.
– Таня, скажи, ты хорошо умеешь читать по-русски?
– Конечно, что за вопрос?
– У чудовища много книг. Ты сможешь мне почитать?
– Конечно. Я даже могу научить тебя читать по-русски. Но как так может быть, что ты не умеешь читать по-русски? На польском разве не такие же буквы?
– У нас пишут латинскими буквами, как и во всей Европе. Мы культурный народ! – гордо говорит Стасик.
– Я знаю латинские буквы, конечно, я знаю. Я читаю по-румынски и по-французски.
– Скажи, Таня, ты из богатого дома? Ты говорила, что у тебя была няня. У вас были слуги?
– Были. Дом не был таким уж богатым, но и не бедным.
Я решила «уменьшить» мое происхождение. Я почувствовала, что у Стасика были не богатые родители.
– Стасик, скажи, ты жил в самом городе или в деревне? И так и так. Летом мы ездили к бабушке и дедушке, и там я научился обрабатывать землю. А, поэтому ты такой способный! Ты все знаешь. Я очень уважаю тебя за это.
Я видела, что это сработало. Стасик довольно улыбнулся. Я подумала про Мишку. Моего верного друга, с которым я играла все мое детство. Насколько он отличался от Стасика. У меня потекли слезы.
– Перестань реветь. Я ненавижу слезы. Все девчонки плаксы!
– Я не плакса. – Говорю я гордо. – Я очень сильная!
Так мы провели первый месяц у акушерки. Мы осторожно изучали друг друга.
По воскресеньям картина была совершенно другой. Акушерка давала нам красивую одежду, подарки рожениц для «бедных сирот», нас. Брюки Стасика всегда были короткие, а мои вещи висели. Это все было неважно. Перед тем как пойти в церковь, мы грели воду и купались на кухне. Каждый, отдельно, конечно! Акушерка следила за приличиями. А мы, в свою очередь, стеснялись друг друга. После проверки на вшей и других церемоний мы шли в церковь. Она идет впереди и всегда несет цветы, чтобы положить их на нужное место в церкви. За ней идет Стасик со свечей в руках. А я ползу позади с корзиной, полной хлеба и масла для обеда после молитв. Мы стояли в церкви почти весь день, с перерывом на обед. Так как и предсказывал Стасик, мы почти все время стояли на коленях. Для меня это было пыткой. До того как пришел священник и что-то прошептал акушерке на ухо. Она встает, ведет меня в другое место. Там стоит ряд стульев. Священник ей говорит:
– Ты не видишь, что эта девочка больна?! Она должна сидеть, а не стоять на коленях.
– Спасибо, батюшка. Вы сжалились над младенцем. Да благословит вас господь. Господь помнит лучших из нас. Эта девочка бедная сирота, я ее очень люблю.
Батюшка гладит меня по голове и говорит:
– У меня есть для нее красивые вещи. Теплое пальто, юбка и валенки. Один из крестьянин из Нестоито, я думаю, он цыган, принес их мне и сказал, что это вещи его дочери Тани.
Я краем уха слышу его слова. Я бледнею. Мое сердце останавливается. Хороший цыган! Хороший! Он помнит обо мне! Я боюсь, что он рассказал святому отцу всю правду. Если батюшка знает – все узнают.
– Я вижу, что у этой девочки есть большой крест. Кто дал тебе этот крест, девчушка?
– Не знаю. Он всегда был у меня.
– Хорошо! Очень хорошо. Врата небесные распахнутся перед тобой!
Я надеюсь, что они распахнутся как можно позже. Но в слух говорю:
– Спасибо, батюшка. Ваши бы слова, да богу в уши.
«Святая» Евдокия Ивановна высокомерно улыбается и говорит:
– Воспитанная девочка. Я ее воспитываю!
– Да, да. Я знаю. Тебе тоже воздастся за твои деяния.
Когда мы, наконец, вернулись домой, Стасик и я сели отдохнуть в саду. Мы оба растирали наши болящие колени. Я рассказала ему о том, что говорил батюшка.
– За ее деяния ей положено выжить из ума! – говорит не очень-то вежливо Стасик. – Страшная ведьма!
– Стасик, ты слышал о Братьях Гримм? Они писали сказки для детей.
– Нет. Мне не интересны такие глупости.
Я рассказала ему о Гензеле и Гретель.
– А, конечно! Это про дом из сладостей! Все сходится! Даже ведьма! Мне кто-то рассказывал, теперь я вспоминаю. Наверно мой дедушка.
Вдруг он нахмурился.
– Нет, это не дедушка. Мама мне это рассказала.
Я впервой увидела, как его голубые глаза наполняются слезами. Бедный, он всего лишь ребенок. Хотя, я даже не знаю, сколько ему лет.
Так проходили ночи и дни. Я стала привыкать к новому течению жизни. По ночам мне все еще не удавалось уснуть. Я лежала на кровати и думала. О Людмиле Александровне, о мудрой, доброй начальнице больницы, о сестрах, которые так за мной ухаживали. Даже о кладовщике я думала с симпатией.
Когда я еще раз их увижу?
22.
Так прошли несколько месяцев. Теперь я чувствовала себя гораздо лучше в доме ненавистной акушерки. Причиной всему этому был Стасик. Он, как мог, облегчал мне задания, которые нам давала акушерка. Стасик оказался хорошим мальчиком, очень взрослым и хроническим молчуном. Стасик понимал все без слов. Могу ли я нагнуться, могу ли заполнить печь дровами, могу ли принести воду из колодца. Если бы не Стасик, я бы никогда не смогла выполнить требования акушерки, которая с каждым днем становилась все строже. Но все же мне было легче, потому что она уходила утром и возвращалась вечером. Иногда она вообще не возвращалась. Когда она приходила, начинались нескончаемые жалобы на боли в горле, в спине и вообще во всем теле. Я приносила ей тарелку супа, который я готовила на плите во дворе. На улице еще было тепло, несмотря на то, что пришла осень. Каждый день я готовила другой суп. Я использовала все овощи, которые были в огороде. Иногда я даже добавляла несколько кусочков курицы. Она ценила мое кулинарное мастерство. Даже хвалила меня. Стасик был счастлив избавиться от приготовления супа, чистки картошки и других вещей, которые он с пренебрежением называл «женской работой».
Как я уже говорила, Стасик был не особо разговорчив. Он как-то по-особенному на меня смотрел. Его глаза говорили все за него. Я понимала его.
У него был секрет. Я была недостаточно любопытна, чтобы расспрашивать его. Мне было достаточно груза моих секретов. Я не приставала к нему с вопросами. Он этого терпеть не мог. Стасик был полон любви, он особенно заботился о моих коленях. Он сделал из тряпок щитки для колен. И я действительно смогла стоять на коленях в церкви часами. Я могла стоять так целый день. Я читала Стасику стихи Пушкина. Пушкина я нашла в одном из пыльных углов. Стасик плохо читал по-русски, но очень уважал Пушкина. Он понял, почему я обожаю эти стихи. День за днем, мы оставались вдвоем в доме акушерки. Иногда к нам заходил Петя, сын медсестры Поплавской. Петя приходил с корзиной сюрпризов: толстые носки, которые мне связала одна из сестер из шерсти, которая «усохла» в кладовой больницы, варенье, приготовленное его мамой и пирог из кукурузной муки и сахарной свеклы. У этого пирога было странное название: малай. Он удостоился высокой оценки Стасика, и, конечно же, моей.
Петя был высоким мальчиком. Он был старше нас, широкоплечий, с длинным носом и умными глазами. Он был настолько похож на свою мать, что нельзя было ошибиться в его происхождении. Он тоже был большим молчуном. Обычно он приносил свои учебники из школы и пытался обучить меня алгебре и геометрии. Я оказалась полнейшей дурой. Мои способности проявлялись в основном в языках, истории и литературе. Во всем, что касалось точных наук, как говорил Стасик, я была полным провалом. Они оба смеялись надо мной и пытались силой впихнуть то, что не входило само. Приход Пети был для нас праздником. Стасик с Петей закрывались, уплетали огурцы и болтали часами. Меня не допускали к этим разговорам. Но, несмотря на это, я была очень рада приходу Пети потому, что он приносил мне новости из больницы. Письма от врачей и несколько слов от его матери, которые сопровождались любовью и поцелуями, очень меня взволновали. Петя сказал:
– Только не плачь. Не плачь. Я ненавижу девочек, они всегда плачут! Девчонки плачут, когда они радуются и когда огорчаются! Какой вы породы?!
В общем, жизнь была не такой уж страшной.
Однажды, в начале сентября, было облачно и дул сильный ветер. Сезон огурцов давно закончился. Мы перекладывали их в банки. Мы делали это в «рабочей комнате» – в холодной комнате дома. Вдруг вбегает Петя. Он вспотел, был очень взволнован и кричал:
– Таня, Таня, пошли скорей!
Я никогда не видела Петю в таком состоянии.
– Что случилось? – спрашиваю. – Петя, говори, что случилось?
– Таня, горе! Анюту забрали в лагерь!
– Что за лагерь?
– Это вроде тюрьмы. Тюрьма, где держат жидов.
– Что ты такое говоришь? Анюту? Но она же кроха?!
– Усатый Плутоньер приехал в больницу с несколькими мерзкими типами, потребовал одеть ее и посадить в коляску, которая ждала снаружи. Доктора прибежали и стали по всякому просить его оставить девочку в больнице, потому что она еще не выздоровела. «Она принесет вам беду! У вас нет права держать ее в больнице! Я закрою тут все за час, если вы будете сопротивляться и не отдадите мне это мерзкое существо!»
Петя замолчал и отвернулся, чтобы я не видела его слез.
– И что случилось?
– Доктора его умоляли. Обещали ему все что можно: деньги, льготы, бесплатные лекарства. Моя мама упала в обморок и до сих пор плохо себя чувствует. Анюта кричала, как будто ее режут. Все больные повставали с кроватей, и вышли посмотреть, как тащат эту малютку в лагерь евреев Любашевки.
– Что это за место?
– Ой, Таня, это там уже давно. Это рядом с полицией. Это что-то вроде тюрьмы. Это два или три дома. Там живут несчастные евреи. Нищие, голодные и работающие на самых тяжелых работах. Там есть все: проститутки, швеи, кузнецы, плотники и просто женщины, которые работают на полях в округе.
– Сколько там людей? – спросил осторожно Стасик.
– Я не знаю. Я думаю, сто двадцать или сто пятьдесят. Теперь может меньше…
– Почему теперь меньше? – спрашиваю.
– Почему меньше? Какая же ты глупая, Таня! Они умирают от голода, от болезней. Или просто умирают. Поэтому меньше! Туда невозможно попасть, я пытался. Охранник пригрозил мне, что убьет меня, если я войду. Он направил на меня ружье, и я убежал.
– Зачем ты туда пошел? – спросил Стасик. – Туда нельзя ходить!
– Нельзя, нельзя… Я хотел узнать, что с ними делают. Таня, я пришел к тебе с просьбой. Моя мама говорит, что Плутоньер твой друг, что ты говоришь с ним по-румынски и переводишь ему все, что ему нужно. Мама хочет, чтобы ты пошла к нему в полицию и сказала, что хочешь взять Анюту к себе. Добрая акушерка, конечно же, согласится.
– Я не знаю, согласится ли она, но самое главное – это вытащить Анюту из этой опасности. Петя, ты можешь мне показать, где полиция? Я пойду с тобой.
– Я провожу тебя в полицию, но я не буду заходить. Меня еще посадят.
Стасик прошептал мне на ухо:
– Таня, не ходи! С тобой что-нибудь случится. Говорю тебе, не ходи! Тебя посадят! Ты думаешь, что все можешь все? Это не правда! Они подумают, что и ты жидовка, как Анюта!
– Откуда ты знаешь, что Анюта жидовка?
– Все знают. Акушерка успела рассказать всем деревенским в округе.
– А что она рассказывала обо мне?
– Что ты красива как кукла и очень умная.
– И это правда? – спросила я у Стасика.
– Конечно же, нет! Это глупости! Женщины всегда говорят глупости!
– Перестаньте морочить голову! – говорит Петя. – Пошли уже, Танька! Пошли скорей!
– Что мне нужно взять с собой?
– Ничего! Двигайся быстрей!
Стасик побежал за нами и закричал:
– Танька, они убьют тебя! Не ходи!
Это последние слова, которые я слышала от голубоглазого Стасика.
Мы быстро шли. Это было очень сложно для меня. Петя шел очень быстро, у него были длинные ноги. Я же плелась позади. Боль в ногах усиливалась. Я пришла в полицию совершенно мокрой. Петя покинул меня, не доходя немного до полиции. Он сказал, что подождет там, чтобы увидеть, что со мной произойдет. Я высоко задрала свой нос и с гордостью вошла в волчью пещеру. Я и секунды не сомневалась в том, что моя миссия очень легкая. Усатый Плутоньер сидел за красивым письменным столом, который, конечно же, украл из какого-то богатого дома. Перед ним лежала стопка всяких бумаг и фотографий. Рядом стоял сержант. Мне помнилось, что его звали Василиу. Я была с ним знакома, потому что он иногда приходил в больницу и приносил конфеты. Тогда он мне рассказывал, что ему их присылают из его дома в Румынии. Он всегда просил меня сопроводить его в кабинет Софьи Федоровны, чтобы узнать всякие вещи связанные с работой больницы. Все относились к нему с симпатией. Он был хорошим парнем. Я помню его молодое, улыбающееся лицо.
– Добрый день. – Сказал усатый своим громогласным голосом. – День добрый, маленькая молдаванка.
Так он меня называл. Мой румынский не был похож на его.
– Я пришла к вам с просьбой, господин Плутоньер. – сказала я без страха и улыбаясь.
– Какая просьба? Что ты можешь хотеть от меня, бедного солдата? – сказал он ядовитым тоном.
– Немного. Вы забрали маленькую, хорошую Анюту, а она у вас тут умрет в заключении. Я пришла забрать ее к себе.
– Что?! Как ты смеешь просить такое?! Это девочка наших врагов, жидов! Скажи спасибо, что я ее не убил.
– Ты смеешься надо мной? – говорю я с улыбкой, а у самой ноги трясутся от страха.
– Я мог наказать медсестер и докторов, закрыть больницу потому, что они держали там эту жидовку пол года! Это криминальное преступление по румынским законам!
– Могу ли я присесть, у меня очень болят ноги.
– Садись! – кричит Плутоньер сердито. – Как ты смеешь требовать у меня такое? Я могу наложить на тебя большой штраф за твою наглость!
Когда я села, я заметила что на одной из бумаг лежит пистолет, но я не боялась. Крики – это крики. Не страшно. Я смотрю на него и говорю:
– Откуда ты знаешь, что я молдаванка, а не жидовка как Анюта? Как ты различаешь? Что есть у Анюты, чего нет у меня? Рога?
– Насколько мне известно, у нее нет рогов. Ты смеешься надо мной? Ты наглая девочка! Я брошу тебя в эту помойную яму к жидам!
– Хорошо, бросай меня! – хладнокровно говорю я. – Я тоже жидовка!
До сего дня у меня перехватывает дыхание, когда я вспоминаю этот случай.
Он берет пистолет и направляет его мне в голову. Он полон злости. Его глаза выходят из орбит. Я увидела дуло пистолета направленное мне между глаз. У меня пропал дар речи.
– Господин Плутоньер! – услышала я голос сержанта. – Вы сошли с ума! Это же маленькая девочка… подумайте о своих дочерях… вы делаете ужасную ошибку, если убьете ее! Может быть, что она совсем не жидовка!
Рука Плутоньера дрожала, и ствол пистолета отодвинулся от моего лба. Сержант Василиу схватил Плутоньера и силой согнул ему руку. Пистолет выпал.
– Я не дам вам совершить такой грех. – Взмолился Василиу. – Вы будете вынуждены отвечать перед богом!
Я побледнела. Меня тошнит. Слабость. Только не падай в обморок, говорит мне мой мозг, только не это! Улыбайся!
– Ты смеешься, мерзкая девчонка?! – говорит Плутоньер задыхаясь, как после бега. – Я закину тебя за решетку! Там ты сможешь заботиться о своей жидовке! А потом я выясню кто же ты на самом деле! Напишем в Кишинев. А пока что ты будешь гнить вместе с остальными жидами. Василиу, уведи эту мерзость с моих глаз!
Я почувствовала теплую руку сержанта на моем плече. Я закрыла глаза. Я позволила ему сделать со мной все, что он захочет. Он протаскивает меня несколько шагов и говорит:
– Не бойся! Я поведу тебя в главную комнату евреев. Там никого нет, все на работе. Там ты найдешь свою маленькую девочку. Я позабочусь о тебе потом, когда никто не будет видеть.
Я оглядываюсь. За деревом стоит Петя. Он закрывает рот руками. До смерти напуганный. Бедный Петя. Он, наверно, не может себе этого простить до сего дня. Если бы он не уговаривал меня пойти с ним, я бы избежала тех мучений, которые меня ожидали.
Сержант Василиу не показывал никакой симпатии пока мы были на улице. Мы отошли от глаз любопытных прохожих, которые с интересом наблюдали за происходящим. Зашли внутрь. Он посадил меня на пол в углу.
– Сиди тихо. Через несколько часов я принесу тебе еду и воду. А пока что я приведу Анюту.
Я сидела на полу, облокотясь на стену. Я не верила тому, что со мной произошло. Я вся дрожала. Меня тошнило. Через несколько минут пришел сержант, неся на руках Анюту, завернутую в больничные одеяла. Анюта заплакала и крепко обняла меня своими маленькими ручками.
– Таня, Таня, Таня! Спаси меня!
Ее «еврейский акцент» теперь слышался гораздо сильнее, чем раньше.
Я поняла, что с этого момента ее судьба – это и моя судьба.
23
С этого злосчастного дня, я поняла, как это быть «парией» – отбросом общества. Другими словами, как это быть «гоем» среди евреев. Они презирали меня точно так же, как «гои» презирали меня за то, что я еврейка. Никто не знал, кто я на самом деле. Никто не хотел знать. Никто ничего не хотел. Не разговаривать со мной, не делиться со мной, не дать мне место для сна на полу в комнате. Несколько ночей я спала между стеной и людской массой, которая лежала и храпела. Анюта спала на моих руках, а больничное одеяло укрывало нас обеих. Эта людская масса была мне неизвестна. Они говорили на идиш. Я не понимала их, только несколько слов, которые я знала от бабушки и дедушки. Они меня также не понимали. Они презирали меня за то, что я притворилась «гойкой», чтобы получить все льготы и довольства, которые «гои» могут дать. Мой юный возраст не вызывал у них ни малейшего сочувствия. Ненависть ко мне была очень сильной. Конечно же, и по отношению к Анюте тоже.
Я была очень обижена и сердита. Я думала, что если это мой народ, то мне лучше умереть. Я стыдилась их. Как избавиться от них, как сбежать? Я была готова на все, лишь бы выбраться оттуда. Позже, после нескольких месяцев пыток и голода, мне стало известно, что Петя и сестры из больницы не раз останавливались у этого закрытого места и просили разрешения войти и увидеть меня и Анюту, чтобы передать нам еду. Но охранники им не разрешали. «Мы не даем еду собакам» – говорили они.
Приближалась зима. В это время меня взяли на работы. Я должна была таскать ведра с водой из колодца на кухню охранников. Ручки ведер были железные и очень тонкие. Они резали мне руки. Ручку колодца, с помощью которой опускали ведро в колодец и поднимали его, было очень трудно крутить. Я приносила на кухню одно ведро за другим. Никогда у меня не получалось принести оба. Для меня это было слишком тяжело. На мое счастье надо было принести перед обедом только четыре ведра. После обеда эту работу выполнял какой-то пожилой еврей. Если я выполняла работу до одиннадцати, то мне давали чистить картошку, резать овощи и хлеб. Это все было не просто для моих рук, но я хотя бы сидела на стуле в теплом месте, даже очень теплом. Печь работала день и ночь. Довольно скоро я понравилась повару и его помощникам. Из сострадания, они давали мне все меньше и меньше заданий. В двенадцать с половиной я ходила в соседний дом, «швейная». Две проститутки управляли швейной. Здесь занимались и этой древней профессией. Они взяли на себя еще одну обязанность – раздавать хлеб семидесяти евреям, которые жили в двух других домах. У швей было очень важное выражение лица, когда они резали рассыпающийся хлеб и раздавали его по своему усмотрению. Я брала хлеб для Анюты. Хлеб рассыпался и его нельзя было удержать в руках. Я принесла железную тарелку из кухни. Два кусочка, каждый по сантиметру толщиной. Как только он касался тарелки – сразу же рассыпался. Хлеб делали из кукурузы, которую мололи вместе с кожурой, и, возможно, добавляли немного муки. Этого нам должно было хватить на день и ночь, до следующего обеда. Я возвращалась на кухню. Повар и его помощники смеялись надо мной, спрашивая, хочу ли я заниматься тем же, чем занимаются швеи. Несмотря на то, что я понимала их «добрые» намеки, я отвечала:
– Но я не умею шить.
Почти каждый день они смеялись, задавая вопрос и получая ответ на их глупую шутку. К моему счастью, ко мне относились с симпатией, без задних мыслей, и щедро наполняли мою тарелку борщом с мясом. Я, однажды, сделала большую ошибку, спросив у повара, не русский ли он. Он обиделся и сказал:
– Я?! Ни в коем случае! Я румын! А почему ты спрашиваешь?
– Я думала, что румыны не умеют готовить борщ.
– Борщ – это румынское блюдо! Вы научились от нас! вы тянете из нас все, что у нас есть.
– Кто? Кто тянет?
– Жиды и русские.
– Я не знала. – Наивно ответила я.
– Теперь ты знаешь правду!
Более мягким тоном он добавил:
– Если бы я не знал, что ты пожертвовала своей жизнью ради этой жидовки, я бы не давал тебе еду.
Несмотря на все ругательства, повар и помощники меня любили. Наполняли мою тарелку остатками супа и даже провожали меня до большой комнаты. Они следили за тем, чтобы Анюта съедала все, что ей принесли. Даже, иногда, гладили ее по щеке. Евреи, которые находились в комнате, ненавидели нас еще больше.
Неожиданно пришла зима. Дождь и слякоть сменились снегом и морозом. На мое счастье у меня были валенки, которые мне дали в больнице и теплые вещи, которые мне передал Петя через «заднюю дверь», с помощью сержанта Василиу. Симпатия этих людей грела меня изнутри. А записки, которые мне передавали из больницы, были моим единственным утешением.
Неожиданности омрачали мое счастье. Мороз. Мороз! Мороз. У меня не было перчаток. Я не могла приносить воду. Ручки ведер прилипали к моим рукам и оставляли раны. Мокрое железо прилипало к коже и тут же замерзало. Результатом стала кровь, раненая кожа и слезы. Да, слезы, я признаюсь. До сего момента я сдерживалась. Однажды, когда повар увидел мои руки все в крови, он испугался и позвал помощника посоветоваться, что же теперь со мной делать.
– Ты принесешь воду, для тебя это не сложно.
Лицо помощника перекосило:
– Ты защищаешь жидовку?
Повар прошептал ему на ухо:
– Дурак, она вовсе не жидовка. Ты видел крест, который у нее на шее? Настоящая жидовка превратится в метлу, если посмеет повесить такой крест себе на шею.
Помощник побледнел и сказал:
– А если она ведьма?
– Тупица, эта девочка похожа на ангела, а не на беса. Те не видишь?! У тебя нет глаз? Эта девочка страдает из-за малышки! Ты должен был сам догадаться. Все это понимают, но не могут ничего сделать. Плутоньер решил, что она заслуживает наказание за свою ложь. Мы все замечаем и должны помочь девочке. Бог нам в помощь!
Второй повар перекрестился.
– Какое преступление! Какой грех!
– Тихо. Молчи! Дурак, никогда не повторяй этого. Если до него дойдет – пуля в лоб! Следи за собой.
– Что будем делать?
– Сделаем просто. Сначала найдем ей варежки.
– Варежки? Вы думаете, что вы в Бухаресте? Пойдете в магазин и купите варежки?
– Не волнуйся, я пойду к швее и попрошу, чтобы она сшила варежки из теплого материала. Для меня она все сделает.
– Ах, швея, швея… Сделала бы она что-нибудь для меня.
А здесь должны быть несколько слов, которые мне не позволила цензура.
Я слышала разговор и сказала про себя, как мне повезло с этими людьми, несмотря на то, что они румыны. Я вспомнила, слова папы, что есть разные люди в мире. К этому надо привыкать. Да, папа, ты прав. Раньше я этого не замечала. Для меня все разделялись на плохих и хороших.
Через несколько дней появились варежки.
– Таня, у меня есть для тебя новости. Плутоньер хочет тебя видеть. Послезавтра рождество.
– Уже? В этом году зима началась поздно.
– К нашему счастью. – Сказал повар. – Но кто знает, что она нам принесет.
– Что Плутоньер хочет от меня?
– Не бойся, кое-что хорошее.
– Что?
– Я думаю, но я говорю тебе это по секрету, никому не рассказывай. Я думаю, что он хочет, чтобы ты украсила елку. Покажи свои руки.
– Руки еще не зажили.
– Не показывай ему. Я дам тебе большие ножницы, будешь держать их в правой руке, в левой оставь перчатку.
– Для чего ножницы?
– Для бумаги, глупая, для бумаги.
– Вы хотите сказать, что у вас есть цветная бумага?
– Да. Но работа должна быть сделана секретно! Это сюрприз.
– Но как мы это сделаем?
– Положись на меня. Никто тебя не увидит, пока ты будешь готовить украшения.
– Но нужен клей.
– Клей не нужен. Есть мука и вода.
– А, я слышала об этом. Дома я делала с настоящим клеем.
– У вас была елка? Вы не жиды?
– Я с самого начала говорила, что нет. Но никто мне не поверил.
Оба повара перекрестились и перешептывались о моей горькой судьбе. С ними у меня получилось. С Плутоньером будет сложнее. На следующий день я попала в «святая святых» – в комнату самого Плутоньера. Я испуганно вошла и дрожащим голосом спросила:
– Господин Плутоньер, вы меня вызывали? Я здесь.
Плутоньер посмотрел на меня и сказал:
– А, маленькая жидовка, маленькая лгунья. Пришло время платить за грехи.
Я заметила лицо Василиу за спиной Плутоньера и успокоилась. Я поняла, что надо мной шутят.
– Рождество! – провозгласил Плутоньер. – Рождественская елка! Ты ее украсишь!
– Я? Как я это сделаю? У вас есть стеклянные игрушки?
– Что? Мы на войне! Нет у нас никаких стеклянных игрушек.
– Тогда что повесим?
– То, что ты сделаешь.
– У вас есть фотография?
– Фотография кого?
– Вас!
– Для чего?
– Я нарисую вам с него большой портрет. Но для этого мне нужны цветные карандаши, картон и бумага.
– Ты можешь это сделать?
– Я надеюсь, что выйдет хорошо. Мы повесим его под звезду, которую я сделаю из фольги.
– Где мы возьмем фольгу?
– У вас нет пачек сигарет с фольгой?
– Эта девочка – гений! – закричал Плутоньер. – Я всегда это знал. Но если не получится, ты знаешь, что тебя ждет?
Я замерла. Василиу рассмеялся и сказал:
– Не бойся. Мы тебя любим и не причиним тебе вреда.
Плутоньер произнес несколько гортанных звуков.
– Скажите мне, господин Плутоньер, у вас есть яблоки?
– Много!
– Мы окунем их в сахарный сироп и повесим вместо игрушек.
Сзади я услышала удивленные голоса. Повар, который держал меня за плечи, громко заявил:
– Я беру на себя это! Выйдет чудесная елка!
Все получили приказы, готовить для меня все для важного дня.
В тот день мы с Анютой не ели. О нас забыли и не дали еды. Ночью, во время работы, принесли много еды и оставили для Анюты на утро. Солдаты помогали мне готовить цепочки. Я показала им, как это делается. Некоторые уже знали. Я приклеила фольгу на картон. Я попросила, чтобы повесили звезду на самую последнюю ветку. Звезда блестела в свете свечей. Мы повесили их со всех сторон елки. На следующий день должны были повесить яблоки, и елка была бы превосходной! Но, боже мой, как я смогу нарисовать портрет?
В ту ночь я не спала. На следующее утро я не оставляла работу. Я села в запертой комнате с фотографией Плутоньера, на которой он выглядел еще глупее, чем в действительности. Я взяла картон и приклеила на него белую бумагу. Разделила фотографию и бумагу на квадраты. Так делают карты. Я попытала свое счастье и у меня получилось! Я покрасила щеки в розовый цвет. И подбородок тоже. Его лоб я заполнила черными кудрями, которых у него не было. Черные усы. Когда я закончила, то поставила портрет около стены и постучала в дверь. Вошли все. Офицеры, за ними охранники и повара.
– Зажгите свечи. – Говорю я приказным тоном.
Свечи зажжены.
– О, какая красота! – сказали все.
Начали хлопать в ладоши и… Плутоньер поцеловал меня в щеки. Страх усиливался. Я боялась, что он заколет меня своими усами. Но усы были мягкие. Сержант Василиу обнял меня и сообщил:
– Есть еще сюрприз!
Он поднял портрет над головами и произнес:
– Я очень красивый парень! Я пошлю это своей жене в Румынию. Чтобы она меня не забыла.
Так закончился мой рождественский художественный опыт в полиции.
24.
Время течет. Дни проходят без больших изменений до весны 1943-го года. Однажды меня заставили пойти убирать картошку на поле, а потом на железнодорожный вокзал Любашевки. Поварам пришлось один день обходиться без меня. Работа была не совсем трудной, мужчины делали более трудную работу. Они бросали картошку прямо на платформу, а мы женщины, наполняли ящики, которые были предназначены для армии. С особой осторожностью мы клали одну картошку на другую и вытирали влажные. Сидели на платформе. Было еще холодно и очень мокро. Над нами была крыша, которая защищала от дождя картошку, которая была предназначена для фронта. Нам разрешали брать поврежденную картошку домой. Конечно, была недостаточно хорошая картошка, но ее все-таки можно было варить на кострах, которые мы разводили в лагере. Мне нравилось смотреть на поезда. Я радовалась каждому мгновению! Холод мне не мешал и даже влага. Ничего мне не мешало. Я дышала чистым воздухом, даже запах паровозного дыма мне ужасно нравился! Я видела себя и маму в элегантном поезде, когда мы ехали за границу. Я высовывала свой нос, чтобы нюхать паровозный дом. Я радовалась золотистым искрам и вытаскивала свою голову настолько далеко, что моя мама боялась.
– Засунь свой нос внутрь! Что за невоспитанная девочка!
Насколько ясно я вижу лицо моей мамы. Как я скучаю по ней. Как же она меня любила! Я никогда на нее не сердилась!
Вечером мы возвращались пешком, это занимало час или два, точно не помню. Почему-то снег стал мокрым. Мои валенки пропускали воду. Когда я вошла в комнату с моим узлом с картошкой, я должна была поскорее разуться, мои ноги были мокры и холодные. Анюта жалуется:
– Целый день я одна! Холодно мне, скучно мне, все уходят на работу, и ты меня оставляешь! Я не хочу оставаться одна. Останься со мной. Скажи им, что я тебя просила!
– Да, да, – говорю ей. – Начни надевать чулки и твои туфли как большая.
– Туфли, которые мне принес Петя, такие большие, я не могу их надеть!
– Давай мы их заполним бумагой. Иди сюда, я тебя причешу. Ну, иди сюда, сейчас же!
– Я не хочу быть причесана. Ты мне найдешь вшей, как всегда. А потом я должна буду мыть голову холодной водой и керосином!
– Если ты мне не дашь тебя расчесать, я постригу тебя, так как тогда тебя постригли в больнице!
– Не хочу! Я не хочу быть похожей на мальчика! Моя мама говорит мне, что у меня красивые волосы.
«Странно первый раз я слышу, что она вспоминает свою маму!» – думаю я.
– Анюта, есть у тебя счастье.
Когда я закончила работу над ее головой.
– Нет у тебя вшей, они не любят твою красную голову.
Мы обе хохочем.
На следующее утро мы варили нашу картошку. Фактически мы ее не варили, а пекли. Разводили огонь, ждали, пока он потухнет, а потом засыпали картошку горячими углями, накрывали ее и ждали, иногда даже больше часа. А потом вытаскивали ее таким образом: выбрасывали палкой из костра и старались, чтобы она упала на кусок материи, которую мы расстелили на земле для этой цели. Картошка разваливалась, и ее можно было сразу же есть, и даже обжигаться, жалко не было соли. Анюта не чувствовала этого. Я обожала эту картошку.
Анюта выросла. Ее ножки стали длинными, но продолжали быть маленькими. Не было никаких следов обморожения. Я обмотала ее ножки тряпками и смогла их засунуть в туфли, которые Петя принес ей неделю назад. Я боялась, что она может простудиться. По вечерам еще были заморозки.
В один прекрасный день, когда я вернулась с вокзала, и в руках у меня был узелок с картошкой, Анюта не пришла меня встречать. У дверей стояла старуха, жена кузнеца и плакала.
– Что случилось? – спрашиваю я.
– Забрали Анюточку!
Я вся похолодела.
– Кто? Как? Когда?
– Сегодня утром, приехала коляска на двух лошадях, не одна лошадь! Сидит там румынский офицер, чтоб он сгорел, возле него расфуфыренная и раскрашенная баба в шубе. Настоящий мех! Он не слез из коляски, только она. Она побежала вовнутрь и заорала: «Анюта, Анюта!». Ты знаешь, Таня, она была раскрашена как швеи-проститутки! Красные щеки, помада на губах и ужасно, ужасно! Она схватила нашу маленькую Анюточку, потащила ее в коляску, солдаты попробовали ее остановить, но офицер, наверно, он большого звания, приказал им не трогать ребенка и оставить ее в покое, они отошли и отдали честь. Не смотря ни на рев, ни крики ребенка, эта расфуфыренная баба сунула ее в коляску. Она положила ее между подушками, завязала ее голову платком и сказала офицеру: «Давай, укатывай скорей». – «Я не хочу тебя! Ты не моя мама! Мама моя умерла. Я хочу Таню! Таня, Таня, Таня!» – так она кричала пока эта странная, раскрашенная баба не сказала: «Посмотри на меня! Я твоя мама! Я твоя мама». Офицер хлестнул своих лошадей, и они уехали. Издалека мы еще слышали детские крики: «Таня! Таня! Таня!…»
Я стою у дверей в моих руках узелок с картошкой, который я принесла для нашего пира, я теряю что-то очень дорогое. Может это моя судьба, терять все, что мне дорого?
Я пошла в мой угол. Накрылась моим тонким одеялом. Пустота. Холод. Отчаяние. Конец света.
25.
Я осталась одна. Настолько одна, что я просто перестала говорить. Перестала ходить брать хлеб у «швеек». Я довольствовалась тем, что мне давал повар, и тянула время, чтобы как можно позже возвращаться в наши общие конуры.
Март. Мне очень трудно доходить до «дому», снег растаял и были большие лужи, мои валенки насквозь промокали, несмотря на то, что я их наполняла газетой, бумагой и тряпками.
Сегодня произошла очень странная история. Сержант Василиу увидел меня сидящей на ступеньках у входа на кухню и наполняющую мои валенки бумагой. Я чувствую, что на меня кто-то смотрит, поднимаю глаза и вижу, что он смотрит на мои маленькие ноги. О, чудо! У него слезы на глазах.
– Так ты ходишь все время?
– Да.
Я краснею как свекла.
– У тебя нет никаких других туфель?
– Нет. – Шепчу я, – были. Украли, забрали…
– Завтра я тебе принесу резиновые сапоги.
Он уходит. Ему неприятно показывать свою мягкотелость. Солдат – это солдат.
Я запомнила ужасною сцену умирающих евреев, двигающихся медленно в конвоях или лежащих у стены. А я лежу около столба, несколько мужчин, среди них евреи, снимают мои красивые сапожки и таким образом приговаривают меня к смерти. Счастье. Я вижу передо мной раскосые глаза моего Мишки-узбека. Что с ним случилось? Кто знает. От всей души я надеюсь, что он остался в живых. Когда я дошла до той комнаты, где я спала с моей маленькой Анютой, ждал меня неожиданный «сюрприз»!
– Возьми свое шматье в комнату кузнеца и его жены в другом доме. Нет у тебя никакого права оставаться здесь. Когда взяли маленькую, ты потеряла свое право оставаться в этой комнате.
Несколько еврейских женщин повернули меня силой и выбросили меня из комнаты и за мной все мои узлы и узелки Анюты, и закрыли «теплую» комнату, в которой я жила раньше по праву. Опять я надеваю свои сапоги, беру свои грязные узлы, и выхожу во двор. Темнота. Я шлепаю между лужами. Меня ничего не интересует. Все меня выбрасывают.
Второй дом. Я толкаю дверь. Ее очень трудно открыть. Еще труднее ее закрыть. Она висит только на одной петле. Чтоб ее открыть надо ее приподнять. Она очень тяжела – для меня. Я вхожу вовнутрь. Тяжелый запах плесени, пота, немытых тел, и вонь от диареи маленького ребенка. Я чуть не задохнулась от этих запахов. В этом доме были две комнаты. Одна, большая, в которой были нары вдоль стен и на них 25 мужчин и женщин готовые ко сну, накрытые рваными одеялами румынской армии. Я их не знала, я их никогда не видела. Они работали за Любашевкой на полях и обслуживали румынских солдат. У правой стены, передо мной, под окном закрытым бумагой – стекла не было – лежала женщина, большой красоты, с впадающими щеками красными от лихорадки. На ее руках лежал маленький ребенок, который беспощадно орал.
– Слава богу,– говорит она. – Этого нам не хватало! Девчонка-солдат. Здесь нет ей места! Убирайся к солдатам!
К моему счастью входят два старика, мужчина и женщина, берут меня за руки и вводят меня в жалкую крошечную комнатушку. Глухая стена без окна. В углу широкие нары. Их «спальня»! они меня спасли, думаю я. Эти обозленные собаки меня бы убили. Дед взял несколько досок, которые он вытащил из своей кровати и положил у ног своего топчана.
– Положи на эти доски все мягкое, что у тебя есть, и хорошенько укройся, потому что у этой комнаты нет крыши.
Я смотрю наверх и вижу балки крыши, никакого следа потолка!
– Ты видишь? Если был бы потолок, тепло бы не убегало.
– И окна нет?
– Я его заложил кирпичами. Я сделал это очень хорошо. – Говорит старик с большим удовольствием.
– Вы кузнец?
– Да.
– А я вас раньше не видела.
– Целый день я работаю в кузнице, и моя жена там со мной. Там тепло. Поздно вечером мы приходим сюда спать.
Они мне помогли устроить мои тряпки и мои доски. Я легла на живот и укрылась своим серым пальто. Пришло время надеть мою красную шапочку. Старики расхохотались, она им очень понравилась. Они были очень добрые старички. Несмотря на тяжелые условия, они были замечательными людьми. Отнеслись ко мне с любовью. В первую ночь я поняла, что у меня слишком длинные ноги и что мое серое пальто не доходит до ног или до плеч. Я натягиваю пальто на свои голые ноги, а плечи на дворе. Вот дилемма. В эту ночь у меня был приступ астмы, наверно от холода.
26.
Так прошел месяц. Даже больше. Сержант Василиу принес мне пару сапог из кожи! Не из резины! Они даже почти хороши на меня, чуть-чуть большие. Чулок не было, но вместо них были бумаги. Я опять могу ходить! Мое настроение тоже исправилось благодаря повару, который давал мне гораздо больше еды и утром и в обед. Я не нуждалась в этом крошащемся хлебе, которые мне давали швейки-проститутки. Я даже могла найти немного еды для моих стариков. Я всегда приносила им свечи. Они зажигали эти свечи перед сном и чувствовали какое-то облегчение, когда смотрели на дрожащий свет свечей. Иногда старичок рассказывал мне какую-нибудь историю. Его рассказы были фантастические сказки о евреях, христианах, русских украинцах и даже татарах. Все рассказы кончались хорошо. Я стала к ним привыкать. Называла их дедушка и бабушка. Они меня называли красная шапочка. Я слышу голос моего папы! Я открываю, что наш повар не умеет читать письма своей жены. Письма написаны по-румынски, как будто их писал какой-то «писатель» из деревни, а может быть и учитель. Я ему их читаю, пять-шесть раз каждое, он их знает наизусть. Я не смею его спрашивать, кто написал эти письма и почему он не может их читать. Раз он мне сказал, что он очень плохо видит. Он любил слышать из моих уст эти красивые слова. Эти письма были подписаны «твоя жена, любящая и верная». Звали ее Мария. Но имя моего повара было мне не известно. Я его называла «господин повар». Он был очень этим доволен. Он давал мне кусочки сахара, которые он держал в маленьком узелке в своем кармане. Его борщ был каждый день все лучше и лучше (под моим влиянием). В одну из пятниц, прежде чем я оставила теплую и пахучую кухню, он спросил меня, что я делаю в воскресенье утром.
– Как всегда, – говорю я. – Приношу воду из колодца, а потом сажусь в угол и жду, пока день закончится.
– Завтра праздник!
– А! А! Да.
Понятия не имею что за праздник, попробую не открывать свое незнание.
– Я сам принесу воду! – героически заявляет он. – Ты красиво оденься и пойди проведать свою акушерку.
Я ему рассказала о ней только хорошие вещи.
– Я знаю, что ты не жидовка, – говорит он потихоньку. – Ты не должна быть тут в лагере. Все это знают, но нельзя, чтобы это вылетело изо рта, понимаешь?! Плутоньер не может признаться в своей ошибке. Ты можешь идти, я тебя прикрою, даже завтра и послезавтра. Иди туда, чтобы тебя помыли, постригли и сделали все, что тебе надо. Но помни, что с темнотой ты должна вернуться. Если наши полицейские, которые следят за жидами, тебя не найдут это очень плохо кончится, поняла?
– Поняла!
На следующий день я встаю очень рано и направляюсь к акушерке. Еще темно. Никто меня не видит. Снег почти совсем растаял. Но земля, еще замерзшая как камень. После часа дороги я дохожу до дома акушерки. Никого нет во дворе, а печка на дворе конечно не горит. Наверно печка горит внутри, я чувствую запах дыма. Я ищу комнату Стасика. Смотрю через окно. Стасик не спит. Я стучу ногтем по стеклу окна.
– Стась, Стась! Станислав! Открой уже, наконец, окно!
Стас прилипает носом к стеклу, его глаза выходят из орбит, рот у него открыт и он шепчет, но я не слышу, хотя понимаю:
– Боже Матка Стаховенска!
– Это я, Таня! Открой уже окно!
Он читает по моим губам, открывает окно, затаскивает меня за воротник, и ставит посреди комнаты.
– Ой! – говорит Стасик. – Ты наверно полна вшей, блох и всякой другой грязи, от тебя идет ужасный запах, моя бедняжка! Я тебе сейчас же сделаю ванну и дам тебе одежду этой страшной старухи.
– Что ее здесь нет?
– Нет, нет! Она спит в одной деревне. Там две роженицы. Ты можешь здесь остаться даже на два дня.
– Я не могу. Я должна быть вечером дома.
– «Дома»?! Что такое «дома»?
– Ну, в лагере, я там сплю на полу.
– Ты выглядишь ужасно, пойдем на кухню, я подогрею тебе молоко и большой кусок хлеба.
Мы заходим на кухню, это и столовая, и кухня, и гостиная и даже «библиотека», все в одной комнате. Без церемоний Стасик меня раздевает, с большим удовлетворением он бросает все мое «белье» прямо в мусор на дворе. Осматривает свои руки, а потом кладет мое верхнее пальто, мой шерстяной свитер, не знаю, как он у меня появился, и мою длинную юбку прямо в горячую печь. Стасик смотрит на меня с удовлетворением, пока я стояла в «натуре».
– Это убьет вшей и все остальное! – торжественно заявляет Стасик.
– Я надеюсь, что это не убьет мое пальто!
– Не бойся! Я уже делал так, это все мне известно! – заявляет мой ближайший друг. – Залезай в горячую воду.
Без стыда я залезаю в большое корыто, наполненное горячей водой. Стасик не смотрит на меня, но бросает большой кусок мыла прямо в воду. Я плескаюсь в корыте долгое время. Чувствую себя изумительно.
– Не выходи из воды. Возьми ножницы и состриги свои длинные волосы, я не хочу их трогать.
– Я не хочу стричь волосы. – Умоляю я.
– Стриги, дура!
Я стрегу. Волосы падают в корыто. Стасик следит за мной орлиными глазами. Когда я заканчиваю, он бросает мне простыню, которая должна заменить банный халат. Я выхожу из воды. Он тащит корыто медленно-медленно через двор и осторожно выливает воду. Он стоит во дворе и ждет пока, я оденусь в белье нашего общего врага. О, чулки из шерсти!!! Как я удивлена! Эта маленькая одежда точно на меня!
– Ты можешь зайти. – Кричу.
Стасик входит, открывает рот и смотрит на меня с удивлением.
– Я не верю. Это ты, Танька? Ты похожа на мальчишку!
– Почему тебе вдруг стало важно, на кого я похожа? Перестань смеяться надо мной!
– Ну, пошли пить молоко, я тебе нагрею.
– Стась, скажи, а мое пальто и шапочка не сгорят в печке?
– Если и сгорят, то я тебе дам другие.
– Что? Эти вещи принадлежат акушерке? Она толста как корова!
– Да, нет! Конечно нет, это не ее, не волнуйся. Она получает мешки одежды для нуждающихся. Я тебе дам еще «домой», как ты называешь эту противную дыру, в которой ты живешь.
– А она то не заметит, что ей чего-то не хватает?
– А, нет, тут лежат мешки на мешках с вещами. Сиди, пей молоко, а я дам тебе хлеб прямо из печки.
Стасик принес сливочного масла, он мажет мне его на хлеб и смотрит, как я его с удовольствием поедаю.
Я наслаждалась всем, у меня нет слов, чтобы объяснит мое чувство облегчения.
– Она не вернется вдруг?
– Я же говорю тебе, что она ушла вчера и будет там, по крайней мере, три дня.
– А если вдруг роженица все сделала в одну ночь и она вдруг вернется?
– Как ты глупа. Осталась дурой, как и раньше. После родов, два или три дня, надо заниматься ребенком, забыла!
Стасик смотрит на меня и смеется.
– Стасик, ты знаешь, я забыла, что ты такой красивый…
– Ты что с ума сошла? Я красивый? Ты красивая!
– Я красивая? Ты делаешься дураком все больше и больше из-за этой акушерки. Если я красивая, то ты совершенно сумасшедший!
Стасик смеется очень громко и приносит мне зеркало. Мы оба смотрим в маленькое зеркало. Стасик – он Стасик. А я … не я! Чужая девушка, не может быть, я же девочка, ребенок. Стасик, безусловно, ничего не понимает, он мальчик.
– Ой, – говорит Стасик. – Ой, ой, ой! Ты даже не знаешь, насколько ты красива! Это твое счастье.
– Мое счастье, что я красива или что я этого не знаю!
– Замолчи! Мне надоело вообще с тобой разговаривать. Я ненавижу девочек.
Стасик, наконец, вспомнил мое несчастное пальто, которое почти сгорело в печке. Запах горящей шерсти начал распространятся по комнате. Очень осторожно, Стасик вытащил палкой мое серое пальто «уменьшилось» в печи, а моя красная шапочка превратилась в шапочку младенца.
– Ты не бойся. – Сказал он, в ответ на мое жалкое выражение лица. – Все будет так, как и было.
– Как?
– Сейчас увидишь, я это делаю со всеми вещами, которые она приносит.
Стасик берет вешалку. Представьте себе – вешалку! Я смотрю на нее с большим уважением. «Наверно, акушерка очень богатая» – говорю я про себя. Он очень красиво вешает мое измученное коротенькое пальто на вешалку. Над ним вешает красную шапочку, выносит все во двор и вешает все на веревку. – Ай, ай, ай, на улице ведь все это замерзнет. А что произойдет, если из этого ничего не выйдет?
– Ты не бойся, вот сейчас ты увидишь, мы оба прилипли носами к стеклу и смотрим на мое пальто, от которого идет пар. Стасик улыбается с уверенностью.
– От тяжести влаги оно вернется к себе. – Говорит он с уверенностью.
У меня было чувство, что он не так уж и уверен в себе, но я молчу. Мы сидим у стола и пьем чай из морковки.
– Расскажи мне, как там у жидов?
– Ужасно!
– А Анюта?
– Ее мама приехала и забрала ее…
– А ты, дурочка, попала в ловушку, когда пошла ее освобождать. Я тогда говорил тебе это!
– Не было другого выхода, она была малютка!
Я ему рассказываю, что происходит в лагере.
– А, я понимаю… в Варшаве это называлось гетто…
– Гетто? Это что за слово?
– Я думаю, что это старинное немецкое слово. Они пользовались этим словом, чтобы указать место заключение евреев.
– Расскажи мне о гетто.
– А тебе это зачем нужно? Это тяжелая история.
– А мне не мешает, расскажи.
– Хорошо.
27.
Стасик сидел на скамейке и молчал. Погрузился глубоко в какие-то мысли. Его глаза стали смутными.
– Танька, я хочу, чтоб ты сидела спокойно и не мешала мне говорить. Поняла?
– Да, я поняла.
– Я не жид. Мои родители тоже не жиды! Мы попали в варшавское гетто.
– Варшавское гетто? Как вы попали туда? Вы же не принадлежите этой «расе»?!
– Я сказал тебе не мешать! Слушай внимательно: немцы вошли в наш дом, в нашем доме было восемь квартир, почти во всех жили жиды. Среди них было несколько очень приятных людей, я играл с их ребятами во дворе. Немцы приехали на грузовике. Были выстрелы, нагайки, ужасные крики на немецком. Мама и папа были дома, я на дворе. Немцы не проверяли. Они никого не проверяли! Потащили всех к грузовику и заставили в него влезть. Собрали всех детей со двора, бросили их на другой грузовик! Мы ехали не долго. Мы подъехали к стене старого города, ворота были открыты. Выгнали нас из машины с помощью нагаек. Всех били: по спине, по голове, по ногам! У нас не было ни вещей, ни еды. По улицам гетто ходили и стояли жиды, и никто из них не удивился происходящему. Все прошли мимо нас, не обращая внимания на наши крики. Ну, что я тебе сказал? Это – жиды! Они не помогают друг другу!
– Немцы зашли с вами?
– Я думаю, что они вошли, кто-то нас все время колотил. Я многого не помню. Я лежал на улице, и из моей головы сочилась кровь. Мои руки тоже были красные от крови. До вечера я так и лежал на улице вместе с другими детьми, они наверно тоже были ранены, они плакали.
– А ты тоже плакал?
– Почему это?! Я буду плакать?! Я молчал.
– Ты молчал? Как же они тебя нашли?
– После нескольких дней меня нашли наши соседи, наши жиды. Они искали своих детей и таким образом нашли меня. Прошел месяц пока я нашел папу и маму.
– Ты был тяжело ранен? Кто тебя лечил?
– Сосед, он был врачом. Скорее всего, он был детским врачом, мы очень любили их, его и его жену.
– Ты уверен, что он был жидом?
– Наши в семье не особенно их любили, но его уважали, очень даже уважали! У него были колоссальные знания, он все знал. И он был гениален в своей профессии.
– И мой папа тоже был гениален в этой профессии.
– Твой папа тоже жид?
– Нет, мой папа не был жидом.
– Ну, так ты тоже нет!!!
– Ясно, что нет!
– Так почему ты здесь? Ты же сюда попала с конвоями жидов.
– Ошибка! – я отвечаю Стасику лаконичным образом, как бесспорную истину.
– Ошибка?! Ошибки, ошибки, весь мир находится в большой ошибке.
– Ты не нашел потом своих родителей?
– Нет, не было «потом»! в гетто был тиф и дизентерия. Ты слышала это слово?
– Да, вся моя семья заболела этой болезнью. Мои родители умерли из-за этой болезни. – Я немного искажаю правду. – Ты уверен, что твои родители не были евреями?
– Я уверен, мама ходила в церковь каждое воскресенье с бабушкой.
– А! И я ходила в церковь со своей няней, она была очень набожной. Я любила слушать хор священников, с такими красивыми низкими голосами.
– А я забыл, что ты из православных, а мы католики, у нас все красивее!
– А как ты оттуда удрал?
– Когда я увидел своих родителей мертвыми, я понял, что я обязан оттуда убежать. Каждый день перед восходом, маленькие дети, очень худенькие, заходят в сточные трубы, которые находятся под СТЕНОЙ.
– А что это за СТЕНА?
– СТЕНА гетто! Дура! Ты еще не поняла?! Я тебе все объясню. Когда они возвращались, то были нагружены едой. Часть этих деток приносили все к себе домой, те, у которых не было семьи, продавали все, что они принесли, за деньги в гетто.
– А почему у них не было родителей?
– Ты очень глупа, Танька! Ничего ты не понимаешь, их же убили! Убивали их без конца!
– А какие деньги там ходили? Особые?
– Да были какие-то бумажки.
– А как назывались эти ваши деньги?
– А ты что не знаешь? Злоты!
– А откуда мне знать?
– А у вас? – продолжал Стасик.
– Во время румын, наши деньги назывались леями, во время советских рублями.
– Я понял, в Варшаве не было русских, слава богу!
– Почему «слава богу», ты дурак! Если бы у вас были русские, такого несчастья бы не произошло.
– Откуда ты знаешь?
– Я в этом уверенна. Слушай, как ты смог оттуда удрать?
– Я влез ночью в трубу и до утра уже был в Варшаве.
– Это так просто?
– Просто? Совсем не просто! А ну залезь ты в трубу длиной в 20-30 метров и без воздуха?! Труба не шире моих плеч. Ну, попробуй. Ты все задаешься!
– Я ничего не говорила, перестань обвинять меня в том, что я задаюсь! Ну, продолжай!
– Я пополз по трубе и когда я из нее вылез, мои рукава совершенно стерлись и на плечах у меня были раны.
– Скажи, Стасик, ты говоришь, что это были канализационные трубы, а ведь они были все-таки сухие. – В моем воображении трубы были связаны с всякими гадостями, и это вызывало у меня отвращение.
– Ой, – говорит Стасик. – Ты ничего не понимаешь. Канализация не работала в гетто. Это были просто трубы.
У меня было очень много вопросов, но я не осмеливалась их спросить. Я видела, что Стасик страшно на меня сердится. Он продолжает свой рассказ – как он встретил молодежь Варшавы, как по ночам они выходили из города и каким образом они дошли до лесов и были там очень долго, пока партизаны не переправили их на Украину. Стасик все мне объяснил и даже нарисовал мне карту.
– А как ты попал в Любашевку?
– Гораздо позже. Я уже несколько лет тут.
– Сколько?
– Я тебе скажу, прошло четыре пасхи и пять рождеств.
– А, – говорю я. – А у меня три раза рождество и три раза пасха.
– Это невозможно! Ты что-то путаешь.
– Я ничего не путаю.
– Ты тут гораздо меньше времени, чем я! В каком году ты вышла из Кишинева?
– Осенью сорок первого.
– А сейчас какой год?
– Весна сорок третий.
– Так как же может быть то, что ты говоришь?
Я очень устала от этого разговора. В конце концов, Стасик поджарил мне яички, потом я надела свое пальто. Оно не стало таким, как было. Оно стало меньше на размер, но оно было все-таки похоже на пальто. Моя красная шапочка налезла на мою голову, несмотря на то, что она была очень маленькой, наверно потому что у меня не было волос. Мы обняли друг друга. Первый раз я обняла мальчика! Даже с моим другом Мишкой я никогда не обнималась.
Стасика я больше никогда не видела!
28.
На следующий день я сделала новую вылазку! Прежде чем я вышла на улицу я заглянула на кухню моего доброго повара. Я ему рассказала, куда я иду, его я не боялась. Он попросил меня известить его, если я оставляю это место. Я его уверила, что он всегда будет все знать. Я хотела увидеть Петю Поплавского, сына моей любимой, доброй сестры. Не помню, как найти их дом, знаю, что сегодня Петя сидит дома, он готовится к экзаменам. Каждый день Петя приходил ко мне в больницу и приносил мне что-нибудь вкусное или тетрадку, чтобы я смогла записывать все, что мне придет в голову. Во время моего пребывания в лагере с Анютой, Петя приносил все, что мог, чтобы облегчить нашу жизнь. Из той одежды, которую Петя принес тогда, ничего не осталось. Все было украдено нашими «добрыми» соседями!
Сейчас я ничего от Пети не хотела. Хочу только попрощаться с ним и поблагодарить его за все опасные приключения, в которые он попадал, когда пытался мне помочь. Петя оказался хорошим товарищем, не только по желанию его матери, он был совсем самостоятельным. Петя не был блестящим учеником и его ум не был настолько острым. Но у него вместо всего этого было золотое сердце!
Мать его была очень простой женщиной, с трудом закончила мед училище для сестер. Его отец находился в армии уже три года. Ни кто не знает, что с ним случилось. Его мама никогда об этом не говорила, но я знала, что Петя страдает без своего папы. Несколько раз он мне намекал, что он очень любит своего отца. Я иду в направлении больницы. Спустя пол часа я дохожу до ряда домов. Сразу же вижу что третий дом справа это дом сестры Поплавской. Когда я подхожу к дому, меня принимает, с радостным лаем, маленькая Петина собачка прыгает на меня и целует в нос. Иногда Петя приносил мне ее в больницу, клал мне ее на подушку, и я ее кормила крошками, которые я собирала для своих мышат. Собачка у Пети была крошечной, за все время моего пребывания на Украине я первый раз видела такую маленькую. Крестьяне держали больших злых собак для охраны домов. Петя сразу же выбежал во двор. По лаю собачки он понял, что она счастлива. Он открывает мне ворота, которые были привязаны веревкой, так что я не могла развязать, потому что мои руки еще не оправились после обморожения. Было очень холодно, но у меня были сапоги, и мне было «море по колено»! Я вхожу в дом, и меня охватывает изумительно-прекрасный запах горячего хлеба! Петя печет хлеб. Сразу же на столе появляются булки, творог и…. сливочное масло!
– Выпьешь стакан чаю?
– Я не откажусь на улице холодно.
– Покушай, это тебя согреет. Что случилось с твоим пальто? Что это за пальто? Эта тряпка не похожа на твое пальто?!
– Не спрашивай, Петенька. Мое несчастное пальто провело целый час в печке Стасика, а также и моя шапочка.
– А, это против вшей. Это хорошо. Очень хорошо. Только это выглядит очень странно. Снимай уже пальто и шапку.
– Пальто я сниму, но не шапку.
– Это что снова вши?
– Не, нет, это не вши, совсем не вши. Просто нет волос!
– Сними, что тебе мешает? Это ведь я! Мы же не чужие!
Было так приятно слышать эту фразу, «мы не чужие».
– Петя, слушай. Я пришла с тобой проститься. Мой хороший Петя, слушай меня, я пришла попрощаться с тобой. Мне очень трудно тебе это говорить.
– Это что еще за извещение? Танька, ты удираешь? Ты имеешь в виду, что есть какая-то опасность? Как ты это сделаешь? Будь осторожна, Танька, тебя убьют! Они не шутят. Ты знаешь, что у них всегда пуля в стволе?
– Я еще не знаю как. Я уверенна, что у меня получиться. Теперь давай оставим все это. Что слышно в больнице? Как дела с Людмилой Александровной? А начальница, Софья Федоровна, как она? Твоя мама здорова? А вообще, что с другими?
– Все то же. Ничего не изменилось.
Я колебалась, спросить ли вопрос, который хочу:
– Почему Людмила Александровна никак со мной не связывается?
Петя опускает глаза и колеблется с ответом.
– Не потому что тебя забыли, нет. У нее большие неприятности.
– Какие?
– Мой папа написал, что муж Людмилы Александровны попал в плен, неизвестно, что с ним случилось.
– А твой папа в порядке?
– Мой папа хочет дойти до Берлина! А я… через месяц вступаю в военный комсомол!
– Что? Хочешь присоединиться к партизанам?
– Через месяц мне исполнится семнадцать лет, пришло время!
– Петя, ты с ума сошел?! Бедная твоя мама! И твой папа и ты!
– Нет никакой другой возможности, Татьяна, это судьба! Надо спасать родину! Я должен идти в леса! Скоро придет лето, и я не замерзну в лесах.
– А что ты будешь делать, когда снова придет зима?
– Тогда будет победа!
Я смотрю на Петю и молчу.
– Прости меня Петя, что я опять перехожу на эту тему… Людмила Александровна никогда меня не вспоминает? – в конце концов, спрашиваю я очень осторожно.
– Она меня просит искать тебя в лагере.
– Она же знает, что ты не можешь зайти. Для тебя это очень опасно.
– Танька, она ничего не понимает. Она думает, что это летний пионерский лагерь… Танька, Людмила Александровна очень наивная женщина. Я слышал, что ее муж грозился ей отомстить за ее измены с румынскими офицерами.
– Что это за измены?! Всего-навсего она должна была с ними разговаривать. Кто-то должен был с ними говорить. Ты круглый дурак, если ты веришь этим слухам.
– Ешь свой хлеб!
Петя сделал кислое лицо, не смотрит в мои глаза и даже повернулся к стене. Я видела все эти его выкрутасы, и сразу поняла, что он хочет от меня что-то скрыть, но не знает как.
– Петя, Петенька, что ты от меня скрываешь, я хочу знать.
Он поворачивается ко мне, его лицо красное как помидор.
– Татьяна, ты еще очень маленькая. Я не могу тебе всего объяснить. Ты просто не поймешь.
– Петя, ты сам дурак! Я все понимаю. Все, все, все!
– Хорошо, но ты не будешь меня потом обвинять?
– Ну, говори уже, что ты молчишь, говори, что случилось?
– Случилось… это случилось. Наша Людмила Александровна спала с двумя офицерами в разное время. Чтобы они согласились держать тебя в больнице еще один год. Теперь ты поняла? Она просто это сделала, просто так!
– Что это такое… объясни мне… она пожертвовала собой ради меня?
– А, может быть, и не пожертвовала собой… может ей это понравилось… мы не знаем.
Я молчу.
– Петя ты хочешь сказать, что она сделала «это» как проститутки?
– Ох! Ты дура! Раз полежала с одним, раз с другим, чтобы ты смогла остаться в больнице, это ты называешь проститутка?!
– Я не верю. Я просто не верю! Ты все это выдумал! Это не она, не Людмила Александровна! Не в коем случае это не Людмила Александровна! Это на нее не похоже. Я не верю!
Я беру свое пальто и шапку и выхожу в дверь.
– Танька, подожди! Ну, подожди. Может быть это просто сплетни. Моя мама это слышала от одной из поварих и рассказала мне.
– Ты видишь! Ты видишь! Ты повторяешь каждую сплетню, которую слышишь!
– Куда ты идешь?
– Уже темно, я должна вернуться. Если они меня там не увидят, то просто убьют. Ты просто не можешь понять!
– Ну, иди, иди. Ну не сердись на меня, пожалуйста! – жалобным голосом говорит Петя.
Я возвращаюсь, обнимаю несчастного Петю и говорю ему:
– Петя, может быть, мы никогда не увидимся и это последний раз. Я желаю, чтобы у тебя было много счастья у партизан. И вообще. Я попробую молиться за тебя, но не знаю кому.
Я выхожу. Я иду очень быстро, почти бегу. Снег очень мокрый. Мои новые сапоги, которые мне подарил сержант, прекрасно себя ведут, они не дают мне промокнуть. Уже март месяц, но снег еще не растаял. В Кишиневе наверно давно растаял. Я помню, как я прыгала по лужам в моих новых лакированных туфлях. Мои уши слышат голос мамы:
– Таня, Таня, выйди из воды! Ты опять простудишься!
– Я знаю мама! Но я не могу удержаться и не прыгнуть.
Все вокруг меня разрушено. Я быстро иду. Я бегу. Я вхожу в домик «швеек» как будто бы, чтоб обогреться. Возле двери стоит солдат. Он слышит шаги и снимает с плеча ружье. Мое сердце остановилось, мне не хватает воздуха. Я остолбенела.
– Что ты тут ищешь? Ты знаешь, что тебе нельзя разгуливать по ночам!?
– Я извиняюсь, я извиняюсь, – я ворчу под нос.– У моих стариков так холодно, что я решила зайти немного отогреться у девочек. Может быть, они нуждаются в какой-нибудь помощи… – заикаясь, говорю я.
– Ну, так зайди, зайди! Глупая девчонка! Ты все время крутишься у всех под ногами!
Он открывает дверь, облако тепла окутывает мое замерзшее тело. Я вхожу в «большую» комнату. Интересная картина: сержант Василиу и Роза. Она сидит у него на коленях. С правой стороны возле стола сидит солдат с кучей бумаг и писем и старательно в них роется. С левой стороны на столе «жалкие останки» крошащегося хлеба! Сержант Василиу смотрит на меня с удивлением и сразу же снимает розу с коленей.
– Татьяна, что ты тут делаешь вечером?
– Мне скучно сидеть со стариками. Я пришла немного отогреться тут у девочек.
Старшая сестра розы смотрит на меня с презрением и сердито говорит:
– Тут не место развлечения! Иди домой!
– Только немножко! Я должна хотя бы немного обогреться…– жалобным голосом говорю я.
Солдат, разбирающий письма громко меня спрашивает:
– Это ты Татьяна? Тебе 13 лет? Ты из Кишинева?
– Да, – говорю. – Это я! Это что письмо от моей няни?
– Нет, – говорит солдат.– Письмо из гетто Балты. Человек по имени Корин написал его.
– Корин? Я такого не знаю.
Я чувствую, как по моей спине текут капли пота, голова кружиться, я почти в обмороке.
– Садись, садись, – говорит Роза. – Что с тобой?
– Я не знаю. Кто такой Корин? – слабым голосом говорю я. – Можно прочесть это письмо?
– Ты умеешь читать по-русски? – спрашивает солдат.
– Конечно!
Я встречаю его пронзительный взгляд и чувствую, что сержант Василиу насторожился. Все это приводит меня в большое смятение. Солдат смотрит на сержанта вопрошающим взглядом, тот опускает голову в знаке согласия. Я не могу преодолеть дрожь в руках. Я открываю письмо, написанное большими печатными буквами, от руки моего дяди Павла. Все на меня смотрят со вниманием.
– А! Теперь я все понимаю! – делаю вид что читаю, а в моей голове готовится быстрая история. Я перевожу на румынский фразы, не написанные в письме.
– Ну, расскажи, расскажи, что там написано? – спрашивает сержант.
– Сейчас я начинаю понимать. Тот, который послал это письмо, это один из начальников в Балте. Он писал такие письма во все лагеря вокруг Балты, и одно из них попало сюда.
– А зачем он пишет?
– У него есть товарищ, которого зовут Павел и, он ищет девочку с именем Татьяна, и это я.
– А почему этот Павел попросил его искать тебя в нашем лагере?
– Очень просто, – говорю я. – Это мой дядя. Он ищет меня во всех городах и во всех местах, которые он знает. Вот он пробует меня найти и в Любашевском лагере.
– А что делает твой дядя Павел?
– Я не знаю, этот дядя Павел муж сестры моей мамы. Корин говорит, что дядя ищет меня уже несколько лет. Вы помните, господин сержант, я вам рассказывала, что я потеряла своих родителей во время побега. Я уверена, что они оба умерли! А вы, вы румынские полицейские сунули меня в этот лагерь только потому, что я хотела помочь маленькой девочке Анюте. А это письмо попало сюда совершенно случайно.
– А этот Корин, кто?!
– Понятия не имею. Наверно, какой-то друг моего дяди Павла. Он всегда любил иметь кучу друзей. Теперь вы поняли.
– Довольно убедительная история. А ты хотела бы поехать в город Балту? Ты хочешь найти своего дядю?
– Безусловно, даже прямо сейчас!
– Хорошо. Завтра утром готовься к поездке.
– У меня нет совершенно никакой одежды. Это пальто и эта шапочка стали маленькими, я выросла за это время.
– Я тебя одену, – говорит Роза. – Зайди ко мне утром перед вокзалом, я тебе дам все, что тебе надо.
Я знала, что у Розы огромное количество одежды и обуви, снятых с убитых евреев.
– Спасибо, спасибо за все.
У дверей, перед выходом я слышу, что солдат-почтальон говорит с восторгом:
– Видно, что она получила воспитание, хорошо видно!
Я вхожу в комнатушку моих стариков, ничего им не рассказываю, ложусь на свое «ложе» и не сплю всю ночь.
29.
На следующий день, после этого странного вечера, дверь открылась у наших стариков, на пороге стоял сержант Василиу. Он посмотрел на меня, не говоря ни одного слова. Он поздоровался со стариками и объяснил им, что сегодня я еду в гетто Балты и если они хотят передать какие-нибудь письма, то он готов их взять.
– В двенадцать часов будь готова. Поезд уходит в половине первого.
– Хорошо, – говорю я спокойно.
Сердцебиение. Мысли бешено крутятся в моей голове. Я должна еще попрощаться с людьми, которые помогли мне в этом лагере. Первым долгом – Роза! Я бегу к «швейкам». Роза мне обещала верхнюю одежду. Она открывает дверь.
– Первым делом сними это страшное пальто и эту шапку и выброси это прямо во дворе.
С тяжелым сердцем я расстаюсь со своим пальто и шапочкой. Последние реликвии оставшиеся от дома в Кишиневе. Она посмотрела на мою голову, на мои очень короткие волосики и спросила:
– Ты чиста?
– Да, – отвечаю я. – Вчера я прошла дезинфекцию и меня постригли.
– Кто это сделал?
– Старики, – вру я.
– Хорошо, зайди.
На столе лежит пальто. Очень длинное. Скучного коричневого цвета. Это пальто «городское». Видимо, снятое с плеч какой-то еврейки, которую ограбили и убили. Она торжественно подносит мне платок из тонкой шерсти, белый в коричневую полоску. Она улыбается!
– Видишь, как я тебе все подобрала?
– Роза, что я с этим буду делать?
– Ты повяжешь это на свою голову, вместо этой красной дряни, которую ты носила все это время.
Платок был светлый и даже новый. Я завязываю его два раза, раз сзади и второй на лбу.
– Великолепно! Это тебе очень идет. Хорошего время препровождения в Балте с сержантом Василиу! – саркастически говорит она.
– Спасибо, Роза, спасибо за все.
Роза пристально на меня смотрит и говорит странную фразу:
– Я надеюсь, что ты останешься в живых.
– Почему ты мне это говоришь?
Она помолчала секунду, проглотила слюну и в конце концов ответила:
– Это обычное пожелание, ничего особенного.
Только по прошествии многих лет я поняла, зачем она мне это сказала. Девочек и молодых женщин по пути к новому месту насиловали и убивали.
Я ушла оттуда, оставив ее со всеми ее красотами, «хлеб» остался на столе, я решила, что этот хлеб я больше никогда не попробую. Что могу сказать в скобках, это было преждевременное решение. Я выхожу из дверей и направляюсь на кухню полицейских. Вхожу, страшная жара, у плиты стоит наш повар поглощенный работой. Он оборачивается ко мне и смотрит, разинув рот.
– Это что? Это что? Что это за одежда? Почему ты так опоздала на работу?!
– Я не буду работать. Я пришла только проститься с вами и с другими поварами. Я оставляю это место.
– А! Наконец-то эти дураки поняли кто ты такая на самом деле! И они дают тебе уйти! Я очень за тебя рад! Я тебя поздравляю, девочка! А какая одежда! Наверно Роза.
– Правда, – говорю я. – Роза!
– Эта жидовка, – прибавляет он с восхищением.
И после этого фраза, которую я не смею опубликовать…
Я не отвечаю.
– А куда ты идешь? Куда, куда?! – спрашивает второй повар. – Куда ты едешь? С кем? И каким образом? Посмотрите на нее, какая она красавица в этом пальто. Просто большая! Это что, ты выросла со вчерашнего дня?
– Наоборот, – смеюсь я. – Я не выросла, потому что вчера я совсем ничего не ела.
– Иди сюда, иди скорее! Я тебе дам кушать! Для тебя – все! Садись, милая, кто же теперь будет читать мне письма моей жены?
– Ничего, – говорю я. – Война кончится, и ты поедешь домой, и тебе не нужно будет никаких писем!
Его глаза наполняются слезами. Он щипает меня за щеку и говорит:
– Ты – маленький ангелочек! Ты просто ангел! Возьми эту тарелку с картошкой, для твоих хороших стариков. Пусть они тебя запомнят навсегда!
Я обнимаю от души моего повара и его помощника. Я выхожу из кухни и направляюсь к лагерю, который находится на другой стороне улицы. Мои старики уже все знают. Известие распространилось во всех «домах».
– «Наша» Таня едет в Балту!
Все за меня счастливы. С каких пор они меня любят, я спрашиваю себя. Они же меня всегда ненавидели, преследовали, выбросили меня как собачонку из их комнаты, а теперь, вдруг, я стала важной персоной?!
– Ты будешь нас помнить? Будешь говорить о нас хорошо с сержантом Василиу? Может быть, и нас переведут в Балту.
В эти времена, появились маленькие гетто в больших и маленьких городах, от реки Днестр до Буга. Когда я попала в Балту, там я поняла, что лагерь называется «гетто». Это было новым словом для меня. Пока что я не знала, что меня ждет. Я была не так счастлива, как многие считали. Я даже боялась того, что меня ждало, и что могло случиться!
Точно в двенадцать, появился сержант с веревкой в руках.
– Веревка?! – я открыла рот от удивления. – Ты хочешь привязать меня веревкой, как собаку?!
Я кричу на него в отчаянии!
– Лучше убей меня, сейчас! Убей меня!
Я вижу, что добрейший сержант оказался очень жестоким человеком.
– Ни говори глупости! Дай мне твои ручки.
Он связал мне обе руки, взял веревку и сказал:
– Пошли за мной.
Все стояли с открытыми ртами, они этого не ожидали! Старушка, жена кузнеца, побежала за нами, обняла меня и сказала:
– Маленькая Танюшечка, не бойся, это только для того, чтобы думали, что ты пленная.
Она сказала мне это по-русски, чтобы он не понял, о чем она говорит. Он крикнул ей по-румынски:
– Вернись сейчас же в свою комнату и перестань орать! А ты, – сказал он мне. – Иди за мной и молчи.
Я ничего не сказала. Я иду за ним молча с протянутыми руками. Позор был больше чем страх. Полицейские стоявшие вокруг перекрестились, смотря на нас. Один из них прошептал:
– Пусть господь бог тебя хранит, девочка! Пусть он тебя хранит!
Таким унизительным образом мы приближаемся к станции. Наш поезд стоит перед нами. Сержант влез первый, а потом дал мне руку, чтобы я смогла подняться по высоким ступенькам. Мои ноги были длинными, но очень слабыми. Ступеньки очень высокие. Кое-как я влезла. Мы входим в вагон и садимся в одно из купе. Если вообще можно назвать эту клетку – купе! мы одни. Я сижу возле окна, а сержант Василиу напротив. Поезд очень старый, почти рассыпавшийся. Все сидения рваные, стекло в окне треснутое. Сержант открыл маленький столик, который как-то уцелел, и говорит:
– Положи свои ручки на стол.
Я кладу свои красные руки на стол, смотрю на них и на толстую веревку которой они связаны и чувствую, что через минуту я начну плакать. Он развязал веревку и бросил ее на пол. Вдруг я вижу, что он улыбается! Он улыбается, чудовище! Что его смешит?! Он мне подает чистый платок и говорит:
– Вытри слезы и свой носик. Это представление окончено.
– А как ты хочешь меня убить? – говорю я дрожащим голосом, даже с ноткой дразни.
Я превзошла страх. Я поняла, что нечего не поделаешь. О каком же представлении он говорит?
– Все это должно было быть для других, для полицейских и жидов. Наш Плутоньер потребовал от меня сделать вид, что это не протекция, а просто перевод.
Мне очень трудно ему поверить.
– Как ты смог это сделать? Тебе не стыдно, пугать маленькую девочку? У вас, у румын, нет никакого стыда…
– Есть у нас, есть у нас и стыд, и сердце и маленькие дети, и родители, как у всех. Я совсем не горжусь, тем, что я сделал, я прошу у тебя прощения. Но приказ – это приказ. Я солдат. Я тебя беру в гетто Балты к твоему дяде. Там наверно тебе будет легче, чем в этой дыре в Любашевке.
Я не поняла, почему он должен был превратить меня в пленницу, чтобы удовлетворить Плутоньера. А зачем? Но я его не спрашивала. Я стала очень грустная. Этот сержант такой хороший, такой умный, и он румынский полицейский, военный полицейский, он получил приказ! Таким образом, я попробовала оправдать его действия. После этого он взял свою кожаную сумку, которая всегда была у него на плече, и вытащил оттуда прекрасный завтрак. Мое сердце растаяло, но я молчу. Для того чтобы доказать нашу новую дружбу, он с особой улыбкой вытаскивает огромную плитку шоколада!
– Боже мой, – говорю я себе тихо. – Шоколад! Этого не может быть!
Он делит плитку пополам и кладет ее около картонной тарелки, которая появилась передо мной, и мы начинаем кушать. Медленно прихожу в себя.
– Зачем надо было делать эту инсценировку? Для Плутоньера?
– Он не мог признаться в том, что он ошибся. Он хотел играть роль хозяина до последней минуты.
– Я тебя умоляю, сержант, когда ты вернешься назад к старикам, скажи им, что я не сделала ничего плохого и что я у своего дяди. Я не хочу, чтобы они по мне плакали.
– Я понимаю. Я понимаю. И еще я понимаю, что тот начальник гетто, господин Корин, и есть твой дядя. Правда?
– Да, – говорю я. – Это правда!
– Маленькая обманщица! – говорит он с восхищением. – Ты почти меня убедила.
– А ты хочешь знать правду?
– Но сейчас – действительно правду!
– Да, чистая правда. Господин Корин он муж сестры моей мамы. Вся семья со стороны моей мамы евреи. Или как вы называете их – жиды!
– А папа? Где он? Что с ним случилось? Он не еврей?
– Папа мой был из христианской семьи, и все остальные были христиане.
Глаза сержанта широко раскрылись.
– Так ты не соврала мне малютка? Тебя действительно зовут Таня Петренко?
– Действительно, это правда.
– А потом что случилось со всеми?
– Ты не должен этого знать. Я не хочу, чтобы ты это знал.
– Что? Скажи, маленькая, скажи. Что с ними случилось? Ну, скажи!
– Это гораздо тяжелее.
– Ну, все-таки скажи…
– Румынские полицейские забили мою бабушку нагайками, закопали ее живой.
– Что?! Где?!
– В Рыбнице. В старом колхозном амбаре.
– А родители?
– Мой папа сделал так, чтобы в него выстрелили. Таким образом он покончил с собой. Моя мама умерла от истощения от тифа и от дизентерии. Не знаю точно от чего. Она умерла во сне, в доме одного цыгана, в деревне Нестоито. Она умерла. А цыган ее похоронил в лесу.
– Маленькая, бедная девочка! Маленькая, маленькая девочка! Если бы я знал все это, я бы не сделал тебе этого позора и не пугал бы тебя. Я бы не послушался его, проклятая свинья.
– Ничего, ничего. – Говорю я. – Еще одно унижение, еще одно – это уже ничего не меняет.
Мы замолчали. Он смотрит в окно. Мы не обменялись ни единым словом до приезда в Балту. Когда поезд остановился, мы сошли, и он снял меня со ступенек как маленькую девочку, на этот раз без представлений. Мы прошли часть Балты, выглядит почти как город. Мы переходим мост, там стоят два полицейских. Они спрашивают сержанта, куда он меня ведет.
– Я веду девочку, встретиться с одним человеком, который ее ждет в еврейском центре.
– Зачем ты тащишь эту маленькую девочку к жидам?
– Извините меня, господин офицер, а зачем эта девочка должна встретиться с жидами.
Сержант гневно ответил:
– Не смей вмешиваться в приказ! Дай нам пройти!
Вдруг, я слышу другой голос. Голос высокого офицера перед простым солдатом. Чувствую себя немного лучше.
К моему счастью, когда мы вошли в дом еврейского центра в гетто, первый человек которого я вижу, высокий, хорошо одетый – это был мой дядя Павел.
– Таточка, – кричит мой дядя. – Таточка! Я не верил, что я когда-нибудь увижу тебя живой.
Я утонула в его объятьях. В конце концов мы дома! Вокруг нас собрались евреи из начальства гетто. Пригласили нас в комнату, усадили, и как ни странно, все пили водку!
30.
Все эти прекрасные волнения, к сожалению, продолжались недолго. Когда мы вышли из «комитета» я протянула совершенно натурально свою левую руку дяде, как когда-то когда мы ходили в кино после обеда. Он крепко сжал мою лапу, и меня охватила волна тепла и любви. Я смотрю на мое детство и вижу, как я держу его большую руку, и мы тайно уходили в кино. Это было очень интересно, потому что я смотрела фильмы, которые мне не разрешали, и которые я не понимала. Ни мои родители, ни моя тетя ничего не знали об этих маленьких «преступлениях». У дяди Павла была поговорка, которую я не могу до сих пор забыть:
– Помнить: не задавать вопросов, не разговаривать во время фильма, не рассказывать ни маме, ни папе, ни тете ничего!
– Почему надо скрывать?
– Скажи, пожалуйста, а почему руки моют каждый день, а ноги никогда?
Я всегда хотела ответить ему, что я к своему величайшему стыду мои ноги каждый день, но я знала, что ему не понравится этот ответ. Я выбрала тишину, лучше не задавать вопросов. Сейчас вдруг перед моими глазами прошла эта картина, и я напомнила дяде рассказы нашего кино. В ответ дядя Павел меня обнял, и я увидела в его глазах настоящие слезы.
– Ты это помнишь, моя маленькая букашка?
– Я помню очень много, я все помню. Я помню нашу последнюю картину дома, огонь, конец тети Рули, – мы называли так нашу тетю Рахель. – и не только это я помню.
Мы оба замолчали. Последняя часть дороги прошла в тишине.
Перед тем как мы зашли в дом, где жил дядя Павел, он остановился перед дверью и сказал мне очень тихо, по-русски:
– Таточка, ни одного слова никому, абсолютно никому! У меня есть подруга жизни, ее зовут Софи, может лучше сказать Софика, как говорят по-румынски. Со временем я тебе все объясню. Она говорит только по-румынски. Фактически, она понимает русский, она может сказать тут и там какую-нибудь фразу.
Я окаменела.
Я вынула свою руку из его, и почувствовала, что ужасный холод охватывает меня со всех сторон.
– Как она приклеилась к тебе?
– Она ко мне не приклеилась, она спасла меня от смерти.
– А как? Ты выглядишь совершенно здоровым.
– Сейчас я здоров. По дороге с Днестра до Балты я заболел тифом, а она ухаживала за мной с большой преданностью! Ее мужа убили румыны по дороге.
– Если они румыны, так почему румыны его убили?
– Его беднягу убили, потому что он не был румыном, он был русским. Или он что-то сказал, что им не понравилось.
– Ага, – отвечаю я. – Я понимаю. Ты ей благодарен, но почему ты был должен на ней жениться?
– Нет, я на ней не женился, что я с ума сошел?!
– Сделал хорошо! Но, что, ты не можешь от нее избавиться? Ты наверно не можешь, правда?
– Пока она мне не мешает, она только помогает. Давай зайдем. У-лы-бать-ся!!!
Открывается дверь. За ней стоит маленькая женщина, немного толстенькая. Одета в черное платье. Волосы черные, глаза круглые черные и холодные. Лицо покрыто множеством слоев косметики, по обычаю румын. Она протянула мне руку и на ее лице была улыбка, но ее глаза не улыбались. У меня промелькнула мысль: здесь мне не будет хорошо. Этот румынский ледник не оставляет во мне приятного впечатления!
В этом доме было много комнат. Вход был через большую кухню, которая могла называться и гостиной. Мебель была очень красивая и старинная. Это все производило очень приятное впечатление. Было тепло. Две женщины подошли ко мне, обняли меня и поцеловали. Одна из них была старая. Она выглядела на семьдесят лет, сейчас я не уверенна, что она была настолько стара, я думаю, ей не было семидесяти лет. У меня никогда не было понятия о возрасте, например, в прошлом я думала, что моей бабушке сто лет. По правде, ей было пятьдесят пять, когда она умерла, это я поняла потом. Я стояла перед этими очаровательными женщинами, говорящими на прекрасном русском языке. Ясно было, что они не украинки, а настоящие русские. Они меня захватили и сказали дяде Павлу и его «жене»: – мы займемся ребенком.
Я поворачиваюсь к «даме» и говорю:
– Они, наверно хотят меня помыть.
Она отвечает кислым голосом:
– Я себе представляю, что ты полна вшей.
Вот такая радушная встреча ждала меня в доме моего любимого дяди Павла. Со временем, я поняла, что в этом доме есть определенный порядок. Дядя и его «жена» снимали две комнаты, спальню и столовую, у старой дамы.
Она действительно была старой и такой же была ее дочь. Обе жили во второй половине дома. Со временем, я поняла, что у них было две комнаты: спальня и колоссальная библиотека. Столовую они отдали дяде Павлу за деньги. Я сразу же поняла, что у дяди не было проблем с деньгами, и решила об этом не думать. Обе женщины разговаривали со мной мягко и с симпатией. Они меня хорошо помыли, так же как в больнице, тщательно просмотрели на мои коротенькие волосы и не переставали восхищаться моей красотой. Когда я увидела себя в большом зеркале в ванной комнате, я страшно удивилась. Я давно себя не видела и поняла, что я сильно изменилась. Я была очень худа, руки и ноги были тонкие и слабые, а мои коротенькие волосы наконец-то приобрели свой настоящий цвет. Насчет моего лица я не могу ничего сказать, на кого я похожа, на себя или на кого-то другого. Я не верила восторгам обеих дам. Думаю, что они хотели меня приободрить.
Пришла очередь одежды. Женщина помоложе, дочь, подошла к своему шкафу и вытащила оттуда вязанную белоснежную шерстяную блузку, беленькую маячку, и самое интересное, широкую зеленую юбку. Они нашли в своем шкафу ароматное мыло, которое напомнила мне многое. Мне кажется, что я снова превращаюсь в человеческое существо. Единственная проблема, которая осталась, были мои сапоги, которые со временем стали страшными. Интересно, почему они так быстро превратились в ничто? Этому не было замены.
– Твой дядя принесет тебе сапожки из коммуны. У нас нет подходящего размера. У нас большие ноги.
– Я не видела тут грязи. – Отвечаю я.
– Здесь есть и грязь, и слякоть и снег. Всего есть вдоволь! Давай мы тебя накормим.
Меня посадили за стол. К моему величайшему счастью я вижу большую кастрюлю борща! Пришло время еды.
– Я прошу прощения, что происходит с моим дядей и его женой? Они не ждут меня к обеду?
– О… а! Будь спокойна. Твой дядя вернулся на работу, а его жена пошла спать.
– Она ест одна?
– Нет, нет. Она кушает с твоим дядей, но она на диете.
– А почему? Она больна?
Обе женщины начинают совершенно по-детски хохотать.
– Она не хочет растолстеть. У нее особая еда.
По их тону я поняла, что она не имеет ни малейшего желания меня вскоре увидеть. Отложили встречу.
– Я вижу, что у вас замечательная библиотека!
– Да, наша библиотека очень даже богатая. Мой папа был библиотекарем.
– Какое счастье, – говорю я. – Я обожаю читать. Я могу только читать, есть, спать и все, я счастлива!
– Да, – говорит молодая. – Я тоже такая. А что случилось с твоими ручками, Танюша?
– Замерзли. Во время странствий. И ноги тоже.
Обе женщины не поняли и не могли понять то, что они слышат.
– Что за эшелоны?
Я рассказываю им о бессарабских евреях, о моих родителях и даже об ужасной смерти моей бабушки. У них текут слезы из глаз, они меня обнимают и говорят:
– Не бойся, не волнуйся. Это все позади. Твой дядя нам сказал, что тебя он обожает больше всех в мире. Еще он сказал, что у него никогда не было и никогда не будет детей. Ты его единственный ребенок!
– Он рассказал вам о своей жене, о моей настоящей тете?
– Нет. Но мы поняли сами, что эта «дама» его подруга жизни, а не жена.
– А что такое подруга жизни?
Обе начали смеяться, немного растеряно.
– Он нам рассказал много рассказов, что ее мужа убили по дороге, а его жену убили в Кишиневе.
– Кто убил?
– Румыны, кто же еще?
– Но ведь она тоже румынка. Я слышу, что она все время говорит по-румынски.
– Она такая.
– Вы ее не особенно любите?
Опять смятение.
– М-м-м… она не совсем симпатична. Мы не совсем понимаем ее. И что она от нас хочет.
– А что такое подруга жизни?
– Это что-то вроде любовницы. Ты знаешь, девочка, что такое любовница?
– Конечно, знаю, что за вопрос?! Помню, в Кишиневе у него было много таких. Из-за одной мы не уехали с русской армией. И вся наша семья погибла по дороге в Транснистрию.
– Давай не будем говорить о грустном! – говорит пожилая дама. – Мы тебе дадим книги. Ты всегда будешь с нами кушать, когда захочешь и тогда, когда твоя «дама» не позовет тебя за их стол.
– А где я буду спать?
– Ты видела у входа на кухню, ближе к столовой есть большой сундук, рядом с печкой.
– Да, я видела, он полон разноцветных подушек.
– Это хорошее место, возле горящей печки, там есть и свет и тепло. Мы не возьмем с твоего дяди денег ни за обеды, ни за что. Для тебя все так.
– Спасибо.
Они посмотрели друг на друга, и я поняла, что это решение пришло в этот самый момент. И также я поняла, какой статус у меня будет в доме моего дяди и сразу же у меня родилась мысль: надо побыстрее отсюда удрать.
31.
Дядя Павел пришел поздно вечером. Он меня поцеловал, потом поцеловал «мадам» и сказал:
– Мы сейчас поужинаем, потому что после этого мы приглашены на карты.
– На карты? – говорю я. – Ты серьезно? У вас в гетто играют в карты? Кто они такие – эти игроки?
Я была очень удивлена! Дядя Павел, в великолепном настроении, ущипнул меня за щеку и спросил:
– Ты наверно очень голодна?
Я не отвечаю. Не знаю, что сказать.
– Софика, – обратился к ней дядя. – Что ты нам приготовила на ужин?
Слово «нам» очень понравилось мне. Я сказала сама себе: я уже включилась в планы «семьи»!
Мадам отвечает ледяным голосом:
– Я ничего не приготовила, будем есть то, что осталось со вчера. Я была занята Таней!
Я стояла с открытым ртом, до этой минуты я ее даже и не видела.
– Есть баклажаны, которые я приготовила вчера, хлеб, который ты сейчас принес и салат из красных помидор. Очень много еды.
– Есть прекрасная деревенская колбаса, которую мне дал один крестьянин. И, конечно, бутылка водки!
– Ты знаешь, что я ненавижу этот вульгарный напиток! Водка! Таня, накрой на стол!
Я в жизни не накрывала стол и тем более я не знала, что и где лежит.
Я вхожу в столовую, вижу старинный буфет, наверно, хозяйский, ящики и над ними за стеклом стаканы. Я очень осторожно вынимаю всю посуду, которая, как мне кажется, может понадобиться, очень боюсь за свои пальцы, чтобы они не сделали мне какую-нибудь пакость. Мне не хватает только что-нибудь разбить у этой важной дамы. Понимаю, что я прохожу экзамен по поведению. В углу лежит белая скатерть, тщательно выглаженная, что меня очень удивляет. На следующий день я узнала от хозяек, что они всем этим занимались: стиркой, глажкой и, конечно, варкой еды. И даже покупками. Это все я узнала потом. Сейчас я должна все сделать очень осторожно и медленно. Я кладу на стол белые красивые тарелки. Три тарелки, три стакана и вилку с ножом с правой стороны тарелки. Я не нахожу соль, спрашиваю у «дамы» где она. «Дама» за мной следит как строгая учительница за ученицей. Я выхожу из себя.
– Ищи соль. – Говорит с олимпийским спокойствием.
К моему счастью, заходит наша старая хозяйка и молодая. Они несут две большие тарелки с салатами и горячий хлеб, тщательно нарезанный ломтиками. Через минуту они приносят чайник, к моему удивлению с настоящим чаем. После чая у еврейского врача, я пила только чай из морковки. Между прочим, у врача я только успела отхлебнуть чая, и сразу же он начал меня допрашивать. Так что я не смогла его допить, за что я до сих пор на него злюсь. Запах свежего чая меня пьянит. Мой дядя кладет колбасу, о которой он говорил, на специальную доску, и режет ее на тонкие ломтики.
– Тебе можно кушать колбасу? – спрашивает меня ледяная Софи.
– Я не никогда не знала, что мне нельзя кушать колбасу. Я уже два года не видела колбасу, а может и больше.
– Ага… теперь у тебя есть замечательный шанс попробовать то, что ты в жизни не видела.
Дядя Павел бросил на меня озабоченный взгляд. Он почувствовал, что я ужасно обижена. Он обнял меня за плечи и сказал очень холодным тоном, совсем другим, не таким как прежде:
– Эта девочка росла в очень богатом доме. Никогда ни в чем не нуждалась! Теперь мы должны вернуть ее в прежнее состояние, она должна много и вкусно есть!
Он смотрит мне в глаза, поднимает своим толстым пальцем мой подбородок и заканчивает фразу:
– Правильно я говорю, моя маленькая Таточка?
Я не отвечаю. Опускаю глаза, чтоб эта ведьма не видела, как сильно она меня задела. Молодая хозяйка остановилась у дверей и стояла неподвижно, держа хлебницу в руках. Она все слышала.
– Что вы там окаменели? Разучились ходить? – говорит Софика, очень вежливо.
Молодая женщина, бросив на меня жалобный взгляд, поставила на стол хлебницу и сказала:
– Приятного аппетита!
Она вышла из комнаты и хлопнула дверью, таким образом она выразила свой протест. Софика вопрошающе посмотрела на своего мужа и спросила на своем элегантном румынском:
– Что такого я сказала? Почему она рассердилась?
Мы не отвечаем, начинаем кушать. Мой дядя ест как всегда огромное количество хлеба. Пьет бессчетное количество чашек чая и к каждой чашке прибавляет стопку водки. Мое горло сжато, я ничего не могу проглотить. Запах хлеба сводит меня с ума, запах колбасы одурманивает. Я сижу с бутербродом в руке и ничего не могу проглотить.
– Таточка, кушай!
– Она ест, она ест. – Утешает дядю «мадам». – Наверно, эти дамы закормили ее всякой гадостью, которую они сами едят.
– Правда, – отвечаю я. – Я ела очень много в обед. А сейчас я сделаю себе бутерброд с колбасой и положу его на столик возле кровати.
– Ах, это так, ты кушаешь по ночам? – иронически спрашивает Софи.
– Почти никогда я по ночам не ем. Но сейчас я буду есть. Можно встать?
– Сиди, пока мы сидим! Ты забыла правила приличия?!
– Да! – отвечаю я. – Я была в концентрационных лагерях, лежала в больнице девять месяцев, мои ноги были совершенно обморожены, и я ела один раз в день, только суп! Да, вы правы, я потеряла все приличия и не собираюсь их находить вновь!
С этими героическими словами я встаю, целую дядю Паву и выхожу в другую комнату. Поздно вечером, после того как моя «семья» вышла из дому, обе мои хозяйки постелили мне на стоящем в углу большом сундуке.
– Кушай свой бутерброд, вот тебе стакан воды. Теперь спать!
Я сидела всю ночь на сундуке, прислонившись к подушкам. Очень тяжело дышала и «свистела». Первый припадок астмы в гетто Балты. Утром зашел ко мне дядя Павел, на его ногах сапоги, а на голове шляпа, и спрашивает:
– Откуда появился этот кашель и свист, который я слышу сейчас?
– Это проходит, это проходит. Знаешь, это астма. Все это из-за волнений.
– Дома у тебя никогда не было астмы.
– Что-то было, но не так, а сейчас это из-за волнений. Все пройдет. Иди на работу, Пава. Не беспокойся обо мне, я в порядке.
Сегодня начались мучения. Приказы его «жены». Она меня учит чистить картошку, штопать чулки, зажигать огонь на плите, жарить яичницу на сковороде, которую мне было очень тяжело держать, разбирать продукты, раскладывать по местам, заправлять кровать, почистить зубы, помыть лицо. Все это издевательство продолжалось несколько недель.
За это время мой дядя Павел принес мне огромное количество одежды, которая мне подходила и по росту и по возрасту. Даже сапожки и чулки, и разные мелочи. Вся эта одежда прошла дезинфекцию в печи и стирку, но все-таки был какой-то странный запах. Мои хозяйки повесили одежду во дворе проветрится, чтобы я не чувствовала этот странный запах, который мне казался ужасным. Эти хорошие женщины сделали все возможное, чтобы облегчить мне это наказание, которое я проходила в их доме. Но, несмотря на это, я чувствовала себя очень несчастной. Без какой-либо надежды и очень сожалела о своем приезде в Балту. Каждую ночь я думала, как мне отсюда удрать и куда? Мои бессонные ночи я думала о доме, о папе и маме, об их любви, о Людмиле Александровне, моей чудесной докторше, о Пете Поплавском, о неуклюжем Пете, и даже о Стасике с его голубыми глазами. Каждую ночь я в своем воображении обнимала единственное существо, которому я могла дать свою любовь, маленькую Анюту! Этот период был тоже очень тяжелым.
Так проходили дни и ночи, сопровождаемые тяжелым кашлем и свистящим дыханием. Единственное, что было прекрасным в этом доме – это огромная библиотека наших хороших хозяек. Библиотека была для меня открыта, и я могла там спокойно читать – и сидеть в кресле! Это вернуло мне ощущение культурного человека, то, что до этого у меня совершенно исчезло. Это правда, что и в больнице я читала каждый день что-то другое, но здесь мне у меня появилась возможность выбирать, что мне читать и что меня больше интересует. Конечно, я выбирала книги для взрослых, похоже, что мое детство закончилось. В середине дня «мадам» Софи исчезала из дома и уходила «наносить визиты», играть в карты со своими подругами, сплетничать и обмениваться рецептами пирогов из кукурузной муки. В это время я исчезала в библиотеке, а хозяйки занимались своими делами. Это были счастливые часы, действительно счастливые! Снова я – Таня! Та Таня, о которой я совершенно забыла. В общем, я думаю, что у меня была проблема с определением себя как личности. Я искала самое себя!
Хозяйки очень интересовались тем, что я читала, и разговаривали часами со мной перед сном. Они были русские из Белоруссии, они застряли в Балте, когда глава их семьи получил работу в горсовете. Через несколько лет после этого вспыхнула война. Его сразу же мобилизовали, а женщины остались позади. По прошествии некоторого времени, они узнали, что он был убит в первых боях на немецко-русском фронте около Ленинграда. Из их рассказов я поняла, что этот красивый дом, так хорошо построенный, их собственность, но они не имеют права его оставить без опасения его потерять. Кроме того, они не могли вернуться в Белоруссию, потому что там были тяжелые бои. Они чувствовали себя чужими среди украинцев, которые совершенно свободно их осмеивали. Острый украинский юмор очень жесток, но чрезвычайно смешен. Все это они мне рассказывали во время длинных вечерних разговоров перед сном, в сопровождении чая и замечательного печенья. Я им рассказывала о моей «Одиссее», со дня побега из горящего Кишинева, до того момента, когда я попала в их дом. Они плакали, всхлипывали и восклицали: ах, ох. Они гладили меня по голове и угощали конфетами, которые они делали дома. Не знаю, где они находили сахар. Мне было очень приятно смотреть и учить, как делают карамельки и пробовать их еще теплыми. Если бы не «очаровательная» Софика, я бы никогда не оставила этот дом, но судьба решила иначе.
32.
В одно прекрасное утро, когда я была занята штопкой чулок дяди Павы под тщательным наблюдением противной Софи, он появился собственной персоной:
– Брось все и идем со мной. Хорошо оденься, – говорит мне дядя Пава с улыбкой. – Я тебя познакомлю с разными местами в этом гетто.
Одеваюсь за несколько минут и бегом выхожу. Подаю дяде Паве свою руку, как когда-то несколько лет назад. Его большая рука сжала мою и мы пошли по намощенной улице Балты.
– Куда мы идем? – спрашиваю я.
– Сначала я хочу тебе показать, где граница гетто, которую тебе нельзя переходить!
Мне было ясно, что нет таких границ, которые я не могу перейти в ближайшее время, но, конечно же, я не сказала ни одного слова. Наша прогулка продолжалась почти час. Это гетто не было большим, за один час мы охватили всю новую «географию». Мы остановились возле «комитета» – руководство гетто. Мой дядя Павел занимал там очень важную должность. До сегодняшнего дня, я не совсем понимаю, что именно он там делал. Со временем, я поняла, что основной деятельностью этого места была посылка людей, в большинстве мужчин, иногда и женщин, на работы. В большинстве случаев эти люди не возвращались назад. Если эти люди не возвращались, то по прошествии некоторого времени, один из членов центра куда-то уезжал на поезде и возвращался с мешками одежды. Все это проходило с большой секретностью, но некоторые люди все знали.
Были три возможности: одна – выход на работу. Люди собирались перед комитетом, по спискам которые были приготовлены заранее членами центра. Тяжелая миссия! Никто из них не знал, вернутся эти люди или нет. Их жены и дети стояли на расстоянии и молча дрожали от страха. Я этого никогда не видела, но мои друзья в гетто неоднократно описывали мне эту сцену. Вторая возможность была, посылка этих людей в другие гетто или в другие лагеря. Третья и последняя возможность для них – никогда не вернуться.
Все эти вещи не были мне рассказаны моим улыбающимся дядей. Он меня показывал своим друзьям и знакомым, и все восторгались моей «необычной» красотой, что приводило меня в ужасное смущение. Я уверенна, что они все это говорили только потому, что он хотел это услышать. Он меня представлял, как своего ребенка:
– Она мне как дочь! – говорил он. – У меня и моей жены не было детей, а Таточка – дочь сестры моей жены.
– Что случилось с семьей? – спрашивали его знакомые.
Мой дядя делал очень кислое лицо и говорил:
– Все… все… совсем все… и с какой жестокостью.
Его собеседники выказывали свое участие в этой трагедии очень выразительным щелканьем языка и закатом глаз. Очень значительным выражением сочувствия. Я чувствовала себя очень несчастной в этой ситуации. Я надеялась, что представление моей трагедии кончится быстрее!
Через несколько часов, в конце этой длинной прогулки очень знаменательной для меня, я поняла, что все благополучие и покой в гетто это просто принимаемый всеми трагичный обман. Под видом маленького города, скрывается мир полный ужасов, нищеты, голода и очень тяжелых болезней.
– Сейчас мы пойдем обедать! – возвестил дядя Павел.
– Где же будет обед? – спрашиваю я. – Дома?
– Нет, – говорит дядя Павел. – Я тебя веду к очень приятным людям.
– Они нам дадут просто так, без денег, обед?
– В первый раз – да. Но если ты захочешь там кушать опять, то ты должна будешь заплатить.
– Я понимаю, – говорю я, несмотря на то, что я ничего не поняла.
Мы остановились возле низенького домика, постучали в дверь, в которой были странные дырки, похожие на то, что ее давно едят черви. Когда дверь открылась, дядя Павел мне сказал:
– Осторожно, надо спуститься по трем ступенькам.
– Это что, погреб? – спрашиваю я.
– Совсем нет, не погреб. Хороший дом, хороших евреев. Этот дом – дом Эсфири Яковлевны.
– Кто она такая?
– Сейчас ты с ней познакомишься.
Госпожа Эсфирь была женщиной гораздо более широкой, чем высокой, с очень милым лунообразным лицом. Было очень сложно определить ее возраст.
– Какие гости! – воскликнула она. – Это твоя племянница? Какая красивая!
«Боже, – сказала я себе. – Какая подлиза!»
– Я вас ждала, – продолжила толстая дама. – Проходите в гостиную.
Мы зашли в гостиную, которая была полна женщин. Там была старая женщина, которая вела себя, как королева, сходящая с трона. Другая женщина, тоже полноватая, была разукрашена самыми разными цветами, а рядом с ней стояла девочка моего возраста. Они были мне знакомы. Они обрушились на меня с поцелуями и объятьями.
– Таточка, ты меня знаешь? Таточка, я Дора, подруга твоей тети Рахиль! Я жена брата Мальвины. Ты помнишь красавицу Мальвину?
– Да, – я ответила. – Что с ней случилось?
Я сразу же пожалела, что спросила. Начался ужасный рассказ о судьбе Мальвины, который я постараюсь скрыть от глаз читателя. Грустный рассказ не изменил замечательного настроения дяди Павла.
– Что ты нам приготовила, моя подруга Эсфирь?
В середине комнаты стоял большой и тяжелый стол, на конце которого была кастеляна белая скатерть. Стояли две тарелки, ножи и вилки и даже стаканы.
– Я приготовила вам очень вкусные вещи, – сказала госпожа Эсфирь. – сегодня вы – мои гости.
Было очень неудобно есть вкусности этой госпожи под голодными взглядами трех женщин, которые там стояли. Для меня это положение было очень тяжелым, не приятным и я не могла ничего проглотить. Дядя Павел съел с огромной радостью и аппетитом курицу и пельмени в сопровождении соленых огурцов и неизвестного мне напитка, который ему дала госпожа. Моя глупая особенность не дала мне проглотить эти угощения, несмотря на то, что я была очень голодной. Я удивилась разнообразию блюд, которые нам предложила хозяйка. Мне заинтересовал этот особый статус и почему дядя Пава привел нас сюда. Визит закончился объятьями и поцелуями. Я тоже утонула в полных руках хозяйки дома, которая всеми силами пыталась показать свою симпатию. Когда мы вышли, я обнаружила, что в прихожей живет семья. Стареющий мужчина, с отяжелевшим телом и потухшими глазами. Очень худая женщина, вся в морщинах, но намного моложе, и парень лет семнадцати-восемнадцати, очень красивый. Он стоял около двери и смотрел на нас. Перед тем как мы вышли, хозяйка представила мне этих троих:
– Это мой брат фармацевт, его жена и мой любимый племянник Рувка.
Рувка совершенно не реагировал. Когда мы вышли, дядя Павел ущипнул меня за щеку и сказал:
– У тебя будет хорошая компания в этом доме.
Я поняла, что я должна переехать туда. Видимо, дядя понял, что мы не особенно хорошо уживаемся вместе. С одной стороны, я была рада оставить это ужасное место и эту Софику, но я не была рада переезду в этот очень грязный дом. Множество людей, противная лесть, еда, которая, естественно, никогда до меня не дойдет, и этот молодой парень с красивым и несчастным лицом, можно даже сказать униженным – все это не предвещало ничего доброго.
По дороге я очень осторожно сказала моему дяде:
– В этой большой комнате я видела три кровати, но там нет места для четвертой.
– Нет никаких проблем! Ты будешь спать с тетей Эсфирь. Она замечательная женщина.
– Я буду спать с ней в одной кровати?
– В чем тут проблема? Тебе будет тепло и хорошо. Кровать – огромная, а ты – малюсенькая.
– Ты будешь платить за меня?
– Она довольно дорогая, – говорит дядя. – Она хочет пятнадцать марок за пол кровати, но без еды. Ты будешь приходить к нам обедать. Между прочим, вся торговля здесь ведется в марках. Это новые марки, которые отпечатаны здесь в Транснистрии. В любом другом месте они не являются никакой ценностью, не больше, чем кусочек бумаги.
Я подумала, что я сделаю со своим отвращением к госпоже Эсфирь Яковлевне, но не было времени заниматься этими мыслями. Через несколько минут мы очутились возле дома наших белорусских дам, и я поняла, что дорога между домами очень короткая.
– Мы все устроили, – сказал дядя, после того как снял шляпу и сменил сапоги на мягкие домашние туфли.
– Иди, поздоровайся с моей женой и скажи ей, что все устроено. Я иду на двор.
«На двор» – значит в туалет. Несмотря на то, что в этом доме был водопровод, туалет был во дворе. Канализационная система не работала и электричество тоже. Все остальное было как в обычном городском доме. Я не могла не заметить ужасную грязь в доме госпожи Эсфирь. На столе остались следы всей еды, которую ели в течении месяцев. Когда я прошла мимо кухни, дверь была открыта, и я заглянула вовнутрь. Стены и кастрюли выглядели как после пожара. Пол был покрыт водой и грязью. Там вероятно и варилась еда, которую нам подали с такой важностью и «роскошью».
Я не сказала ни слова, я даже не вошла в комнату дяди, чтобы сообщить его жене то, что он хотел. Я полагалась на него, что он сам ей объявит эту «хорошую весть», что она отделалась от меня навсегда.
Я была очень, очень уставшей. Была уставшей, разочарованной и испуганной. Опять скитания. Я села на свой сундук в углу и сказала себе, что этот сундук выглядит как царская кровать, по сравнению с отталкивающей кроватью толстой госпожи Эсфирь, которая распространяла запах кухни и жареного лука. Это то, что меня ждет – сказала я себе. И еще за целых пятнадцать марок! Молодая русская хозяйка зашла в комнату, где я сидела, и сказала:
– Танюша, я понимаю, что тебя переводят в другое не совсем приятное место. Если тебе будет очень трудно, то приходи жить с нами. Можешь зайти через задний вход, никто тебя там не увидит. Ты сможешь спать в библиотеке, и ведьма тебя даже не заметит!
– Это будет невозможно, все время прятаться. Это тяжело и это меня связывает. Рано или поздно это откроется моему дяде, и он будет сильно на меня сердиться.
– Делай, как знаешь. Переезжай туда и если это будет очень плохо, то сделай, то, что я говорю. Мы всегда тебя будем ждать, и ты сможешь есть и спать у нас, когда тебе захочется. Это не далеко. Мы хорошо знаем госпожу Эсфирь и знаем все о ее доме. Мы предложили жене твоего дяди, что за десять марок мы возьмем тебя к нам. Но знаешь, что она ответила? «Что? Ни за что в мире! Я знаю этот номер. Она пройдоха, эта девчонка. Не верьте ее наивному личику».
Я смеюсь и спрашиваю:
– Возьмете ли вы меня, если я изменю свое решение?
– Что за вопрос? Конечно.
– Это ведет прямо в библиотеку?
– Прямо в библиотеку! Даже когда нас не будет дома, ты сможешь приходить. Возьми этот ключ, у нас есть еще.
Вдруг я ее обняла и очень крепко прижала ее к себе. Она была очень худая, светловолосая. Светлые брови и ресницы, с голубыми глазами. Она не была очень красива, но для меня она была как королева.
33.
Сегодняшний день был очень тяжелым. Я перехожу на другую квартиру. У меня такое нехорошее ощущение перед этим переездом. Мне противен дом госпожи Эсфирь и я страшно боюсь ее «квартиранток». Хуже всего то, что придется спать с ней в одной кровати. Я, наверно, не сомкну глаз! А что будет, если у меня начнется приступ астмы? Она, наверно, проснется и начнет делать из этого целую историю. Все они там производят впечатление «вмешивающихся» – вмешиваются в чужую человеческую жизнь. Старуха мне знакома?! Да, теперь я вспоминаю. Ага… зовут ее Фрида. Откуда я ее знаю? Она родственница моего дяди? Да, да! Это она, это она! Я ее великолепно помню! Она приходила к тете Руле, жене дяди Павла, выглядела как английская королева, страшно важная. На ней висело огромное количество жемчуга. Моя мама неоднократно хвалила качество ее жемчуга. Вообще в нашей семье все обожали драгоценности. Даже я. Жаль, что я выбросила все мамины и бабушкины драгоценности, очень жаль. Но что бы я сделала с ними тогда по дороге?! Наверно кто-то их нашел. Ого! Насколько был счастлив человек, который это нашел. Пусть он будет здоров. Наверно, такой же несчастный, как все остальные.
Я себя иногда спрашиваю, почему украинцев называют злыми? Я до сих пор не встретила никого такого. Конечно, «этот собака полицай», который меня чуть не убил, это другое дело. У него была эта белая тряпка со свастикой на рукаве. Фактически, это его жена меня спасла. Насчет народа вообще, хороший народ. Ко мне они хорошо относились. Конечно, не все. Вот я себя спрашиваю, как я смогу переехать в этот дом? И что я сделаю с вещами, которые принес мне дядя Пава? Наверно, они без конца меня будут спрашивать: что это за вещи? Откуда у меня это появилось? Я думаю, что лучше оставить все у этих русских женщин, и иногда приходить и менять вещи. Все равно будет сложность со стиркой, у этой госпожи Эсфири! Ведь там такая грязь и нет горячей воды, и наверно и мыла нет. Ай, Танька, Танька! Ты стала страшно избалованная. Забыла, что лежала на холодном полу, на трех досках вместо кровати? Забыла ты свое старое пальто, которое не могло накрыть твои длинные ноги, слишком быстро выросшие?! Ой, мои ноги! Я никак не смогу влезть в туфли, которые мне принес дядя Пава. Чулки слишком толстые?! Откуда все эти вещи? Откуда он их достал?! Наверно, это пожертвования. Так моя мама делала, когда собирала вещи для сирот. Вдруг я вижу свою маму, одетую в зеленое крепсатиновое платье со шлейфом. Она идет на бал. Этот бал для ее сирот. Папа надевает смокинг и галстук. Он ей говорит:
– До каких пор ты будешь меня таскать на эти дурацкие балы?!
– Но ты же сам знаешь, что это для пожертвований. Это очень важно! – говорит мама.
– Для того чтоб собрать все эти деньги нужно кормить весь этот народ черной икрой с шампанским?! Вы понимаете, что вы делаете?! Ты и твоя Рая?!
А, а, а! Тетя Рая! Теперь я уже вспоминаю ее. Тетя Рая уже в Бухаресте. Да, я уверенна в этом. Я вижу, как моя мама засыпает на моей руке у цыгана на полу и говорит:
– Таточка, пойди к Рае, она все устроит.
Да, я думала тогда, что она просто бредит или говорит во сне. Но нет! Это наверно было ее завещание. Она наверно не понимала, в каком мы положении. Что Рая далека от нас, за тысячи верст, и мы никогда ее не увидим. Насколько она далека? Впрочем, далека от чего? От Кишинева? Нет Кишинева, Кишинев совершенно сгорел. Только руины.
Хватит, хватит! Я все время думаю глупости. Сижу на полу и думаю глупости. С большим трудом я всунула свои ноги в толстых чулках в тонкие туфли. Это туфли не для детей, это туфли для девушек! И на каблуках?! Я надела хорошее шерстяное платье. На груди у меня два пятна. Жалко. От чего это? Не важно, пусть будет. Я надену новое пальто, которое мне принес дядя… или нет, я надену коричневое пальто, которое мне дала Роза-проститутка? Наверно, лучше коричневое. Пускай не будет лишних вопросов. А что я сделаю со всем остальным? А, я знаю! Попрошу эту молодую русскую, сможет ли она повесить все эти вещи в один из ее шкафов, чтоб мне не тащить все это «приданное» в этот противный дом. Это замечательная идея! Великолепная идея! Сказано-сделано!
Спросила. Повесила. Надела. И пошла. А что будет с головой? Что я надену на голову?! Ой, ой, ой! Я, думая о моей красной шапочке, которая сварилась в печке у Стасика. Сейчас она мне очень нужна. На дворе страшно холодно! Просто мороз! Но ведь апрель! А на улице мороз?!
Как мне повезло с русскими женщинами. Я потихоньку закрыла за собой двери и пошла в сторону «очаровательного» дома госпожи Эсфирь. По дороге я видела много похожих домов. У некоторых был маленький садик, в котором что-то даже росло. Похоже на какой-то огород. В окнах… занавески?! Я могу заглянуть? Это опасно. Кто-нибудь может оттуда выйти и дать мне пощечину. Дальше я вижу домик с двумя ступеньками и рядом маленькая собачка. Кудрявая. Это что, пудель?! Наверно, пудель. Почему вдруг пудель?! Крестьяне, которых я видела раньше на моих дорогах, держали огромных собак, которые охраняли их дома и дворы. А… дедушка… дедушка с медом и собаками. Я помню тебя. Как же мне было хорошо у тебя. Я уверенна, что эти проклятые румыны забрали у тебя мед и расстреляли тебя и твоих собак. Так мне кажется.
Что это я говорю сама с собой как дура?!
Дошла. Осторожно спускаюсь по трем ступенькам в этот подвал. Запах закрытого помещения. Я чувствую, что жарят лук, и он даже пригорел.
Ну, пришла.
– Здравствуйте, – говорю громко, когда вхожу в комнату.
Эта комната не такая большая, как ее называют, но она больше других. Вокруг стола сидит вся гвардия и радостно пьют морковный чай. На столе стоял пирог!
– Садись, Таточка, – говорит Шели, дочь Доры, приятным голосом.
Госпожа Эсфирь помогает мне снять пальто. Все восхищаются моим платьем. Этого я и боялась. Все спрашивают, откуда оно у меня появилось. Не знала, что и ответить. Первое, что мне пришло в голову: я получила много одежды от белорусских женщин в доме дяди Павла. Ну, вот, разрешила проблему.
– Ты хочешь повесить все эти вещи в наш шкаф? Там нет для тебя места! – торжественно заявила Дора. – У нас очень тесно. Даже очень-очень тесно! – подчеркивает она.
– А может, есть у вас молоток и гвозди?
– Этого еще нам не хватает, молоток и гвозди?!!! Вдруг, молоток и гвозди?
– Если нет места в шкафу, я повешу все это на гвоздь.
– Это не эстетично! – категорично сказала Дора.
– Это временно, – говорю я. – Я не уверенна, что я здесь останусь.
– Мы разрешим этот вопрос. – Мягким голосом говорит Эсфирь и приглашает на чай и пирог.
– Спасибо, как вы смогли спечь пирог здесь? – спрашиваю я.
«Это хороший вопрос, хороший вопрос чтобы разбить лед» – говорю я сама себе. Проглатываю огромный кусок пирога и говорю:
– Это самый вкусный пирог, что я ела за свою жизнь!
Если по правде, у пирога был вкус песка, а запах борща.
– Ты знаешь из чего это сделано? – с иронией спрашивает Фрида Борисовна.
– Нет. Не знаю.
– Он сделан из кукурузной муки и сахарной свеклы!
Теперь я понимаю, почему я чувствую запах борща.
– Замечательно! – говорю я. – Вы полны изобретений!
– Софика научила нас готовить этот пирог, – ядовито говорит Дора, и прибавляет – Как ты находишь новую жену дяди Павла? Правда, она красавица?
«Провокационный вопрос!» – думаю я.
– Без сомнения – красавица! – отвечаю с широкой улыбкой. – И главное, у нее доброе сердце! И уже не говорю, как красиво она одета!
Фрида Борисовна посмотрела на меня понимающим взглядом.
«Эта старуха очень опасна, – подумала я. – Она все понимает».
– Почему же ты оставила этот замечательный дом и пришла сюда, в эту тесноту?
Мне надоел этот обмен колкостями, и я почувствовала, что я их угощу несколькими хорошими фразами из моего репертуара. Я поняла эту игру и решила вытащить из моего запаса самую сладкую улыбку, которую я могла им предложить. После того, как я смогла проглотить пирог и чай, появился Рувка, «назначенный» госпожой Эсфирь, неся в руках молоток и гвозди. Его лицо было как маска. Он не был счастлив своей новой должности.
– Где? – спросил.
– Здесь, здесь, Рувка. Тут, около шкафа. Три гвоздя. Немного за шкафом. Для нашей новенькой Танечки!
Рувка очень профессионально засунул гвозди себе в рот и ударил молотком. Мгновенно забил все гвозди.
– Хватит? – спросил он.
– Хватит. – Я ответила. – Спасибо!
«Что он о себе возомнил? – подумала. – Кто он такой?»
Я ничего не сказала.
Вечером мне объяснили с какой стороны кровати мне положено спать. С моей стороны кровати поставили маленький стульчик и на нем свечку. Я взяла книжку, которую мне дали русские женщины, и собралась читать.
– Что? – сказали все хором. – Ты потратишь свечку для чтения?!
Тут я решила, что последнее слово должно остаться за мной:
– Я не могу заснуть без чтения! Я плачу за свечи!
Так закончился первый день моего воспитания в маленьком аду госпожи Эсфирь.
34.
Так прошли считанные дни, между пребыванием у женщин и сном у госпожи Эсфирь. Что мне страшно мешало, так это грязь. Никак не возможно было там помыться, я была счастлива, что мне позволяли мыться в ванной комнате белорусок, мылом и даже каким-то специальным мылом для волос. «Смерть вшам» – так мы называли это мыло. Жена моего дяди ничего не знала о моем времяпрепровождении, даже ей не приходило в голову, что я нахожусь так близко к ней. К моему счастью, комнаты белорусок были довольно далеко от той части дома, где жили мой дядя и его жена. Таким образом, они не могли меня даже слышать. Каждый день я наносила визит моему дяде в «городском совете», комитете. Мой дядя был очень этим доволен, и у него всегда была масса сюрпризов для меня, красивая одежда или халва. Между прочим, я не понимаю, из чего она была сделана, но я подозреваю, что это было сделано из семечек подсолнуха. Как бы то ни было, для меня это было просто счастье! У моего дяди всегда была колбаса, водка и селедка и вообще всякие изумительные вещи. Могу сказать, что я никогда не оставалась голодной. Я решила вопрос еды! Я все время обходила гетто со всех сторон и осматривала людей, которые там жили.
Это гетто сильно отличалось от того лагеря, в котором я жила в Любашике. Там было несколько улиц, не помню сколько, и маленькие проулочки, отходящие от них. С одной стороны гетто было поле и не было никакого забора. С другой стороны была речка и мост, на котором стояли солдаты, проверяющие всех входивших и выходивших. Вокруг гетто ходили патрули румынских солдат и даже немецких. Вообще в этом городе было много немцев, солдаты и офицеры, которые собирались продвигаться на восток. В это время продолжались жестокие бои вокруг Сталинграда. Со стороны моста было довольно трудно перейти в город. Я знаю только мост, но их было несколько. Их охраняли румынские полицейские, которых называли «жандармерия». Я их не знала и не хотела знать. В особенности после рассказа моего дяди о сержанте Василиу. Который, по его словам, выжал из него большую сумму денег за то, что он меня привез. Я не верю моему дяде, что это было так, как он рассказывает. Я очень жалею, что мне не удалось попрощаться с единственным человеком, который был на моей стороне, когда я была в опасности. Я больше никогда его не видела, но я уверена, что эта история с деньгами была настоящей ложью.
Все время я думала о намеках, которые доходили до моих ушей, насчет действий «центра» по вопросу евреев. О посылке евреев на работу в других местах я еще не знала. Мой дядя жалел меня и не рассказывал мне правду. Так же он не рассказал мне, откуда идут все мои красивые платья. На вопрос, что я должна ответить о моем изумительном гардеробе, он мне сказал, что все из посылок добрых людей. Он посоветовал мне написать в Кишинев на наш бывший адрес моей няне, чтобы она послала все, что она может найти на адрес «еврейского центра в Балте». Все, что я вообще ношу идет посылками из Кишинева. Я спросила дядю, как такое может быть, что почта спокойно идет между Украиной и Бесарабией. Разве в Кишиневе продолжают править румыны?! Мой дядя мне объясняет, что румыны получили от немцев право управлять Бесарабией, и частью Украины, в которой мы сейчас находимся. Эта часть находится между Днестром и рекой Буг. Я исполнила совет моего дяди в его присутствии, моим детским почерком я написала по-румынски наш адрес, и чтобы было ясно, кому это адресовано, я написала по-русски: «Моей няне и дяде Илье». Дядя Илья, наверно, так и не научился писать, но впоследствии, когда я получила письма от моей дорогой няни, он всегда прибавлял особым почерком свою подпись. Письма моей няни были всегда закапаны ее слезами. Моя дорогая, хорошая няня послала мне вещи, которые она смогла вовремя спасти из дома моей тети Рули, который почему-то не сгорел. Вся часть дома, в которой жили служащие, и лошади, и машины не сгорела. Таким образом они могли там спокойно жить. Рулины вещи совершенно мне не подходили, кроме одного зеленого платья, которое было как на меня сшито. Теперь я понимаю, что это все нужно было, чтобы дать мне «алиби». Сегодня я понимаю, насколько был жалок и смешон мой способ писания адреса. Я написала «Моей любимой няне». Дядя смеялся надо мной и сказал, что это напоминает ему анекдот: на главной почте Парижа, получили письмо на адрес «Моему дедушке. Париж, от его внука Вани». Служащие почты смеялись над этим и повесили это письмо под стекло на стенку. По прошествии некоторого времени на почту пришел старый дед и спросил: может быть, у вас есть письмо от моего внука? Очень странно, но вместо того, чтоб смеяться, я расплакалась. Эти двое людей, единственные которые остались у меня. Они были для меня самым важным в этом мире. Ясно, и дядя Павел, но он уже не был моим. Он был совсем другим. У меня было двойственное чувство по отношению к нему. С одной стороны была обида, а с другой – любовь?!
Свободное время я проводила в прогулках по гетто и наблюдении за людьми. Я не осмеливалась перейти мост, потому что мой вид отличался от местных жителей. Я представляла себе, как у меня постоянно просят документы. Но теперь у меня были только документы гетто, которые мне дал мой дядя. С ними я не могла перейти мост.
Однажды, когда я вернулась от белорусок, я заметила маленького, симпатичного, белого щенка, который бегал возле соседнего дома. Дверь открылась, и из нее вышла рыжая девочка, одетая в крестьянскую одежду.
– Шарик, замолчи!
Ее глаза наткнулись на меня, и она меня спросила:
– Ты идешь к нам? Ты хочешь зайти?
– Да! Конечно! С удовольствием! Я хочу погладить Шарика!
– Осторожнее с ним, – сказала девочка. – Шарику понравится «вымыть» тебе лицо, и в особенности нос!
Мы посмеялись. Перед тем как зайти, я протянула ей руку и просто сказала:
– Таня.
– Я Мила, – ответила мне девочка, и крепко пожала мне руку.
Ее рука была большая и теплая и очень дружелюбная. Я вошла и удивилась, какая чистота в этом скудном доме. Мила сейчас же поставила чайник на плиту, которая все время горела. У Милы кухня тоже была на входе в квартиру. Кухня была просторной и блестящей от чистоты. Я прекрасно себя чувствовала.
– Пошли в столовую, – позвала меня Мила. – Я закончила работу, попьем чай.
И сегодня Мила начинает любую трапезу с чая.
Прошло немного времени, и мы стали лучшими подругами. Мы обменялись адресами и информацией. Мила на два года меня старше. Ее мама работала старшей медсестрой в больнице. У Милы были младшенькие брат и сестра, которые в это время были в своих кроватках, в комнатушке, называемой «детской». На самом деле это была ниша в столовой, без окон, но прекрасно прибранная. Симочка и Юлик. Три и пять. Сладкие, кругленькие, полненькие, Бог знает как. С первого мгновения я в них влюбилась.
Мы сидели за столом и пили чай. После этого Мила вспомнила, что у нее есть кое-что поесть! У нее были баклажаны и хлеб. Произведение искусства! Мы снова пили чай, и разговоры продолжались до трех утра. Я забыла, что я должна вернуться в дом госпожи Эсфирь. Мила предложила мне лечь спать на диван, который был в столовой.
– Зеленый диван! – я закричала. – Зеленый диван! Я не верю! Я не верю!
– Чему не веришь, Таня?
– Это был мой любимый диван, дома, в Кишиневе. Наш был из бархата.
– А наш из клеенки. – Рассмеялась Мила.
– Это не важно, я люблю его прямо так, как он есть. А ты где будешь спать? – спросила я.
Мила открыла дверь, которую я раньше не заметила. Там была еще одна ниша, такая же, как и детская. Там стояли две кровати и шкаф. Кровати были застелены, белые и чистые.
– Я стираю все сама. – Сказала Мила с гордостью. – Моя мама очень занята. У нее нет сил стирать после работы. Сегодня ночью она не придет домой. Спи тут, на диване. Я принесу тебе одеяла, ночью холодно.
– Мила, ты выключила плиту?
– Сейчас, сейчас. Из-за разговоров я совсем забыла. Танька, хочешь быть моей подругой?
– Конечно, – ответила я. – Конечно! Что за вопрос?!
Я завернулась в одеяло и уснула.
Первый раз за время моих скитаний я мгновенно уснула, спокойно и уверенно. Тут со мной ничего не случится.
35.
На следующее утро я сняла теплую ночную рубашку, которую мне дала Мила. Кое-как я залезла в свое ежедневное белье и платье. Не будя Милочку, я ушла. Прошла маленькое расстояние между домами. Дверь дома открыта, стучать не нужно. Не знаю, который час, небо серое, еще нет света. Мне было странно, что двери открыты, я зашла на цыпочках в первую комнату и к моему удивлению обнаружила всех вокруг стола. Они выглядели не выспавшимися. На столе стоял самовар. Вся семья пила чай.
– Это что? – закричала госпожа, с трудом поднимая свою полную фигуру со стула и грозно приблизилась ко мне. – Где ты была, плохая девочка? Я всю ночь не спала из-за тебя. Я уже хотела послать Рувку к твоему дяде и сказать ему, что ты не пришла домой спать. Что с тобой случилось? Тебя захватила полиция?
Ее скромная и милая золовка потянула ее за рукав, а ее брат с другой стороны, они оба пробовали остановить этот словесный водопад. Я спокойно стояла и даже не моргала. Я отлично знала, что меня ждет. Главное, меня совершенно не трогало то, что она мне говорит, потому что я великолепно знала, что ей абсолютно не важно, где я хожу, а только эти пятнадцать марок моего дяди. Только это и все.
– Хватит, хватит! Достаточно! – сказал ее брат. – Перестань уже кричать! Ты разрушаешь мои уши!
– Садись, – сказала золовка. – Посиди с нами. Давай выпьем чашку чая.
Я сразу же согласилась, и с мирной улыбкой обратилась к Рувке:
– А ты тоже испугался?
– Абсолютно нет. – Сухо отвечает он. – Мне все равно.
– Тебе не стыдно? – говорит его мать. – Как ты разговариваешь?
– Глупости, – отвечает Рувка. – вы поднимаете много шума из-за ничего!
С этими «умными словами» Рувка встает и, переполненный собственной важности, выходит из комнаты.
Пока что я слышу звуки из большой комнаты, похожие на знаки пробуждения. Дора, Шели и «королева», Фрида Борисовна, заходят в комнату в огромнейших ночных рубахах.
«Большая роскошь, – думаю я. – У меня таких нет».
Все три дамы многозначительно зевают, присаживаются к столу, где еще кипит самовар, и наливают себе чай:
– Где вы провели ночь, молодая барышня? – спрашивает Дора. – Кто этот счастливец, который разделил с тобой кровать?
Я почувствовала, как ненависть одолевает меня, но я улыбаюсь, отвечаю с олимпийским спокойствием:
– К моему величайшему сожалению, ничего такого не было, я просто разговаривала всю ночь с Милой Гавриловой, дочерью медсестры, вашей соседки. Я осталась там спать. Когда мы поняли, что уже очень поздно и темно, мы решили не выходить из-за патрулей.
– Ага, – говорит Фрида Борисовна. – Понимаю, понимаю. Ее величество соизволит в будущем сообщать нам о своем намерении спать вне дома?
– С большущим удовольствием, но у вас нет телефона.
Все присутствующие громко расхохотались. Слово «телефон» было самым смешным словом в гетто. Фрида Борисовна шумно проглотила свой чай. Шели опустила глаза и не сказала ни слова. До сегодняшнего дня я уверенна, что я никогда бы не смогла понять характер этой девочки. Ее ужасный страх перед матерью и, наверное, стыд, замкнули на веки ее рот. Госпожа Эсфирь вдруг переменила тон и стала явным источником новостей:
– А ты, Таня, знаешь, что они христианки?
– Я об этом не думала.
– Ты любишь христиан, правда?
Не отвечаю. Не хочу начинать разговор на эту тему.
– Вы все знаете, что мать этой Милы была замужем за евреем, после развода с отцом Милы?
– Маленькие дети это его? – спросила Дора.
– Конечно. Видно по ним. У них еврейские лица.
– Это совсем не так! У них светлые волосы и короткие носы!!!
– Ага! Мадмуазель антропологистка говорит!
Слово антропология мне очень понравилось.
– Да, это точно, я так думаю.
– Твой дядя тоже живет у христианок? Эти белоруски твои, которых ты так любишь. Ты каждый день туда бегаешь. Откуда все эти книги?
Я не отвечаю, я думаю, как я расскажу это все дяде, он должен это знать.
На следующий день я пошла в еврейский центр. Я зашла к дяде. Вокруг стола сидели люди и делали какие-то списки. Все курили махорку. Ужасный запах наполнил комнату.
– Павлик, я могу зайти, Павлик?
Мой дядя испуганно на меня посмотрел и вытолкнул на улицу.
– Тебе нельзя заходить во время сбора!
– Что вы там пишете? – наивно спрашиваю я.
– Не спрашивай, моя маленькая букашка. Беги скорее домой, сегодня очень холодно и скоро будет дождь. Я не хочу, чтобы у тебя опять появилась астма!
Перед выходом я обняла дядю Паву и прошептала ему на ухо:
– Я спала у наших соседей христиан. Я познакомилась с чудной девочкой Милой.
– Чудесно! – говорит Пава. – Каждую ночь на этой неделе спи там. Это приказ!
– А если я не смогу?
– Так приходи к нам. Будешь спать на сундуке.
– Хорошо.
Я понимаю, что что-то должно произойти.
– Теперь убегай! Быстро, я обязан вернуться, кто знает, что за ерунду они там сделают.
– Павлик, Павлик! – я кричу за ним, когда он уже подходит к двери. – Павлик! Скажи мне, ты самый главный?
– Нет, нет, я не самый главный. Есть поглавнее. Иди, иди.
Оттуда я прямиком отправилась к белорускам. Я должна была вернуть книгу и взять другую, но книга осталась на стуле в комнате госпожи Эсфирь. Лучше я с ними посижу и расскажу, что со мной приключилось ночью. Я думала перевести разговор на дядю Павла, может, они расскажут мне то, чего я не знаю. Я очень быстро шла по улице. Я заметила, что на улице не было ни души. Меня охватила тревога. Мне было тяжело идти из-за моего дыхания и моих больных ног. Когда я, наконец, дошла, я увидела в окне лицо молодой белоруски. Она поспешно открыла дверь, до того как мы услышали голос Софики:
– Кто там? Кого вы впускаете?
– Ничего, ничего. Никого нет.
– Я слышала голоса. Я иду посмотреть.
Я быстро спряталась за шкафом. Видела ее сбоку. Она казалась испуганной. Она что-то знает, подумала я. Я боялась вздохнуть. Я ненавидела ее. Мне было ясно, что от меня что-то скрывают. Я обязана выяснить.
– Вы кого-то ожидаете? – спросила она на ломаном русском.
– Нет, нет. – Хором ответили мать и дочь. – Успокойтесь.
– Вы следите за картошкой? – говорит Софика тоном важной женщины.
– Да, да. Не волнуйтесь. Идите в свою комнату, я сейчас приду.
– Почему вы меня выгоняете? Я вам мешаю?
Ой, подумала я, какая надоедливая. Как ее отсюда выкинуть?
– Госпожа Софика, пойдемте. – Говорит мать. – Пойдемте на кухню. Я хочу посоветоваться с вами насчет салата.
В ту же секунду обе исчезли. Я вышла из-за шкафа и пошла в библиотеку. Она была очень красивая. Гостиная содержала кровати, кресла и письменный стол. На всех стенах комнаты были стеллажи с книгами. Я любила запах этой комнаты. У них были книги по искусству. Теперь, когда я вспоминаю этих женщин, я думаю, что они были очень образованными и культурными. Не такие, как жители городка. Под скромной внешностью скрывались сила и ум, иначе бы они не выжили. Я осталась у них до вечера. Я не слышала, когда вернулся дядя Пава. Слышала только крики Софики, которая приказывала «прислуге» принести ей то или это.
Когда стемнело, я вышла от них, несмотря на уговоры белорусок, и бегом добралась до Милы. На этот раз дорога показалась мне очень длинной. Каждый раз, когда я слышала шаги, я пряталась. В спешке я добралась до Милы. Марья Александровна была дома, и они обе встретили меня объятьями.
– Глупенькая, почему ты гуляешь по ночам?
– Я пришла вас предостеречь.
– От чего?
– Будет санкция!
– Откуда ты знаешь?
– Я чувствую. Я пришла вас предостеречь. Хорошенько закройте окна, ставни и занавески, чтобы не увидели свет.
– Что ты говоришь? – ответила мама Милы. – Какие ты говоришь глупости!
– У вас есть большой крест, чтобы повесить на дверь?
Я видела такой на дверях белорусок.
– Где-то есть. Я не знаю где. – Сказала мама Милы. – Какая паника! Я вообще тебя не узнаю!
– Верьте мне. – Сказала уверенно я. – Верьте мне! Я точно знаю, что я говорю. Вы христиане, правильно?
– Да. – Ответила Мила. – Мама, послушайся Таню. Ее дядя в еврейском центре, он наверно ее предупредил.
– Хорошо, хорошо. Вы обе сумасшедшие. Я поняла. Давайте найдем крест. Где я его засунула?
Я побежала к полкам и стала искать вместе с ними. Я быстро его нашла и повесила на гвоздь, снаружи.
– Где ваши иконы? – спросила.
Мила ответила:
– Я знаю. Но маме не нравится, когда она в углу.
– Обязательно, обязательно надо! Я знаю, что я говорю.
Старая икона, которая хранилась в шкафу, заняла свое место в углу, в столовой.
– У вас есть стакан, чтобы в него можно было налить масло и вставить фитиль?
– Да, да. – Сказала Мила. – Я все устрою.
– Садись тут, девочка. – Сказала мама Милы приказным тоном. – Успокойся! Я старшая медсестра, мне ничего не сделают.
– Поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Ничего не работает, никакие отговорки и должности не спасают, когда пьяные солдаты начинают беспорядки. Я видела это много раз в Любашевке и в других местах.
– Мама, как ты можешь быть такой упрямой? Таня права! Она точно знает, о чем она говорит.
Мы все сделали вовремя. Послышались страшные крики из соседних домов. Крики на румынском и на украинском. Плачь детей, стук в дверь. Мне даже трудно передать весь ужас. Мы с Милой приклеились к щелям в ставнях. Мы видели, как улица перед нами заполняется людьми в пижамах и в одеялах. В основном мужчины и несколько молодых девушек. Мы все поняли. Марья Александровна окончательно потеряла свою уверенность. Она вошла в комнатку детей и склонилась над кроваткой малышки. Ее губы шевелились, как будто она молилась. Я уже знала ее секрет. Дети не были христианами. Они были евреями.
Шум утих. Мы слышали людей, говорящих на румынском возле двери. Я перевела им сказанное:
– Это украинки. Не трогай их!
Через час мы все были в постелях.
В ту ночь мы лежали одетые, перепуганные и не сомкнули глаз до утра.
36.
На следующий день, после ночных волнений, я пошла к дяде Павлу, посмотреть, что происходит. Мне не дали войти. Милочка осталась дома с детьми, продолжать свою ежедневную работу: стирка, варка, отопление и конечно купание детей. Не забывая про единственный ковер, который надо вытряхивать ежедневно. До того как я вернулась к ней, я решила зайти и посмотреть, что происходит с госпожой Эсфирь и ее «свитой». На первый взгляд, все выглядело спокойно, как будто ничего не случилось. Рувки не было.
– Где Рувка? – спрашиваю я.
– Шели попросила сопроводить ее на базар.
– Они к вам заходили?
– Нет, они только стучали в двери, и я им сказала, что это дом фармацевта.
– Они его знают, вашего брата?
– Ну а как ты думаешь? Безусловно, они его знают! Он был самым важным человеком в этом городе!
– Конечно, я понимаю. Откуда они это знают?
– Они все знают. Они всегда ходят со здешним собакой-полицейским.
– Это тот, у кого белая тряпка на рукаве?
– Конечно, свастика.
– Что это?
– Что с тобой?! Это же их немецкий крест с загнутыми концами.
– Ага, – говорю. – Мне кажется, что я это уже однажды видела.
– Скажи, ты действительно была в лагере?
– Да.
– А у вас там не было свастики?
– Нет. Нас сторожили только румынские полицейские.
– Как они с вами обращались, были хорошими?
– Были всякие, и такие, и такие. Хорошие и плохие.
– Скажи, – она приблизила свои губы к моему уху и театрально прошептала. – Они тебя трогали?
– Да, один из них ударил меня в спину прикладом, когда я отставала от колонны. До сих пор болит. А еще один хотел меня застрелить.
Эсфирь Яковлевна сжала свои губы в маленькой и многозначительной улыбке:
– Нет, я имела в виду другое… Ты знаешь, о чем я говорю?
– Госпожа Эсфирь, я понятия не имею, о чем вы говорите. Они меня не били. Ничего особенно плохого не сделали. Они относились ко мне строго, как со всеми. Вам не достаточно, что они убили всю мою семью.
– Я понимаю, ты не хочешь говорить.
Она опять поджала свои губы в выражении «Я знаю, что я знаю».
– Вы совершенно ничего не понимаете. Я сказала вам все, что я знаю и помню.
– А почему они делали столько шума из-за твоего спасения?
– Это кто «они»?
– Павел и Софика-румынка.
– Я ничего не знаю. Они меня искали во всех лагерях и, наконец, нашли, и получилось хорошо.
– Так ты рассказываешь всем, да? – с ехидной улыбкой спрашивает она.
– Я ничего не рассказываю, вы спрашиваете, а я отвечаю.
Вдруг в моей голове появилась блестящая идея:
– Эсфирь Яковлевна, пожалуйста, не сердитесь. Я страшно голодная. Я не могла обедать у дяди, а Милочка вышла в деревню за продуктами. Может быть у вас осталось что-нибудь из еды. Дайте мне кусочек хлеба.
– Ай, ай, ай! Где моя голова?! – говорит она совершенно искренне. – Бедная девочка! Я задаю вопросы, а девочка голодная!
«Замечательная идея», – думаю я.
Она пошла на кухню и вернулась с большой тарелкой остатков от трапезы «купцов», которые обедали у нее каждый раз, когда проезжали в гетто Балты. Это был их «ресторан».
Эти «купцы» были евреями, которые занимались продажей и обменом драгоценностей, шуб, мехов и вообще всего, что имело какую-либо ценность. Эти вещи снимались с тел убитых. За возможность проезда по области, эти «купцы» давали взятки румынским полицейским.
Я ела с большим удовольствием эту холодную еду, потом я залезла на застеленную кровать и уснула как мертвая. Я была очень уставшая. Они меня не будили. Сквозь сон я слышала шепот и обычные сплетни. Я проснулась, когда они уселись за большой стол играть в покер. Меня разбудил стук ложечек в чашках. Как всегда покер сопровождался «классическим» чаем. Продолжаю лежать в кровати и смотреть на их игру. Меня удивляет, насколько они погружены в эту глупую игру. Они совсем не говорят об облаве прошлой ночи, их совсем не интересует, кого и куда увезли. Абсолютно, абсолютно не интересует. Я думаю о своем странном положении. У меня чувство, что я повисла между небом и землей. Мои отношения с дядей Павлом стали напряженны, и полны вопросительных знаков. Его жену я ненавижу. Связь с белорусскими хозяйками тоже не совсем крепкая, потому что мне не запретили их навещать. Семья Милочки Гавриловой тоже пока что далека от меня. Я не знаю, насколько я им близка и насколько я им нужна. Реальность моей жизни в доме совершенно не дает надежды на какую либо связь. Такой тип людей никогда мне не нравился и так же и моей исчезнувшей семье.
Мой папа был в высшей степени образованным человеком. Его интересовала только наука и благополучие его семьи. К деньгам у него было презрительное отношение. «Купец» для него было пренебрежительным термином. Это страшно злило мою маму, отец которой был богатейшим купцом. Но больше всего они не любили «маклеров». Эти «аристократические замашки», были довольно неприятными для моих ушей. Это было единственное, что омрачало отношения моих родителей с бабушкой и дедушкой и отношение моего папы с дядей Павлом, мужем тети Рули. Как бы то ни было, я была их дочерью и впитала все это в свою кровь. И по сей день, я чувствую точно также.
Перед тем как я заснула, я услышала стук в дверь. С крайне театральным видом входят дядя Павел и его жена. Они торжественно держат в руках огромный пирог. Между прочим, я абсолютно уверенна, что это тот же самый пирог, который отличается запахом борща.
– Мы вам принесли пирог! – распевают они на все голоса. – Хотели узнать, как вы поживаете.
Радостные восклицания. Дядя Пава подходит к моей кровати, я лежу как окаменевшая. Он не снял пальто и от него веет холодом.
– Как поживает моя маленькая Таточка?
Открываю глаза.
– Очень хорошо, спасибо.
– Идем кушать пирог!
– Нет, спасибо. Я очень устала и страшно хочу спать.
Прошло много времени, пока они ушли. Они говорили обо всем: шепотом о немецкой армии, которая отступала, о поездах, которые мчались на восток для поддержки их армии под Сталинградом. Слово «Сталинград» я слышала несколько раз. Потом все начало исчезать. В этот вечер я впервые заснула без свечки и книги. Привыкла. Уснула.
37.
Я проснулась утром, осторожно соскользнула с кровати, не дотрагиваясь до ног хозяйки. Мы спали каждая со своей стороны, и наши ноги иногда встречались! Что было не особенно приятно. Огромная пуховая подушка была моим личным врагом. Наверно это была аллергия и каждую ночь я «скрипела» и «свистела». Я знала, что это от пуха. Мой папа все это понял сразу и выбросил все перины и подушки из моей комнаты. Кроме ужасного храпа моей хозяйки, звуков «окружения» и истории с пухом все было замечательно!
По правде было тепло, мягко и даже довольно чисто. В конце концов, была разница между моим пребыванием на досках в лагере и между постелью госпожи Эсфирь. Каждый месяц менялись простыни, и это был праздник. Можно сказать, что это был героический поступок!
У Милочки, например, постель была очень чистой. По ночам, и иногда по неделям, Марья Александровна была дежурной в больнице, тогда я спала у них. Милочка стирает два раза в неделю все белье, все скатерти и вообще все, что можно было засунуть в корыто. Но была все-таки серьезная проблема – мыло. Раз в неделю мы выходили в деревни около Балты, в которых варят мыло. Я ненавидела этот запах и старалась не заходить во дворы, в которых варили какой-то протухший жир с травами, которые предназначались для приготовления мыла. Мыло было шершавое и грубое. Оно «кусалось», как говорила моя Мила. Для меня было открытием то, что во время варки мыла в котел засыпают песок. Это помогает стирать белье и избавляться от грязи. Я думала, как можно уменьшить количество стирок, чтобы употреблять как можно меньше топлива. Вопрос с дровами был очень тяжелым. У Милы во дворе можно было хранить топливо. Его покупали где-то на базаре на границе гетто. Поленья уже были готовы и распилены специально для маленьких печек, которые были в этих несчастных домах. Было очень трудно тащить эти поленья на их место. Расстояние между базаром и домом Милочки было довольно большое и было трудно идти. Я рассказала миле о Стасике и акушерке, которая заставляла его раскалывать дерево топором.
– Ой, – говорит Милочка. – Дал бы бог нам такого Стасика!
B один прекрасный день появился у Милочки парень, который был старше нас на несколько лет. Он был каким-то родственником. За хороший обед он был готов сделать для нас все! Вадим был на две головы выше и широкоплечий. Он придумал повозку на трех колесах, которую можно было толкать перед собой. Таким образом «дровяной вопрос» был решен. Мы его «усыновили»! Можно было использовать его в наших походах по деревням за маслом, солью и сахарной свеклой.
В те времена, эта свекла спасала нас во всех смыслах. Из нее можно было приготовить разнообразные блюда и в особенности пироги. Самое главное качество было то, что ее использовали для приготовления домашней водки. Почти в каждом доме был стеклянный аппарат, весь в трубочках, который перерабатывал заранее спеченную свеклу, отжимал ее, превращал ее в какую то темную жидкость, которая проходила еще долгий путь до того как попадала в стакан. Запах этой свеклы оставался навсегда. Сама водка была сладковатая. В один из моих походов по Украине меня кто-то напоил такой водкой, перед тем как я пошла спать. Я спала день и ночь. Тот, кто покупает в магазинах все, что ему нужно не задумывается о том, как это сделано. Мы же все знали и все делали сами. С той минуты как мы встретились, Милочка и я, мы стали неразлучными подругами. Наши походы по деревням, которые были очень опасны. Бесконечные разговоры о нас и о нашей жизни, о Сталине, о войне, о судьбе разных людей и вообще о судьбе. Главные разговоры были о еде. Почти все время мы были голодными. Все это нас связывает до сегодняшнего дня. Русский язык, на котором мы говорили, был правильный и очень красивый. Потому, что мама Милочки, изумительная женщина, и ее отчим были очень образованы. Я чувствовала себя частью жизни этой семьи. Детки были слишком малы, для того чтобы учиться читать, но мы их учили правильному поведению за столом перед тарелками. Известно, что большинство времени эти тарелки были пустыми.
Когда я жила в деревне, то заметила, что крестьянки не стирают белье руками, а пользуются толстыми палками, которыми его бьют в корыте. Я это рассказала Вадиму, и он мне сразу же все объяснил.
– Мыло должно быть в порошке, – сказал Вадим. – Какие же вы обе дуры, если вам не пришло в голову что это нужно так делать!
– Как же тебе не пришла до сих пор в голову идея помочь нам! Ты весь день гуляешь и ничего не делаешь!
– Ты городишь чепуху! Я не гуляю, – обижается Вадим. – Я в комсомоле!
– В комсомоле?! – кричим мы в один голос. – Как?! Где?! Расскажи! Мы тоже хотим!
Вадим замолчал, после долгого размышления он сказал:
– Вы обе еще маленькие. Таня совсем не может, ей нельзя выходить из гетто, а ты…
– Что я?! Кто я?! Почему я?! Я могу!
– Может быть, ты можешь, но тебе не стоит.
– Почему, почему?! Я хочу!
– Это очень опасно.
– А ты что там делаешь?
– Я когда-нибудь тебе расскажу, не теперь.
Вадим смотрит на меня. Мое сердце сжимается. Я чувствую, что сейчас произойдет что-то очень неприятное. Вадим потупил взор и говорит:
– Я тебя недостаточно знаю.
– Ты хочешь сказать, что я – еврейка и поэтому ты не хочешь открыть мне свои тайны.
– Нет… нет, нет.
– Не стесняйся, скажи мне правду!
– Правда в том, что я знаю только тех ребят, с которыми работаю. Я их знаю с детства. Они все моего возраста и у нас нет девочек вообще…
– Ты увиливаешь, – говорю. – Это потому, что я еврейка.
– Я вас не знаю, бессарабских людей. Кто вы, что происходит в ваших головах, вы чужие! Очень просто. Вы тоже жили под румынским игом, но почти не жили под советским режимом. Вы, может быть, даже поладили с румынами… как я могу верить такой маленькой девочке, как ты. С такими маленькими руками и больными ножками. Я не знаю что у тебя в голове, и кто ты вообще.
Я встаю из-за стола и выхожу из комнаты. Я стою возле входной двери и плачу горькими слезами.
«Даже он, – думаю. – Даже он… даже он…»
Из комнаты я слышу крики и громкие голоса. Выхожу. Иду к дому Эсфирь Яковлевны. Больше у меня нет места в этом мире. Я пропала. До сих пор были только ужасные физические муки, но такая ужасная обида была первый раз в моей жизни. Сомнения в верности. Я больше сюда не вернусь. Никогда. Я не иду «домой», к госпоже Эсфири. Я продолжаю, машинально, идти по главной улице. Мысли лихорадочно вертятся в моей голове. Я пойду к дяде Павлу и попрошу его, чтобы он дал мне работу, я говорю себе. Мила меня больше не захочет видеть. Она пойдет в комсомол с Вадимом, и я ей больше не буду нужна. Опять слезы, на сей раз я не могу их остановить. Что я умею делать? Я вспоминаю, что я была переводчицей в Любашевке, с русского на румынский и наоборот. Переводила даже с немецкого на русский. Чтобы доктор поняла, что происходит с пациентом – с военным! Я приобрела опыт за это время. Я умею даже писать, думаю я. Даже очень хорошо. По-румынски я умею писать! Надо это использовать. Как же я это сделаю? Нет, нет, нет! Я ничего не буду рассказывать дяде Павлу. Я должна работать в больнице. Я научилась многим медицинским выражениям и у меня прекрасная память. Я себе говорю все это громко. Конечно, мне надо будет найти книги в больнице, так я смогу расширить свои знания. А как же я попаду в больницу? Вот это вопрос! Марья Александровна! Марья Александровна! Она ключ к этим переводам. Я ей все расскажу, что я обязана зарабатывать себе на жизнь. Я живу за счет разных людей и даже за счет ее дочери. Может быть, она мне сможет найти место в больнице?
38.
В тот же вечер я ночевала у белорусок. Рассказала им о моем разговоре с Вадимом, но, не упоминая слово «комсомол». Я не знаю, какое у них отношение сопротивляющейся молодежи, которая жертвует собой. Решаю, что тайна – это тайна. Даже если меня обидели! Я рассказала им о моих денежных трудностях, о квартире и, конечно, о еде. Рассказала о Марье Александровне, старшей медсестре в Балтийской больнице. Молодая женщина сказала мне, что это замечательная идея, но если мне трудно спросить у Марьи Александровны, то она готова попросить за меня.
– Ты должна быть самостоятельная, Танечка, – говорят обе. – Ты уже большая девочка.
– О, я, в твоем возрасте, чего только не делала, – говорит мать.
– Да, да, мы это уже слышали, – говорит дочь. – Сейчас мы говорим о Тане. Можно сказать, что, сравнительно с ее малым возрастом, она довольно много знает. Я думаю, что это ей поможет.
Я очень обрадовалась тому, что мою идею одобрили.
– Ты хочешь, чтобы мы рассказали об этом твоему дяде?
– Ни в коем случае! Он никогда на это не согласится!
– Откуда ты знаешь, что он не согласится?
– Он сказал, чтобы я приходила к ним утром в обед и вечером и помогала бы нашей «даме», таким образом, я заработаю себе на хлеб.
– Да, – сказала мать. – Он абсолютно ничего не знает о «изумительном» характере его жены.
– Она его жена, Таня? Она действительно его жена?
– Нет. Она не настоящая его жена. То есть не в полном смысле этого слова. Но можно сказать, что у них были особые обстоятельства. Они нашли друг друга во время побега из Кишинева. И судя по его словам, и эта женщина потеряла своего мужа в похожих обстоятельствах. Таким образом, они у них получилась эта связь. По его словам, она спасла ему жизнь. Ухаживала за ним, когда он тяжело болел. Кажется, это был тиф.
– Она способна за кем-то ухаживать?! Такая холодная рыба, эта женщина, что у меня стынет кровь! – сказала молодая. – Представьте себе, что я должна ей служить?! Какая ирония! Я – служанка!
Понимаю, что я задела чувствительную струну. Решаю исправить сделанное:
– Вы никогда не будете служанкой! Вы – аристократка. – Это была лесть, но с большой долей правды.
Я уверенна, что обе женщины вышли из приличных кругов. Я получила полное одобрение моей идеи. Все стороны от этого только выиграют – я, больница и даже сама Марья Александровна – у нее уменьшатся домашние заботы.
Я возвращаюсь к Милочке, вечером следующего дня. Марья Александровна уже была дома. Меня приняли с неудовольствием и упреками.
– Почему ты удрала? Где ты была? Что ты себе думаешь? Мы чуть не умерли от волнения! Мы не знали, что с тобой случилось! Ты пулей вылетела отсюда, хлопнула дверью и исчезла!
Рассказала им все: обиделась на Вадима. Я поняла, почему он не может взять на себя ответственность за маленькую девочку, которая живет в постоянной опасности, чужую, никому не известную и принадлежащую к презренному народу!
– А действительно, презренный народ! А как же мои дети? Они тоже презренней народ? Ты знаешь, что их отец – еврей? Что они тоже евреи? – говорит Милочкина мама.
Я молчу.
– Я вас люблю, – заикаюсь я. – Я верю вам… я готова умереть за вас… Мила мне как сестра, а вы для меня как мать.
– А, нет, – говорит Марья Александровна. – Нет! Твоя мама была совсем другой. Твоя мама была аристократкой. Тонкой и хорошо воспитанной! Не такая рабочая лошадь, как я!
Теперь мы все плачем. Вдруг всем cтало легче. Гораздо легче, очень даже легко! Во время чая, я рассказала о своем плане стать переводчицей.
– Какая прекрасная идея! – сказала мама Милы. – Как это не пришло мне до сих пор в голову?! Завтра же утром я пойду к директору больницы и расскажу ему о тебе! Сколько ты платишь за квартиру?
– Пятнадцать марок.
– Скажи своему «важному» дяде, что ты будешь сама платить за квартиру!
– А что же мне делать с едой?
– В больнице об этом позаботятся. Мы не оставим тебя голодной, моя бедная маленькая девочка. Не оставим тебя голодной. Пока я жива, ты будешь моей приемной дочерью.
Я очень обрадовалась.
– А что будем делать с документами? – спросила Мила. – Ей ведь нужны документы!
– Позаботимся и об этом. – Сказала Марья Александровна.
Спустя месяц все начало организовываться. За это время мы нашли себе новое занятие, я, Мила и «презренный» Вадим ходили слушать итальянские песни. Довольно близко к нам, кажется в северной части Балты, находился лагерь итальянских солдат. Целый день оттуда слышались песни и певучую итальянскую речь. Мы были в восторге. По вечерам итальянцы выносили через колючую проволоку большой горшок, наполненный итальянским супом, в котором плавали изумительные кусочки теста, а цвет у него был красный как помидор. Вокруг этого горшка сидели дети из гетто, из сиротского дома или просто прохожие и держали в руках жестяные тарелки, чашки и даже маленькие горшочки. Один из солдат разливал суп с песнями и любовью в глазах и всегда говорил ласковые слова, которые мы не всегда понимали, но чувствовали, что нас любят. Он разливал огромной ложкой горячий суп в нашу посуду, а когда у нас не было ложек, то мы сначала выпивали жидкость, а потом пальцами вылавливали тесто.
Однажды один итальянец ущипнул меня за щечку и сказал:
– Ке белла синьйорина! (какая красивая девочка!)
Я поняла эту фразу и широко ему улыбнулась. Я спросила его на плохом итальянском:
– Козо фаи а балта? (почему ты здесь?)
Я не уверенна, что я сказала тогда именно эти слова, но наверно было что-то похожее. Он всегда начинал рассказы, которые я понимала частично. Он нам объяснял, что Муссолини хотел очаровать Гитлера и удостоверить его в своей преданности и по этому послал их на русский фронт. Почему-то на фронт они не дошли, их заставили организовать этот лагерь. Потому как они не стремились идти на Сталинград, они остались здесь. Я поняла его почти дословно. Мой папа говорил со своими друзьями по телефону на итальянском, и когда они приезжали к нему на рождество. У нас дома всегда звучали песни на итальянском и арии из опер, пластинки с которыми прибывали к нам прямо из Италии. Таким образом, я хорошо поняла длинный монолог этого солдата и сразу же рассказала своим товарищам. Мы попросили его научить нас итальянским песням. Так появилось у нас новое занятие, сдобренное горячим супом. Дети пели хором, и я до сих пор помню некоторые слова, которые мне показались трогательными и красивыми: «мама, сон танто феличе, перке риторно да те» – Мама, я так счастлив, что возвращаюсь к тебе.
Мы все пели с ними вместе и плакали горькими слезами. Для нас, для беспризорных детей и сирот, эти вечера были частицей прежней, счастливой жизни.
Теперь нужно было решить вопрос с моими документами Надо было произвести для меня копию моего документа из гетто, который сделал мне дядя. На нем должно быть написано мое имя и мой возраст, который остался для меня не совсем ясным. Как же человек не знает своего возраста?! Я знаю месяц и день своего рождения, но не год! После года скитаний по Украине и моего вранья в каждом доме, где мне давали приют, я начала терять ощущение своей собственной личности. Все-таки Марья Александровна нашла служащего в мэрии, которому, «почему-то», она была нужна. Он мне устроил документ, с которым я могла спокойно перейти мост, ведущий в больницу и обратно в гетто. Этот документ был одинаковым для всех. За это время, Мария Александровна подготовила почву к моему поступлению на должность в больницу. Вопрос: что может такая девочка как я вообще сделать. Нашли мне должность переводчицы.
Директор больницы не входил в подробности. Он дал только приказ о том, что и как нудно сделать, чтобы я работала в клинике венерических болезней. Какую венерическую клинику можно было открыть в маленьком городском госпитале?! Марья Александровна, очень умная и практичная женщина решила все сама. Моя «контора» будет в кабинете бухгалтера. Туда можно поставить еще один стол для меня. Из этой комнаты больные должны были проходить туда, где их будут лечить. Я подозреваю, что она не хотела оставлять меня один на один с солдатами, они входили группами становились передо мной, и я должна была задавать разные вопросы, чтобы понять их просьбы. Присутствие бухгалтера создает защиту. За моей спиной была дверь, которая вела в клинику.
Все это было готово к моему приезду в больницу. Но раньше я ничего об этом не знала. Мне ничего не сказали, а я забыла спросить. Приготовления заняли месяц или немножко больше, когда в один день говорит мне Марья Александровна:
– Да, Танечка, завтра в шесть утра выходим на работу.
– А у меня нет документов.
– Твой документ у меня.
– Я могу посмотреть?
Она мне показывает первый в моей жизни фальшивый документ. Документ выглядит, как все документы, ничего особенного. Я переполнилась гордостью. Я большая!
– Я чиновница! Написано, что я чиновница! Ай, ай! Милка, иди скорее сюда! Иди сюда! Посмотри! Я чиновница! Написано!
На следующее утро Марья Александровна и я, сестра Гаврилова и Татьяна Петренко, вышли на работу в городскую больницу.
39.
Моя радость сменилась паникой, когда я легла спать в столовой у Милы, на зеленом диване. Всю ночь мне снилось мое «чиновничество». Что я, тринадцатилетняя девочка, могу сделать в должности чиновника? Рано утром я уже была готова. Снаружи было еще темно. Я зажгла плиту и поставила на огонь чайник. Мне было просто необходимо что-нибудь горячее. Я дрожала от волнения больше, чем от холода. До сего дня я дрожу от волнения, когда начинаю что-нибудь новое. Тогда это было хорошим волнением. Обещаю. Как обычно, есть было нечего. Мы проглотили по кусочку хлеба, и вышли. Мама Милы держала меня за руку, мы пошли в сторону противоположную мосту, через поля.
– Послушай меня, Таня, вбей себе в голову: с этого момента, для тебя я – сестра Гаврилова. Никаких «мама Милы», ты даже не упоминаешь про гетто! Ты – дочь наших соседей румынского происхождения.
– Я не румынка! – кричу я в ужасном гневе.
– Ты – нет, ты – нет. Ты не румынка. – Утешает меня сестра Гаврилова. – Ты дочь румын, но ты родилась тут, в Балте. Как тебя зовут? Скажи скорее!
– Как меня зовут? Таня Петренко. – Быстро отвечаю.
– Очень хорошо! Не ползи, мы не хотим опоздать!
– Марья Александровна, как же я буду Петренко? Мой папа не мог быть румыном. Петренко – это не румынская фамилия, это русская или даже украинская!
– Ну, хорошо, хорошо. Только твоя мама была румынкой.
Наш поход длился три четверти часа. Мы не переходили через мост, а пошли через поля. Часть полей была покрыта снегом, все остальное было покрыто грязью. Марья Александровна шла как воин, а ползла за ней с большим трудом. Ходьба еще не была моим главным качеством. В особенности на утреннем холоде. В марте на Украине еще очень холодно. Ночью все замерзает. С первыми лучами солнца становится теплее. Мы проходим широкие поля и, наконец, входим в часть города, в которой находится больница. Несмотря на множество моих сомнений, работа в больнице кажется довольно привлекательной. Надеюсь, что мне это удастся.
Пришли. Сестра открыла дверь, волна тепла хлынула на нас. Как хорошо, наверно тут топят. Они не совсем такие бедные как в Любашевке. У них есть деньги на топливо!
– Сними свое пальто. – Говорит сестра. – Таня, я представлю тебя главному врачу. А потом поведу тебя туда, где ты будешь постоянно сидеть. Там тебе объяснят, что надо делать. С этого момента я для тебя «старшая сестра», никаких интимностей! Ты обращаешься ко мне: «извините» и «пожалуйста»! и так же со всеми другими.
– Я не кажусь очень маленькой? – спрашиваю шепотом.
– Ты – это ты! Очень просто. – Так сказала старшая сестра Гаврилова. – У тебя очень серьезная должность помни это!
– А вдруг меня спросят, сколько мне лет?
– Шестнадцать!
– Это ложь! Ой, ой, ой! А если они не поверят?
– Это совершенно не важно. Делай так, как я говорю! Ты болела в детстве и не выросла достаточно. Такое явление существует!
Так решила Марья Александровна. Я успокоилась. Я одета довольно хорошо. Одела зеленое платьице, которое мне прислала моя няня. Марья Александровна взяла меня за руку и повела в кабинет главного врача. Невысокий человек, лет сорока-пятидесяти, может даже больше, я не разбираюсь в этом. С очень приятным лицом.
– Это ты – Таня Петренко?! Я думал, что это взрослая женщина. Зачем вы мне привели эту девочку?
– Она не ребенок, ей шестнадцать лет, она говорит и пишет на трех языках. В вашем персонале есть такие?
Я могу сказать, что я была очень горда в тот момент, но не поднимала глаза. Притворилась скромной.
– У этой девочки блестящий мозг и великолепная память! Где вы еще такую найдете?! В следующий раз она наденет туфли на каблуках и все будет в порядке.
Доктор поднял очки на лоб и пристально на меня посмотрел:
– Скажите, молодая госпожа Петренко, – он обратился ко мне с добродушной иронией. – Работали ли вы когда-нибудь переводчиком?
– Конечно, да, – говорю. – Целый год, даже больше.
Хотя бы эта часть не ложь – подумала про себя.
– Где я буду сидеть? – спросила деловым тоном. – И с кем я должна встретится.
– Сестра Гаврилова, проводите ее, пожалуйста, в бухгалтерию. Там ей все объяснят.
– А какова у меня будет зарплата? – я спрашиваю немного громче.
Обе прыснули смехом. Главный врач посмотрел на меня добрыми глазами и улыбнулся:
– Это будет для вас великолепно, молодая барышня. Очень хорошо, не волнуйтесь.
Марья Александровна торжественно провела меня в «резиденцию бухгалтерии». Помещение было большое, вся мебель была очень тяжелая коричневая и старая. Там стояли два огромных стола, и на каждом из них стояла лампа, типичная для советских кабинетов. За столом, который стоял около окна, сидел пожилой дядя. Его очки находились на кончике носа. Они задержались точно над его верхней губой. Он поднял свои глаза и сказал только одно слово:
– Это?!
Он показал на меня своим длинным кривым и желтым от курения пальцем.
– Это, это, – отвечает сестра Гаврилова. – Это наша переводчица.
– Эта маленькая девочка? Это настоящее богохульство! Я ни за что в жизни на это не соглашусь!
– Степан Иванович, не вмешивайтесь в эти дела. Она сделает свою работу переводчика, и на этом разговор окончен. Пожалуйста, объясните ей ее обязанности.
Бухгалтер прокашлялся:
– Принеси ей подушку на стул, она не достанет до стола.
– Я об этом уже позаботилась. Подушка на стуле. Только объясните ей, что она должна делать.
Сказала и вышла.
Мы остались вдвоем. Бухгалтер осторожно подошел ко мне, посмотрел на меня поверх очков и показал мне своим кривым пальцем толстую пачку отпечатанных листов.
– Посмотри тут все вопросы, которые ты должна задавать всем солдатам, которые приходят в венерическую клинику. А тут бумаги, на которых ты должна заполнить ответы на их языке и по-русски. Немецкий, румынский и иногда, очень редко, итальянский.
«Ай, ай, ай – подумала я. – Я не знаю итальянского!»
Я не показываю вида, киваю головой и делаю серьезное выражение лица.
– Ты понимаешь?
– Конечно, – говорю я. – Безусловно! Где же они? Эти больные?
– Подожди, через час тут все заполнится.
– Что, они входят все сразу? Не по очереди?
Он рассмеялся.
– Немцы заходят по очереди, а румыны гурьбой.
– Я понимаю.
– А где же эта клиника? Я не вижу никаких врачей?
– За твоей спиной, ты видишь дверь? Там она. И больше ничего не спрашивай. Между прочим, переведи все вопросы на другой форме, чтоб ты знала что спрашивать. Когда закончишь писать, пойдем завтракать.
Завтракать, завтракать! Какое розовое будущее!
Таня Петренко стала чиновницей.
40.
На следующий день я вошла в кабинет бухгалтера. Я села на стул и открыла свои списки. Вдруг ввалилась целая куча румынских солдат, которые смотрели на меня и смеялись. Просто смеялись. Я заметила, что бухгалтер смотрел на них с любопытством и радостью.
Я не дала этому развитие. Я спросила по-румынски:
– Вы все пришли в венерическую клинику?
– Да. – Ответили они хором.
– Тогда постройтесь в очередь и сотрите эти лишние улыбки с ваших лиц! Солдатам это не подходит! Солдат – это солдат, врач – это врач, и чиновник – это чиновник! Это понятно?
Моя смелость казалась мне преувеличенной, но я продолжила тем же тоном:
– Ты – первый. Как твое имя? Какой полк?
Записала его ответ.
– Часть?
Записала.
– При каких условиях?
Тут начался смех, который невозможно было остановить.
– Я не вижу ничего смешного. Болезнь это болезнь, а условия это условия, точка!
Смех прекратился, и на его место пришло замешательство. Совещание. Первый солдат сказал мне заикаясь:
– Я мочился против ветра…
Записала. Этот ответ повторился у всех пятнадцати солдат, которым я задавала этот вопрос.
Когда они ушли, я села за перевод их ответов на русский. Я отложила лист и пошла в кабинет главного врача. Аккуратно постучала и вошла в святая святых.
– Извините, я могу вам немного помешать, доктор? – вежливо спросила я.
– Да, да, в чем проблема? – спросил меня врач и подмял очки на лоб.
Он поднял голову, посмотрел на меня сверху и сказал:
– Уже есть вопросы? Ты только начала работать!
Я положила лист перед ним.
– Я прошу прощения, но мне нужно пояснение. Какую болезнь можно получить, мочась против ветра? И если об этом известно, то почему это все равно делают?
Что-то происходило с лицом доктора. Его рот хотел смеяться, но его самоуважение не позволяло. Он подошел к двери и громко закричал:
– Сестра Гаврилова, Марья Александровна, подойдите и посмотрите на чиновницу, которую вы мне привели! Послушайте вопросы, которые она задает! Вы приводите мне детей, у которых еще молоко на губах не обсохло, вам не стыдно?! Прямо в клоаку, в венерическую клинику?!
– Доктор, скажите мне, пожалуйста, что такое венерическая клиника?
– Вы видите? Эта бедная девочка должна слушать такие вещи?! Вам не стыдно?
Лицо Марьи Александровны застыло. Она ждала, когда буря пойдет. Когда главврач, наконец, сел в кресло и вздохнул, он вытащил платок – я давно уже не видела такого белого платка – и многозначительно вытер свой лоб.
– Вы врач, – сказала Марья Александровна тихим голосом. – Вы ей объясните.
– Я?! Я объясню этой маленькой девочке?! Вы ей объясните или уберите ее отсюда немедленно! Немедленно!
Я вижу, что мое положение пошатнулось. Я подхожу к врачу и тихо говорю:
– У вас есть книги. Дайте мне прочесть их, и я все пойму. За два дня я прочту эти книги, пойму, о чем речь и смогу задавать более умные вопросы.
– Вы видите? – сказала старшая сестра. – Эта девочка умнее нас с вами!
К вечеру я вернулась домой. Мы вдвоем тащили три огромные книги. Это были книги о венерических болезнях и способах их лечения. Всю ночь я читала. На следующий день я уже вернула одну из книг. До конца недели я поняла, где я нахожусь и что мне надо спрашивать.
Так я жила на долгие месяцы. Большинство приходивших солдат были из румынских гарнизонов. Их поставили немцы в украинских городках для поддержания порядка. Сами немцы не могли это делать, потому что им надо было двигаться дальше. По слухам, их положение ухудшилось.
К моему счастью, итальянские солдаты к нам не приходили. Я не знала итальянский настолько хорошо, чтобы спросить их даже одно предложение. Вместо этого я попробовала улучшить знание немецкого. Редкое немецкие солдаты приходившие туда вели себя очень вежливо. Они тоже чувствовали себя довольно неудобно, когда они были вынуждены отвечать на мои вопросы. Но, несмотря на все, они мне задавали свои вопросы:
– Как такая маленькая девочка, как ты, может работать на такой серьезной должности?
Было довольно легко с ними разговаривать. Я иногда их спрашивала даже о более личном, не относящемся к делу. Куда они едут, едут ли они домой или продолжают дальше, на восток. Я им не задавала специфические вопросы. Мне было ясно, что они мне не ответят. Но я спрашивала, из какого города они родом. Им очень нравилось мне рассказывать о родных домах, о братьях и сестрах. Они вели себя очень вежливо. Не было и следа той жестокости, о которой я слышала потом. Все это я делала без всякой цели, но понемногу я составила себе довольно ясную картину состояния войны.
1943 год. Немецкая армия начала проигрывать бой за боем и отступала. Главное сражение было в Сталинграде. Из их очень редких намеков, я поняла, что они не очень-то рады туда попасть. Я понимаю, что они не видели никакой опасности в том, что они болтали со мной. Они видели во мне маленькую, наивную девочку со светлыми волосами. Кстати они у меня отросли и посветлели. Им даже не приходило в голову, что эта девочка – «жидовская змея». Румыны, напротив, ничего о себе не рассказывали. Они выглядели очень запущенными, грязными и очень, очень уставшими. Я понимала, что им просто не до личных разговоров. Будто бы все было в порядке. Каждое утро мы шли вдвоем, Милочкина мама и я, через поля. Иногда мы возвращались в месте, но чаще я возвращалась сама через мост с помощью моего документа. Меня никогда ничего не спрашивали и даже не смотрели на меня. Через мост дорога была длиннее, но я предпочитала ее. У меня был какой-то страх переходить эти поля одной.
Я рассказала дяде Паве о моей новой работе. Я его известила, что теперь он не должен платить Эсфирь Яковлевне за мое жилье.
– Я сама заплачу. – Говорю я.
– Очень хорошо, – говорит дядя Павел. – Последнее время у нас мало денег.
Я не подумала о смысле этих слов. Но через несколько месяцев я прекрасно поняла, о чем шла речь. Больница мне платила пятнадцать украинских марок, они назывались временные. Это был весь мой заработок и довольно хороший, но, к сожалению, госпожа Эсфирь Яковлевна беспощадно их у меня забирала. Несмотря на то, что большую часть времени я проводила не в ее доме. Я понимаю, что эта сумма была платой за молчание. Она избегала рассказов о моих походах, чтобы ее не спрашивали слишком много. Она, наверно, не думала, что я делаю что-то очень опасное.
Однажды, возвращаясь с работы, я встретила парня из гетто, товарища Рувки. Он стоял около Милочкиного дома и ждал меня.
– Ты меня знаешь? – спрашивает он. – Я жду тебя здесь.
– Меня? – удивленно спрашиваю я. – Почему меня?
– Я очень интересуюсь тобой. Расскажи мне о твоей работе в больнице.
– Кто тебе сказал, что я работаю в больнице?
– Рувка.
– Рувка ничего не знает. Откуда он взял это?
– Так он сказал.
– Какое право ты имеешь задавать мне личные вопросы.
Я должна сознаться, что могла довольно резко ответить, если было надо.
Он не смутился. Он мне объяснил цель своих вопросов и сказал, что я не обязана отвечать, если не хочу. В ответ на его расспросы я поинтересовалась:
– Скажи, ты комсомолец? Я тебя прямо спрашиваю. Ответь.
Он раздумывает немного и отвечает:
– Да.
– Хорошо. Я с тобой поговорю завтра. Завтра воскресенье. Я не работаю в воскресенье. Скажи мне, где ты хочешь встретиться, и я там расскажу тебе все, что знаю. Ты обещаешь, что никто об этом не узнает?
– Клянусь жизнью моей мамы!
– Пожалуйста, не клянись жизнью своей мамы! Клянись своей.
– Хорошо. Ей богу. Я клянусь своей жизнью, что никому не расскажу!
Мы дошли до дома госпожи Эсфирь. Я оставляю его, вхожу, и меня окутывают такие знакомые запахи этого дома. В эту ночь я не сомкнула глаз. Я чувствовала, что что-то очень плохое должно случиться. Я все время крутилась на кровати. Я помешала Эсфирь Яковлевне спать. Я поняла, что от меня ждут чего-то очень важного, что может ускорить отступление немцев. На днях мы уже видели колонны военных машин, которые быстро проносились по дорогам назад в Германию. Они останавливались только для загрузки еды и бензина. Все говорили об это. Я все поняла сама. Прорисовывается картина массивного отступления. Я бола очень обеспокоена встречей с парнем. Что случится с теми, у кого я живу, если он расскажет то, что я ему передам. Я почувствовала огромную ответственность. Я не могла избежать действительности. С одной стороны я обязана была рассказать комсомолу правду. Обязана! С другой стороны, я подвергала опасности семьи, с которыми я живу и тех, кто как-то связан с моей жизнью. Я уверенна, что дядя Павел будет «очень рад», услышав эти сведения. Он может резко протестовать какой-либо связи с комсомолом. На рассвете у меня был приступ астмы. Тяжелый приступ.
41.
Пришли странные дни! Мои нервы очень натянуты. Я не знаю, что меня ждет, но чувствую, что что-то висит в воздухе. Что-то плохое. Я поделилась своими чувствами с Милочкиной мамой. Она меня успокоила и сказала, что надо вести себя как прежде. Никто не должен почувствовать и увидеть, что с нами лично происходит.
– Работа – это работа! – объявляет мне Марья Александровна.
Я соглашаюсь с ней. Она была очень умной, последовательной и спокойной. А самое главное, она выделялась силой своего характера. Я очень ее любила и уважала.
Каждое утро мы ходили в больницу. Теперь ходили через мост. Я спросила:
– Почему не через поле? Теперь там нет грязи и все зеленое. Гораздо приятнее там ходить.
– Это не здорово, ходить через поля. – Короткий и решительный ответ.
Мы проходили через мост, держа в руках наши документы. Показывали их издали солдату, стоящему на мосту. Все проходило в полном порядке. В больнице все было, так как раньше, но в отделении раненых и больных не было свободных мест. Больные лежали в коридорах. Большинство пациентов были немцы и румыны. Была эпидемия тифа и других болезней. Очень много солдат приходило легко ранеными, на перевязку. Меня потащили туда, чтобы переводить сестре все, что рассказывает раненый солдат. Почти все раненые были немцами. Румыны не участвовали в боях. Легко раненыx не госпитализировали. И они продолжали идти на восток с товарищами, которые их ждали у ворот больницы. Поэтому вокруг больницы создалось кольцо военных машин. Вооруженные солдаты сидели в машинах и терпеливо ждали своих товарищей, которые должны были вернуться после перевязки. В венерической клинике, напротив, было намного меньше пациентов. Румыны приезжали, получали лекарства и сразу же удирали. Они ехали на запад, в Румынию. Я сразу же поняла, что гарнизон уменьшается. Немцы в большом количестве ехали на восток и поездами и машинами. Но по количеству возвращающихся было ясно, что происходит. Милочкина мама оставалась спать в больнице. Мы оставались с маленькими детьми без нее. Мы ни о чем не думали и ничего не боялись. В один вечер, мы готовились уже спать, постелили малышам, нагрели молоко и потушили печку. Сын соседей, Вадим, Милочкин товарищ, который помогал нам таскать дрова, исчез. Мы ничего о нем не знали. Много молодежи пропали. Среди них и товарищ Рувки, с котором мы разговаривали. Куда они все исчезли? Мила не любила разговаривать о тяжелых вещах. Я с ней не делилась своими подозрениями. Было поздно, мы начали тушить свет. Не стоит упоминать, что электричества не было, и мы пользовались коптилками. Надо было беречь масло. Последнее время мы уже не ходили в деревню за маслом, яйцами и мукой. Последствия были очень неприятные. В гетто Балты была маленькая лавочка. Там работала вдова, которая болтала бесконечно много, что все от нее убегали. Наш ужин был из кукурузной муки и это называлось мамалыгой. Немного сыра или творога, который мы делали из кислого молока. Было опасно выходить в деревню из-за немецких солдат, которые патрулировали по всей области. Немецкие солдаты шагали по военному, группами и пели военные песни. Их патрули, бесконечные патрули, проходили и в гетто. Было опасно переходить из дома в дом. По вечерам мы не выходили. Мы уже собирались лечь в кровать, когда мы услышали громкий стук в дверь. Мы задержали дыхание.
– Махен зи ауф! Ауф махен! Ауф махен! Шнель! Шнель! (Откройте! Откройте! Скорее! Скорее!)
Эти крики и шум были ужасные. Я шепчу Милочке:
– Это немцы! Надо открыть! Они угрожают разбить дверь!
– Иди, ты открой. – Говорит Мила. – Я дрожу. Я даже не смогу дойти до двери.
Дрожа, я подхожу к двери. Готова получить пулю прямо в сердце. Я слышала, что они имеют такой обычай. Сразу потянула и широко раскрыла дверь, и говорю с улыбкой до ушей:
– Комен зи раиин, битте! (Входите пожалуйста.)
То, что я перед собой увидела, меня поразило. Передо мной стояли четверо мальчишек. Они выглядели детьми. Одетые в летние одежды и дрожащие от холода. Они смотрят на меня жалкими глазами и с надеждой. Не говоря ничего, я отхожу в сторону, рукой показывая им проходить и даже пытаюсь улыбаться.
– Милочка, – говорю веселым голосом. – Одевайся, у нас гости!
И прибавляю:
– Не бойся, они ничего не понимают по-русски.
Мила забежала в комнату малышей и прилипла к кровати. Я осталась одна на «поле битвы». Они мне говорили что-то на немецком, но я ничего не поняла. По их тону и некоторым словам я поняла, что они не опасны. Они меня называли «цукер пупхен», то есть «сладкая кукла». Я знала это слово еще из дому, от моей немецкой «фройлен». Я была не совсем спокойной. Как могла, играла роль хорошей хозяйки, которая готова сделать все, чтобы помочь замерзшим бедным маленьким солдатам. Они отодвинули в сторону стол, постелили большой кусок брезента и поставили на него свои кровати. Они попросили ведро воды, но когда я хотела выйти принести воды, бочка стояла около двери, они мне не позволили и сделали все сами. Один из них протянул мне руку и крепко пожал мою.
– Гюнтер, – сказал он. – Гюнтер. Майн намен ист Гюнтер. (Мое имя Гюнтер.)
– Их бин Таня. – Ответила я ему.
Куда он ведет, подумала я.
– Зи зинд кайне юден? (Вы не евреи?)
– Абер нихт, – отвечаю. – Найн. Шаун зи ан. (О, нет, нет. Посмотрите сюда.)
Я указала на иконостас Марии Александровны в углу. Он был освещен маленькой коптилкой. Это служило весомым доказательством непринадлежности к евреям. Гюнтеру этого было достаточно. Он познакомил меня с остальными ребятами. Они все стучали каблуками, пожимали мне руку и представлялись. Они были очень-очень приятными. Я спросила их, как они хотят нагреть воду и нужно ли разжечь печку. Они сказали, что у них есть свои способы. Они достали кипятильник и засунули его в воду. Через минуту вода закипела. Вдруг они посмотрели на меня, и один из них сказал:
– Мы не немцы. Мы из Вены. Остерайх. Австрия.
Он улыбнулся, к моему удивлению, чмокнул меня в щеку и сказал:
– Мы не делаем неприятности таким маленьким девочкам, как ты. Теперь иди, выйди наружу. Мы хотим помыться и это некрасиво, если маленькие девочки увидят нас голыми.
Я рассмеялась. Какое облегчение! Какое облегчение! Может быть, все будет мирно?
Они разговаривали между собой. Мы с Милой закрылись в детской. К нашему удивлению, дети спали сладким сном и ничего не слышали. Мы сели на пол и начали перешептываться, чтобы не разбудить детей.
– Что он сказал? Скажи же, что он сказал?
– Он сказал свое имя и сказал, что они не немцы и не сделают нам ничего плохого. Он послал меня в эту комнату, чтобы я не видела, как они моются.
– Ой, я удивлена! – Сказала Мила. – Они моются?! Румыны никогда не моются.
Мы просидели на полу всю ночь, и рано утром, еще до восхода, мальчики встали, оделись и постучали к нам в дверь. Они пожали нам руки, поблагодарили, взяли ружья, очень аккуратно сложили брезент, перенесли все в свою машину и даже подвинули стол на место. Перед тем как последний из них вышел, тот самый Гюнтер, который, наверно, был командиром, он положил на стол шесть или семь банок консервов, сухой запакованный хлеб и кусочки сахара. Мы стояли, разинув рты от удивления.
– Спасибо, спасибо, – мы сказали. – Данке шен!
Когда они, наконец, ушли, мы обнялись. Мы и плакали и смеялись. Малыши продолжали спать.
Мы сели за стол и начали открывать консервы. Мила вскипятила чайник, и теперь мы пили чай с сахаром, как до войны. Мы начали разбирать, что же произошло и как мы остались в живых. Мила сказала:
– Таня, ты знаешь, почему они нас не тронули?
– Нет, – Отвечаю. – Я понятия не имею.
– Ты показала им икону, правильно?
– Да, но… и до этого они себя хорошо вели. Первое что они сказали, было то, что они австрийцы, а не немцы.
– Откуда мне знать, что австрийцы лучше немцев? Немцы – убийцы! Может и австрийцы тоже?
– Какая разница? У нас будет много еды! Огромное количество еды! Это очень хорошая еда! Это можно подогреть и даже сделать из этого суп!
– А что это? – Спрашивает Мила. – Ведь ты все знаешь! – С иронией говорит Мила.
– Я точно не знаю. Но, судя по запаху, кажется, это мясо.
– Мясо? Мясо! С каких пор мы не ели мясо, Таня?
– Да, да. Очень давно.
– У дяди Павла тоже нет мяса?
– Я не помню, чтобы я ела там мясо. Кажется, один раз я ела там курицу, но я была настолько несчастная, что я не помню, что я ела и какой у этого был вкус.
– Скажи, Таня, надо ли рассказать об этом маме?
– Мы обязаны, обязаны! Твоя мама должна все знать.
– Бедная мама она страшно испугается… а может быть, не надо?
– Нет, она спросит, откуда у нас консервы. И малыши могут рассказать разные вещи.
– Они ничего не скажут, они ничего не видели.
– Замечательно. Мы расскажем Марье Александровне все, но… легко! Ты знаешь, Милуха… я боюсь рассказывать об этом дяде Павлу. Он поднимет такую суматоху! А его жена может воспользоваться этим против меня. Она только и ждет момента, чтобы устроить скандал.
– Ну, так давай ничего не говорить. Все подробно расскажем маме.
– Какое счастье, что я не должна идти сегодня в больницу. Сегодня в клинике нет приема. Давай пойдем, посидим у забора у итальянцев. Будем слушать их песни.
– Чудесно! Я всегда готова с ними петь. Давай позовем моих подруг, Верочку и Инну, и все вместе туда пойдем.
Не прошло и часа, как мы совершенно забыли о ночном происшествии.
42.
Мы начали привыкать к новому напряжению.
Вокруг много военных. Мы опять начали ходить по деревням. Мы выходили в субботу после обеда, после своего рабочего дня, спали в деревне, а на следующее утро в воскресенье мы возвращались. Это было возможно только тогда, когда Марья Александровна могла остаться с детьми. Мы могли свободно выходить и входить в город, но по вечерам по всем улицам ходили патрули и жители не имели право выходить на улицу. Было очень опасно встретиться лицом к лицу с румынским или немецким патрулем. В особенности опасно для Милочки. Моя подруга Мила выглядела уже подростком не ребенком. У нее выросли разные «принадлежности», которые были очень не желательны в таких обстоятельствах. Марья Александровна строжайше нам запретила выходить на поля и улицы в сумерки. Иногда Вадим присоединялся к нам. Вадим появлялся и исчезал непонятно куда. Вообще его окружал туман неизвестности. Он смотрел на Милу телячьими глазами, со смертельной грустью и бесконечной любовью. Конечно же, мы над ним смеялись. Он был хорошим парнем, бедняга. Кто знает, что с ним произошло. Какая ему выпала судьба.
В одно утро мы вышли в деревню. Мила сказала, что у нее есть на примете такая деревня, где живет замечательная семья, чудесные люди. У хозяина сегодня день рождения. Милочка прежде всего, хотела попасть к ним.
– Мы сможем у них все купить?
– Да, да, все в порядке. Кажется, что сегодня они зарезали барашка. Они всегда это делают после Пасхи, а не перед.
– А у меня тоже через несколько дней день рождения.
– Ого, и у нее день рождения! Посмотрите на нее! Поперек батьки в пекло не лезут! Мы не можем сейчас праздновать день рождения. Забудь!
– У меня нет к вам никаких претензий. – Обиделась я.
– Ой, перестань быть такой дурой! Во все, что тебе говорят, ты веришь. Сделаем тебе, сделаем тебе день рождения, не бойся, дурочка.
– Почему Вадим не пришел?
– Иди, узнай! У него все – тайна! Наверно он что-то делает для комсомола.
– Что там делают?
– Где это «там»?
– Ну, в комсомоле… Это что дом? Это чей-то дом? Что там происходит.
– Это не дом. Это погреб. Собираются там группами. У каждой группы свой погреб.
– Сколько людей в группе?
– Самое большее – шесть.
– Почему?
– Ой, Таня, Таня. Ты же ничего не понимаешь! Если одного поймают, то его заставят выдать румынской полиции имена пяти человек и все! А если будут больше, то это будет большая потеря.
– У каждого есть свое имя или его называют собственным именем?
– По настоящему. Тут у нас, в маленьком городке, все всех знают. Некуда спрятаться!
– А что они там делают?
– Распространяют листовки в кино, кладут их под двери в городе. Приносят еду и оружие партизанам…
– Где партизаны?
– Ой, действительно, какие дурацкие вопросы ты спрашиваешь! В лесу! Где же им еще быть?!
– Мила, не сердись. Если все знают, что они все в лесу, так и армия знает. Таким образом, их все равно поймают!
– А! Видно, что ты не веришь в нашу героическую молодежь! Румыны боятся, открыто на них напасть. Они больше боятся партизан, чем мы боимся их!
– Это взрослые или дети, как мы с тобой.
– И те и те. Весной и летом больше детей. А зимой они не могут продолжать и возвращаются домой.
– Что они делают в этих погребах?
– Слушают радио.
– У них есть радио? Это здорово, это действительно здорово!
– Что ты думаешь, наши люди трусишки?! Они готовы сделать все! Даже свести поезда с рельс.
– Как это сводят поезда?! Почему поезда?
– Таня, иногда ты совсем как ребенок! Надо сводить поезда немцев, которые едут на фронт. Это нужно! Обязательно нужно!
– Ясно, понятно! Но как они это делают? Скажи, Мила, а я могла бы это сделать?
– Конечно, только этого мне не хватало! – Говорит Мила. – Моя мама наверно убьет меня из-за того, что я это тебе рассказала.
– Нет, нет, расскажи. Расскажи все. Сейчас, давай!
– Ну, я тебе еще раз говорю. Берут гаечный ключ и молоток. Идут ночью к рельсам и ослабляют все винты.
– И никто их не ловит там?
– До сих пор я не слышала, чтобы там кого-то поймали. Но это делают только маленькие.
– В нашем возрасте?
– Конечно, а почему бы не делать?! Освобождают винт и удирают. Совсем не сложно, но зимой труднее.
– Почему зимой труднее?
– Потому, что все замерзшее! Разве не ясно?!
– Да, ясно. А почему ты туда не идешь и не делаешь этого, если все так просто?
– Только этого мне не хватает! Моя мама должна будет остаться с маленькими детьми и не пойдет на работу?! Тогда кто им принесет еду и что они будут кушать?! Без меня, – продолжает Мила с гордостью. – Без меня, моя мама не сможет пойти на работу! Кто будет заниматься домом? Кто будет стирать и варить?
Мне надоело слушать ее тираду.
– Ну, хорошо, хорошо! Не сердись. Теперь, кажется, и я тебе немного помогаю.
– Ну и ты, конечно, немного помогаешь. Ты же мне как сестра. Ты хочешь быть моей сестрой, Таня?
– Конечно! Давай сделаем кровяной союз.
– А как это делают?
– Прокалывают палец булавкой, и смешивает кровь нас обеих.
– Есть у тебя булавка?
– Нет.
– И у меня нет, у меня никогда не было булавки.
– Хорошо мы это сделаем когда вернемся домой.
Мы продолжаем наш путь молча. Мне всегда трудно ходить, поэтому мы идем очень медленно. Когда мы, наконец, пришли туда, то нашли хозяина довольно таки пьяным, а вся семья занималась мясом зарезанного барашка. Было интересно смотреть, как они это делают. Они процеживали кровь в кишки, из этого потом делали колбасу, которую коптили над костром. С солью и перцем. Откуда у них была соль? Они наполняли кишку, связывали ее с обеих сторон и потом вешали ее над костром. Мясо они разделывали, солили, перчили и вешали. Часть мяса попадала прямо в горшок, который стоял на плите во дворе.
– Мила, у них уже лето! Они варят это на летней плите! А вдруг пойдет дождь?
Мила не обращает внимания на мои вопросы и заходит в дом. Она целуется со всей семьей. Они хватают наши корзины и наполняют их всякими продуктами. Очень осторожно кладут яйца в солому, чтобы они не разбились по дороге. Они не хотят брать у нас денег, мы не протестуем. Я сижу на скамейке и смотрю на них. Что это за люди? Счастливцы, как будто воины и нет вовсе! Как хорошо когда есть большая семья! Вдруг я понимаю, насколько я одинока. Праздник еще не начался. Милочка подошла ко мне и легла рядом на печку. Несмотря на то, что была весна, после обеда было довольно холодно. Хозяин дома налил нам два стакана водки, той самой водки из сахарной свеклы. «Орудие» приготовления стояло в углу комнаты, и водка гуляла по стеклянным трубочкам туда и назад. Это зрелище меня пленило. Не замечая, я взяла стакан, который мне подал хозяин, высокий здоровый дядька с огромными усами. Настоящий коренной украинец.
– Выпей все, девочка. Видно, что ты устала. Это тебе нужно!
Я опрокидываю стакан прямо в горло. Немного печет, но очень вкусно. Сладковато.
– Идите сюда скорее! Посмотрите на эту девулю! Как она опрокидывает стаканы! Это настоящая русская девочка! Правда, Людмила? Эта девочка пьет как русская, не как наша украинка! Ты такого не сделаешь, а Мила, правда?
Милочкиного ответа я не слышу и не понимаю. Я вообще перестаю понимать, где я нахожусь. Пришли гости. Начали петь. Меня положили на печку, а я потеряла любую связь с действительностью. Я слышу очень красивые песни. Я никогда не слышала таких песен. Сплю как убитая. Мне снится мой дедушка. Это все из-за водки.
43.
Спустя несколько часов я проснулась. Мила стукала меня кулаком.
– Танька, Танька, проснись! Уже вечер, мы обязаны сейчас же вернуться!
– У меня кружится голова. Я не могу двигаться. Что вы дали мне выпить?
– Давай, давай, не балуйся. Мы должны вернуться. Моя мама будет очень сердиться!
– Нельзя поспать здесь? Я просто не могу выйти наружу.
– Первое. Спать здесь нельзя! Второе. Мама сегодня дома, а ты знаешь, что это значит.
– Ой! Что же мне делать? Как я выйду на улицу? Я же замерзну.
Я посмотрела вокруг и увидела одурманенных людей, сидящих на полу, на лавках, на стульях. Трое сидели в углу и старались что-то петь. Они повторяли одну и ту же фразу и никак не могли продвинуться дальше. Женщины вышли из дома, наверно, потому, как я не заметила внутри ни одной из них. Они, скорее всего, пошли в соседние дома без мужчин, чтобы спокойно поспать. Похоже, что женщины не пили до полного опьянения. Детей не было. Они тоже исчезли.
Я сразу поняла, что другого выхода нет. Нужно одеваться и выходить. Я нашла свои сапоги, брошенные в каком-то углу. С трудом в них влезла. Мои ноги отекли от жара печи. Они были очень чувствительны к теплу и холоду. Мила уже была полностью одета. У нас были еще и корзины, которые надо было нести. Мы отправились в путь. Растаявший снег оставил нам глубокую грязь на протяжении почти всего пути. Счастье, что у меня были сапоги. Мила шла впереди, неся большинство корзин и узлов, а я плелась за ней.
Мы не разговаривали. Почти всю дорогу мы слышали только самих себя шлепающих по воде. Мне казалось, что этот звук слышен далеко. С моей стороны, очень поздняя ночь. Но, по Милиному понятию, было около двенадцати часов. Когда мы подошли к окраине города, то нашли там место, где можно было помыть наши сапоги и перешли на мостовую. Мила по своей постоянной привычке начала петь во весь голос.
– Молчи! замолчи уже, Милка!
Так мы проходим еще около получаса. Вдруг слышим шаги немецкого патруля, они шагают прямо на нас. Мы слышим их песню:
«Вирь зинд зольдатен… Вирь зинд зольдатен… Вирь зинд зольдатен».
Между прочим, эта песня невероятно красивая, но в этих обстоятельствах не совсем приятная. Мы обе, с корзинами, и вдруг я вспоминаю, что я забыла свой документ дома у Милы. Кроме этого я не уверенна, что у Милы был документ. Вдруг я проявляю находчивость. Говорю шепотом Миле:
– Иди за мной, иди за мной!
Мила ничего не спрашивает. Мы заходим в какой-то двор и прячемся за уборной, которая особенно отличается своим запахом. Очень холодно. Эта ночь очень холодная. Уборная продолжает распространять свой отличный запах и ничего ее не останавливает. Я осторожно выглядываю, чтобы посмотреть на патруль. И о ужас! Я вижу наши следы, которые проходят через всю улицу и прямо к нам. Что еще более странно, они идут зигзагом.
– Мила, – шепчу. – Мила, посмотри на эти следы. Они идут зигзагом.
– Ясно, – отвечает спокойно моя подруга. – Ты ведь совершенно пьяная!
– А ты? Ты мне кажешься тоже пьяной.
– Я нет, – говорит Мила. – Я нет.
– Что будем делать с этими следами? Полная луна! Они увидят это!
– Он не заметят. Не делай из этого историю!
И действительно так и было. Немцы приближались и ровно и красиво пели свои прекрасные песни. Они шагали по двое. Их было около двадцати. Я посчитала. Большой патруль. Ой, мое сердце останавливается, руки и ноги замирают. Если они меня тут найдут, говорю я сама себе, я не смогу удрать. Я замерзаю. Боюсь дышать.
– Танька, – шепчет мила. – Танька, они проходят! Они проходят!
– Молчи, молчи!
– Я шепчу!
– Это тоже слышно, дура!
– Не морочь голову! Они ничего не слышат. Они поют. Они только этим и занимаются. Кто обращает внимание на нас.
Я молчу.
– Смотри, Танька, какая у них красивая униформа. Красивая, новая! Слушай, почему это они находятся в нашем городе. До сих пор были только румыны.
– Вообще появилось очень много немцев. Большая часть удирает на запад. Они потеряли войну. Ты этого не знаешь?
– О, мой большой генерал, о, мой большой генерал! Ты все знаешь, абсолютно все знаешь!
– Я все знаю от товарища Рувки.
– А, – говорит Мила. – Он присоединился к комсомолу. Ты это знаешь?
– Нет, – лгу я. – Понятия не имею.
Я решила говорить поменьше. У нас с Милочкой было много подруг. Некоторые жили в городе, в другие в гетто. Я знала двух из них. Они приходили к Миле, и мы сидели и пели песни. Инна была красивая большая и немного полная. Верочка была рыжая в веснушках и очень худая. Инна рассказывала о людях, которых я не знала, и в особенности о румынских офицерах которые приходили к ней домой. Двое молодых людей тоже заходили к Миле. Один из них даже ухаживал за ней. Я решила, что лучше не болтать в их присутствии и вообще как можно меньше болтать. Кроме этого, моя дорогая Мила тоже была не совсем откровенна со мной, наверно по таким же причинам.
– Я ничего не знаю о Рувке. Абсолютно ничего. Он очень замкнутый и ведет себя немного мистически. А его товарищ тоже странный. Я думаю, что он влюблен в тебя.
Мила сделала физиономию полного презрения и ответила мне довольно странно:
– Танька, ты маленькая и очень наивная. Я стараюсь, чтоб ты осталась такой.
Я обиделась.
– Я не настолько наивна, как ты думаешь, – дрожащим голосом говорю я.
Мила улыбнулась свысока, и продолжала идти, а я за ней. Мы подходим к ее дому, я не хочу заходить. Не хочу видеть и слышать сцену гнева ее мамы.
Луна стоит на небе. Я понимаю, что уже очень поздно. Наверно, заполночь. Оставляю корзину за дверью. Мила открывает дверь очень осторожно, чтобы не шуметь. Я не слышу криков, наверно Марья Александровна не проснулась.
Я продолжаю идти к дому госпожи Эсфирь Яковлевны. Иду очень спокойно. Шагаю очень осторожно, чтобы не делать шума. У левой стены дома вижу пару. Женщина опирается на стену и румынский солдат со спущенными штанами очень усердно с ней совокупляется. Я остолбенела, боюсь двинуться, чтобы они не заметили, что я их вижу. Я пристально смотрю на них и вижу румынского солдата, а женщина, опирающаяся на стену…. Дора!…. Дора! Мать Шелли! Это та самая Дора, которая всех критикует, поджимая губы, которая ведет себя, как обнищавшая аристократка. Я совершенно замерзла. У меня так билось сердце, что я боялась, что его услышат. Бедная Шелли. Нельзя, чтоб Дора узнала, что я ее вижу в этой гадкой позиции. В принципе мне было известно, что все это происходит между еврейскими женщинами и румынскими солдатами. Это единственный путь добывания пищи. Какой позор! Дора и ее сестра Мальвина были подругами моей тети Рули. Они проводили время вместе в шикарных кафе и театрах, пили чай с дядей Павлом и его «женой». Они играли в карты два раза в неделю. Их ногти намазаны лаком. Теперь я понимаю, откуда у них пудра, помада для губ, лак и всякие косметические принадлежности. Все контрабанда! И… за какую плату!
Подхожу к двери и осторожно ее толкаю. К моему удивлению, она не закрыта. На цыпочках прохожу с комнату, где жил Рувка со своими родителями. Рувкина кровать пуста. Рувка тоже «там», в комсомоле. Бедные ребята, они сидят в погребах, подвергая свои жизни опасности, в то время как проститутка делает эти «номера» с солдатами. Что за жизнь?! Я осторожно прохожу в «столовую», где стоит холодный самовар и, на цыпочках, прохожу в большую комнату. Старуха и Шелли спят в своих кроватях. Но кровать ее матери пуста. Я не ошиблась. Это она! Какое несчастье! Какая низость! Я быстро раздеваюсь, осторожно влезаю в кровать госпожи Есфирь, как кошка. Сворачиваюсь осторожно возле ее ног и стараюсь ее не тронуть. Не дай бог, чтобы она проснулась! Я не натягиваю одеяло, чтобы ее не разбудить. Я дрожу от холода, теперь понимаю, что все эти «эстетические и косметические продукты», которые стряпала эта проститутка, вся эта ее «косметика», все эти «лекарства», которые она продавала бедным крестьянкам, все это идет от румынских солдат. Эти несчастные крестьянки платят ей «натурой» – живыми курами, которыми госпожа Эсфирь кормит своих «клиентов», жиром для «кремов», медом, яйцами, свежим хлебом, молоком и сливочным маслом! Какое чудо! Это просто чудо, что эти женщины готовы заплатить своим последним богатством и все это за эту фальшивую и грубую шутку, которую она называет «косметикой»! Каким образом, каким способом она всего этого достигает – стыд и позор! И эта женщина была подругой тети Рули, та же женщина, которая приходила к нам домой.
44.
Прошло две недели, а может быть и месяц, с того дня рождения в деревне. Я и Мила не раз возвращались к этой истории. Я очень просила Милочку не рассказывать ни Инне, ни Вере.
– Знаешь что, Милуха… я думаю, что… было бы лучше… наверно… никому об этом унизительном случае не рассказывать. Это была ужасная ночь.
– Почему? Это было очень забавно!
– Твоя мама очень сердилась! Что в этом забавного?!
– Моя мама сердится все время. Глупости! Она потом все забывает. Ты принимаешь все слишком близко к сердцу. Ты вообще страшно серьезная, Таня! – упрекает Мила.
– Смотри, я тебя очень прошу! Не рассказывай ничего своим подругам.
– А почему нет? Кроме всего, если хочешь знать, я им все рассказала. Дикий смех.
Молчу. Я понимаю, что Милу невозможно удержать, она не понимает, что я говорю. Я никому не рассказывала об этом случае. Тем более не рассказывала в доме госпожи Эсфирь Яковлевны. Почему-то Рувка тоже ничего не говорил. Он просто не замечает моего существования. Почему? Я вижу, что он убегает из-за стола в тот момент, когда я сажусь. Почему он боится меня? Он очень красивый мальчик. Мне очень хотелось, чтобы он иногда со мной говорил. Он очень жесткий и молчаливый. Короче, дикарь. Не умеет воздавать связь. Я все это рассказала дяде Паве. Я продолжаю посещать его «муниципалитет», и, между прочим, получаю немного вкусных подарков. Когда я ему рассказала, что Рувка не хочет со мной разговаривать, он прыснул смехом:
– О, Таточка, ты еще совсем ребенок! Он просто в тебя влюблен!
– Ох, ох, ох. Ты со своими идеями! У тебя все во всех влюблены! Он даже на меня не смотрит.
– А ты смотришь на него?
– Все время! Он просто красавец!
– Ты видишь? И ты в него влюблена!
– Дядя Павел, ты совсем сошел с ума! – Сказала и удрала.
Мой дядя громко хохотал, он был очень доволен нашим разговором. Я еще успела услышать, что он сказал кому-то за моей спиной: «Моя маленькая девочка выросла». Я удираю без оглядки.
На этой неделе Марья Александровна спит дома, а не в больнице. Поэтому я вынуждена спать в кровати госпожи Эсфирь Яковлевны. Последнее время, я стараюсь, как можно меньше быть у Милы и ее мамы. Я понимаю, что им тоже нужно побыть вместе, без лишних свидетелей. Я все это понимаю сама, несмотря на то, что мне об этом никто не говорит и, не смотря на всю эту любовь и внимание которой они меня окружали. В один прекрасный день я твердо решила провести важное предприятие: истребление вшей!
Шелли научила меня новому средству: намазать голову керосином. Шелли взяла специальную миску, которая была предназначена для этого «святого действа», мы окунули свои голову, или вернее наши волосы, одна за другой. Потом мы вылили керосин во двор и помассировали друг другу макушку. Немного пекло!
– Ты чувствуешь, ты чувствуешь?
– Это ужасно воняет. У меня еще вдруг начнется приступ астмы.
– Очень хорошо, очень хорошо! Это очень хороший знак! Значит, все сделано правильно!
– Да? Что правильно? Что моя астма – это знак? Что, вши не любят этого?
– В больнице, в которой ты была год назад, тебе не чистили голову таким образом?
– Нет, – говорю. – Они пользовались маслом.
– Вот этого я не знала. Это надо когда-нибудь попробовать. Какое масло? Подсолнечное?
– Да, подсолнечное.
– Принеси мне немного, когда будешь на фабрике вне гетто.
– Откуда ты знаешь, что я туда хожу?
Мы обе сидим в вонючей кухне Эсфирь Яковлевны, с замотанными платками головами и задыхаемся. Все нас гонят, когда мы к ним приближаемся.
– Скажи, откуда ты знаешь, что я выхожу за стены гетто?
– Все знают.
– Ты всегда говоришь «все знают», «все говорят»! Кто эти «все»?
– Ну, не сердись, – успокаивает меня Шелли. – Все иногда выходят из гетто, но вы с Милой – каждый день.
– Это неправда. Не каждый день. Только раз в две или три недели, когда мы идем за покупками.
– «Покупками»? Вы тащите очищенные семечки с масленого завода в ваших кофтах?! Вы выглядите, как беременные женщины, когда идете назад. Все это знают.
– Все знают это? Это очень плохо. Кто-то на нас донес или донесет. Вообще не говори глупостей! Через несколько дней я принесу тебе семечки, мы их будем жарить на сковородке, это очень вкусно ты увидишь. Только ты запомни, ничего никому не рассказывать, зашей себе рот!
– Ясно, – говорит она. – Можешь на меня положиться!
– Я на тебя полагаюсь. Я тебя хорошо знаю.
Мы обе хохочем, как две дуры. Через час.
– Пришло время полоскать голову! – торжественно говорит Шелли. – Я тебе приготовила сюрприз.
– Вдруг сюрприз?
– Я тебе приготовила два сюрприза!
– Что, что, что?
– Первый – особое мыло. Особенное мыло для стирки, которое мама получила за ее работу! А второй, не поверишь, – настоящий уксус! Настоящий уксус!
– Зачем уксус?
– Дура! Ты ничего не понимаешь в косметике!
– Ясно, – говорю. – У меня нет мамы косметички!
В моем воображении я вижу две фигуры, приклеенные к стене, мне стало противно. Молчу.
– Уксус мне дала одна женщина, которая покупает у мамы косметику. Уксус убирает запах керосина и делает волосы шелковыми. У тебя красивые волосы.
– Это потому, что мне их стригли каждый раз, когда у меня были вши.
– Как стригли?
– Брили.– Уверенно отвечаю. – Это и есть причина того, что мои волосы такие красивые.
– Я не дам брить мои волосы, – ответила Шелли униженно. – Как ты согласилась?
– У меня не было другого выбора. Кроме того, ты задаешь слишком много вопросов. Если будешь пудрить мне мозги, я не принесу тебе семечек.
– Ну, ну, ну! Почему ты сердишься? Что я такого сказала? С тобой невозможно разговаривать!
– Ладно, хватит! Пошли мыть головы.
Промыли. Прополоскали уксусом.
– Жалко уксус. Его можно использовать для салата.
– Какой салат? Почему салат? Кто ест салат?
– Шелли, скажи своей маме, чтобы крестьянки, которые у нее покупают кремы для лица, принесли ей овощи из огорода, тогда ты и поешь салат.
– Это вкусно? Я уже забыла вкус салата. Моя мама ни за что не согласится. Ей важнее мед, яйца, курица и прочее.
– Я тебе принесу, когда пойду за покупками с Милочкой. Помидоры, лук, то, что я найду.
Реакция была неожиданной! Шелли расплакалась. Наполовину смеется, наполовину плачет. Она меня обнимает и целует мокрыми поцелуями в обе щеки.
– Фу, фу, фу! – говорю. – Как же мы безумно воняем! Пошли прополоскаем еще раз уксусом.
После этого мы хорошо вытерли волосы тряпками, которые потом выбросили в мусорный ящик. Потом расчесали волосы частым гребнем, чтобы выбросить весь «мусор» который остался в наших волосах. Мы делаем это по очереди, потому что у нас один гребень. Это было самой дорогой вещью в этом доме. У него было свое место, и даже своя полка. После этого разговора, мы заключили перемирие, стали хорошими подругами. Правда, не настолько, чтобы поделиться всеми нашими приключениями, но все-таки лучше, чем раньше. В тот день мы остались дома. Не вышли на улицу. Я читала книгу и играла с воском. Я нагревала одну свечу над другой и капала в тарелку с водой. Совсем не случайным образом, а даже по специальному плану. Я капала воск в холодную воду,и у меня получались очень интересные фигуры. В большинстве случаев у меня выходили маркизы. «Это искусство, – говорили люди. – Эта девочка художница».
Казалось, что был хороший день. А ночью была облава.
45.
Я играла с воском весь вечер. Потом разделась и легла на свою сторону кровати. Я перенесла книгу и свечу на круглую табуретку и погрузилась в чтение. Я не почувствовала как проходит время. Эсфирь Яковлевна очень интересно храпела. Иногда она свистела, а иногда храпела. Это даже было смешно. Остальные «дамы» спали спокойно. Кажется уже поздно. Я тушу свечу и пробую заснуть. Вдруг, ужасный стук и крики за входной дверью. Первые проснувшиеся – это брат Эсфирь Яковлевны, аптекарь, отец и мать Рувки. Я слышу их озабоченные голоса. Бужу госпожу Эсфирь. Надеваю пальто прямо на ночную рубашку. В комнате, не смотря на май месяц, очень холодно. Стою босиком на полу и дрожу. Это плохо. Опасность. Все женщины набрасывают на себя все что можно и бегут в соседнюю комнату, чтобы разобраться, в чем дело.
– Откройте дверь, немедленно! – крики на румынском. – Немедленно, а то мы будем стрелять!
– Рувка, выходи сейчас же через заднюю дверь на кухне. Пойди на вторую улицу и зайди к твоему товарищу. Сделай все тихо!
Эти слова Рувкин папа произносит шепотом. Рувка открывает наполовину дверь в кухню и проскальзывает внутрь. Никаких звуков не слышно из-за криков румын и наших «дам». Я бегу к окну большой комнаты. Вижу тень, переходящую улицу. Мое сердце заколотилось. Слежу за тенью, это Рувка. Надеюсь, что он сможет перейти улицу и попасть к своему товарищу. В это время румынские солдаты врываются в комнату. Три жандарма вооруженные и держа палец на курке. Я тою перед ними в моем длинном пальто, босиком, и пробую скрыть свой страх.
– Бумаги, бумаги! Сейчас же, бумаги!
В нашем доме не было никого, кто мог бы свободно говорить на румынском, кроме Шелли и меня. Шелли куда-то исчезла. Осталась только я.
– Скажите, пожалуйста, какие бумаги вам нужны?
Услышав знакомую речь, они сразу же успокоились.
– О, эта малышка говорит по-румынски! Очень хорошо, очень хорошо! Откуда ты знаешь румынский язык?
– Из школы, – говорю. – Это же само собой разумеется.
– Хорошо, хорошо. Давай, покажи твой документ.
– Садитесь, садитесь, пожалуйста. Вот тут. Тут теплее. Надо закрыть дверь, а то мы тут все замерзнем.
К моему удивлению, они послушались. Я подошла к своему ящичку, в котором я держала все свои богатства: восковые фигурки, рисунки карандашом и углем и конечно мои оба удостоверения личности – одно из гетто, а другое христианское, которое служило для перехода в город, в больницу. К моему ужасу, я вижу, что один из моих документов исчез. Я открываю этот документ и… О, ужас! В моих руках христианский документ, который позволяет переходить мост. Что же мне делать, что делать?
В это время, все искали свои документы, показывали им, поили их чаем, кто-то сунул им деньги. Я же быстро оделась и вышла с улыбкой до ушей. В маленькой столовой уже кипел самовар, жандармы уже начали пить чай, и вообще получилась очень «приятная» и «спокойная» атмосфера. Я сажусь напротив одного из солдат и с улыбкой говорю ему:
– Господин офицер – говорю я, несмотря на то, что он был только сержантом. – У меня к вам малюсенькая просьба. В соседнем доме живет моя подруга, хорошая христианская семья. Мать и трое детей. Я не знаю как, но я оставила у них свой документ. Скажу вам по секрету, что моя голова никогда не находится на своем месте. Я от всего сердца прошу прощения, могу ли я вас побеспокоить и попросить сопроводить меня в соседнее здание. Я разбужу их, чтобы они не испугались, и заберу свой документ. Он скорей всего на столе.
– Ты очень глупая девочка, – сказал мне «офицер» сержант. – Как же ты оставляешь свой документ в чужом доме?
– Это не чужой дом. Это дом моей подруги. Самой лучшей.
Я очень боялась, что они не согласятся меня проводить. И вместо этого они отвезут меня в жандармерию, полицейский участок в гетто. Пока что и я села пить чай, для отвода глаз. Вокруг меня собрались люди, которые говорили на русском:
– Ты – глупая девочка. Дура! Ты делаешь страшные вещи! Как ты могла забыть свой документ?! Ты на нас беду наведешь!
Я не отвечала, конечно же. Я сделала вид, что не слышу этот ядовитый шепот. Вместо того чтобы ответить, я с ложной смелостью обратилась к солдатам:
– Вы закончили пить чай? Хозяйка дала вам пирог, вы его съели? Если да, то пойдемте за мной.
Мое сердце ушло в пятки, но внешне я выглядела очень смелой. К моему величайшему удивлению, солдаты встали и пошли за мной.
– Закройте за ними дверь, – кричали люди в доме. – Чтобы она не посмела вернуться сюда! Эта ужасная девочка! Надо рассказать ее дяде, какие фокусы она нам тут устраивает!
Во мне все застыло, когда я услышала эту угрозу, рассказать дяде Павлу об этом несчастном случае. Через несколько секунд мы были у дома Милочки. Шарик начал истерически лаять. Жандармы опять начали орать и колотить прикладами в дверь. Я умоляла их перестать шуметь, потому что вся улица проснется.
– Я сама все вделаю, все устрою!
Мила рассказала мне потом, что она слышала все мои разговоры с солдатами и поняла, что я в опасности. К счастью, она решила открыть дверь.
– Милочка не бойся. – Говорю ей по-русски. – Извините меня, – говорю уже солдатам. – Моя подруга не понимает по-румынски. Я должна ей объяснить, что случилось.
По их лицам, я вижу, что они очень удивлены моим рассказом. Странно, что они пока еще не сделали страшных действий.
– Открой, Милочка. Не бойся. Открой, открой.
Мила приоткрыла дверь и через щель спросила меня:
– Что случилось, Танька?
– Я забыла свой документ из гетто у тебя на столе или на диване. Принеси его сюда или дай нам зайти.
– Стоит их впустить? Я не знаю, где этот документ.
– Так дай нам зайти и улыбайся, бога ради, улыбайся.
– Я боюсь, что они нас изнасилуют.
– Глупости! Это не насильники, это хорошие ребята. – Бесстыже вру я.
Наконец дверь открывается. Мила забегает в комнату детей и уже готова к новым «экспериментам». Потом, наедине, она мне рассказала, что вспоминала, как вели себя венские солдаты, которые ночевали у нас месяц назад. Она сильно боялась, но после того как она увидела их улыбающимися, немного успокоилась. «Офицер» увидел икону и сейчас же перекрестился.
– Это хороший дом. Можно сесть? – спрашивает он. – Пока «домнишера» – барышня – найдет свои бумаги.
Вдруг появляется Симочка со своими золотыми волосами и голубыми глазами и спрашивает Милочку, можно ли поиграть с офицерами. Я перевела им эту фразу, и они покатились со смеха. Атмосфера стала лучше. В это время я ищу во всех ящиках свой документ. Даже под диваном.
Нет! Нигде нет! Что делать?
В отчаянии я сажусь на диван, для удобства, пододвигаю валик и… какое счастье! Под валиком лежит мой документ.
– Нашла! Нашла! – во весь голос ору я.
Открывая документ, смотря в глаза своему собственному лику, который улыбается мне до ушей. С большой гордостью, я подаю этот документ «офицеру», который успел посадить Симочку на свое колено и счастливо улыбается, смотря на это очаровательное существо. Я вижу, что лицо Милы стало таким, каким оно было когда-то. Все смеются, только не я.
– Мы должны уходить. – Сказали с сожалением солдаты. – Будьте здоровы, красивые девочки, и эта маленькая очаровательная красавица. – Они направились к двери, и мы их провожаем. Все улыбаются. Все довольны. Вдруг «офицер» останавливается и жестким тоном спрашивает:
– Что ты делаешь в этом христианском доме? Ты же жидовка из соседнего дома?!
– Это правда, а как вы думаете, нельзя быть подругой не жидовки?
Офицер серьезно посмотрел и говорит:
– Дружба – очень хорошая вещь. Может когда-нибудь придет время, и мы все будем друзьями! Весь мир!
Bсе, кроме нас, расхохотались. Я даже немного обиделась.
– Скажи, ты не хочешь вернуться в ту квартиру? Я провожу тебя. – Спросил меня один из солдат.
– Нет, нет. Я останусь спать здесь до утра.
– Уже почти утро. Мы тоже должны скоро вернуться в участок. Спокойной ночи, девочки.
Наконец, они вышли. Мы упали в объятья друг друга, плакали и смеялись. Наша маленькая Симочка танцевала вокруг нас. Мы решили, что эта история закончилась, но нет! Есть продолжение.
Когда солдаты выходили, Шарик открыл все свои голосовые связки и запел свою песню и почти заплатил своей жизнью за свое геройское поведение. Они его били своими тяжелыми сапогами и, по его отчаянному вою, мы поняли, что это было очень больно.
– Проклятая собака! – кричат они. – На нас нельзя лаять! Проклятая украинская собака.
Они ушли. Мы обе бросились на двор, и нашли Шарика лежащего на ступеньках. Он выл тонким несчастным голоском. Наверно была страшная боль. Мы сидели возле него, плакали и гладили, гладили и плакали.
46.
На следующий день жизнь вернулась в свое русло.
В доме госпожи Эсфирь я превратилась в «персону нон-грата». Проще говоря, на нашем языке, нежелательная личность. После истории с документом, они вообще не говорили ни о чем в моем присутствии. Они просто остерегались меня! несмотря на это, я продолжала спать в кровати госпожи Эсфирь, и, конечно, платила ей пятнадцать марок и ни копейкой меньше. Я их честно зарабатывала в Балтийской больнице. Ежедневно я ходила в больницу с Гавриловой Марьей Александровной, Милочкиной мамой, с прекраснейшей из женщин, которых я когда-либо встречала.
Вроде бы жизнь протекала как обычно. Фабрика сплетен работала в полную силу. Все говорили, все сказали:
– Тихо, тихо. Могут услышать.
В особенности это происходило, когда говорили о наступающей русской армии.
Поезда, переполненные немцами, пролетают нашу станцию, даже не останавливаясь. Румынские жандармы становились все более нахальными. В гетто проходили патрули и облавы шли с утра и до утра. Обыскивали каждую щель. Обычные солдаты, немецкие и румынские, не могли пройти в нашу часть города из-за строжайшего приказа не общаться с жидами. На мосту нас все время проверяли.
Был июль 1943-го. Жара. Удушье. Влажность. В любом случае надо идти на работу. Остаток дня, а иногда и ночи, я проводила с Милочкой и детеми. У детей не было обуви, и мы не могли вывести их на улицу. Я пошла в «комитет» дяди Павла, и спросила, есть ли у них на складе обувь для маленьких детей.
– Я могу проверить. А для кого это?
– Для детей… м-м.. Марьи.. Александровны.
– Конечно, я поищу. Им все это полагается. Она очень хорошо тобой занимается! А ты, Танюша, хочешь кусочек колбасы.
Конечно, хотела. Я все время была голодной. Мои ноги стали длиннее, поэтому я становилась все выше и выше. Дядя решил, что мое зеленое платье слишком короткое. Мы вместе пошли на склад. И теперь я все поняла!
Кучи платьев и разных вещей разбросаны по полу. Теплые вещи в одной стороне, а летние в другой. Женские и мужские, все вместе. Были там и туфли. Мы с легкостью нашли там две пары обуви. Побольше – для Юлика, а совсем маленькие для Симочки. Я надеялась, что это подойдет.
– А сейчас для тебя.
Он подходит к висящим платьям. Опять зеленое платье, на этот раз летнее. Другое платье белое, очень широкое. Наверно, для девочки старше меня, для подростка. Мне захотелось взять оба. Дядя Павел взял мешок и решил бросить туда платья и туфли.
– Я не хочу выходить отсюда с мешком!
– Почему? Я всем раздаю. Все выходят с мешками. Все берут гораздо больше, чем ты берешь.
– Я не хочу и все. Я возьму газетную бумагу.
– Здесь нет газетной бумаги. Откуда в гетто газеты?!
Я вспомнила, что у меня в комнате было полно русских газет. Вероятно, их принес Рувка. Ничего не говорю. Беру это замечательное белое платье, стелю его на пол и кладу на него все остальные вещи, чтобы сделать из него узел. В этот момент дядя Пава схватил это белое платье и швырнул его подальше от меня.
– Почему ты это сделал?
Мое горло пересыхает. Я подхожу к этому платью и вижу… огромные пятна, коричневые пятна. Это кровь! Так выглядит кровь, когда она засыхает… Я молчу.
– Это платье грязное, – говорит дядя. – Ты не видишь, что оно грязное? Я принесу тебе другое, но не сейчас. Давай выйдем отсюда.
Перед выходом, он снял свое пальто, вынул все вещи, которые мы взяли, и взял это подмышку. Мы идем по улице, молчим всю дорогу.
– Таточка, – говорит дядя, входя в свой кабинет. – Я хочу с тобой поговорить. Ни Миле и уж тем более «дамам» из дома Эсфирь Яковлевны ни говори не слова.
Прежде чем уйти, я оборачиваюсь и спрашиваю:
– Дядя Пава, это белое платье… это правда… эти пятна – кровь?
Он не ответил. Я вышла.
В тот день я не пошла в дом госпожи Эсфирь. Я подхожу к самому далекому забору, вытаскиваю все вещи и кладу их, красиво сложив, под забором. Потом я иду к Миле. Я сажусь у стола и не знаю, что делать.
– Ну, Таня, что ты сидишь там?
– Мила, я была с дядей Павлом на складе, я хотела принести тебе несколько вещей.
– Так где эти вещи?
– Я ничего не взяла.
– Почему?
– Они были очень грязными. Я не буду кушать. Я должна пойти к дяде.
– Что случилось? Что? Ты же ненавидишь это место?!
– Он сказал, что хочет со мной поговорить.
– Ну, хорошо, иди. А я приготовила что-то очень вкусное из кукурузной муки.
– Что ты сделала?
– Приготовила оладьи!
– Хорошо, оставь мне одну.
Я чувствовала тошноту. Я не была уверенна, зачем он меня пригласил, но я что-то чувствовала… Что-то нехорошее. Не знаю что. Я зашла в дом белорусок. С трудом ответила на их восторженные благословения.
– Танечка, ты давно уже у нас не была. Пойдем, я дам тебе новую книгу. Ты принесла предыдущую?
– Нет, я не принесла… я принесу в другой раз. Извините, я должна зайти к ним. Они хотят со мной поговорить.
– Ты боишься? – спросила меня мать.
– Нет, нет. Что вдруг?!
Я стучу в дверь и вхожу. Дядя стоит, а его «жена» сидит в кресле. Оба смотрят на меня очень странно.
– Я ей объясню, – говорит Софика и поджимает губы. – Иначе она ничего не поймет.
Я стою перед ними, как подсудимая. Смотрю в глаза дяде Паве и говорю:
– Все, что ты хочешь мне сказать, скажи мне это – ТЫ! Ты же великолепно знаешь, что я все понимаю. На меня можно положиться.
– Я знаю, я хорошо знаю. Внимательно меня выслушай. Через неделю, в воскресенье, Софика и я едем в Бухарест.
– Что? Как? Вы отсюда убегаете?!
– Да, договорились с некоторыми людьми и с тем священником, которого ты хорошо знаешь. Он у нас обедает раз в неделю. Ты его знаешь?!
Киваю головой. Чувствую опасность.
– Что же вы от меня хотите? Чем я могу помочь? Ты ведь знаешь, Пава, я королева побегов. Я тебе помогу.
– Хорошо. Очень хорошо. Я тебе все объясню. Мы ничего не берем из этого дома. Никаких вещей и никаких чемоданов. Мы выйдем из гетто ночью со священником и с полицейскими. Ты остаешься здесь, и каждый день готовишь на кухне, как будто мы здесь. В день побега ты пойдешь к себе домой, но до этого зайди в «комитет» и расскажи, что я и Софика заболели тифом и не можем выйти на работу. Посещения запрещены. Это очень опасная болезнь. Запомнишь это?
– Да, запомню.
– И так на протяжении всей недели. Придешь рано утром. Зажигаешь всюду свет, зажигаешь плиту, чтобы был виден дым из трубы, и начинаешь варить еду.
– У меня вопрос. Что с хозяйками дома? Где они будут?
– На этой неделе они едут в Одессу. Они давно хотели, но у них не было денег.
– А откуда у них теперь есть?
– Я им даю. За последнее время я собрал много денег для этого. Ты только не бойся. Я тебя тоже вытащу отсюда, через месяц или два, когда все устроится в Бухаресте.
– Не трудись, – говорю сухо. – Я не хочу оставлять это место. Я останусь тут со своей новой семьей, Мила с ее братом и сестрой и ее мамой. С ними я хочу остаться.
– Но тут будут ужасные битвы… ты должна думать о будущем. Русская армия продвигается очень быстро. В этом гетто будет много убийств и пожаров.
Повисло тяжелое молчание. Я ничего не говорю, только смотрю на него. Я понимаю, что он меня предает и бросает вполне хладнокровно. Всю мою жизнь я его за это ненавидела. Прежде чем выйти, я спрашиваю:
– Сказать им, хозяйкам, попрощаться с ними сейчас или мы еще увидимся?
Мой дядя не успевает ответить, как его жена прыгает как кошка и с пеной на губах говорит:
– Достаточно болтать. Делай, что тебе говорят!
Он отодвигает ее рукой и подходит ко мне, обнимает и говорит:
– Таточка, есть вещи, которые надо сделать. Запомни, что я тебя вытащил из гетто Любашевки. Ты мне должна.
Я опускаю глаза, не отвечаю. Быстро выхожу. В передней я встречаю молодую белоруску.
– Что с тобой, Таня? Ты белая как стена.
– Ничего, ничего, мы увидимся на следующей неделе. Я приду менять книги.
– Танюша, запомни, что через неделю мы едем в Одессу.
– Да, да, точно. Запомню.
Выхожу на улицу и сажусь на землю возле забора. Сижу и плачу. Снова сирота… Одинока… Это, наверно, конец.
47.
Неделя пролетела незаметно. В один из вечеров я пошла проведать белорусок. Я избегала патрулей и, поэтому, решила остаться спать у них. Мои родственники не знали об этом. Милочке я рассказала, что буду спать у них. Судя по звукам, которые доносились из комнат моего дяди, ничего особого не происходило. Я чувствовала только запах омлетов Софики. Мои белоруски ничего у меня не спрашивали. Копаюсь в библиотеке, меняю одну книгу на другую. Стихотворения Лермонтова. Большая, толстая книга. Обожаю Лермонтова, даже, наверно, больше, чем Пушкина. Я буквально влюблена в этих двух поэтов. Прежде чем мы пошли спать, молодая хозяйка рассказала, что на следующей неделе, то есть в субботу вечером, они едут поездом в Одессу, навестить их семью.
– Ты знаешь, Танюша, мы получили довольно много денег от твоего дяди. Он был очень щедр. Его подарок позволяет нам ехать поездом туда и назад.
– У вас есть разрешение?
– Конечно! Мы получили официальное разрешение из муниципалитета. Ты знаешь, Таня, Одесса тоже в румынской власти? Ты это знаешь?
– Я думаю, что так. Вы не боитесь ехать поездом?
– Нет. Нечего бояться. Поездка очень короткая. Пять часов всего лишь. Ты была в Одессе?
– Нет еще, не была.
После еды, разговоров и чтения вечер кончился. Я легла спать на раскладушке, которую они мне ставили в библиотеке. У меня была ужасное настроение, я была в сильном напряжении и всю ночь не могла сомкнуть глаз. Все думала о предстоящей неделе.
Остальные дни недели прошли обыкновенно. В воскресенье, в мой выходной день, я взяла ключи, которые все время были у меня в кармане, и в обеденное время пошла к дому моего дяди. Я подошла к парадной двери, открыла ее большим ключом и вошла в дом так, чтобы меня было видно с улицы. Открыла окна, включила плиту и нагрела воду, в которой была картошка и зелень, которая у меня осталась. Вечером, перепачкав несколько тарелок, я положила их в раковину и пошла спать. На следующий день я попросила Марью Александровну передать, что не смогу быть целую неделю в больнице, потому что мой дядя тяжело заболел. Марья Александровна сказала:
– Это очень плохо, у нас много больных, ты нам очень нужна. Но если ничего нельзя сделать, то оставайся с ними. Мы найдем тебе замену.
Я все делаю все, что нужно каждый день. Сижу в пустом доме. Мою посуду, которую я сама запачкала. Открываю и закрываю окна. Даже включаю патефон в библиотеке. Музыка. Проходят три или четыре дня. Вдруг стук в двери. Этот, наводящий ужас, стук прикладами в дверь. Я открываю.
– Где твоя семья? Где русские? Где твой дядя? Девочка, отвечай! Идем в жандармерию.
Они перевернули весь дом. Когда мы выходим, они забирают у меня ключи, все закрывают и опечатывают. Дом теперь под контролем полиции. Они вели меня под конвоем, как обычную преступницу. Даже связали мне руки веревкой. Засунули меня в камеру. Спрашивали каждые час-два:
– Где твоя семья? Куда они уехали? С кем они уехали? По какому мосту они перешли Днестр? Уехали ли они в Румынию или на восток, в Россию?
У меня был один ответ:
– Я ничего не понимаю. Я не знаю где они. Мой дядя болен тифом.
Они меня пытали. Давали мне пощечины. Толкали меня и, когда я падала на пол, меня не поднимали. Все время я была связана. Просила воды – смеялись. Мне не давали ни еды, ни воды. Я осталась в карцере без воздуха, без окна. Лежа на полу. Мне кажется, что прошло три дня и три ночи. Они мне угрожали, что убьют, если не расскажу им всю правду. Я все время им говорила:
– Я не знаю, куда они уехали, когда они уехали и по какому мосту они перешли Днестр. Я не имею ни малейшего понятия!
Это была правда. Мосты, которые вели в Бесарабию, были в разных городах. Два моста были в Ривнице и один в Тирасполе.
После трех ужасных дней и ночей я уже не могла встать с пола. Они пинали меня для того, чтобы я встала и села на стул перед ними. Но я не могла. Старший офицер зашел посмотреть на меня и решил мою судьбу. Я поняла, что это старший офицер потому, что у него были офицерские погоны, значение которых я не совсем понимала. Он наклонился ко мне, посмотрел на меня вблизи и увидел синяки. Он приблизил к себе мое лицо, и я прошептала:
– Немного воды….
Он протянул мне руку, но я не смогла встать. Он сказал:
– Поднимите эту девочку. Я хочу увидеть ее при свете.
Включили лампу «расследований».
– Вы с ума сошли? – говорит он. – Эта девочка, которая работает в больнице Балты переводчицей для армии. Ей нет цены! Десятки людей ждут ее в больнице! Главный врач больницы обратился ко мне, чтобы я скорее ее отпустил потому, что она им очень нужна! Она нужна армии!
С трудом я встала со стула, протянула руки, чтобы мне сняли веревки. Мои суставы были растерты и кровоточили. Я не плакала. Я сказала румынскому офицеру:
– Пожалуйста, перевезите меня в больницу. Я им нужна. Они позаботятся о моих ранах.
Он сам меня привез в больницу. Мы не обмолвились ни словом во время поездки. Когда я вышла из его черной машины, то увидела слово «Мерседес». Я думаю, что он был очень важным офицером. Он меня проводил до дверей больницы. Две сестры, которых я хорошо знала, встретили меня, быстро и аккуратно, чтобы не причинить мне боль, положили меня в кровать. Офицер пошел к главному врачу. Через несколько дней я вернулась к моему большому стулу у моего огромного письменного стола. На моем стуле прибавилось несколько подушек, учитывая все мои раны и синяки которые остались на мне от сапог жандармов. На моем столе были все формы перо и записка:
«Наша маленькая Таня! Мы тебя очень любим! С этого момента мы будем тебя оберегать.
Персонал».
Никто мне ничего не говорил. Главный врач зашел меня проведать. Протянул руку, поднял мой подбородок, посмотрел мне в глаза и сдавленным голосом сказал:
– Ты себя достаточно хорошо чувствуешь, чтобы работать, девуля?
– Да, – отвечаю я. – А можно мне остаться спать тут? Я боюсь, что у меня не будет сил вернуться в гетто.
– Сколько угодно! Мы позаботимся, чтобы у тебя было здоровое питание. Ты выглядишь очень слабенькой.
Когда я осталась одна, я думала о своей жизни. Я поняла одну новую правду:
Я выросла.
48.
Конец лета. Беспокойство. На улице мало людей. Стараются не выходить. Базар закрыт. Крестьяне не приносят продукты из деревни. Яйца, овощи, мука – все исчезло. Мила готовит обеды почти из ничего. Мила все-таки ходит в деревню, но без меня. Мила привыкла крутиться между деревнями и у нее там много друзей. У нее, иногда, получается приносить что-нибудь. Я продолжаю ходить с Марьей Александровной в больницу через мост. Мы одни на мосту. Раньше там была большая суета. Люди переходили с одной стороны на другую и даже ссорились, кто пройдет первым.
Рувка исчез. Однажды утром, я встаю и смотрю в окно. На улице напротив моего окна разбросано много бумажек. Я выхожу, чтобы их собрать. Это были листовки с призывами. Кроме меня никто не осмелился пойти взять листовки и прочесть, что там написано, чтобы его не продали полиции. Люди на нашей улице смотрят в окна. Кто-то все-таки пошел и собрал листовки, когда наступила темнота. На следующий день мне рассказали, что эти листовки бросили на зрителей в единственном кинотеатре города. На них написано:
«Не бойтесь! Наша армия побеждает! Немцы удирают! Румынские собаки тоже удирают! Не обращайте внимания на слухи и угрозы. Мы охраняем вас».
Подпись: «Красный комсомол».
Мы с Милочкой были в восторге от этих листовок. Милочка, которой очень нравился Рувка, который, между прочим, нравился и мне, говорит:
– Это только Он и никто больше!
– Действительно, что ты говоришь! Тут есть сотни людей в комсомоле. Многие из них могут сделать такое. Это совсем не так трудно. И даже, знаешь, мне кажется, что не совсем хорошо, что все эти листовки оказались на улице прямо перед Рувкиным домом.
– Ой, ой, ой! Кажется, ты права, к сожалению.
– Слушай, не каркай!
– Кто каркает?! Я за комсомол! Слушай, Мила, ты не заметила, что вечером евреи не выходят на улицы. По моемому, теперь никто не спит спокойно.
– Сегодня вечером к нам придет один парень, который учился со мной в школе. Он тебе объяснит всю эту историю. И, посмотрим на тебя, героиня!
В этот вечер Марья Александровна работала. Мила сделала свои оладьи из кукурузной муки. Кто знает, откуда она взяла масло, чтобы их пожарить? Когда чудесный запах повеял из кухни в дверь постучали. У нас был глазок в двери. Новость! Кто-то, какой-то родственник Милочки, предложил просверлить дырку, через которую можно будет видеть, кто пришел, и решить открыть ли дверь. Мила мне заявила, что у нее в семье все очень умные. Я молчаливо согласилась. Через дырку мы увидели голубой глаз. Один из друзей Милочки, Олег, пришел посмотреть, как она живет.
– Олег! Это Олег! Он тебе все расскажет.
Мы засмеялись. Этот бессмысленный смех, который сопровождал нас, когда мы были вместе. Бывало, мы смеялись целый час и не могли остановиться.
Вошел очень серьезный парень, протянул мне руку и представился.
– Это наша знаменитая Танька, – говорит Мила. – Танька, ну, улыбнись! – эти слова сопровождались толчком в бок.
Я смущенна.
– Хорошо, хорошо. Моя Мила спятила! Давай посидим в столовой.
Мила одобрила эту идею, пошла на кухню и вернулась с чаем и оладьями. Мы жадно уплетали оладьи и пили чай. В последнее время не было воды в трубах. Мы должны были приносить воду ведрами из колодца. Правда, колодец был недалеко, но у воды был особенный вкус.
– Вкус колодца. – Объясняла мне Мила.
Для меня это был не вкус колодца, а вкус плесени. Когда мы выпили наш чай, я обратилась к Олегу:
– Мила говорит, что у тебя есть какой-то рассказ насчет поездов.
Олег посмотрел на нас обеих.
– Очень странно, – говорит он. – Очень странно. Я пришел сюда именно для этого. Чтобы рассказать вам, что происходит в подполье. Вы должны знать, что происходит в подполье. Чтобы вы знали, о чем речь и не попались в какую-нибудь ловушку.
– Кто тебя послал? – спрашиваю я.
– Есть план. Мы решили, что нужно известить молодежь в гетто, о том, что твориться вокруг, о том, что положение меняется..
– Я понимаю, что это комсомол или эти «из леса»?
– И то и другое. Каждый из нас прекрасно знает, что приближается конец румынскому правлению на Украине. Пройдет совсем немного времени и советские войска сотрут их с лица земли.
– А, между прочим, что будет происходить тут?
– Между прочим, каждую ночь наши ребята выходят на рельсы. Не смейтесь, девочки, такие же, как ты и Таня, выходят с молотком и тяжелым разводным ключом на рельсы. Они расходятся по длине путей и ослабляют большие гайки. Это не легко, это даже очень опасно! Это слышно! Ночью вокруг все тихо и каждый удар молотком далеко слышно. Железо по железу – это очень громкий звук. Иногда проржавевшие гайки от удара просто ломаются. Иногда поезд приходит прежде, чем работа закончена.
– А тогда, что ты делаешь? – спрашиваю я.
– Я удираю.
– А если ты не успеваешь? А если твоя нога застревает в рельсах?
– Таня, – кричит Мила – перестань его допрашивать! Это наш товарищ! Он пришел проведать нас, а ты ему морочишь голову!
– Нет, Милочка, – говорит Олег. – Я пришел рассказать вам, что случилось и что еще может случиться…
Мы онемели. Мы поняли, что положение ухудшилось.
– Спокойно, наберитесь терпения, мы должны отнестись с пониманием ко всему, что происходит. Мы должны знать все. Не поддаваться панике. И присоединится к молодым бойцам.
– И мы? Таня и я?
– Может быть, даже обе. Если надо будет, даже вы обе.
– Я не могу, – говорит Мила. – Я не могу оставить малышей дома одних. А Таня… Таня нужна в больнице. И кроме этого если ее поймают, то это будет большим несчастьем для нашей улицы, для нас всех! Ты понимаешь, Олег?
Олег молчит и думает.
– Я оставляю решение вам. Если захотите, дайте мне знать. Я дам вам все, что нужно.
– Хорошо, – говорю я. – Я надеюсь, что смогу выйти на рельсы. Но прежде всего скажи мне, кто едет на этих поездах, которые вы сводите с рельс.
– Должны быть солдаты. Но не всегда… но не всегда там солдаты.
– А кто еще?
– Люди, животные. В особенности коровы, овцы, куры. Козы и даже свиньи.
– Какие поезда вы сводите с рельс? Те, которые идут на восток или те, которые на запад?
– И то и другое. Мы делимся – двое с одной стороны и двое с другой.
– Но зачем сводить с рельс поезда немцев, которые идут на запад.
– Это очень важно! Нельзя позволить им вернуться домой, вооружиться вновь и опять атаковать Россию.
– В каких поездах едут обычные люди и везут своих животных?
Есть поезда из Одессы, которые прикрепляют к другим, полным солдат, которые идут прямо в Сталинград.
– Сталинград не сдался?
Олег рассмеялся.
– Что вдруг? Сталинград победил! Он их истощил!!! Они никогда туда не вернутся!
– Расскажи, пожалуйста, что с тобой случилось? Ты совершенно разбитый? Перестань ораторствовать! Почему же ты выглядишь таким несчастным и уставшим?
– Это правильно, Мила. Совершенно правильно, дорогая. Я действительно очень устал и очень несчастлив. Три дня назад я вышел в полном вооружении на рельсы. Была теплая ночь. Было очень легко добраться, все было в порядке. Я освободил несколько винтов и продвинулся вперед. Я искал еще одну гайку. Нашел и начал работу. Издалека слышу такие же звуки. Понимаю что там двое парней, которых я хорошо знаю. Понимаю, что я должен идти в обратную сторону, чтобы не подходить к ним близко. Мне было тяжело освободить вторую гайку, потому что, как спрашивала Танька, она была совершенно проржавевшая. Я с ней мучаюсь и совершенно не чувствую что рельсы дрожат. За моей спиной слышен новый звук. Приближается поезд! Это минутное дело! Я бросаюсь в канаву. Вы же знаете, девочки, что с двух сторон рельс глубокие канавы, а за ними горы земли. Я скатился в канаву, накрыл голову руками и молился, чтобы меня не увидели. Главное чтобы поезд прошел мимо и не перевернулся. Но случилось по другому. Первые вагоны прошли свободно, но те, которые были передо мной, перевернулись. К моему счастью, они перевернулись на другую сторону, не в мою. Я слышу визг тормозов. Трение железа по железу. Страшные крики, плач детей и мычание коров. Вы, девочки, даже не можете себе представить насколько это ужасно. Умопомрачительно!
– Ты не ранен?
– Нет, вы же видите. Цел и здоров.
– Но все-таки, ты поврежден, – говорю я.
– Да, Танька, ты права. Моя душа повреждена. Я видел, как выбрасывают детей через окно. С разбитыми головами. Слышал жалобное мычание коров, которые поломали себе ноги. Как будто они жаловались на своем коровьем языке. Люди кричали и молились. Оба вагона с несчастными, которые собирались навестить своих родных в других городах. Они перевозят еду, чтобы помочь им. Какой ужас! Какое несчастье!
– Пожар не вспыхнул? – спрашиваю я.
У Милы на глазах слезы.
– Вспыхнул, еще как вспыхнул! Сначала пожар начался в первых вагонах. А тех, которые столкнулись и сошли с рельс. Там были немецкие солдаты. Они смогли выпрыгнуть из окон, из дверей. Они даже и не думали помогать женщинам и детям. Они кричали: «Ганс!… Ульрих!… Ганс!… Руди!…» – немецкие имена. Я не ждал и полез на холм земли, который возвышался за мной, скатился оттуда, крепко держа инструменты. Побежал в сторону Балты.
– А как ты зашел в город со всем твоим инструментом и в таком ужасном виде? – спрашивает Мила. – Ты же совсем расцарапан, теперь я вижу!
– Ползком, ползком. Прямо возле охраны на мосту. Они стояли в кругу и почему-то ссорились, я прямо у них за спиной пробрался. Они так орали, что не увидели и не услышали меня. Когда я, наконец, зашел в дом, моя мама почти упала в обморок. Конец рассказа!
Стало тихо. После долгого молчания, я спрашиваю его:
– Ты еще пойдешь туда?
Олег молчит.
– Ни за что! Посмотри на себя! Ты же ранен!
– Я не знаю, – говорит Олег. – Я не знаю, что я сейчас чувствую. Я абсолютно ничего не знаю. Мне трудно… кстати, девочки, я должен уходить.
– Олег, подожди, – прошу его. – Подожди! Посиди еще немножко! Отдохни! Почему ты нам все это рассказал? Ты хочешь, чтобы мы пошли туда или чтобы мы сидели дома. С какой целью ты пришел сюда и все это нам рассказал?
– Я совсем не знаю. Я совершенно в тумане. Я должен выйти отсюда до того как начнет смеркаться. Прощайте девочки.
Он чмокнул Милу в щечку, направился к двери и исчез в вечерних сумерках.
Мы сидели у стола еще несколько часов. Мы даже не смотрели друг на друга. Было тяжело. Вдруг мы поняли, что приближается большое несчастье. Страх.
– Танька, – спрашивает Мила. – Ведь Кишинев подожгли, когда наша армия отступала?
– Подожгли, еще как подожгли. И они и румыны!
– Ты боялась?
– Не было времени бояться. Я бежала с мамой папой бабушкой и няней. За нами бежала моя собака, которая потом исчезла. Перед нами дядя Павел и его жена тетя Руля. Черный дым застилал все вокруг и горящие доски падали из домов.
– И ты не боялась?!
– Я не могу сказать боялась я или нет. Я совсем ничего не помню.
– Танька, как ты можешь не помнить?
– Так это, Милочка. И Олег со временем забудет.
– Нет, не Олег. Он не забудет. Я его знаю. То, что он видел, нельзя забыть.
49.
Мы долго не могли придти в себя от рассказа Олега. Мы продолжаем вести себя, как будто ничего не случилось. Не прошло и месяца, как мне сообщили из больницы, что венерическое отделение будет закрыто и мне не нужно приходить. Марья Александровна сказала мне:
– Таня, ты идешь домой. Больница в тебе больше не нуждается. Твою зарплату я принесу тебе сегодня вечером. А теперь иди.
Я пожала руку нашему бухгалтеру. Как всегда он сдвинул на нос свои очки и посмотрел на меня поверх них. Он сказал:
– Я надеюсь, что твое будущее будет лучше, чем настоящее.
Он поднял очки и погрузился в свои дела. Я открыла дверь в кабинет главного врача и сказала ему, что меня посылают домой, и я хочу с ним попрощаться. К моему удивлению, этот серьезный и даже немного страшный человек, поцеловал меня в обе щеки, положил мне руки на плечи и сказал:
– Маленькая Танечка, все время твоего пребывания у нас ты нам очень помогала. Лучше всего вернись домой к Марье Александровне и спрячься там. Наступают тяжелые времена. Все отделения будут закрыты. Марья Александровна будет продолжать работать. Мы вам пошлем продукты для вас и малышей, иначе вам будет тяжело.
– Спасибо, – говорю я. – Большое спасибо за все!
Он сунул мне в руку несколько десятков марок, повернул голову и сказал:
– Теперь иди, у меня нет больше времени.
Я была очень смущена. Я быстро вышла из его комнаты. Вдруг действительность открылась передо мной как большая бездонная яма. Я никому ничего не сказала. Не хотела плача и объятий. Только хотела дойти до какого-нибудь дома. Я не пошла к Миле. Я зашла к госпоже Эсфири, дала ей деньги, которые получила от главного врача и сказала ей:
– Вот деньги, больше денег не будет. Я больше не работаю.
– А, тебя уволили, тебя уволили, – сухо говорит она. – Что ты такого наделала, что тебя выгнали.
– Я ничего не сделала. Мое отделение закрыли.
– Очень хорошо, перестанешь хвалиться твоим румынским языком.
Я поняла, что мне там больше делать нечего и несмотря на то, что было уже поздно, пошла в дом белорусок. Я постучала в дверь и сказала громко:
– Это я – Таня. Откройте.
– Боже мой! Заходи скорее, девочка, – сказала мать. – Заходи. У нас для тебя есть письмо. Мы не знали, где ты. Ты все время скитаешься.
– От кого письмо? От дяди?
– Нет, от твоей няни из Кишинева, из твоего дома. Заходи же, скорее! Нельзя чтобы был виден свет.
– Не беспокойтесь, – говорю. – У вас большой крест на двери. Никто вас не тронет.
– Иди сюда, иди сюда. Я тебе намажу хлеб маслом и вареньем.
Я вхожу и сажусь за их красивейший стол в столовой, бывшей комнате дяди Павла, кладу голову на руки. Они не спрашивают меня ни о чем. Чувствую, что отчаяние совершенно меня поглощает. Мне подают чай и варенье.
– Дайте мне письмо, пожалуйста. – Говорю я слабым голосом. – Что мне пишет моя няня?
– Там есть два письма в конверте.
– Что значит два письма?
– Открой и увидишь.
Я вынимаю письмо, написанное дрожащей рукой моей няни. Еще более запутанное, чем раньше.
«Моя маленькая Таточка, свет моих глаз! Твоя няня почти ничего не видит. Я посылаю тебе письмо от дяди Павла. Я надеюсь, что ты сделаешь то, что он тебе говорит. Я ничего не понимаю, что он говорит, он мне послал это письмо из Бухареста, а я посылаю его тебе на этот адрес и надеюсь, что ты его получишь. Я должна рассказать тебе что-то очень печальное… наш дядя Илья умер. Просто от старости… уснул и не проснулся. Его жена и дети продолжают жить там же, на вашем заднем дворе. Ты знаешь где. Я почти уже ничего не вижу. Я только молюсь богу, что еще увижу тебя перед смертью, моя сладкая Таточка.
Целую и люблю.
Твоя няня».
К этому приложено письмо, или вернее листок. На нем написано разборчивыми печатными буквами:
«Сделай все возможное, чтобы как можно скорее удрать из Балты. Выйдет поезд для сиротских детей, которых американцы купили у румын. Сделай все возможное, чтобы попасть на этот поезд.
Целую тебя крепко,
Твой дядя Пава».
Я кладу этот листок и заплаканное письмо моей дорогой няни в карман. Я засыпаю прямо за столом. Хозяйки мне не мешают. Утром я просыпаюсь в кровати, как я туда попала, не имею понятия.
На следующий день я рассказала Милочке и ее маме о поезде.
50.
Снова меня охватило чувство беспокойства.
Это неясное сообщение дяди Павы, что американский «Джойнт» купил всех сирот на западной Украине, и он же организовывает поезд с этими детьми, которые должны попасть в Румынию, меня очень смущает. Мне очень трудно поверить, что этот поезд действительно достигнет конечной цели. Это может быть совершенно другая история. Я начала думать об уничтожении! Не мало слышала от румынских солдат такие фразы как: «этих жидов нужно собрать в один поезд и отправить его прямо в море!», «их надо убивать, пока они маленькие, как мышей! Чтобы не плодились!». Все это звучало у меня в голове, но не с кем было поделиться моими опасениями. Милочка и ее мама выслушали этот рассказ с большой радостью.
– Это будет спасение. – Сказали они обе. – Спасение детей. Какое счастье, что американцы заботятся о вас.
– А я, к сожалению, могу сказать, что не очень то верю в это.
– Ой, Танька, – говорит Мила. – Ты всегда видишь все в черном свете!
– Да, это правда. Я всегда все вижу в черном свете. У этого есть причины.
Мама Милы вмешивается в разговор и говорит:
– Одну вещь можно с уверенностью сказать, что эта армия не выйдет отсюда без того чтобы не устроить здесь резню. Они наверно подожгут весь город.
– Ничего не случится. Наша Танька доедет до Румынии и там увидит всех своих родных, которые могут быть там, я в этом уверенна.
Мы молчим. Наша Мила всегда была неисправимой оптимисткой.
Начало 1944-го года. Зима прошла без особых приключений, кроме холода. Весной опять проснулись надежды. В глубине души я надеялась, что вдруг красная армия войдет в Балту, убьет всех солдат румынской и немецкой армии, и мы начнется мирная жизнь. Все это бесконечно глупо. Я знаю, что это слишком наивно, верить в такие вещи. Между прочим надо было записаться в сиротском доме нашего гетто и известить их о том, что я хочу присоединиться к группе, которая пойдет на этом поезде. Потому как я уже не работаю в больнице. Мои утра совершенно свободны. Я решила взять с собой Милу, чтобы не попасть одной прямо в пасть этих страшных людей. Моя подруга сказала, что хочет пойти туда и увидеть несчастных детей. Это ужасное зрелище до сих пор стоит у меня перед глазами. Маленькие детки, в одних рубашках, сидят на грязных одеялах на полу, вокруг керосиновой печи, которая не стеснялась очень усердно дымить. Эти крошки играли в какие-то палочки и камушки. Они довольно грязные и несчастные. Некоторые из них плачут, но никто не подходит. Мы стоим и смотрим.
– Это кандидаты на «поезд воли»?
– Да, кажется что так, – отвечаю я.
Мы проходим из комнаты в комнату. Везде одна и та же сцена. Мы заходим в «залу». Посередине стоит стол и вокруг скамейки, на которых сидят взрослые девочки. Мальчиков я не вижу. Все они моего возраста и даже старше. Среди них есть и такие, которые выглядят как вполне сформировавшиеся девушки. Начальница сидит во главе стола и диктует им задания, которые они должны сегодня исполнить. Мы подходим к ней и просим ее записать меня в список детей, которых отправляют на поезд. Она вся превращается в вопросительный знак:
– Кто ты? Ты хочешь ехать этим поездом? И ты тоже?
Мы молчим. Мы чувствуем, как все устремили свои взгляды на нас с иронией и недоверием. Мы были прилично одеты. Мы вспоминаем, что завязали тюрбан и наверно очень смешно выглядели. Мы делали это из-за холода. У нас были шарфики, некоторые из них нам связала Марья Александровна, для того чтобы сохранить наши уши при деле. Мила отвечает не своим голосом:
– Это только Таня едет, я остаюсь. Я тут родилась.
– Но ведь вы же не еврейки. – Говорит начальница.
– Я – да, она – нет. – говорю я решительным тоном. – Почему это так важно? Я хочу и имею право ехать этим поездом!
– Скажи, ты племянница Павла Корина, который работал в комитете?
– Да, – говорю я тихим голосом. – Да, это я.
– Хорошо, идем в мой кабинет.
Мила осторожно спрашивает:
– Я могу присоединиться?
– Да, заходи.
Мы садимся на стулья, которые стоят рядом с огромным письменным столом, за который садится эта «дама». Я удивлена, вся мебель очень красивая и дорогая, даже старинная. Можно сказать, что была большая разница между этим и тем, что я видела в первых комнатах, там, где лежали бедные крошки, грязные и голодные, греющиеся у дурацкой печки. Я молчу. Моя Мила, с ее большим ртом говорит:
– Красота у вас тут, в вашем «кабинете»!
– Спасибо, – сказала со слащавой улыбкой начальница.
Она не почувствовала иронии.
– Имя, возраст, место рождения, имена родителей и место, куда ты хочешь попасть.
– Куда я хочу попасть? Понятия не имею! Куда меня возьмут – хорошо. Кроме ада, разумеется.
Мила расхохоталась своим звонким заразительным смехом. Я улыбнулась, но начальница осталась каменной:
– Я только исполняю приказы.
Теперь она поняла мою иронию и обиделась.
Мы выходим оттуда с каким-то листочком, там было написано, что я подхожу для записи на этот поезд. Число и час написаны не были. Мы были очень удивлены и вопрошающе на нее посмотрели.
– Нам еще не сообщили. – Сухо ответила она.
Еще одна причина для страха. Мы возвращаемся домой, и рассказываем все Милочкиной маме.
– Теперь надо найти нашей Танечке одежду для дороги. Кто знает, сколько времени будет продолжаться это путешествие. Где будут остановки и куда ее потащат. И вообще что будет.
Время шло. Мы уже начали забывать эту историю и занимались обычными вещами. Вдруг пришла повестка. День и час назначен! Началась суматоха. Марья Александровна всем занималась. Мила сидит возле меня и плачет. У госпожи Эсфирь тоже трагедия. Рувка пришел ночью и сказал, что советская армия уже близко и надо готовиться к наступлению. Шелли, между прочим, тоже имела право на место в этом поезде, но она не хотела оставлять свою маму. Старая дама, Фрида Борисовна, властная женщина, которая жила с нами в комнате, пророчила ужасные несчастья, которые могут произойти с поездом. С огромным интересом я села за стол и записывала каждое произнесенное ею слово:
Первое. Советские самолеты разбомбят поезд – ничего от него не останется.
Второе. Поезд сойдет с рельс из-за партизан.
Третье. Не будет еды и питья и все дети умрут.
И вообще, зачем и куда ехать?! А может это на уничтожение?
После того как я записала все эти «милые и приятные» вещи, я прочитала их Миле, и мы как всегда расхохотались.
– Вы обе совершенные дуры! – говорит Мария Александровна. – Смеетесь от каждой глупости.
Но сама она улыбнулась. Между прочим, все ее предсказания исполнились с другими поездами в Румынии и Германии.
Пришел день. Мы решили пойти все вместе на вокзал. Рыженькая Верочка осталась с малышами и попросила ее:
– Никогда меня не забывай.
– Ни за что в жизни. – Говорит Верочка и утирает слезы.
Мы выходим в путь. Семь километров бездорожья. Грязь. Камни. Мы двигаемся медленно. Мне трудно. Много раз останавливаюсь.
– Может быть, нет? – говорю я. – Может быть, я останусь?
– Танечка… тут будут бои, дома будут гореть, как я смогу позаботится обо всех моих детях и о тебе. Как я смогу за ними уследить, когда начнут поджигать дома? Подумай сама, как я смогу взять на себя такую ответственность?
Эта фраза совершенно меня разбила. Только по прошествии многих лет, я смирилась с ее отказом. Мы продолжаем идти. Мила плачет всю дорогу. Все время она пытается засунуть мне в рот какой-то бутерброд.
– Кушай, кушай! Кушай, Танька. Кто знает, будет ли там еда?!
Я ничего не могу проглотить. Смотрю вокруг. Домики, которые я вижу, маленькие и несчастные. Мы выходим из города. Все уже выглядит как деревня. Потом дорога проходит среди не засеянных полей. Черная, жирная земля тянется как сирота под небесами. Без зерна, без надежды.
Когда мы пришли на железнодорожный вокзал Балты, там уже были толпы людей. Мы нашли себе маленькое местечко на скамейке. Мы сидим и держим друг друга за руки. Люди, которые там стоят и собираются ехать на этом поезде выглядят очень несчастными. Дым, шум, пыхтение. Поезд остановился. Я влезаю. Не смотрю назад. Оставляю за собой Балту и этих чудесных людей, которые мне так помогли и которых я так любила. Слезы.
51.
Сейчас я уже в поезде! Поезд старый, как все другие советские поезда. Вагоны неуклюже плетутся за паровозом, который плюется черными кусками и пышет как больной. В особенности, когда он останавливается. Мы сидим на деревянных скамейках в вагоне, который когда-то был вагоном третьего класса, без разделений. Все скамейки стоят спиной друг к другу. Проход очень узкий. С обеих сторон вагона «туалет». Обычно там все разбито и грязно. Из-за холода окна и ставни были закрыты. Света совсем не было, но немного все же пробивалось из разных щелей. Несмотря на темноту, люди беспрерывно бегают по поезду. Маленькие детишки и в моем возрасте. Все всех знают. Есть и такие, которые сидят и поют песни гетто. Грустные и слезливые. Иногда поют веселые песни на идиш. Мне было немного неприятно, что я не знала этого языка и не знала этих песен. У меня тут не было ни знакомых и ни друзей. Я опять чувствовала себя очень одинокой в этом обществе. Даже в Любошевке, когда мы жили в полуразрушенном доме, меня игнорировали, потому что я была «гойка», или почти «гойка», там у меня была моя маленькая Анюта. Она обнимала меня, прилипала ко мне и мы чувствовали тепло и любовь. Я решила заниматься маленькими детьми. Тут было три вагона полные малышей. Их надо кормить, водить в туалет, садить на горшок, вытирать их личики мокрым полотенцем и гладить по головкам.
Еда была. На каждой остановке нам приносили большие бидоны с молоком, творог и хлеб. Все для малышей. Я их поила молоком, а другие кормили их творогом. Хлеб они совсем не хотели есть. Очень трудно было поддерживать чистоту без воды. Вода была только для питья, она стояла в больших кувшинах. В первые дни еще можно было справиться, но в последующие дни вонь стояла такая, что надо было открыть окна, но тогда становилось очень холодно. Я сама тоже не могла ничего есть из-за вони и депрессивного состояния, в котором я находилась.
Вдруг, во всем этом хаосе, я слышу чудесную мелодию! Кто-то играет на скрипке какой-то классический мотив, знакомый мне с давних времен, из тех счастливых дней, когда у меня был дом и очень музыкальные родители. Я иду на звук и вижу мальчика, моего возраста, может немного старше, невысокий. Он играет на скрипке с закрытыми глазами, без нот. Он кажется мне знакомым! Я его где-то видела. Вдруг его имя появляется совершенно ясно у меня перед глазами. Я подхожу к нему. Зову его очень громко по имени. Он открывает глаза, перестает играть, долго смотрит на меня.
– Это ты? Не может быть! Это ты?!
– Я тебя видела, я тебя видела давно, когда мы скитались по деревням. Я видела тебя играющим на скрипке в одном из дворов. Я не осмелилась подойти. Я знала, что это ты! Я не хотела, чтобы нас сравнили, тебя и меня. Я не знала, кем ты себя там представил. Там я была проходящей гойкой.
– Я тоже, Танечка! Я тоже был в таком же положении. Ты понимаешь? Ведь я – мальчик!
Я не понимаю. Он отставил свою скрипку в сторону, положил мне руки на плечи и спросил:
– Ты действительно не понимаешь? Ты знаешь, Таня, когда мы с тобой скитались по деревням, я очень боялся того, что они могут понять, что я обрезан. То есть… еврей! Я боялся за тебя. Если узнают что я еврей, то решат что и ты тоже. Тогда нам обоим будет конец. Я боялся и за тебя тоже, пойми! Ты понимаешь все это?
– Немножко, но все-таки мне было очень обидно, когда ты ушел и оставил меня одну на дороге.
– Где твои родители?
– Умерли. Оба. Все умерли. А где твои мама и папа?
– Папа в Сибири, а маму я потерял.
– Как потерял? Ты видел ее умершей?
– Нет, не видел. Мы ушли от конвоя. Маме было трудно ходить. Один человек побежал за мной. Я быстро убежал, держа свою скрипку у сердца, а потом когда я вернулся, моей мамы уже не было. Вот поэтому я один!
– Да и я. Совсем одинока.
– Теперь ты совсем не одинока, – сказал Гарик.
Гари Бертини стал знаменитым скрипачом и дирижером. Он выступал и в Европе и в Израиле. Наверное, ему не хотелось говорить о тех горестях, которые мы пережили в то страшное время. Теперь, когда его нет с нами, я решилась рассказать об этом. Он всегда был великодушным смелым и гениальным человеком. Гари сыграл очень важную роль в моей жизни.
Я смотрю ему в глаза, и в этот момент происходит что-то изумительное, чудо! Вдруг я чувствую вокруг себя тепло, я больше не одна. Наше путешествие продолжается еще несколько дней. Гари играет свои чудесные мелодии. Он наполняет нашу жизнь музыкой. Мы счастливы. Что-то огромное, что-то высокое находится в воздухе, которым мы дышим. Я не помню ели ли мы, спали ли мы пили ли мы. Не помню, о чем мы разговаривали. Все поют. Гари играет и играет. Я сижу и смотрю на него.
– Таня, ты помнишь пролог к «Руслану и Людмиле», Пушкина?
– Да, наизусть.
– Почитай это им. А я буду сопровождать тебя музыкой, которая написана именно для этого.
– «У Лукоморья дуб зеленый. Златая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом. Идет на право – песнь заводит, Налево – сказку говорит. Там чудеса….».Все стоят вокруг и плачут. Может, и с нами произойдут чудеса… Дети стояли вокруг как околдованные. И большие и маленькие.
В один из этих дней поезд остановился в городе Тирасполь. Тирасполь стоит на Днестре. Перед нами мост, тот же мост, который ведет к моим родным местам. Бесарабия. Та самая Бесарабия, несчастная, которая меняла своих хозяев часто и без конца. И все они ее презирали и разрушали. Сегодня тоже это несчастное место изменило свое имя на Молдову. Она видела лучшие дни. Я люблю ее первое название. По нему буду всегда тосковать. Станция была на берегу реки. Из окон поезда мы видели ее серые воды, которые несли разные обломки и лед. Днестр только недавно освободился из ледяных оков зимы.
– Таня, – позади меня послышался голос Гарика. – Таня! Тут одна женщина ищет тебя. Она ищет Таточку. Это ты, правильно? Я помню, что тебя так раньше называли – Таточка?
– Кто эта женщина? Почему вдруг тут?
Женщина зашла в поезд…
– Тетя Ляля! Тетя Ляля! – закричала я.
– Малышка Таточка! Какая ты теперь высокая! – сказала тетя Ляля со слезами на глазах. – Пойдем ко мне. Я живу в гетто. Мы живем здесь в Тирасполе близко с вокзалом.
– Мне нельзя отсюда выходить. Как же я выйду?!
– Идем! Я живу в особом доме. Я имею право взять тебя к себе.
– А где ваш муж и сын Муся?
– Муся со мной. Мой муж умер. Только я и Муся.
Я иду за ней в ее дом. Я зашла в маленькую симпатичную квартиру, блестящую от чистоты. Конечно, я направляюсь в туалет. Он в ванной комнате. Какое счастье! Ванна!
– Есть и вода?
– Есть. Я заведую солдатской кондитерской. – Гордо говорит тетя Ляля. До этого «важного» положения она была самой богатой в Кишиневе.
Мы садимся на стулья. Я вымытая. Я поела. Я закрываю глаза руками. Наконец. Плачу. Плачу горько. Тетя Ляля тоже плачет. Муся смотрит на нас и молчит.
– Таточка, – дрожащим голосом говорит Ляля. – где мама? Папа? Руля? И бабушка? Где они?
Я молчу. Только отрицательно машу головой.
Не помню, как меня перевели на кровать. Наверно я уснула возле стола. На следующий день я очутилась в кровати. Настоящая кровать, подушки одеяла. Тетя Ляля принесла мне из кухни жандармерии еду и даже пироги. Но я не могла есть. Тетя повела меня в ванну, помыла мне голову, помазала мне голову какой-то смесью против вшей и завязала полотенцем. После этого я сидела закутанная в полотенце как каменная. У меня только один вопрос:
– Где моя тетя Рая? Тетя Ляля, я должна вам что-то сказать… – дрожащим голосом говорю я. – Моя мама перед смертью сказала мне только одну фразу: Таня, иди к Рае!
Ляля плачет.
– Моя бедная Таточка, Рая очень далеко. К ее счастью она застряла в Бухаресте перед началом войны. А то и ее бы сослали. От нас она теперь далеко, может быть, ты сможешь до нее добраться. Может быть, даже я и Муся. Если мы сумеем отсюда выбраться. Я дам тебе ее старый адрес. Запиши его на маленькой бумажке и засунь в твой лифчик.
– Лифчик? Что за лифчик? Никакого такого лифчика у меня нет!
– Я тебе вошью эту бумажку в лифчик. Тебе уже нужен лифчик.
Я краснею.
– Я думала, что не видно! Тетя Ляля, где все остальные дети? И Гарик где?
– Их всех разместили в большом помещении в главном училище Тирасполя. Там и маленькие. Наверно Гари тоже там. Он ищет свою маму. Я тоже ее искала. Его мама проходила тут. Мне рассказали, что она поднялась на поезд по направлению к Яссам.
– Тетя Ляля, ты знаешь Гари и его маму?
– Конечно, они все кишиневцы. Гари очень талантливый ребенок!
Ты ему рассказала?
– Нет ничего не сказала. Я не хочу его обнадеживать. Это все неизвестно.
Я пробыла у моей тети Ляли и Муси пять дней, которые мне очень помогли прийти в себя. В одно холодное утро погрузили нас в новый поезд, на этот раз румынский. Он был разделен и были даже оббитые клеенкой сиденья. Дети все были помытые и чистые и у них были новые сопровождающие. Да здравствуют американцы! Направление – Яссы. С большим сожалением я прощаюсь с моей тетей Ляле и Мусей, но надо надеяться, что мы еще увидимся. Мы с Гари были неразлучны. Мы держались все время за руку. Наверно мы были влюблены. Во всяком случае, мы были уверенны, что это так.
52.
После многих станций, мы прибыли в конечный пункт назначения. Мы переходили границы. Слышали языки, которые сменяли друг друга. Украинский, русский, румынский. Поезд остановился на довольно роскошном вокзале. Это большой румынский город, красивый и старый. Его имя – Яссы.
Нас поселили в большом здании, которое до этого служило домом сирот. Здание было отремонтировано. Когда мы вошли, нас окружил прекрасный запах чистоты и свежевыкрашенных стен. Все новое. Мы с Гари держались за руки. С поезда мы не расставались. Нас поделили. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Старшие девушки в меньшей комнате, потому что нас было не много. Большинству девушек было по шестнадцать – семнадцать лет. Меня туда запихнули, потому что не знали куда отнести. Я была очарованна всем. Ванны. Души. Прически. Чистые вещи. К нашему счастью, нам не дали одинаковую форму, а дали вещи, которые пожертвовали евреи, живущие в городе.
Я подружилась с тремя девочками, которые рассказали мне свои истории. Я была удивлена, когда услышала, что одна из них израильтянка. В 1940-ом году она поехала со своей мамой в Черновцы, в Буковине, навестить родных которых раньше не знала. Из коротких предложений я поняла, что во время перехода немецких и румынских войск из Черновиц в западную Украину, она потеряла свою маму и родных и осталась одна. Работала на каторжных работах и много раз была изнасилована. Все это она говорила намеками. Надо заметить, что она говорила об этом, как о самом обыденном. Без чувств и без слез. Я все время молчала. Только слушала. Две другие девочки рассказали похожие вещи. Они говорили об изнасилованиях холодно и «по-деловому». Даже обменивались ужасающими, тошнотворными подробностями, которые мне даже трудно описать словами. Я не сразу смогла понять, о чем они говорят. Я видела, как насилуют. Видела, как целый отряд насилует девушку. Выдела во всех подробностях. Они ее насиловали, и продолжали делать это даже, когда она уже умерла. Пока «очередь» не закончилась. Когда я видела этих красивых девочек, цветущих, казавшихся совершенно здоровыми, описывающих эти ужасные сцены, мне было сложно поверить, что такое вообще может быть. Мне было странно слушать, как они говорят об этом. И так же спокойно делились планами на будущее.
Одна из девочек прекрасно играла в теннис. Рядом с сиротским домом был теннисный корт, и однажды они получила теннисные ботинки и ракетку. Милые парни, местные евреи, пригласили ее поиграть. У нее были красивые зеленые глаза и очаровательное личико. Одна сторона ее лица была обожжена. Я не осмеливалась спросить, как это произошло. Когда они вернулись с игры, я услышала от них, что произошло в Яссах в 1941-ом году.
Один парень, ему было примерно восемнадцать или девятнадцать, рассказал о погроме, который произошел тогда.
– Что такое погром? – спросила я.
– Это, наверно, русское слово, – сказал он. – Я не знаю русский. Я разговариваю только на румынском. Я родился здесь, в Яссы.
– А что это означает?
– Это означает преступление, убийство, грабеж, избиение, изгнание, насилие, сожжение.
– Да, я понимаю… А ты что был в этом?
– Конечно, был. Я и моя семья. Улицы, на которых жили евреи, были окружены войсками. Я думаю это были местные фашисты. Несколько солдат немцев из СС, наверное.
– Скажи, а они еще тут, в городе?
– Может быть, но немцев не видно.
– Но фашисты все местные.
– Хорошо, продолжай, пожалуйста. Скажи, что было?
– Вытащили всех людей. Конечно же, я говорю о евреях. Из домов прямо на улицу, с помощью нагаек. Их всех собрали в нескольких местах. Часть из этих людей были убиты пулями и нагайками и их бросили прямо один на другого. Мертвые и почти. Я не видел своих маму и сестер, но я держал папу за руку. Мы не были ранены. Мой папа и я попробовали вылезти из-под кучи кровоточащих трупов. Мы думали вернуться на тоже место, чтобы найти оставшихся членов нашей семьи. В это время опять пришли фашисты и начали забирать людей на вокзал. Теперь они не убивали людей, а только били их нагайками.
– А, я знаю, что такое нагайка. По себе знаю.
– Мы долгое время сидели на вокзале. Некоторые были ранены. Некоторые пришли с женами и с детьми прямо из дому. Были крики и плачь. Я не знаю, сколько часов прошло. Может быть день, а может быть два. Понятия не имею.
Одна из моих подруг спросила его:
– Ты боялся? Плакал?
– Не знаю, я не помню.
– Я тоже не помню. Есть вещи, которые я не хочу помнить. А ты, Таня?
– Я все отлично помню. Я никогда ничего не забуду.
– Забудешь, забудешь. – Сказал высокий теннисист, который был, наверно, старше нас. – Бог дал нам забытье в подарок, чтоб мы могли продолжать жить.
– Что за философ?! – говорю я. – Это все хорошо для разговоров!
– Она права. – Сказал первый парень. – Я ничего не забыл. Действительно ничего. Но мне трудно об этом говорить. Нас впихивали в вагоны. Девочек и мальчиков. Мужчин и женщин. Даже маленьких детей. Как скот. В закрытые вагоны. Запихивали ударами, толчками, пинками. Плотно закрыли вагоны, и после этого поезд тронулся. Я стоял у стены и заметил, что между досками есть маленькая щель. Эту щель я мог расширить, но у меня не было чем. Мне хотелось сесть, но и этого я не мог. Не было места. Кроме этого я не мог оставить скважину. Я не видел папу. Мои мама и сестры там не были, но я не уверен. Где же папа? Где же папа? Крики, плачь. Нет воздуха. На полу лежат люди, а на них сидят и стоят другие. Наверно, лежащие уже умерли. Я не вижу папу. Через некоторое время большая часть вагона наполнилась трупами. Люди просто задохнулись. Сколько времени это продолжалось я не знаю. Мне ничего не понятно. Одно я знаю, что без этой щели я бы не остался в живых.
Я робко спросила его, как он оттуда вылез, и что случилось с его отцом. Он не ответил мне. Он посмотрел в даль, будто бы был в каком-то совсем другом мире.
– Таня, перестань его допрашивать! – сказала одна из девочек. – Ты не видишь, что он больше не может. Иди играться со своим товарищем. Этим… со скрипкой.
Когда она сказала «иди играться», я обиделась. Очень обиженная, я пошла искать Гари.
– Вот и она, наконец! – сказал он, когда увидел меня. – Что ты все время крутишься?! Я тебя весь день ищу! Хочешь сегодня вечером петь?
– Оставь меня в покое, – говорю. – Петь… Что вдруг петь? Я слышу такие ужасные истории! Все что здесь случилось, в Яссах.
Я рассказала ему историю, которую услышала перед этим. Он не был потрясен. Просто сказал мне:
– Все это я уже слышал тысячу раз.
– От кого?
– Тут много людей, молодых, которые приходят нас проведать. Они нам все рассказывают.
– Скажи, ведь все что случилось, МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ ОПЯТЬ, ДАЖЕ ЗАВТРА?
– Оставь эти глупости. – Говорит Гари. – Уже ничего не может случиться. Красные бомбардировали Яссы столько раз, что эта армия понимает, что все кончено. Им не стоит начинать новый погром.
– Откуда ты все это знаешь?!
– У меня тут товарищи. Завтра я тебя с ними познакомлю. Слушай, перестань! Давай пойдем гулять?
Вот так мы как мы стоим возле двери, входит она женщина, вернее дама. Ее лицо мне знакомо. С ней еще одна дама. Наверно это местные еврейки. У них в руках узлы с одеждой, которые они с трудом тащат. Все, чтобы раздать малышам. Та, которая мне показалась знакомой, вдруг остановилась возле меня, пристально посмотрела и сказала:
– Боже мой! Это маленькая Таточка!
Она меня узнала.
– Я – Бьянка! Мне сказали, что ты тут, но я не была уверена, что это ты! Я все время тебя ищу! Все о тебе говорят!
– Все? – спрашиваю. – Кто это все? Кто меня тут знает?
– Я получаю письма от твоих родных, которые смогли удрать в Бухарест еще до того, как советская армия вошла в Кишинев, до1940-го. Все тебя ищут. Никто не знает, что случилось с твоей семьей. Где Руля, твоя тетя? Я была ее лучшей подругой.
– Вы Бьянка! Я знаю о вас. Вы теперь живете здесь?
– Конечно! Я вышла замуж и у меня взрослый сын. Мой сын, такой как твой товарищ, но намного выше его. Его зовут Сади.
За ней стоял парень, очень высокий и красивый. С черными глазами и волосами. Застенчиво он протянул мне руку и сказал:
– Сади.
– Таня.
– Я ищу Гари. – Говорит Бьянка. – Он должен быть твоего возраста или возраста моего Сади. Его мама – врач – попросила меня поискать его здесь.
Я поворачиваю голову и смотрю на моего дорогого друга. Его лицо стало белым как снег. Он оперся об стену и молчал. Вдруг его глаза наполнились слезами.
– Моя мама, – шепотом говорит он. – Где моя мама?
– Ой, боже мой, это ты?! – громко кричит дама, и с широченной улыбкой продолжает. – Твоя мама живет у меня! – кричит она. – Это правда, что твоя мама – врач.
Я вижу, что бедный Гарик почти падает в обморок. Я держу его за руку и шепчу ему на ухо:
– Держись, держись. Ты должен быть счастлив. Она в порядке? – спрашиваю эту странную женщину.
– Да, да! Она немного уставшая. – Орет она. – Немного больна. Но она в полном порядке.
Так нашел мой друг свою маму, а я свою дорогу в будущее.
53.
В моей личности происходят изменения. Я чувствую, что мне хочется, что мне нужно ходить по улицам. Просто ходить по широким улицам этого старинного города. Бьянка дала мне туфли, которые мне почти подходили. Они были немного велики, но можно было подкладывать вату. Мне очень нравиться бежать по улице и слушать стук каблучков. Этот звук напоминает мне очень многое. За мной ухаживают два «очень серьезных» парня. Они меня всюду сопровождают и рассказывают историю этого города. Один из них это сын Бьянки, подруги моей трагически погибшей тети Рули. Кажется, что он очень доволен тем, что Гари не с нами, и он может быть моим «рыцарем». Второй был его товарищ. Маленький и кругленький. Я его называла: Санчо Панса. Между прочим, я очень скучала по Гари, но не показывала никому. Я думала, что все кончилось, и я его больше никогда не увижу. За это время я перешла жить к Бьянке. Я начала учиться, как нужно себя вести, как молодой девушке. Сади с большой любовью отдал мне свою комнату. Бьянка думала, что я останусь в Яссах и не продолжу свой путь в Бухарест. Конечно и Сади думал, что я его не оставлю. По правде говоря, я с нетерпением ждала возможности сесть на поезд, который отвезет меня в Бухарест. У меня была только одна цель. Исполнить последнее желание моей мамы и найти тетю Раю.
Через несколько дней, когда моя тоска по Гари уже начала проходить – он появился! Как будто ничего не случилось!
– Вы думали, что избавились от меня?!
– А, нет. Мы рады, что ты вернулся к нам, – говорит Сади. – В особенности Таня.
– Таня – я знаю, что она рада. Но вы оба… наверно нет!
Все смеются.
Опять начались наши походы со скрипкой. Мы останавливались на углу улицы, Гари вытаскивал свою скрипку и играл разные румынские народные песни, которые он успел схватить на слух, наверно по радио. У Гари были уникальные способности, абсолютный слух, и умение приводить людей в бешеный восторг! Мы останавливались на углу и через несколько минут около нас собирались люди. Собирались те, кому нравились наши маленькие глупости. Нас спрашивали, не хотим ли мы денег, но мы только смеялись в ответ. Нас почему-то очень смешило, когда разговор заходил о деньгах. Мы били совершенно «пьяные». Нам казалось, что мы, в конце концов, совершенно свободны! В особенности Гари. Камень упал с его души, потому что он нашел свою маму, целую и невредимую.
В один прекрасный день я решила взять все свои вещи, как-нибудь сесть на поезд в Бухарест и начать поиски моей тети Раи. Конечно, мне было жалко оставлять всю эту веселую компанию, но я чувствовала, что больше не могу там сидеть. Эта милая Бьянка не хотела со мной расставаться. Сади с трудом скрывал свои слезы. Санчо Панса объяла безмерная тоска! С другой стороны Гари меня поддерживал.
– Ты обязана, Таня, построить свое будущее. Я знаю, что скоро «Джойнт» собирается перевести всех детей из сиротского дома в Палестину. Поезжай и ты!
– Что такое «Палестина»?
– Говорят, что Палестина очень красивая страна, где растут пальмы.
– Ага, я знаю, я знаю! У Лермонтова есть стихотворение:
На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна И снится ей все, что на юге далеком Прекрасная пальма растет– Как ты это помнишь? У тебя изумительная память.
– Гарик, напиши музыку на это стихотворение! Ты читаешь ноты?
– Безусловно! И не только это, ты еще этого не знаешь, но я решил ехать в Италию, учиться музыке у маэстро! Я не знаю еще у кого, но я уверен, что я туда поеду.
– Там ужасные бои. Американцы и немцы воюют на итальянской земле. Там идет кровавая война.
– Но все это пройдет, – говорит Гарик, вечный оптимист. – Когда я буду виртуозом, я приеду к тебе в Палестину и женюсь на тебе.
– Хорошо, я буду тебя там ждать. Как ты меня найдешь? – с этими словами я побежала как сумасшедшая и все три мальчишки за мной. Мы все умираем от смеха.
– Таня, Таня, перестань бежать! Это очень плохо для твоей астмы.
Я останавливаюсь и, вдруг, действительность проявляется перед моими глазами: завтра! Завтра я поеду на поезде в Бухарест, будь что будет. Мы вернулись молча. Гарик и я держались за руки, и у нас обоих были слезы на глазах. Мы понимаем, что действительность не похожа на наши мечты. И никак нельзя ее изменить! На следующий день я собираю свои немногочисленные тряпки, прошу у Бьянки немного денег на билет. Вся наша группа провожает меня на станцию. Это мне напоминает дорогую мне семью моей Милы, в городе Балта, как они шли семь километров пешком, чтобы меня проводить. Я очень сожалею, что оставляю Бьянку, такую хорошую и приятную, Сади и даже верного Санчо Панса, но расстаться с Гариком – это просто невыносимо.
Касса была закрыта. Больше не было билетов. Поезд был полным. Все обрадовались:
– Таня, Таня, ты остаешься! Ты остаешься!
– Бьянка дайте мне носовой платок.
– Нет, я тебе не дам. Это плохой знак – платок! Это означает, что мы больше не встретимся.
– Я поеду этим поездом в Бухарест, без билета, без разрешения и без бумаг!
– Это очень опасно, – говорит Бьянка. – если ты подождешь, мы сможем тебе все устроить.
– Меня это не интересует. Я хочу поехать в Бухарест. Я должна найти тетю Раю. Если хотите знать, моя мама, прежде чем закрыть свои глаза на веки сказала: Иди, найди Раю. Так и будет.
Поезд со свистом зашел на станцию. Как я люблю этот звук и запах паровозного дыма! Шум колес был для меня прекрасной музыкой.
– Гарик, ты должен написать симфонию о поезде!
Я освобождаюсь от объятий моих друзей и бегу к одному из окон, в котором я видела лица молодых солдат.
– Таня, Таня, подожди! – кричит Бьянка. – верни мне платок.
Я подхожу к окну и сквозь смех говорю этим ребятам:
– Втащите меня в окно. У меня нет билета и нет денег на билет. Я обязана найти свою тетю в Бухаресте! Обязана! Вы солдаты, вам все можно, вы можете делать все что хотите!
Они меня с легкостью втащили в купе. Один из них втащил мой узелок и осторожно положил его над моей головой.
– Я вас всех люблю! Я вас всех обожаю! Я вернусь и найду вас!
Поезд начинает отъезжать. Я вижу, как Бьянка протягивает руку:
– Таточка, брось мне платок!
Я не успеваю. Эти слова были последними, которые я услышала из уст этой прекрасной женщины.
Поезд двинулся. Красивый вокзал Ясс пропадает вдалеке. Вдруг я вспоминаю историю поезда мертвецов в 1941-ом году. Мне трудно себе представить эту ужасную действительность. Вокруг меня голоса. Маленькие румынские солдатики в своих глупых шапках, наивные и даже симпатичные. Они кричат мне в уши веселыми голосами:
– Вытрите глазки, барышня, вытрите. Мы будем петь все вместе, и вы забудете семью и всех ваших братьев. Вы очень смелая барышня. Сколько вам лет?
– Шестнадцать с половиной! – гордо говорю я.
Конечно ничего подобного. Но я была уверенна, что воображение моих новых товарищей примет это с удовольствием. Тот, который сидел рядом со мной сказал:
– Я старше тебя на два года!
– Ну так что? Это не так много, всего два года!
– Где живет твоя тетя? – спросил один из них.
Я сказала ему адрес моей тети Раи. Я знаю его наизусть.
– Ого! Это центр Бухареста! Наверно твоя тетя очень богатая.
– Еще как! – говорю я. – Очень, очень богатая. А вот посмотри на меня! у меня нет ни билета, ни документов! Вот теперь, я спрашиваю вас, что мне делать, когда придет контролер?
– Не волнуйся, домнишора, мы все устроим. А пока будем петь!
Мы пели, мы ели, мы смеялись, и, в конце концов, я заснула. За окном было темно, а покачивания вагона меня усыпляют. Я натянула себе на голову занавеску и заснула. Вдруг сквозь сон я слышу голоса:
– Откройте контролер! Покажите ваши билеты!
– Тихо, тихо! – напали на него ребята. – Что ты орешь?! Ты ничего не видишь? Ты не видишь, что домнишера спит?! И вообще мы армия! Нам не нужны никакие билеты!
Я сгибаюсь под моим занавесом и даже храплю, чтобы поддержать миф о моем сне. Я не замечаю, что контролер вышел до того как я начала храпеть и теперь я храплю уже для других актеров этой пьесы. Ребята умирают от хохота вместе со мной.
ПОДУМАТЬ ТОЛЬКО, ЧТО ЭТИ РЕБЯТА МОГЛИ МЕНЯ ВЧЕРА ЗАСТРЕЛИТЬ.
В Бухаресте, двое из этих парней проводили меня прямо до дома тети Раи. У меня не было денег на трамвай. Они мне купили билет и были очень горды, что провожают, молодую барышню. Когда мы подошли к многоэтажному дому, в котором жила моя тетя, эти ребята прониклись уважением. Мы расстались очень весело с объятьями и обещаниями встретиться в скором времени. Я подождала возле дверей, смотря на удаляющихся парней.
Они наверно попадут на фронт раньше, чем я найду саму себя в Бухаресте.
Я вхожу в дом. Сердце страшно бьется. Открытый лифт, похожий на железную клетку. Нажимаю на кнопку. Дверь открывается. Я вхожу. Пожилой человек выходит из лифта и держит в руках большой портфель. Наверно это адвокат. Я хватаюсь за ручку, чтобы лифт не уехал. Смотрю на цифры. Мне на шестой этаж. Кажется это последний. Я нажимаю на кнопку четвертого этажа. Почему? Страх. Страх встречи. Я боюсь не застать ее дома. Боюсь, что меня не узнают. Боюсь, что она скажет, что у нее нет для меня места. Вдруг она побоится меня принять. Я нажимаю на кнопку и съезжаю вниз, потом опять наверх. Слезы мешают мне видеть цифры. Что делать? Надо решить и сделать. Наконец я нажимаю на кнопку шесть. Лифт остановился. Открываю дверь. В этих лифтах дверь не открывается сама. Три двери. Три деревянные блестящие дубовые двери. Между дверьми зеркала. Передо мной стоят три девочки. Три смешные девочки. Одеты очень плохо. Три испуганных до смерти лица! Я не знаю, в какой квартире живет тетя Рая. Нет никаких знаков на дверях. За одной из дверей я слышу классическую музыку. Нажимаю на звонок. Сердце бьется. Шаги. Дверь открывается. Я вижу ее. Я ее вижу! Моя любимая тетя рая, в шелковом халате улыбается мне. Без криков и без объятий она меня затаскивает за руку вовнутрь. Прямо в маленький рай. Я вижу замечательную старинную мебель. Большие дорогие зеркала. Все мне кажется знакомым. Я делаю шаг вперед. Моя голова кружится. Рая подхватывает меня подмышки и сажает в одно из кресел.
– Моя маленькая Таточка! Какая ты большая теперь. Как ты так выросла? Ты так похожа на свою маму. Надо тебя сейчас же накормить, а потом уже поговорим.
– Я не хочу есть, только спать. Я могу остаться у вас?
– Что за вопрос?! Ты у меня. Успокойся. Сначала ванна, потом пижама и кровать!
Я исполнила желание моей мамы. Я нашла Раю.
54.
Одета как принцесса, вооруженная адресами выходит Таня на красивую улицу в центре Бухареста. Я счастлива. Я хожу по мощеным улицам. Я вижу высокие дома. Красота! В Кишиневе не было таких домов. Архитектура была другая. Очень красивая очень выдержанная, но другая. Здесь в Бухаресте я вижу сады и площади! Я иду искать адрес. Тетя Рая сказала мне, что в пять часов после полудня я должна быть дома, потому что все друзья папы и мамы будут у нее и все хотят меня видеть. Все те, которые смогли удрать из Кишинева перед несчастьем. Мне страшно не хочется стоять перед ними и отвечать на вопросы. Я ненавижу эти вопросы, а больше всего я ненавижу ответы. Я должна буду рассказать все! Нет, я не хочу этого! Они ничего не понимают! Как я расскажу этим дамам эту грязную и болящую правду?! Кровопролития, удары, голод, вши – как?! Как я им открою весь этот гной?! Это выше моих сил.
Замечательный запах. Я останавливаюсь перед витриной кондитерской. Я не верю своим глазам. Я захожу и сажусь за стол. Официант:
– Что пожелает домнишора?
– Пирожные! – говорю я решительно.
Он заводит песню о том, какие замечательные пирожные у него есть. Я с нетерпением его прерываю:
– Я хочу три пирожных с мороженым и стакан воды.
– Какие пирожные?
– С шоколадом!
– А какое мороженное?
– Все вкусы!
– Какие вкусы?
Я опять теряю терпение.
– Розовый, зеленый и желтый! – бешусь я.
Все это добро мгновенно исчезает. Я все проглотила! Я в восторге! Я плачу. У меня много-много денег!
– Я хочу знать определенный адрес… мне нужно найти сиротский дом для детей из Транснистрии.
Удивленное лицо.
Понятия не имею…
Очень жирная дама подходит ко мне, хватает за руку и силой сажает рядом с собой.
– Что ты спрашиваешь, глупая девчонка?! Это тайна! «Им» нельзя знать!
– Вы знаете?
– Конечно, я знаю. Я тебя туда отведу.
– Который час?
– Три.
– Отведите меня туда. Я должна вернуться домой между пятью и семью. Я успею?
– Куда?
– К моей тете, Рае Шварцберг.
– Это ты? Ты дочка Бетти? Ты дочка Феликса и Бетти? Это ты! Боже мой, боже мой!
– Вы знали моих родителей?
– Боже мой, боже мой, боже мой! – говорит толстуха. – Идем, возьмем такси.
Я искала свою подругу, которая жила рядом с Милочкой в Балте. Хения. Красивая блондинка. У нее был брат и старшая сестра. Я знала, что они будут ехать в этом же поезде, Хения, ее сестра и малыш Элиэзер. Я надеялась, спрашивала о них. Вдруг я вижу сестру Хении. Она стоит передо мной и держит за руку маленького Элиэзера.
– Таня как ты сюда попала?
– У меня нет времени на рассказ. Скажи, почему Хения не тут?
– Таня, Хения осталась в Балте. Ты помнишь товарища Рувки? Высокий и красивый? Он ушел к партизанам. Она осталась там, ждать его. Она нам сказала, что мы все встретимся в Кишиневе.
Маленький Элиэзер начал громко плакать.
– Таня, где Милочкина собачка? Может, ты привезла ее с собой?
– Шарик не хотел переезжать. Он не любит Бухарест.
– Я тоже не люблю. – Серьезно говорит он. – Я хочу пирожное и Хению тоже. Я даже хочу часы.
– Завтра, завтра утром я отведу тебя в кондитерскую.
– Что это ко… ко… ко… я не понимаю, что это?!
– Это место где есть сто пирожных!
– Сто пирожных? Такого не бывает! Я не верю. Таня, ты мне купишь часы?
– Я куплю тебе часы.
– И мы пойдем сниматься у фотографа?
– Пойдем, пойдем. – Отвечаю я.
Я обнимаю сестру Хении. Грустно…
Когда я возвращаюсь вместе с этой милой дамой, меня уже ждали люди, лица которых мне даже были знакомы. Среди них была моя тетя Доня, двоюродная сестра моей мамы, и ее муж. Стол был полон всяких вкусностей. В воздухе был запах кофе. Я испугалась. Какая роскошь! Странно, как будто нет войны! Я думаю о маленьком Элиэзере в тряпках и о его сестре, неуклюжей и несчастной. Два разных мира. Я уселась в кресле и посмотрела на всех. Некоторых дам я знала. Некоторые мужчины были папиными друзьями. Избранное общество. Все элегантны. В воздухе чувствуется запах духов. Тетя Доня обнимает меня и тихо говорит:
– Расскажи, Таточка, что с нашей семьей? Где мама и папа? Что случилось? Расскажи все, все, все!
Я сажусь у ее ног на маленькую скамеечку и начинаю говорить. Я не отвечаю на их вопросы. Только рассказываю и рассказываю. Все плачут. Иногда я слышу счастливые возгласы, когда они узнают, что некоторые знакомые живы. Так крикнула тетя Рая, когда услышала, что тетя Ляля жива и ее сын тоже. Вдруг я понимаю, что дяди Мили тут нет. Я спрашиваю:
– Где дядя Миля?
– Я надеюсь, что он вернется из Транснистрии. Через несколько дней он вернется. – Говорит тетя Рая.
– Таточка, приходи жить с нами! – восклицает тетя Доня.
Вдруг все стали приглашать жить у них. Вдруг меня все любят. Почему-то я не была довольна всем этим и, вежливо улыбаясь, сказала, что наверно пойду к тете Доне. Я понимаю, что, в конце концов, это нужно будет сделать, когда вернется дядя Миля. Он захочет быть со своей женой. Доня и ее муж очень любили меня с детства. У них была дочка. Младше меня на три года. Правда, мне не очень хотелось жить у них, несмотря на все. В этот же день я пришла к решению, что я обязана попасть в Палестину. Эта встреча убедила меня, что другого выхода нет. Палестина. Магическое место, о котором Лермонтов говорит в своих стихах. Я подумала о мечтах Гарика и решила создать себе свои собственные мечты.
55.
На следующий день я купаюсь в ванне у моей тети Раи.
Я страшно довольна и счастлива от этой роскоши и красоты. Трудно описать это чувство ребенка, который провел три года или даже больше, в грязи, в ужасном холоде, со вшами и вообще со всякой гадостью, которая меня окружала. Трудно описать чувство, когда входишь в чистую прозрачную душистую и горячую воду. Мыло! Мыло! Как приятно мыться мылом! Настоящим пахучим мылом! В Балте у нас было только стиральное мыло и того тоже было довольно мало.
Тетя Рая не завтракала. Она только пила кофе. А я наоборот – ела, ела, ела! Я не могла остановиться! Колбасы, сыры, горячий хлеб. Какое счастье! тетя рая смотрела на меня счастливой улыбкой. Она не была рада, отпуская меня в город. Она даже хотела мне запретить выходить.
– Ты заблудишься на улицах! Куда бога ради ты хочешь идти?
– В сиротский дом.
– Где это?
– Не очень далеко. Надо сесть на трамвай и ехать прямо на нем. В чем проблема?
– Боже мой, зачем?
– Я хочу купить часы для Элиэзера.
– Кто это Элиэзер? Сколько ему лет?
– Пять лет. Он брат моей подруги, которая зачем-то осталась в Балте. Кроме этого он со своей старшей сестрой хотят пойти кушать пирожные.
– Иди, иди, моя милая.
Рая повернула голову, чтобы я не увидела слезы на ее глазах. Эти новые открытия, эта новая ситуация были очень трогательными. Она поцеловала меня в щеку и написала на бумаге свой адрес, в случае если меня задержат. У меня не было документов. За теми, которые были в Транснистрии и попали в главный город Румынии, следила полиция. Они не имели права жить в этом городе без учета в полиции. Я не относилась к этому серьезно.
Я выбежала в город. Я полетела до первой станции трамвая и прыгала на месте, чтоб слышать, как каблуки стучат по асфальту. А трамвай сам по себе был чем-то необыкновенным. Я заплатила контролеру, побежала в конец трамвая и уселась прямо напротив выхода. Мне было очень важно видеть через стеклянную дверь угол, на котором я должна сойти. Какая неожиданность. Я вижу, что у меня хорошая память способность ориентироваться на местности.
«Бинг» – трамвай останавливается, и я выхожу. И что видят мои глаза? Вся группа ждут меня у двери. Впереди Элиэзер с сестрой, немного позади светловолосая девочка с косичками. Они меня окружают, целуют и обнимают все сразу. Я безумно рада. Новая девочка говорит, что она очень рада и хочет посмотреть на город. Элиэзер возглашает покровительственным голосом:
– Она хорошая, она симпатичная. Я даже дам ей кусок моего пирожного!
– Хорошо, – говорю я.
Этот был очень счастливый день. Мы ели пирожные всех видов. Мы все пошли к парикмахеру помыть голову! Все! Парикмахер был очень доволен моими красивыми волосами и даже предложил мне сделать «перманент»! я сразу же согласилась. Если по правде, я абсолютно не знала о чем речь.
– Вы немножко погуляйте вокруг. Только не теряйтесь. Через час будьте тут. Мы купим часы, а потом пойдем фотографироваться.
Когда они вернулись, увидели, что я реву в три ручья.
– Я похожа на сумасшедшую овцу!
Я прошу парикмахера, чтобы он разгладил хотя бы верхнюю часть. Результат был еще хуже – теперь я была похожа на овцу двух видов! Трое из детей смотрят на меня и жалеют.
– Это ничего! – сказал Элиэзер по-русски. – Все вши пойдут к черту!
Женщины, которые ждали своей очереди, повернули головы, когда услышали слово «вши». Они знали русский язык. Они были из наших. Парикмахер подошел ко мне и сказал по секрету на ухо:
– У вас были гниды. Теперь вы от них избавились навсегда. Я знаю, что это не совсем красиво, что я сделал. Но я должен был использовать самое сильное средство.
Я поняла. Заплатила. Мы вышли. Сестра Элиэзера сказала:
– Завтра я тоже пойду сделать перманент.
– Понимаю – говорю я.
Мы остановились в кондитерской. Я не ем. Боясь реакции тети Раи, когда она увидит эту овцу на моей голове. Историю со вшами она наверно не поймет. Лучше я ничего не буду рассказывать. Пусть она подумает, что я просто стала модницей. К обеду я вернула детей в приют. Я вижу, что все шепчутся с испуганными лицами.
– Что случилось?
– Слухи – говорит одна девочка.
– Плохие слухи – говорит другая.
– Слухи? Слухи все время есть! Что это за слухи?
– Говорят, что нас не посадят на корабли. Там очень большая очередь. Сначала взрослых, а потом нас, в конце.
– А когда же нас? – спрашиваю я.
– Вроде как через месяц. По меньшей мере…
А за это время фашисты могут разделать нас в пух и прах. Нам нельзя здесь оставаться. Они могут нас отослать обратно в Транснистрию. – говорит одна.
– У меня сжимается сердце. Я говорю с вымученной улыбкой:
– Это все глупости! Мы все попадем на эти корабли и нечего волноваться.
Но на самом деле у меня появились сомнения.
– Завтра, завтра я приду за вами, и пойдем к часовщику и фотографу. – Сказала и ушла.
Маленький Элиэзер побежал за мной:
– Таня, когда Хения придет? Она успеет на этот корабль.
– Я не знаю, но все будет в порядке.
Иду к тете Рае очень грустная. Я не хотела опаздывать, но решила идти пешком. Когда я возвратилась, я увидела там… не верю… дядю Павла. Но без его любовницы.
Представление тепла и любви продолжалось очень долго. Поцелуи объятия и радость. Все это сопровождалось фальшивыми слезами. Дядя Павел всегда умел плакать, когда нужно. Рая сказала:
– Я должна выйти. Дядя Павел хочет повести тебя в ресторан кушать румынский кебаб.
Я молчу. Мы выходим. Рая включила сигнализацию и закрыла дверь несколькими замками. Мы выходим на улицу. Рая ушла, и мы молча пошли в ресторан. После всех пирожных у меня не было аппетита, но не только из-за них.
– Почему ты молчишь? Почему ты не ешь? Бухарест очень красивый город. Тебе тут не нравится?
Мне трудно ответить на твои вопросы. Бухарест красивый, но я хочу его быстрее покинуть и поехать в Палестину.
– Ты с ума сошла?! Я не разрешаю тебе выходить в море в такое время, когда топят все корабли, которые выходят из Констанцы. Все корабли топят! Даже коммерческие! Американцы бомбят все, что двигается, и немцы тоже.
– Американцы? Они вступили в войну?
– Конечно. Лондон окружен. Немцы его без конца бомбят. Лондон сдастся очень скоро.
– Ты хочешь сказать, что весь мир будет немецкий?
– Конечно. И мы должны будем к этому приспособиться.
Решительно отодвигаю свою тарелку.
– А Красная армия?
– А что с ней? Она продвигается очень медленно!
– Пава, – говорю. – Красная Армия захватит Румынию через несколько дней. Может быть месяц. Красная армия победит и Германию. Американцы совсем разбомбят Бухарест. Я уверенна, что единственный выход для меня это удрать в Палестину.
– Палестину тоже будут бомбить. Там же англичане.
– Будь что будет! Тут я не останусь!
Он молчит.
– Таня, я страшно жалею о том, что произошло с тобой, когда мы уехали. Я понимаю, что ты на нас сердита.
– Пава, все забыто. Я знала, что будут проблемы. Я взяла на себя обязанность прикрыть тебя. Но сейчас ты не будешь больше управлять моей жизнью.
– Таня, я перестану только, когда тебе будет двадцать один год. Я самый близкий человек, который у тебя остался, перестань протестовать.
– Забудь все это, Пава, забудь все! Я совершенно самостоятельна. Я живу, так как я хочу, и никто меня не заставит делать то, что он хочет. Ты наверно забыл, что из-за твоей дурацкой любовницы, ты уничтожил нашу семью?!
Я слышу себя говорящей такие слова, я вижу смятение на его лице. Хочу удрать из этого ресторана и пойти опять к детям. Было уже темно и поздно вытаскивать детей на улицу. Я быстро побежала к тете Рае. Я шесть раз поднималась и спускалась на лифте, а когда позвонила в дверь, ответа не было. Я села возле двери и заснула. Я могла спать всюду. Рая вернулась поздно. Разбудила меня и начала расспрашивать. Напоила меня чаем и даже раздела. Я легла спать и спала двенадцать часов подряд. Разговор с дядей меня измотал. На следующее утро я повела детей к часовщику, купила Элиэзеру часы. Все были очень довольны. Потом опять пирожные и фотограф. К счастью у меня осталась фотография. Элиэзер посередине, мы с его сестрой с одной стороны, а девочка чье имя я не помню с другой. Мы вернулись в обеденное время. Я оставила детей, вышла и села на трамвай. Показала контролеру адрес моей тети Дони. Спросила, как мне туда попасть. Оказалось очень просто.
– Поезжай со мной до конца и я тебе объясню.
Через полчаса он меня подозвал и спросил:
– Ты не из Бухареста?
– Нет, я из Кишинева.
– Ты очень скоро сможешь туда вернуться.
– Почему?
– Сегодня русские вошли в Кишинев.
– Откуда ты все это знаешь?
– У меня есть источники, девочка.
– Как ты понял, что я не из Бухареста?
– Это слышно когда ты говоришь по-румынски. Ясно, что ты русская.
– Ты рассказываешь красивые истории. – Я смеюсь и выбегаю.
Бегом я влетаю в комнату и вижу, что мои все сидят на чемоданах.
– Иди сюда, иди. Иди, Таточка. Мы уезжаем. Нам предложили «отдых» в деревне у друзей. Если ты хочешь остаться здесь в квартире, то мы дадим тебе ключи и живи тут, пока мы не вернемся. Здесь все твое. Есть еда, в холодильнике, вода, молоко, сметана. Все что тебе нужно. Деньги лежат на столе в комнате Анжелы. Ты можешь спать в ее кровати. Идем, я покажу тебе, как зажигать котел для нагрева воды в ванной.
Котел в ванной комнате работал на газе. Я первый раз в жизни это видела. Зажигаешь спичку, подносишь ее в нужное место и, через некоторое время, вода закипает. Фантастически, фантастически!
– Но его надо потушить, не забудь это! Иначе котел может взорваться!
– Изумительное открытие, тетя Доня! Просто так, и есть горячая вода! Когда вы вернетесь?
– Я думаю, что мы там пробудем месяц. Если ты захочешь с нами поговорить или что-нибудь рассказать, то позвони по этому номеру.
Мне дали номер телефона. Меня все поцеловали, тетя Доня, дядя Боря и Анжела. И исчезли.
В некотором смысле, я даже была довольна. Я прекрасно поняла, что это не проездка на отдых, а побег. Который был давно приготовлен. Рассказ водителя трамвая, ужасные опасения детей в сиротском доме, забота, которую я видела в глазах тети Раи – все это составила очень ясную картину военной ситуации и будущего Бухареста.
В этот вечер я решила остаться в доме тети Дони. Я уже собиралась раздеться и лечь в кровать Анжелы, когда, вдруг, я слышу ужасный шум. Тяжелый шум. Этот шум сопровождается визгом сирены. Я затыкаю уши. Самолеты! Самолеты! Я забираюсь в кровать и накрываю голову, чем могу, чтобы не слышать этот шум. Напрасно. Вдруг начинают падать бомбы. Тысячи бомб. Тысячи самолетов! Каждая бомба сопровождается воем кричащим женским голосом. Падая, взрываясь. Это самый жуткий звук, который я помню с тех пор. Появляется еще звук. Еще хуже. Еще сильнее. Это все падает мне на голову. Я спрашиваю себя: выйти ли мне наружу, когда все закончится, чтобы посмотреть что случилось?
Но когда все закончилось, я крепко заснула.
Это начало конца моих приключений в Бухаресте.
56.
На следующий день солнце встало, как и раньше. Был красивый день. Люди стали выползать из дыр, в которые они забрались во время ночной бомбежки. Они пытались вернуться к своим обыденным занятиям. Я вижу, что и трамваи ходят. Смелые люди! Я сразу же поехала к тете Рае. К моей радости я увидела там ее мужа, дядю Милю, сидящим у стола. Дядя Миля ест, ест и ест, без конца. Бедный дядя Миля.
– Где ты был, дядя Миля? Я не видела тебя в Тирасполе с тетей Лялей. Где же ты был?
– Далеко. Я был в гетто Бершади. Меня взяли на каторжные работы прямо из Кишинева.
– Не может быть! Тебя взяли на каторжные работы, дядя Миля?! Это невозможно!
– Таточка, я должен показать тебе мои руки и ноги. Ты мне не веришь… Рая послала туда людей, которые меня вытащили. Мы проехали Тирасполь и остановились у тети Ляли. она меня лечила и помогала. Ты знаешь кто такая тетя Ляля? Это жена моего покойного брата.
– Где же тетя Ляля сейчас? И Муся?
– Муся заболел и Ляля не могла выехать. Но Рая вытащит их оттуда в Бухарест.
– Мне кажется, что Ляля сама поедет в Бухарест с Красной Армией.
– Что за глупости ты говоришь?! Ты еще маленькая девочка, еще не разбираешься в политике!
– Маленькая или не маленькая, сам потом увидишь.
– Мы с Раей решили, что ты должна поскорее уехать в Палестину. Там тебя ждет моя сестра Люба с мужем и со своим сыном Сержиком.
– Откуда ты знаешь, что они там?
– Таточка, не спрашивай слишком много вопросов. – Улыбается тетя Рая. – У нас есть связь через Париж с Альбертом, мужем Любы. Они живут в Хайфе. У Альберта есть связь с банком. Поняла? Больше не будем об этом говорить. Теперь я хочу сказать тебе одну вещь. Необходимо, чтобы ты уехала первым пароходом. Я хочу, чтобы ты поинтересовалась, когда есть пароход.
– Где я могу спросить? В детском доме ничего не знают.
– Я позвоню господину Швецу!
На протяжении дня были еще две бомбардировки. Я кручусь по улице. Стою возле двери в погреб – бомбоубежище. Я вижу там десятки, а может быть даже сотни людей. Все ужасно орут. Большой вопрос: отчего умереть? От удушья, тесноты или осколка бомбы на открытом воздухе? Так продолжалось приблизительно три дня. Я не забыла маленьких детей. Иду туда и к моему удивлению вижу, что все пусто. Мне кто-то сказал, что их перевели в приморский город, Констанца. На берегу Черного моря. По ночам я сплю в маленькой комнатке моей двоюродной сестры Анжелы. Каждый день звонок от тети Дони. Она хочет знать стоит ли дом на своем месте. Говорю ей, что когда она вернется в Бухарест, то скорей всего она меня не найдет. Потому что я уезжаю. Она сердится на меня и кричит, чтобы я не смела этого делать. За ее спиной я слышу успокаивающий голос ее мужа, который говорит, что самое правильное сейчас это поскорее покинуть Бухарест.
– Таточка, мы тоже попадем в Палестину. – Успокаивает меня Боря, муж моей тети.
Перед возвращением к Рае, я оставила соседям ключи от тетиной квартиры. Я не уверенна, что она была бы довольна тем, что я делаю, но другого выхода у меня не было. Вдруг я вспоминаю слова Марьи Александровны, Милочкиной мамы, когда мы шли на вокзал Балты: «…Как я могу взять на себя такую ответственность?! Если что с тобой случится, то я буду ответственна за тебя… Или со мной что-нибудь случится, или с Милкой… я не могу…»
Раз и навсегда я решаю, что никто кроме меня не должен брать на себя ответственность за меня!
По дороге назад, я попала под две новые бомбежки. Несколько бомб даже упали очень близко от дома Раи. Одна из них сделала большую яму посреди дороги. Я останавливаюсь возле этой ямы, стою несколько минут. Я совершенно равнодушна. Прежде чем я зашла в дом, оттуда вышел маленький кругленький человечек с лысиной, в дополнение у него были колоссальные усы. Его лицо показалось мне знакомым. Он немного был похож на кота моих соседей в Кишиневе. Я уже видела это лицо. Это был какой-то знакомый папы и мамы. Останавливаюсь и смотрю на него.
– Таточка, это ты?
– Да, это я.
– Тебя трудно узнать. Рая попросила меня взять тебя к нам домой, а потом взять твои вещи из дома тети Дони. Кстати где же они все?
– Они выехали за город к друзьям.
– Я сейчас поднимусь к себе, принесу мешок. Дай мне ключи от дома Дони.
– Не надо. Ничего не надо. Я могу и так.
– Я беру тебя к себе вместе с твоим мешком и всем, что тебе принадлежит. Завтра я отвезу тебя в Констанцу. Вся наша семья проводит тебя завтра в Констанцу. Это наш долг перед твоей очаровательной матерью и твоим чудесным папой. Я – Швец. Помнишь?
– Не может быть, не может быть! Это вы – господин Швец. Но вы совсем на себя не похожи!
– Прошло несколько лет, девуля. Ты увидишь мою дочку, Нюсю. Она уже большая. Ей двадцать три года. У моей жены – снег на голове!
– Господин Швец, я никогда вас не забуду. Никогда. Все меня оставляют. А вы единственный, кто берет на себя ответственность за меня.
– Идем к нам. Ты увидишь Бухарест с тринадцатого этажа.
– Вы живете в этом большом доме как в Нью-Йорке?
– Только я с семьей.
Я провела бессонную ночь вместе с Нюсей. Она ткала на станке шерстяную ткань, белую с черным. Я сидела возле нее и смотрела на ее работу.
– Это будет жакет.
– А для кого?
– Для тебя, чтоб тебе не было холодно в Палестине.
Этот жакет оставался у меня годами. Это был очень ценный подарок.
На следующий день бомбежек не было. Господин Швец напоил свою машину бензином, что было не совсем легко по его словам. Загрузил в нее мой мешок, который он вчера привез от тети Дони, меня, свою жену и дочь. Его маленькая машина тронулась. Мы едем в Констанцу. По дороге он нашел место для своей машины у какого-то своего знакомого, и мы пересели на поезд, который шел до порта. Мы были единственными пассажирами в первом классе. Я смотрю через окно. Очень красиво, Румыния. Все тут есть. Деревья, реки, горы, зеленые поля и даже море. Господин Швец подзывает меня в сторону и объявляет:
– Мы приближаемся. У моей Нюси есть друг из турецкого посольства. Он посылает парня, который отвезет тебя с поезда прямо на корабль.
– Только меня? А что будет с детьми?!
– Они уже там. Тебя посадят отдельно.
Мы обнимаемся. Какое счастье, что у папы и мамы были такие хорошие друзья. После короткой процедуры я вылезла на палубу. Издалека, я вижу лысину господина Швеца среди толпы. Нюся машет красным платком. Какие люди! Боже мой, какие люди!
Прошел час. Послышался гудок. Пароход вышел в море. Если вообще это можно назвать пароходом. Вернее это была скорлупка, которая качалась от малейшего движения волн. Этот пароход использовался для перевозки нефти, керосина и угля. Жара была невыносимой. Внизу, куда мы спускались по лестнице, построили нары в три этажа. Я была наверху. Прямо под палубой! Возле меня была очень симпатичная блондинка, толстенькая, но очень красивая. Ее звали Мара.
– Опять скитания, – сказала эта молодая девушка. – Ты знаешь, сейчас начинается новая жизнь. Ты увидишь, маленькая хорошая девочка.
– Кто эти? – спрашиваю о группе парней, которые полулежали на нарах возле нас.
– Эти парни – поляки. Это евреи, которые удрали из польского ада. Там было еще хуже, чем в нашем аду на Украине.
– Я никогда не знаю, что лучше, что хуже. Знаешь, Мара, я думаю, что самое страшное это неизвестность. Поверь мне, что те опасности, которые тебе предстоят, гораздо страшнее, чем те, через которые ты уже прошла. Слушай, Мара, мне очень грустно и я очень уставшая. Давай послушаем, что говорят эти поляки.
Поляки рассказывали и рассказывали на своем языке. Мы с Марой, русские, понимаем почти все. Они говорят о концентрационных лагерях. Странные названия: Освенцим, Майданек, Варшавское гетто, Биркенау. Ужас. Ужас. Я уткнула свое лицо в мою милую соседку. Я просто дрожу. Я опять маленькая. Опять беззащитная. Наша поездка продолжалась несколько дней. Кроме качки и разных неприятностей, ничего особенного не происходило до того как мы зашли в Босфор. Я выпрыгнула на палубу, смотреть на синие воды. Вся эта поездка, которая продолжалась три или четыре дня была каким-то новым миром. Толпа людей, настоящий табор, маленькие детишки, несчастные ребята, которые не могли найти себе места. И боялись сойти со своих лавок. Кошмарные рассказы поляков и разные любовные приключение, о которых я не позволяю себе говорить – все это оставило во мне бурю чувств и страхов.
Стамбул! Я вижу его издалека! Красота! Опять новый город. Все это сон. Поезд. Нас загружают в поезд. Остановка в Алепо. Английские солдаты дают нам хлеб с маслом и чай без сахара. Ой, это не масло! Это что-то ужасное! Это жир, который называют маргарином. Мы проезжаем Бейрут. На вокзале стоят английские солдаты. Улыбаются нам. Боже мой! Солдаты улыбаются?! Опять чай. Без сахара. Черный и ароматный. Да здравствует Англия! Огромные ломти черного хлеба, пахучего и горячего опять намазанный этим ужасным веществом. Я оттолкнула руку мальчика-солдата, который протянул мне этот ломоть. Я чувствовала, что меня тошнит. Солдатик улыбнулся и намазал мне ломоть вареньем. Варенье! Это можно понять, варенье?! Да! Варенье!
Я все время хочу спать. Ночь маленькие дети плачут. Люди говорящие по-английски бегают по поезду. Наверно это представители организации «Джойнт». Под утро поезд останавливается. Смотрите! Море! Море? Я не верю! Море?! Мы сходим. Я схожу с поезда и иду на подгибающихся ногах. Вижу скамейку и сажусь.
Я в Палестине…
Я слышала, что там говорят на странном языке. Очень странном, Гортанном. Я ничего не понимаю. Это ни на что не похоже. Нас вводят в пространство, которое огорожено колючей проволокой. В воротах стоят солдаты. Над воротами слово «Атлит». Это я могу прочесть, потому что написано латинскими буквами. Мы входим гурьбой. Я внутри. Я вижу деревянные казармы и палатки. Ни одного дерева. Песок. Пустыня. Я перепугана. Лагерь? Опять плен? Для этого нас притащили сюда?! Вокруг меня такая же реакция. Но малыши бегают, кричат, смеются и очень довольны. Я замерзаю, несмотря на ужасную жару. Ко мне подходит пожилой человек с очень приятным лицом. Он спрашивает меня, почему я плачу и на каком языке я говорю. Спрашивает по-русски. Я отвечаю на том же языке. Я спрашиваю:
– Почему мы пленные?
– Не беспокойся. Это английский закон. Бывший лагерь.
– «Бывший»? Почему?
– Это просто переходной этап к новой и свободной жизни. К красивой и плодотворной жизни. Вытри слезы, девочка. Как тебя зовут?
Я протягиваю руку и представляюсь:
– Татьяна.
– Можно мне называть тебя Таней?
– Конечно. А что теперь?
– Идем со мной. У нас тут есть столовая.
Слава богу, пришло время!
Он берет меня за руку, и мы зашагали к нашей цели.
57.
Столовая в Атлите! Можно сказать, что столовая выглядела не аппетитно. Несколько столов, которые не успели вытереть, полны остатков еды. Скамейки довольно грязные. Народ входит и выходит. А как еда? Единственное что можно сказать о еде, это то, что ее можно было проглотить. Почему-то я не была голодной. Из разговоров с моим «путеводителем», Биньямином Гринбаумом, я понимаю, что англичане держат эту страну в ежовых рукавицах. Это оккупация. Как странно. В моем воображении англичане это спасение, счастье, конец всему плохому. Но оказывается, что англичане не только не приветствуют, а даже против приезда евреев в Палестину. Они просто не хотят нас принимать. Было очень тяжело убедить их принимать евреев вообще. Большой вопрос был в том, что же делать дальше? Иногда я слушала разговоры молодых поляков. Парни и девушки были старше меня и, из их разговора, я поняла, что они ярые сионисты. Они говорили на одну тему, которая меня поразила. Они поставили себе цель, выбросить англичан из страны Израиля и построить себе свою собственную страну. Молодые дети и малыши, которые приехали со мной не знают, что их ждет. Там же было много разных сионистских движений из Румынии. Между ними вспыхивали очень горячие споры. У меня была дилемма: что делать?
Прошла неделя. В одно прекрасное утро я просто бесцельно гуляла около забора. Я думала о рассказах Биньямина о «Кибуце». Мне тогда показалось что это что-то вроде колхоза. О молодежных организациях в кибуцах. О всех возможностях, которые им предоставляются. Вдруг, меня позвали несколько молодых людей, с которыми я была знакома:
– Таня, там возле ворот стоит одна женщина. Ей не дают войти. Она зовет тебя. Беги туда, пока ее не прогнали!
Бегу к воротам, и… какое счастье! Моя любимая тетя Люба, моя золотая тетя, стоит возле колючей проволоки и кричит: «Таточка, Таточка…»
Сначала она меня не узнала. А потом начала кричать мне:
– Таточка! Таточка! Моя милая Таточка! Иди ко мне!
Английские стражники смягчились и позволили нам обняться. Мы обе плакали и не могли сказать ни слова. Это была самая счастливая встреча за последние годы. Я была в восторге. Я не одна! Полицейские начали понемногу показывать нам, что пора заканчивать эту сцену и как можно скорее. После того как я смогла рассказать ей о наших исчезнувших родных и о тех немногих, которые остались, тетя Люба дала мне бумажку, на которой был адрес: Отель «Лев ха-Кармель», Хайфа. Хозяин: господин Альберт Самуель.
Тетя Люба не удовлетворилась тем, что дала мне эту бумажку, она выкрикивала этот адрес несколько раз во весь голос. Я стояла и кивала головой в знак того, что я поняла. Стража начала сердиться и довольно невежливо попросила тетю уйти. Моя тетя рассердилась и кричала на них на нескольких языках, чтобы они оставили ее в покое. После ее ухода я осталась стоять у ворот и подумала об этой возможности, которая меня ждала у этих чужих людей. Мне было совершенно ясно, что эта семья сделает все возможное, чтобы мне было хорошо во всем. Но есть еще другая возможность. Они станут мне говорить, что делать и как поступать и учить меня жизни как они ее понимают. Несмотря на заманчивую перспективу жить в настоящем доме с настоящими родными, я решила, что жизнь в молодежной группе в кибуце, где я смогу три года, учиться и платить за свою учебу работой, интереснее и важнее. На самом деле, я не хотела зависеть от кого-либо. Даже от любимых и дорогих мне людей. Решение принято: я поеду в кибуц, присоединюсь к группе молодежи, и буду там учиться. Эта единственная приемлемая мной возможность. А эту замечательную семью я буду навещать во время отпусков. Это не уменьшит мою к ним любовь. В особенности я хотела увидеть их сына Сержика, моего друга детства. Я подумала о нем, и о тех счастливых днях, когда мама оставляла меня у него и уезжала с тетей Любой куда-то за границу. Все наши игры и «походы» в горы и в лес. Мне кажется, что мы начали эти игры в пять или шесть лет нас оставляли вместе каждое лето. Наши мамы исчезали и ехали в разные места. Эти дни казались мне счастливым сном.
В одно утро позвал меня Беньямин Гринбаум и попросил меня собрать свои вещи и приготовиться к поездке. Мои документы из молодежной организации в Иерусалиме пришли к нему, и он готов был взять меня в кибуц «Эйн-Шемер» без проблем. Я действительно счастлива выбраться из этого несчастного и грустного лагеря. Я полна любопытства по отношению к моему будущему. Прощаюсь с моей новой подругой, с которой я проделала такую долгую дорогу. Мы обещаем друг другу остаться подругами навек. К моему великому сожалению мне так и не удалось вновь с ней встретиться.
Мы сели в автобус. Дикая жара. Август. Автобус горит как кусок жести на костре. Мы едем по тающему асфальту дороги. С одной стороны море, а с другой горы песка.
– Беньямин, в этой стране нет деревьев?
– Много, очень много! Есть леса, много посадок, виноградники, фруктовые сады, а самое главное для тебя – пардес!
– А что это такое?
Он употребил слово на иврите, несмотря на то, что мы говорили по-русски, и я не поняла, о чем он говорит.
– Это сад, в котором растут апельсины. Там есть и мандарины и грейпфруты. Это все ты увидишь по дороге.
– А в том кибуце, куда мы едем есть такое?
– Девочка, я везу тебя прямо в рай! Маленький, но рай! Зелень, цветы. По-новому обработанные земли.
– А мне позволят там работать?
– Ты должна будешь там работать. Это твоя плата за учебу и жиль! Между молодежной организацией и кибуцами есть соглашение. Они принимают детей и молодежь приезжающих из других стран.
Все что он сказал, показалось мне слишком хорошим.
– Все это правда?
– Ты сама увидишь! С этого момента тебе не о чем заботиться. Молодежная организация позаботится о тебе до последнего дня твоего там пребывания.
Мы едем через те сады, которые он называет «пардесим». Чудесные запахи наполняют автобус. Мы едем через деревья.
– Наконец все зеленое.
– Ты видишь, что я тебя не обманул?
– А пальмы тут есть?
– Есть! Конечно, есть! Ты увидишь и пальмы.
Я рассказала ему о стихотворении Лермонтова о сосне, которая мечтает о далекой пальме. Я прочла ему этот стих. Биньямин улыбнулся и даже обнял меня. Эти стихи его смягчили.
– Ты особенная девочка. Если у тебя будут проблемы – обратись ко мне.
– А как я тебя найду?
– Спроси в секретариате кибуца. Попроси их, чтобы они связались со мной. Я живу в кибуце «ган-шмуэль» недалеко от «эйн-шемера»
– Ты не дашь мне страдать опять?
– Я тебе обещаю, что никогда не дам никому тебя обижать. Ни сейчас, ни потом!
Приехали. Сходим с автобуса. Железные ворота. Через несколько шагов мы останавливаемся возле большого деревянного здания. Двери открыты. Люди входят и выходят. Все одеты в рабочую одежду и очень тяжелые ботинки. Напротив было здание в два этажа и внизу – секретариат. Туда Биньямин исчез и оставил меня посреди двора. На верхнем этаже вдруг я вижу несколько голов мальчиков и девочек. Наверно это мои будущие товарищи. Я стою посреди двора, возле меня мой мешок с одеждой, которую еще не видела. С левой стороны я вижу изумительный сад с цветами и зеленью. А справа это странное помещение, откуда, по-моему, пахло борщом. Биньямин ушел. Я жду его. Я вдыхаю чистый воздух с прекрасными запахами цветов. Меня наполняет какое-то странное чувство. Может быть это хорошее место. Да, это выглядит как хорошее место. Даже очень хорошее место. Смогу ли остаться тут до конца учебы? Таня, подумай, это конец твоих скитаний? Если я сумею тут остаться, то, в конце концов, перестану скитаться по дорогам? Как я смогу приспособиться к этой жизни? Я должна буду изменить саму себя для этого. Это смешно, это будет новое рождение! Я громко расхохоталась.
Конец
От автора
Эту книгу я посвящаю своим родителям, Бетти и Феликсу Перпер, место упокоения которых неизвестно.
Памяти моего дорогого мужа, Зеева Переса, который помог мне встать на ноги и превратиться в то, что я представляю собой сейчас.
Я посвящаю эту книгу двум прекрасным, замечательным женщинам, доктору Пелявской Людмиле Александровне и Гавриловой Марьи Александровне, матери моей подруги и названой сестры Людмилы Гавриловой-Пелин. Эти женщины своей добротой, своей заботой спасли меня. Несмотря на опасность, жертвуя своей жизнью, своим спокойствием. Они рисковали своими жизнями, жизнями своих близких, своим положением. К сожалению их уже давно не стало.
Посвящаю эту книгу моей подруге, Людмиле Пелин, которая осталась для меня и сестрой и подругой. Которая не жалела себя для того, чтобы я могла пережить эти ужасные времена.
Я благодарю своих друзей в Израиле, которые помогли мне морально. А главное, бесконечно благодарю молодую талантливую помощницу, Седлецкую Эльвиру, которая очень помогла мне перевести эту книгу с иврита на русский язык. Без нее ничего не могло состояться.
Таня и ее мама. Единственная уцелевшая фотография
Пелявская Людмила Александровна
Таня (третья слева), Эстер и Элиэзер с часами. Бухарест, 1944.
Дирижер Гари Бертини. Бухарест, 1944
Таня перед отъездом в Израиль. Бухарест, 1944.
Встреча в порту. Таня и Мила. Одесса, 1966.
Подруги. Таня и Мила. Одесса, 1966.
Мила, ее мама, сын, брат, Л.А. Пелявская и Таня. Одесса, 1966.
Милина мама, Мария Александровна, “сестра Гаврилова», с внуком. 1971.
Мила в Парке Праведников, Яд Вашем, Иерусалим, 1998.

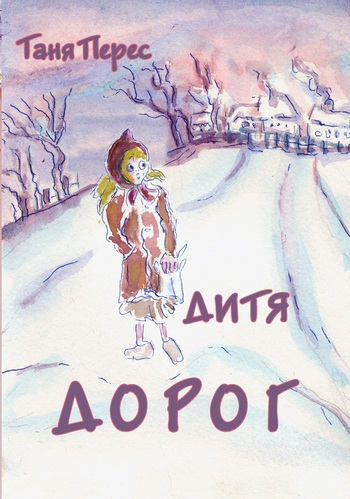



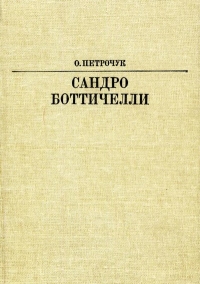


Комментарии к книге «Дитя дорог», Таня Перес
Всего 0 комментариев